Ирина Николаевна Медведева-Томашевская Таврида: земной Элизий. Екатерина II, Пушкин, Лихачёв и другие
В книге использованы фотографии и материалы из семейного архива Томашевских, фондов Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника, Государственной публичной исторической библиотеки, Центрального военно-морского музея, Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея, ТАСС, агентства РИА Новости «Редакция Елены Шубиной» выражает благодарность Ивану Цыбину за помощь при подготовке издания© Медведева-Томашевская И.Н., наследники © Водолазкин Е.Г., предисловие © Томашевская А.Г., Томашевская М.Н., предисловие © Русский музей, Санкт-Петербург, иллюстрации © ООО «Издательство АСТ»
* * *
За Томашевскими по Крыму
Слово, произнесенное в горах, отвечает тысячекратным эхом. Отзывается новыми словами, которые летят навстречу друг другу, перекликаются и взаимодействуют. Силу эха принято связывать с высотой гор и твердостью породы. Удивительное это явление можно считать метафорой культуры, в которой есть и перекличка, и высота, и твердость. Есть даже горы – если речь, скажем, идет о крымских текстах. Эта книга посвящена теме Крыма в жизни и творчестве Ирины Николаевны Медведевой-Томашевской (1903–1973), занимавшей в многоголосой русской культуре особое место. Голос Ирины Николаевны был, возможно, не самым громким, но без него история ушедшей эпохи будет неполна. К Медведевой-Томашевской были обращены голоса тех, кто эту эпоху определял. В режиме короткой справки назову лишь некоторые имена. Борис Викторович Томашевский, выдающийся филолог, муж Ирины Николаевны. В браках, подобных этому, определение на основании семейных отношений выглядит вызывающе узким. Мне, сотруднику Пушкинского Дома, в первую очередь приходит на память семейный и научный союз Владимира Николаевича Перетца и Варвары Павловны Адриановой-Перетц, его ученицы, а впоследствии и жены. Тот нередкий случай, когда увлеченность совместным исследованием незаметно распространяется на вненаучную сферу. Дело кончается браком и двойной фамилией супруги как символом обретенного единства. Да, муж, но не в меньшей степени – учитель, коллега и друг. Что касается учителей, то образование Медведева-Томашевская получала в золотое для петербургской (ленинградской) науки время. Имена других наставников Ирины Николаевны (в 1930 году она окончила Ленинградский институт истории искусств) также способны произвести впечатление: Г.А. Гуковский, В.М. Жирмунский, Ю.Н. Тынянов, Л.В. Щерба, Б.М. Эйхенбаум и другие. Александр Исаевич Солженицын. Медведева-Томашевская принадлежала к числу его тайных помощников, которых он сам называл «невидимками». Гостя у нее на даче в Гурзуфе, Александр Исаевич работал над «Красным колесом». С благословения Солженицына и при его активной поддержке Ирина Николаевна занималась проблемой авторства «Тихого Дона». Результатом этих занятий стала ее знаменитая книга «Стремя “Тихого Дона”», предисловие к которой было написано Солженицыным. С начала 1930-х годов Медведева-Томашевская дружила с Анной Ахматовой. В трудное для Анны Андреевны время – после выхода ждановского постановления «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» – она как могла помогала ей. Так, дочь Томашевских Зоя Борисовна вспоминала, как по просьбе родителей носила Ахматовой обеды. Ахматова познакомила Ирину Николаевну с Иосифом Бродским. Он также был одним из гостей крымской дачи и посвятил ее хозяйке стихотворение «С видом на море» (1969). Из письма Бродского к Медведевой-Томашевской, написанного за пять лет до гурзуфского стихотворения, мы узнаем о подробностях его жизни в Норинской. Бродский завершает письмо с неподдельной нежностью: «Очень хотел бы обнять – крепко-крепко – Вас, Зою и Настика. Вы втроем и порознь – гораздо ближе мне, конечно, чем я вам». Из всех когда-либо находивших приют на гурзуфской даче Томашевских самым почитаемым был, безусловно, Пушкин – он присутствовал там постоянно. В Крым Борис Викторович приехал как пушкинист и стоял у истоков Пушкинского музея в Гурзуфе. Пушкиным здесь дышало всё. Даже предпринимая свои дальние заплывы, Борис Викторович с дочерью Зоей попеременно читали наизусть «Евгения Онегина». Любовь Томашевских к Александру Сергеевичу читатель этой книги сможет оценить, ознакомившись с работой Ирины Николаевны (написанной в соавторстве с Николаем Борисовичем Томашевским) «За Пушкиным по Крыму». Была еще одна причина, заставлявшая Томашевских проводить в Крыму до полугода: туберкулез Ирины Николаевны. Они и умерли здесь (в 1957 году – Борис Викторович, в 1973-м – Ирина Николаевна), и похоронены в Гурзуфе. В настоящем издании публикуется работа Медведевой-Томашевской «Таврида», изданная в 1956 году, – может быть, ее главный подарок сказочному полуострову. Этот труд посвящен начальной истории русского Крыма. Написанный в форме исторических очерков, он рассчитан на широкого читателя. В то же время, будучи созданным блестящим и скрупулезным исследователем, не допускает разлада повествования с историческими фактами. Комментировать эту работу, пожалуй, излишне – ее нужно читать. В конце концов, комментарии к очеркам составлены самим автором. В публикуемой книге помещены также письма Дмитрия Сергеевича Лихачёва, выдающегося историка литературы и мыслителя, состоявшего с Медведевой-Томашевской в длительной (с 1963 по 1973 год) переписке. Как человек, много лет работавший под руководством Дмитрия Сергеевича, позволю себе остановиться на этой переписке подробнее. Первые годы Ирина Николаевна получает письма не только от Лихачёва, но и от его домашних (прежде всего, от жены Зинаиды Александровны), что описаниям ленинградских новостей придает до некоторой степени стереоскопический эффект. Говорю «до некоторой степени», потому что различие описаний – не в оценках (они почти всегда совпадают, и это о многом говорит), а в описываемых деталях. Супруги пишут об ожидании (а затем о получении и ремонте) новой квартиры. Письма рисуют постепенное создание того уютного дома, в который я попал в середине 1980-х. Дома, где каждому гостю – независимо от пола и возраста – хозяином подавалось пальто. Здесь Дмитрий Сергеевич следовал дореволюционной еще традиции, предписывавшей уходящим гостям непременно подавать пальто. Впрочем, за одним и, на мой вкус, очень симпатичным исключением: пальто нельзя было подавать начальству. В письмах Лихачёвых нередки сетования на частую смену домработниц (причины – от удаленности места их жительства до проявившегося психического нездоровья). Но бытом содержание писем, разумеется, не ограничивается. Время от времени в них проскальзывает упоминание о «нашем друге» или, по-диккенсовски, о «нашем общем друге». Речь здесь идет о Солженицыне. Как известно, Дмитрий Сергеевич был в числе тех, на чьи воспоминания Александр Исаевич опирался, создавая «Архипелаг ГУЛАГ». Лихачёв подробно описывает академическую жизнь: дирижирование выборами в Академию наук (за пультом – академик М.Б. Храпченко, спустя несколько лет собиравший подписи под антисахаровским письмом), назначение директора Пушкинского Дома и двух его заместителей («Все лица с раздувшейся печенью, а последние два – тупые»). Оговорка Дмитрия Сергеевича относительно того, кому нельзя подавать пальто, судя по всему, была для него принципиальной. Много сказано о любимом Лихачёвым Отделе (тогда – Секторе) древнерусской литературы, в котором я имею честь служить до сих пор. О той помощи, которую оказывал Дмитрию Сергеевичу его заместитель и друг Лев Александрович Дмитриев. Здесь можно снова вспомнить об эхе, а также о трех рукопожатиях, которые, как известно, связывают всех со всеми. Семья Дмитриевых неоднократно гостила у Ирины Николаевны в Гурзуфе. Лихачёв с удовольствием отмечал, что возвращались они отдохнувшими и посвежевшими. Спустя годы именно Дмитриевы познакомили меня с семьей Томашевских в лице Николая Борисовича, сына Бориса Викторовича и Ирины Николаевны. Погожим майским днем лет тридцать назад мы с коллегами посещали могилу замечательного собирателя и исследователя древнерусских рукописей пушкинодомца Владимира Ивановича Малышева. После кладбища заехали к Дмитриевым, приготовившим поминальный стол. Присутствие сына великого Томашевского, который существовал в моем сознании исключительно в филологическом пантеоне, произвело на меня неизгладимое впечатление. Единственным, на что я мог отважиться в диалоге с Николаем Борисовичем, были вопросы: на высказывание я тогда благоразумно не решился. Заметив вопросо-ответный характер нашей беседы, Лев Александрович одобрительно кивнул: «Спрашивай, Женя, спрашивай – Коля тебе на многое ответит». И Николай Борисович, известный литературовед и переводчик, преподаватель Литературного института, отвечал. Помню, что, среди прочего, я спросил у него, можно ли «выучить на писателя». «На первой же лекции в Литинституте, – отвечал Николай Борисович, – я говорю своим студентам, что не знаю, как надо писать. Если бы я знал это, то написал бы “Войну и мир” – и послал их к чертовой бабушке. Но я знаю другую, не менее важную вещь – как не надо писать. И это я постараюсь им объяснить». Некоторые вещи всё же остаются труднообъяснимыми. Как среди тоталитарного морока, ставшего фоном повседневной жизни, могли сохраниться эти семейные ковчеги? Что их держало на плаву – осознание того, что в конечном счете человек сильнее обстоятельств? Ответ вроде бы верный, но слишком уж общий. В жизни, как и в литературе, понимание приходит через детали: носили обеды, читали наизусть «Евгения Онегина», называли друг друга на «Вы». Писали достойные книги. Читателю предлагается одна из них.Евгений Водолазкин
Гурзуф Томашевских
Благословенная Таврида. Крым – полуостров, где не просто можно прекрасно купаться в Черном море летом, бродить по горам осенью, делать из крымских вин согревающий глинтвейн зимой или любоваться цветением диких тюльпанов весной. Для многих Крым – это образ жизни. Жизни, которая кардинально отличается от той, к которой мы привыкли в Москве или Петербурге. Для нашей семьи Крым – второй дом, вторая родина, где мы бывали месяцами, а наша бабушка – Ирина Николаевна Медведева-Томашевская, чью книгу вы держите в руках, вообще жила с весны до глубокой осени и возвращалась в Ленинград уже ближе к 29 ноября, дню рождения мужа, когда снег вовсю начинал кружить над Невой. Девчонками мы были насквозь пропитаны крымским солнышком, солью Черного моря и горьким запахом полыни и чабреца, о котором Николай Заболоцкий, посвятивший Крыму немало прекрасных строк, говорит в стихотворении «Над морем»:Лишь запах чабреца, сухой и горьковатый,
Повеял на меня – и этот сонный Крым,
И этот кипарис, и этот дом, прижатый
К поверхности горы, слились навеки с ним.
Об Ирине Николаевне Медведевой-Томашевской без преувеличения можно сказать, что она отдала Крыму – особенно Гурзуфу – свою душу и сердце. В сфере ее научных, творческих интересов Крыму принадлежало одно из главных мест. В 1946 году в издательстве Крымиздат вышла ее небольшая по объему книжка «Русская Таврида». Это сборник исторических очерков – от первых походов русских князей к Черному морю до «времен очаковских и покоренья Крыма», т. е. с IX по конец XVIII века. Десятью годами позже в Ленинграде увидела свет предлагаемая вашему вниманию «Таврида», любимое детище Ирины Николаевны. Эта книга, объемом значительно превосходящая первую, является своего рода продолжением ее и охватывает период с 60-х годов XVIII по первую треть XIX века. Хотелось бы обратить внимание читателя на слова Ирины Николаевны из предисловия к «Тавриде»: «Не описание доблести русского оружия составляет цель данной книги, а рассказ о победах русской культуры, о цивилизующей роли России на Черном море». Как видим, это в высшей степени органично вписывается и в контекст современных культурно-политических реалий. Родилась Ирина Николаевна в Женеве, где учились, а заодно занимались революционной деятельностью ее родители, Николай Иванович Блинов и Елизавета Максимовна Калиновская. Понятно, что в советские времена место рождения изрядно портило анкету Ирины Николаевны, хотя уже в четырехмесячном возрасте она переехала с родителями в Житомир. Отец ее, Николай Блинов, русский дворянин, организовавший в Житомире дружину по защите евреев, был убит во время одного из погромов 17 апреля 1905 года, ему было двадцать шесть лет. Несколько лет назад в университете израильского города Ариэль в его память была установлена стела. Фамилию Медведева Ирина Николаевна получила в первом браке с Михаилом Медведевым. Брак этот не был продолжительным, но фамилию она сохранила до конца жизни. Ирина Николаевна – автор многих статей о творчестве русских писателей XIX века: Гнедича, Грибоедова, Островского, Сухово-Кобылина. Она занималась и подготовкой к печати их текстов, и составлением комментариев к ним. Гнедичу принадлежит тут особое место: кандидатская диссертация Томашевской называется «Гнедич в общественной и литературной борьбе первой четверти XIX века», ею полностью подготовлены тома Гнедича для Малой и Большой серий «Библиотеки поэта». К той же эпохе относится и творчество знаменитой русской актрисы Екатерины Семёновой, книгу о которой Ирина Николаевна выпустила в 1964 году. Крым и Пушкин тем не менее не уходили из жизни Ирины Николаевны, свидетельством чему служит работа «За Пушкиным по Крыму». Известно, что в Крыму Пушкин прожил недолго: 13 августа 1820 года ему со стороны Таманского полуострова открылись «брега Тавриды», 14 или 15 сентября поэт выехал из Симферополя. Почти три недели из этого срока Пушкин провел в Гурзуфе, который он позднее назовет «колыбелью Онегина». Несмотря на кратковременность, пребывание его в Крыму породило немало легенд, охотно пересказываемых экскурсоводами. Ярким примером тут служит так называемый пушкинский грот на территории детского лагеря Артек – весьма живописный грот в выступающей в море скале, о посещении которого Пушкиным нет тем не менее никаких данных. Совсем небольшая по объему работа Ирины Николаевны и Николая Борисовича Томашевских представляет собой скрупулезное, шаг за шагом, исследование путешествия поэта по Крымскому полуострову. Авторы стремились отделить легенды от того, что было, или с большой долей вероятности могло быть, на самом деле, показать Крым таким, каким увидел его Пушкин, взглянуть на него пушкинскими глазами. Идея возникла еще в 1960-е, и тогда же они предприняли совместную поездку по маршруту поэта. Работа много раз откладывалась в долгий ящик, мешали текущие дела, другие замыслы, издательские обязательства, и, к сожалению, ни один из авторов не увидел ее опубликованной (она была издана небольшим тиражом лишь к 200-летию со дня рождения Пушкина). Николай Борисович завершил ее уже после смерти матери, а Ирину Николаевну в последние годы поглотил замысел, заставивший ее отложить прежние планы и с головой уйти в его осуществление. Этот новый замысел – проблема авторства «Тихого Дона» – во многом связан со знакомством с А.И. Солженицыным, состоявшимся в 1967 году. Двумя годами позже он гостил у Ирины Николаевны в Гурзуфе, и именно тогда идея подобного исследования обрела четкие очертания. После достаточно длительного этапа сбора материалов, которыми ее снабжали помощники Солженицына, в частности Е.Ц. Чуковская, и их анализа Ирина Николаевна в 1971 году приступила непосредственно к исследованию. Подобно Борису Викторовичу она умерла в Гурзуфе в разгар работы – 26 октября 1973 года. Ее труд – «Стремя “Тихого Дона”» – был опубликован в 1974 году в Париже стараниями Солженицына. Имя автора по очевидным для того времени причинам было скрыто под псевдонимом «Литературовед Д.». Позднее Солженицын объяснит его: Д – это и Дон, и Дама (так посвященные в замысел называли Ирину Николаевну для конспирации).
В Крыму Томашевские – Борис Викторович с Ириной Николаевной и детьми Зоей и Колей – стали регулярно бывать с начала 1930-х. Сначала они проводили летние месяцы в Коктебеле, в Доме творчества писателей, где постоянное их общество составляли Андрей Белый и его жена Клавдия Николаевна Бугаева, или в Туаке (позднее деревня Рыбачье близ Алушты). Именно в Коктебеле, Зоя с Колей получили свои прозвища. В стенгазете Дома творчества была помещена их фотография с подписью «Аписинские дети Зюка и Кука»: в то время Абиссиния (Эфиопия) была у всех на слуху в связи с происходившими там военными действиями, и загоревшие дочерна дети со сверкающими на фоне загара белками глаз как нельзя более подходили на роль юных эфиопов. Позднее, в конце 30-х, Томашевские приобрели домик в татарской деревне Коккоз[2] (ныне село Соколиное Бахчисарайского района). Это была, собственно, маленькая сакля, с земляным полом, две комнаты, веранда и небольшой садик. С соседями-татарами, доброжелательными, спокойными, Томашевских связывали дружеские, очень теплые отношения. Внешне крымские татары, особенно горные, не очень соответствовали расхожему представлению о «татарском типе», они были скорее европеоидными, часто голубоглазыми. Помимо необыкновенной красоты окрестностей и горного воздуха удаленные от курортных мест Коккозы пленяли покоем и тишиной, давая возможности для спокойной и плодотворной работы. Там Ирина Николаевна писала свою «Русскую Тавриду». Излюбленным же досугом Ирины Николаевны и Бориса Викторовича были пешеходные прогулки. Они не только любили Крым, но и великолепно знали его, горные – и не только горные – тропы полуострова были ими исхожены вдоль и поперек. Вспоминается, что, до конца жизни, говоря о Крыме, Ирина Николаевна употребляла старые татарские и греческие топонимы (после Великой Отечественной войны и варварской депортации татар и других народностей Крыма они, за редкими исключениями, были заменены на новые). Нередко в этих длительных прогулках участвовали Зюка и Кука, уныло волочившиеся в хвосте. Им это представлялось сущим наказанием: вместо игр, купанья в море, катанья на лодке тащиться в горы… Зюка (Зоя Борисовна Томашевская) рассказывала, что родители нередко сравнивали их с лошадьми, которые из дому плетутся еле-еле, но на обратном пути резво бегут в конюшню. Кстати, именно домик в Коккозах помог семье пережить страшные месяцы ленинградской блокады: продукты, собранные для поездки в Крым (дефицит, не станем забывать, был спутником советской власти от первого до последнего дня ее существования), оказались существенной прибавкой к голодному блокадному пайку. Когда началась Великая Отечественная война, ещё никто не понимал, как долго она продлится. Несмотря на приобретенные заранее билеты в Крым – на 24 июня 1941 года, в последний момент решено было оставаться в Ленинграде. Продукты, приготовленные для летнего отдыха, Ирина Николаевна обычно отправляла в Коккозы на собственное имя по почте, чтобы не везти их с собой на поезде, ведь тяжелых чемоданов и так было предостаточно. Но в июне 1941-го отправлять из Ленинграда посылки с продуктами уже было нельзя, и это обстоятельство помогло нашим родным выжить. Вот как это описывает в своих воспоминаниях Зоя Борисовна:
У нас был друг, двоюродный брат Блока – Георгий Петрович Блок, ученый, филолог. Петербуржец, он был выслан за 101-й километр и жил в Малой Вишере, преподавал в сельской школе. Но по субботам он приезжал поработать у папы в кабинете. Оставался ночевать, а в воскресенье незаметно возвращался к себе в Вишеру. Это было в воскресенье, 22 июня 1941 года. Рано утром Блок собрался уезжать, и мама попросила его взять с собой наши продукты, чтобы из Малой Вишеры послать их в Крым. Там было 10 килограммов сахара колотого, 2 кило какао и целый бидон масла, потому что в крымских татарских деревнях масла не было. И мама всегда возила большой 2-х или 3-х литровый бидон масла, которое сама предварительно перетапливала. А когда он узнал, что началась война, то спустя какое-то время пришел к нам пешком: пассажирские поезда из Малой Вишеры в Ленинград уже не ходили Они с женой были пожилые люди, но он считал, что должен вернуть эти продукты. И честность заставила его тащить это всё пешком. Таким образом, у нас оказался этот запас. Его на малюсенькие порции, а мама была человеком такой воли, такой дисциплины внутренней, что она не разрешала нам съесть ни крошки больше того, что она отмерила на каждый день. Вообще, этих запасов было не так уж и много, но всё-таки доставалось по пол-ложечки масла. Хлеб мы не ели, а варили из него «кашу», потому что объем получался больше. Хлеб накрошить, горячей водой залить и есть как кашу. А если еще туда хоть пол-ложечки топленого масла положить, посолить, то совсем хорошо.Послевоенное возвращение в Коккоз оказалось отнюдь не радостным. Единственный попавший в деревню снаряд уничтожил домик, село, «очищенное» от татар, отношения с которыми у Томашевских, как уже упоминалось, были чрезвычайно теплые, казалось чужим и даже название носило непривычное – Соколиное. В тот момент появилась возможность получить в аренду жилье на Южном берегу Крыма. Не желая больше оставаться Коккозе-Соколином и прислушавшись к совету какого-то сотрудника районной администрации, предупреждавшего, что любой дом в этом селе будет разворован, Борис Викторович в 1947 году берет в аренду домик в Гурзуфе. При выборе дома (а выбирать можно было из нескольких вариантов) Борис Викторович с Ириной Николаевной руководствовались условием – он не должен был принадлежать депортированным. Совершенно пустым и без крыши оказался домик доктора Яворского. Яворский к тому времени уже умер, никого из родных у него не было, так что совесть новых хозяев могла быть чиста. Кстати и планировка дома нимало не напоминает татарскую. Состоит он из четырех помещений – трех жилых комнат и кухни, двери которых выходят в широкий коридор, и находится на мыске, участок упирается в высокую скалу, справа и слева от него море. Левее – огромная скала, на которой некогда находилась крепость. Экскурсоводы упорно именуют ее генуэзской (это название прилепилось и к самой скале), хотя она принадлежит к более раннему, византийскому, юстиниановскому, времени. Кстати, Чехов в письмах называет эту скалу Пушкинской (см., например, письмо В.М. Соболевскому от января 1900 года) Домик этот часто воспроизводился на открытках с надписью «Дом-музей А.П. Чехова». На открытках этих – причал, изгиб берега, заканчивающийся высокой, выступающей в море скалой, подле нее каменная кладка стены и крыша дома. На самом же деле дом, купленный Чеховым и долгое время служивший дачей его жене, знаменитой актрисе Ольге Леонардовне Книппер, со стороны гурзуфского причала не виден, заслонен разросшимися деревьями. Переулок, который идет от причала и носит не соответствующее его размерам название улица Чехова, упирается прямо в калитку бывшего дома Томашевских, калитка же чеховского домика остается чуть позади и левее. И с участка Книппер-Чеховой, и с участка Томашевских можно спуститься в крохотную скалистую бухточку, называемую у местных «чеховкой». О калитке – особый рассказ. У Ирины Николаевны есть очерк, который так и называется «Синяя калитка»[3]. Предоставим слово ей:
Мы поселились в послевоенных руинах, на скалистом берегу гурзуфской бухты, и наша калитка оказалась наискосок от входа на дачу Книппер-Чеховой. Оговорюсь сразу: вовсе это была не дача, а домик, крытый черепицей, по самую крышу спрятанный за стеною из дикого камня. Мы выпросили на лодочной станции ультрамарина и вдохновенно красили свою калитку. В местах этих по-настоящему красиво выглядит только некрашеное дерево, но мы красили свою калитку в цвет, чуть темнее летней морской лазури. Я сейчас не помню, как это было, но кажется, что мы видели в ультрамарине некий символ. Это было глупо потому, что наш «замок» омывало море, и, сверху, откуда ни погляди, – оно плещется у каменных глыб, напоминающих фигуру архаического льва. «Замок» и квадрат его подпорной стены из Гурзуфа смотрится не очень искусной приделкой, испортившей первозданное зодчество. Именно в этот день (июнь 1947-го), когда мы красили свою калитку, прибыла на отдых наша соседка. Мы не очень радовались. Нам успел уже надоесть титул знаменитости, неизменно сопровождавший ее имя в тараторе экскурсоводов. И мы не были удивлены, когда явилась к нам старуха, вида зловещего, и не без иронии в маленьких быстрых глазах молвила: «Очень недовольны вашей оградой и калиткой, просили перекрасить в другой цвет». Она не сказала кто, и сразу ушла. Калитка наискосок была синяя, хотя и полинявшая. Мы сделали свою светло-зеленой. Это было неважное начало добрососедства.Впрочем, добрососедские отношения были вскорости установлены:
Теперь мы уже не были наедине с морем. Из-за ограды звучали хорошо поставленные голоса, иногда было шумно, хохотливо, и только один голос, мастерски приглушенный, всегда звучал соло. На фоне почтительных пауз. Меж лезвий агав, стоявших на каменной ограде (прихотливый занавес, отделявший соседний мирок от нашего), мелькало что-то великолепно желтое и алое, и подчас, как бы в подсмотр зрительного зала на нас сияли холодным блеском узковекие глазищи Пилявской[4]. Вскоре нас пригласили познакомиться. Ольга Леонардовна полулежала в шезлонге и была очень красива. Хороша была вся фигура, свободно и мягко расположившаяся в шезлонге. Хороши были жгучие, совсем молодые глаза под сенью царственной седины (безукоризненная куафюра). Нас встретила улыбка, которую мы знали очень давно. Негромкий этот голос с глубиной и глухотцой мы тоже давно знали. Впрочем, в улыбке было нечто, именно к нам обращенное: чуть-чуть смущения и веселый задор (история с калиткой). Разговор был несколько светский, но нас приглашали бывать запросто.Из добрососедских отношений родилась дружба, не прерывавшаяся и тогда, когда здоровье уже не позволяло Ольге Леонардовне жить в Гурзуфе. Ирина Николаевна бывала у нее и в Москве, и в Ялте, куда ей против воли пришлось перебраться. В «Синей калитке» Ирина Николаевна рассказывает о вынужденном (из-за болезни) переезде Книппер в Ялту к Марии Павловне Чеховой в ноябре 1951 года, о первом визите к ней туда, о своем впечатлении тепла и комфорта, которым она и поделилась с Ольгой Леонардовной, и о реакции ее:
Там было лучше, – сказала она, – но нельзя… ‹…› Я не люблю этот дом. Здесь и я экспонат музея, как всё, как вот эта накидочка… – засмеялась она, перехватив своей прекрасной рукою кружево висящей на изголовии накидки. ‹…› – Антон Павлович здесь всё думал о смерти, крепился… Вот и я… А там, – она махнула рукой в сторону моря: там, это, конечно, в Гурзуфе, на мыске, за синей калиткой. – Там думал он не о смерти, о жизни.Соседство с Ольгой Леонардовной положило начало дружбе не только с ней, но и с теми, кто бывал у нее в гостях. А гостей там бывало множество – и актеры, и музыканты, и художники. Там Томашевские познакомились с Олегом Ефремовым, тогда еще студентом, подружились на всю жизнь с известным историком театра, литературоведом, профессором Школы-студии МХАТ Виталием Виленкиным, великим пианистом Святославом Рихтером и его женой, певицей Ниной Дорлиак. Вот как об этом вспоминала Зоя Борисовна Томашевская:
Дружба с Рихтером завязалась как-то неожиданно и почти по-детски. Ольгин день. Огромный круглый стол накрыт изысканно и вкусно. Всем назначено свое место. Ждем Козловского – весельчака и выдумщика. Тем временем завязался разговор о музыке. Вдруг вижу, что Рихтер поменялся с кем-то местами и оказался рядом с папой. Они говорили о Вагнере. Оба оказались «вагнерианцами». Слышу, как Святослав Теофилович спрашивает: «У вас есть рояль?» «Конечно!» – отвечает папа. «Какой?» – не унимается Рихтер. «У нас дома в Ленинграде стоит Rönisch», – говорит отец. Рихтер начинает сиять и с извинительной интонацией вопрошает: «А можно я к вам приеду? Rönisch – рояль моего отца. Я начинал с него. У него чудный звук и он очень легкий. На нем хорошо учить…» И он приехал к нам в Ленинград и стал заниматься на этом Rönisch.Договор аренды Томашевских предусматривал двадцатилетний срок, но через пять лет, ссылаясь на необходимость организовать в их доме общежитие для учителей, гурзуфские власти в одностороннем порядке его расторгли. Вполне возможно, свою роль сыграло и то, что незадачливые арендаторы привели развалины без крыши в образцовый порядок. Общежитие действительно располагалось там довольно долго, но в итоге, после множества перипетий, домик на скалах вошел в комплекс чеховского музея, или говоря официальным языком, – Гурзуфского отдела дома-музея А.П. Чехова в Ялте. Надпись на открытках стала, таким образом, частично соответствовать действительности. Сам музей Чехова открылся лишь в 1987 году (Кука – Николай Борисович Томашевский, проживший в домике на берегу пять счастливых лет, – участвовал в его организации и выступал на открытии). Одно время музей использовал домик Томашевских для размещения гостей, приезжавших в Гурзуф на проводившийся там каждый июнь Пушкинский праздник поэзии (сейчас он называется Днем поэзии и музыки и по-прежнему проводится ежегодно). В конце 1990-х – начале 2000-х годов активно прорабатывался вопрос об организации там музея Б.В. Томашевского, на доме была помещена его мемориальная доска. Планы эти вылились пока что в создание (в 2007 году) его мемориального кабинета в гурзуфском музее Пушкина. Позднее домик Томашевских стал сдаваться в аренду состоятельным людям, закрывшим доступ к нему и, соответственно, мемориальной доске даже сотрудникам музея. Доска была сброшена, затем восстановлена, но о нынешней ее судьбе сведений у нас нет. После 2014 года дом больше не сдается в аренду, на его подпорной стене – если судить по фотографиям – красуется огромная вывеска «Дача Чехова». Расставаться с полюбившимися им местами никому из семьи Томашевских не хотелось. На сей раз решено было не рисковать с арендой, а приобрести что-то в собственность. При этом условие в поиске нового пристанища оставалось прежним – не занимать жилье депортированных. В качестве одного из вариантов рассматривался и дом в Ай-Даниле, рядом с Гурзуфом. В итоге был приобретен домик на восточной окраине поселка, у подножия холма Болгатур, – тот самый, «прижатый к поверхности горы». Эта часть поселка в дореволюционных справочниках именовалась «татарская деревня Гурзуф» – в отличие от западной, где располагались гостиницы и парк (именно там находится музей Пушкина), та носила название «курорт Гурзуф». Условным пограничным пунктом между ними можно считать гурзуфский причал. Дом в «татарской деревне» был приобретен у русской хозяйки, владевшей им еще до войны и выселения татар. Расположен он высоко над морем. Если на старой даче море было, можно сказать, прямо у ног, то теперь путь от берега был долгим и шел всё время в гору. Впрочем, скоро на «чеховке» стало так многолюдно и шумно, что жалеть о переезде не приходилось. Кроме того все тяготы подъема искупал открывающийся из нового дома изумительный вид. Слева, там уже начинаются владения лагеря Артек, в море выступает скала с так называемым пушкинским гротом, о котором речь была выше. Сама скала получила название Шаляпинской. До революции скала входила в имение Суук-Су, принадлежавшее О.М. Соловьёвой. Шаляпин гостил у нее и – по циркулирующему в Гурзуфе преданию – любил петь, стоя на этой скале. Еще дальше влево видна знаменитая Медведь-гора (Аю-Даг), украшающая бесчисленные видовые открытки. Справа высится «генуэзская» скала, речь о которой была выше, – если прежняя дача была к востоку от «генуэзской», то новая смотрела на нее с запада. А прямо… Прямо – безграничная ширь моря и
…две затонувшие в море скалы,
К которым стремился и Плиний,
Вздымают из влаги тупые углы
Своих переломанных линий.
Интересно, что за годы, прошедшие со времени покупки этого дома, у него сменилось несколько адресов. Первоначально он числился под номером 37 по Виноградной улице, затем стал домом 19, но уже по Крымской. Надо заметить, что улочки в Гурзуфе извиваются столь затейливо, что понять, где одна переходит в другую, чаще всего невозможно. После распада СССР Крымская была переименована в улицу Адама Мицкевича, но номер дома остался прежним. Теперь же, если судить по картам, с ним и вовсе непонятно: то ли Мицкевича, 15, то ли Геологов, 3. Постройки дом типично крымской. В «Синей калитке» Ирина Николаевна вспоминает один из разговоров с Книппер-Чеховой:
Почему-то весь день перед глазами Стамбул ‹…› Привлекает чем-то совсем не тем, известным: мечети, кальяны, гаремы… Нет… Старые деревянные лачуги с нависающими балконами… Холмы. Под ногами камни сыплются и вдруг – вдали море, опять холмы и за ними опять море. Такое синее. Византия?.. Греция?.. Нет?.. – как-то робко спросила Ольга Леонардовна (дескать, так ли, не высоко ли взяла?). А потом, улыбнувшись, сказала: – Это мы сегодня с Софой[5] поднимались вон до той площадочки. Там тоже такие дома с подпорками. Похоже. Я подумала: историки Крыма именуют эти старые крымские лачуги – татарскими, а она разглядела, что они греческие.Так вот, новый дом (домик на берегу в нашей семье так и продолжали называть старой дачей) представляет собой именно такую лачугу с нависающим застекленным балконом. Балкон, как в большинстве старых крымских домов, служит и прихожей: с улицы попадают прямо на него, а уже с него двери ведут в комнаты. Комнат две, их окна также выходят на балкон. Такая планировка для Крыма весьма функциональна: осенью и зимой балконы служат буфером между жилыми помещениями и бушующими ветрами, а летом помогают сохранить в комнатах прохладу, задерживая палящие солнечные лучи. Задней стеной дом упирается в землю, и на уровне его крыши проходит дорога – когда-то это была просто тропинка, со временем расширившаяся и превратившаяся в улицу Крымскую-Мицкевича. Одна комната считалась детской, другая – бабчикиной. Бабчиком мы прозвали нашу бабушку, Ирину Николаевну, а с нашей подачи так стали ее называть и наши родители, и многие друзья. В отличие от большинства гурзуфских домов, наш опирался не на деревянные подпорки, а на крышу козьего хлева, задняя стеной которого также служила земля. Дедушка с бабушкой переоборудовали его в пригодное для людей помещение, одна часть которого звалась ванной и служила в плохую погоду кухней (на участке имелась еще летняя кухня-сарай), другая – столовой. Впрочем, в хорошую погоду семейные трапезы происходили, как правило, перед домом. Летом, если собиралась вся семья, и балкон, и столовая использовались для ночевки. Семья и после смерти Бориса Викторовича, была немаленькой: Ирина Николаевна, дети Зоя и Коля, невестка Катя, внуки – Настя (дочь Зои), Николка и Маша (дети Коли). Да еще почти всегда кто-нибудь из гостей. Когда – в раннем детстве – нам зачем-либо требовалась мама, приходилось уточнять, которая именно, и мы орали через весь участок: «мама Зоя!», «мама Катя!». И настолько привыкли к этому, что потом всю жизнь Маша называла свою тетю мамой Зоей, Настя свою, соответственно, мамой Катей. Более того, как и в случае с бабчиком, так стали называть их и друзья. Обстановка в доме была скромная, как, наверное, в большинстве тогдашних дач. Что-то куплено по случаю, а что-то (письменный стол, шкаф) сделано местным столяром Иваном Никифоровичем. Сейчас эти вещи находятся в мемориальном кабинете Бориса Викторовича в гурзуфском пушкинском музее. Дом расположен вверху участка, который спускается вниз довольно-таки круто, поэтому пришлось построить на нем множество террас и проложить несколько лестниц. Подпорные стены террас складывали несколько рабочих, а старший над ними, Андрей Иванович Курочкин, был каменщиком потомственным: его отец работал на постройке Ливадийского дворца Николая II. Чуть ниже дома Ирина Николаевна устроила кактусную горку, древовидные опунции, росшие на ней, отлично переносили крымские зимы и выглядели очень красиво, особенно в период цветения и созревания плодов, но представляли собой немалую опасность. Не один подгулявший или просто неловкий гость, да и кое-кто из членов семьи оказывался там и потом мучительно долго боролся с впившимися в тело колючками. Другие кактусы, а Ирина Николаевна была большой их любительницей, росли в кадках, и на зиму их затаскивали в дом, так же как и пышные (и плодоносящие) лимонные кусты. Лимоны эти доставляли нам в детстве немало тягостных минут: по поручению бабчика приходилось брать губку и каким-то специальным раствором протирать каждый листик. Ослушаться же бабчика мы не решались, она была строга. Росли у нас и сирень, и розы, и лавры, и виноград, половину участка закрывал своей тенью огромный грецкий орех со стволом, раздвоенным когда-то, еще при прежних хозяевах, в него попавшей молния. К сожалению, сооружение площадок и лестниц, так украсивших участок, не пошло на пользу росшим на нем деревьям: корневая система была повреждена и мало-помалу они стали чахнуть. К счастью для всех нас процесс этот занял много лет, лишь высоченный миндаль очень быстро. Первые годы за чудо-садом, как называла его в письмах бабушка, следили и садовник Михаил Иванович,и соседка баба Катя («Владимировна», как называла ее бабушка). Главным консультантом Ирины Николаевны был Тимофей Самойлович – старший садовник Никитского ботанического сада. От него она получала различные саженцы и полезные советы. Его дом и участок находились прямо на территории Никитского сада, и мы с бабушкой нередко ездили на катере к нему, а позднее к его вдове, в гости. Вообще дачная жизнь в 50-е – начале 60-х была отчасти патриархально-барской, вокруг было много, говоря современным языком, «обслуживающего персонала». О садовниках и столяре уже упомянуто, имелись няни для детей, за отсутствием в тогдашнем Гурзуфе прачечных часть стирки отдавалась прачке Марии Федоровне, за обедами с судками (три кастрюльки – для первого, второго и третьего) ходили к поварихе Александре Васильевне. Завтраки и ужины готовились дома. Денег в нашей семье всегда было немного, из чего можно заключить, насколько дешево стоили все эти услуги. «Писательшу» (так звали местные Ирину Николаевну) и ее семью в Гурзуфе знали почти все. Вспоминаются объяснения, которые давались знакомым, впервые собиравшимся к нам в гости (по почтовому адресу найти дом не представлялось возможным из-за упомянутой запутанности гурзуфской планировки): пройти по главной улице вверх и спросить, как найти дачу Томашевских или дачу «писательши». Не было случая, чтобы это не сработало. Среди гурзуфских старожилов оставались еще люди, помнившие, как тогда говорили, «раньшее время». Самой колоритной личностью была, пожалуй, бабка Капитолина – та самая, «старуха вида зловещего», что явилась от Книппер-Чеховой с просьбой перекрасить калитку. Жила она по соседству с Ольгой Леонардовной и вместе с мужем-рыбаком Романом Трегубовым присматривала за ее дачкой в отсутствие хозяйки. Вот что рассказывает о ней Зоя Борисовна:
Капитолина называла Ольгу Леонардовну исключительно «барыня», а внучек своих заставляла целовать ей подол. И когда Книппер-Чехова возмущалась и говорила: «Капа, что ты делаешь?!», та отвечала: «Пусть привыкают, барыня». У меня есть замечательное письмо, Капитолинин ответ маме, которая платила ей деньги, за то, что она присматривала и за нашим домом: «Милостивая барыня, деньги получила и покорнейше Вас благодарю. Милой барышне (т. е. мне. – З.Т.) кланяюсь низко. Слуга Капитолина». Письмо 1947 года.Рядом с Книппер-Чеховой и Трегубовыми жил и племянник Ольги Леонардовны композитор Лев Книппер. Потом дом (точнее домишка) достался его сыну геологу, академику Андрею Книпперу, а присмотр за ним – тоже как бы по наследству – перешел к невестке Трегубовых Валентине. Что же касается самого трегубовского дома, его последней на нашей памяти владелицей стала правнучка Капитолины Лариса. Упомянутая выше повариха Александра Васильевна с удовольствием передавала нам рассказы матери о том, как она служила горничной в царской резиденции в Ливадии. Попадали к Александре Васильевне, толкнув то ли глухую калиточку, то ли дверцу, спрятавшуюся между стен соседних домиков. Всё это – и калиточка, и узенький каменный коридорчик за ней, выводивший неожиданно в небольшой дворик, – типично для южного берега Крыма. Дворик, несмотря на крошечные размеры, оказывался коммунальным: выходившие в него «крымские лачуги» были поделены на клетушки. Не знаем, когда именно это было сделано – в до– или послевоенные годы, но такие «коммунальные дворы» тоже типичны для Крыма, различались они только размерами. Летом население окружающих их клетушек практически переезжало туда, там и готовили, там зачастую (если позволяли размеры двора) и спали: сами клетушки по возможности сдавались. Александре Васильевне принадлежала небольшая комната и кусочек застекленного балкона. Помимо рассказов о матери – ливадийской горничной нам запомнились еще необыкновенной красоты и размеров розы, неожиданные в крохотном пространстве двора, и вкуснейшие десерты, приготовлявшиеся Александрой Васильевной «на третье». Имелась в Гурзуфе и другая частная повариха – Надежда Борисовна, или, как ее обычно называли, несмотря на почтенный возраст, Надька. То же самое – клетушка, выходящая в коммунальный двор, и готовка для приезжающих ради заработка. Это называлось тогда «давать обеды». Эта деятельность, да еще сдавание в курортный сезон койки в своей клетушке, была для Надежды по сути единственным средством к существованию, так как пенсии она не получала: муж ее, турок, во время немецкой оккупации Крыма перебрался вместе с дочерью в Турцию. Всем окружающим она рассказывала, что дочь погибла в партизанах, но боялась, что при оформлении пенсии всплывет правда и, несмотря на неоднократные предложения Ирины Николаевны помочь ей в хлопотах, так на них и не решилась. Особо доверенным лицам она описывала прекрасную кофейню, которой владели они с мужем. Предаваться воспоминаниям о дореволюционных временах она тоже очень любила. Фигурировали там обычно дамы: «Все в кружевах, с зонтиками, такое обращение, такой смех… И все как есть чахоточные!» Почему все дамы-курортницы болели чахоткой, так и осталось на совести рассказчицы. Далее – как и в случае с кофейней – всё зависело от аудитории: людям непроверенным повествовалось об ужасах царизма. Для «своих» концовка была такой (дословно!): «Да-а… Советская власть многих погубила… Может, она и что хорошее дала, да только его всё равно нет! Теперь, конечно, власть рабочих, а рабочие все гады, хамы, воры и пьяницы!» Выпалив это на одном дыхании, она деловито переходила к хозяйственным делам. Помогать Ирина Николаевна была готова не только Надежде. Многочисленные письма, ходатайства, хлопоты по делам местных жителей, которые при жизни разделял с ней Борис Викторович, были важной составляющей ее гурзуфского бытия. Одним из основных бабушкиных подопечных была личность не менее колоритная, чем упоминавшаяся выше бабка Капитолина, – местный могильщик и ассенизатор Костя Инзик. Отчества его, похоже, никто не знал. Был он человеком огромного роста и огромной физической силы, которую применял как обломовский Захар, совершенно не соизмеряя потребных для того или иного действия усилий. Родом он был из Полтавы и в подростковом возрасте попал в заведение Макаренко. «Польстились гопники на его мощный рост и заманили дурака чемоданы на вокзале отбирать!» – сердито говорила бабушка. Что сыграло роль, – макаренковские методы (Костины рассказы о них сильно разнились с официальными) или же врожденная порядочность, – не скажешь, но более честного человека найти было трудно. Кроме того, несмотря на «грязные» занятия Костя отличался патологической чистоплотностью, но о работе своей никогда не забывал и, приходя в гости, ни за что не соглашался сесть за общий стол, ел и пил кофе, до которого был большой охотник, где-нибудь в стороне. Точно также никогда не давал руки нам, детям. Себя он называл «профессором кализации» (канализации). Вообще говорил Костя очень смешно: Черноземное (Средиземное) море, Югославский (Ярославский) вокзал, задавал вопросы типа: «А что Италия – на горе стоит?», коверкал слова (Ловушка вместо Золушка) – пересказ всех его перлов занял бы слишком много места. В качестве могильщика обещал местным бабкам качественные могилы в обмен на мелкие услуги: «Свари, Катечка, борщику, меня угости, я тебе могилку выкопаю». На что получал ответ: «А ну ее к свиньям! Ты раньше меня помрешь». Страшной угрозой в его устах звучало обещание вырыть кривую могилу, что он сулил, например, упомянутой выше Надежде-поварихе за отказ угощать борщиком. Особый его интерес вызывали известные люди, бывавшие в Гурзуфе, при этом требовалось установить степень величия каждого. Невозможно не привести их с бабушкой диалог:
К. (сидит в углу кухни). Ирина Николаевна, а Чехов был великий? И.Н. (помешивает что-то в кастрюльке). Великий, Костя, великий! К. (настойчиво). Нет, вы скажите, очень великий или немножко великий? И.Н. (пауза, мучительные раздумья). Немножко великий.Единственной личностью, чье величие не вызывало у Кости вопросов, был Шаляпин, и самым большим удовольствием, наряду с кофе, было слушать шаляпинские пластинки, сидя у нас на балконе. А высшей похвалой качеству служил эпитет «николаевский»: «николаевская колбаса», «николаевские стульчики» и т. д. При своем росте голову Костя имел маленькую, почти всегда увенчанную белой панамкой, и говорил тонким голосом, что создавало эффект весьма комический, а для Ирины Николаевны порождало проблемы. Дело в том, что добрейший Костя приходил в бешенство, когда над ним смеялись, и если это случалось (чаще всего ему просто так казалось), мог, что называется, «навтыкать». Последствия, учитывая его силищу, случались достаточно серьезные, и Костю препровождали в симферопольскую психбольницу, откуда с немалыми трудами его вызволяла Ирина Николаевна. Иногда у них случались размолвки, например, когда съев в один присест подаренную ему бабушкой большую банку варенья, Костя заявил местному врачу, что «писательша» его отравила. Переполошившейся при этом известии «писательше» врач со смехом объяснила, что причиной всех Костиных отравлений является обжорство. Костю бабушка нежно любила, это стало очевидно из коротенького письма, извещающего о его смерти: «Дорогие дети, столько утрат я вынесла, владея собой, а тут плачу третий день и не могу остановиться». Тем, кто знал Ирину Николаевну – очень волевую, сильную, суровую даже, эти слова говорят о многом…
Жизнь в Гурзуфе мало-помалу менялась, прежняя патриархальность уходила в прошлое. Конечно, в первую очередь это связано с его популярностью. Наплыв отдыхающих, как называли их местные жители, бывал таков, что сдавались койки даже под кустами в садиках, а чтобы пробраться к морю, приходилось идти на берег не позже шести утра. Отдыхающие в глазах местных были некоей особой кастой: им представлялось, что те всегда бездельничают, не нуждаясь при этом в деньгах. Маленькая внучка нашей соседки на вопрос, кем она хочет стать, так бесхитростно и ответила: «Отдыхающей». Наверное, это свойство любого курорта – отношение к приезжим как к прожигателям жизни, ведь именно такими они видятся в короткие дни своих отпусков. Если для одиноких старушек, которых мы описали выше, этот курортный бум оказался благом, – заработок всё-таки! – то в целом влияние его было скорее развращающим. Ведь если в нормальных условиях владельцам гостиниц, ресторанчиков и т. д. приходится немало потрудиться, чтобы заработать деньги в курортный сезон, то советские курорты с их полным отсутствием какой-либо инфраструктуры деньги приносили легкие, шальные. Зачем что-то делать, если в июле-августе можно напихать в маленькую комнатушку несколько незнакомых друг другу людей или поставить койку в саду, натянув над ней старую клеенку от дождя, а потом жить себе да поживать до следующего сезона? И уже к началу 1970-х в Гурзуфе, как и на других курортах Крыма, почти невозможно было найти садовника, сторожа или рабочего, чтобы починить, например, ступеньки или крышу. Как бы то ни было, усугубляющиеся сложности – с текущим ремонтом, с уходом, в отсутствие хозяев, за садом и присмотром за домом, в который повадились забираться воришки, не могли заслонить светлых сторон гурзуфской жизни. «Хорошо, – писал Дмитрий Сергеевич Лихачёв Ирине Николаевне в конце 1964 года, – что Вы ощущаете связь с природой, с птицами Вашего сада, с погодой, с видами, открывающимися из Вашего прекрасного дома». Всё, перечисленное Дмитрием Сергеевичем, действительно составляло главную прелесть жизни в Гурзуфе. Но была и другая – замечательные люди, друзья, бывавшие в нашем доме. Кто-то приезжал навестить – на несколько часов, кто-то гостил подолгу. Лихачёв бывал у Ирины Николаевны неоднократно, не останавливаясь, впрочем, на ночевку. Его летний визит с женой Зинаидой Александровной и внучкой Верой запомнился нам, девчонкам, потому, что бабчик назвала ее хорошей девочкой, тогда как нам постоянно доставалось за хулиганские выходки и бесконечные кривляния. Раздражение на бедную Верочку, вызванное этой похвалой, вылилось в дополнительный всплеск кривляний и выволочку от бабчика. Приезжал Дмитрий Сергеевич и один, и с женой. Солженицын, как уже упоминалось, жил в Гурзуфе – недолго – в конце 1969 года. В письме, написанном в сентябре 1973 года, всего за месяц до смерти Ирины Николаевны, Лихачёв интересуется: «Как Ваша основная работа?», имея в виду работу над «Стременем “Тихого Дона”», идея которой, повторимся, родилась в ходе ее бесед с Солженицыным. После вручения Нобелевской премии Бродскому, в среде друзей наш дом стали называть «домом Нобелевских лауреатов», ведь Иосиф Александрович тоже гостил у Ирины Николаевны. Знакомству с Бродским наша семья обязана Анне Андреевне Ахматовой. С ней Ирину Николаевну и Бориса Викторовича связывала многолетняя – многодесятилетняя – дружба. Рассказ об их совершенно особых отношениях представляет собой отдельную тему, но здесь хочется привести стихотворение «Август», написанное на смерть Бориса Викторовича и датированное 27 августа 1957 года (через три дня после его смерти):
Он и праведный и лукавый,
И всех месяцев он страшней:
В каждом августе, Боже правый,
Столько праздников и смертей.
Разрешенье вина и елея…
Спас, Успение… Звездный свод!..
Вниз уводит, как та аллея,
Где остаток зари алеет,
В беспредельный туман и лед
Вверх, как лестница, он ведет.
Притворялся лесом волшебным,
Но своих он лишился чар.
Был надежды «напитком целебным»
В тишине заполярных нар…
А теперь! Ты, новое горе,
Душишь грудь мою, как удав…
И грохочет Черное море,
Изголовье мое разыскав.
На столе горит свеча.
Хан зевает бормоча:
«Тря-ля, тpy-ля,
Тру-ля, тру-ля, КИТСАН ЛИМ…
Тру-ля, тру-ля, бре-ке-ке».
Что на хан/м/ском языке
Означает НАСТИК МИЛ.
Месяц звездочки затмил.
…На террасах
Горы, сползающей на дно,
Дремал поселок, опоясав
Лазурной бухточки пятно.
В заключение хочется сказать несколько слов и о наших родителях, впитавших в себя с самого детства привязанность к Крыму и любовь к Пушкину. Зоя Борисовна (1922–2010) не пошла по стопам родителей в выборе профессии, хотя унаследовала от них любовь к литературе. И всячески старалась прививать ее нам. Живя с нами в Гурзуфе, неизменно читала нам на ночь Жюль Верна, Гоголя, Льва Толстого. Знала она наизусть великое множество стихов, особенно, конечно, пушкинских, и очень часто – всегда к месту – их цитировала. Окончила Зоя Борисовна архитектурный факультет Всероссийской академии художеств, работала в Ленпроекте и много лет преподавала на кафедре интерьера Мухинского училища (ныне это Художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица). Забавно, что в советские времена училище, неофициально конечно, называли «Штиглицем» («он учится в Штиглице»). Теперь же, когда историческая справедливость восстановлена и училище носит имя своего основателя, его – тоже неофициально – зовут «Мухой». Зоя Борисовна – автор интерьеров «Пушкинского кафе», бывшей кондитерской Вольфа и Беранже, откуда на роковую дуэль уехал Пушкин. Опять Пушкин! В последние годы Зоя Борисовна много занималась мемуаристикой, рассказывая о замечательных людях, с которыми благодаря родителям свела ее судьба. Ее перу принадлежат воспоминания «Канал Грибоедова 9», «Зоя Томашевская рассказывает». Николай Борисович (1924–1992) избрал в отличие от сестры специальность семейную. Он был филологом-романистом, но литература русская неизменно входила в сферу его интересов. Автор многих переводов и статей по проблемам испанской и итальянской литератур, он отводил в своих работах немалое место испанско-русским и итальянско-русским культурным и литературным связям. Посвященные этим проблемам работы собраны в книге «Традиция и новизна», основную тему которой автор определил словами Ахматовой:
Как в прошедшем грядущее зреет,
Там в грядущем прошлое тлеет…
Мария и Анастасия Томашевские
Таврида Исторические очерки и рассказы
Вступление
В разделе «Таврида» рассказывается о последних днях Крымского ханства, о завершении многовековой борьбы русского народа за Черное море, о начале русского Крыма. Книга не претендует на всесторонний охват темы, она должна дать лишь представление о ней. Для этой цели избраны маленькие очерки, рассказы, статьи. Девять циклов, в которые входит тридцать очерков, расположены в хронологическом порядке (с 60-х годов XVIII века – по 30-е годы XIX века). Очерки написаны на основании документальных материалов, печатных и рукописных[7]. Старые карты, чертежи, экспликации, рисунки и портреты были иногда незаменимы для изображения мест и людей описываемого времени. Для понимания исторической закономерности акта, именуемого присоединением Крыма (1783 год), необходимо, хотя бы в общих чертах, проследить русско-крымские связи с древних времен. Памятники материальной культуры и письменные источники дают сведения о прошлом населении Северного Причерноморья. Но до настоящего времени не вполне ясен во-прос о древнейшем заселении Крыма и сменах племенного состава его обитателей, а также о взаимоотношениях местных жителей с пришлыми колонизаторами: пелопоннесскими греками (с VI века до н. э. по III–IV века н. э.), римлянами (в конце I века до н. э.), византийскими колонизаторами и сменившими их венецианцами и генуэзцами (XIII–XV века) и наконец с татарами (с 20-х годов XIII по 70-е годы XVIII века). Не вполне известны историкам и археологам состав местного населения в разные эпохи и преемственная связь древних народов (в том числе славян) с племенами, следы которых оставило Средневековье. О начале русско-крымских связей и появлении русских людей в Крыму мы знаем очень мало. Существует лишь несколько византийских свидетельств и глухих упоминаний в русских летописях. Согласно этим источникам, начало русско-крымских отношений датируется серединой IX века. Византийская империя вела длительные войны и была заинтересована в союзе с Русью. Помощь русов уже в IX веке стала необходимой гарантией существования Византийского государства, и в особенности его черноморских колоний с их центром на полуострове – в знаменитом Херсонесе Таврическом. Правда, византийские императоры, боясь усиления могущества «великого народа русов», постоянно натравливали на Русь орды печенегов и других кочевников. Поэтому мирные соглашения Киевской Руси с Византией прерывались с вероломством, которое было столь характерно для политики послеюстиниановской империи. Этим объясняются устрашавшие Византию походы Руси на Царьград, предпринятые князьями Олегом, Игорем и Свято-славом. Знаменитый договор Игоря с греками был заключен после похода 944 года. На этот раз греки, встревоженные появлением многочисленных русских дружин (в союзе с печенегами) у берегов Черного моря, поспешили предложить Игорю мир на выгодных для Руси условиях. Договор касался и Крыма, т. е. отношений Киевской Руси с греческой колонией на полуострове. Создалось такое положение, при котором Крым мог стать русским уделом. Чтобы предотвратить это, греки шли на всевозможные уступки, соглашаясь на военный протекторат Киевской Руси. Вот что гласит договор: «А о Корсуньстей стране. Елико же есть городов на той части, да не имать волости, князь Русский, да воюеть на тех странах, и та страна не покоряется вам», т. е. русские не должны присваивать себе власти над страною Херсонесскою и городами ее; «Аще обрящуть в устье Днепрьскомь Русь корсуняны, рыбы ловяща, да не творять им зла никако же», т. е. русские не должны творить никакого зла херсонесцам, ловящим рыбу в устье Днепра. Греки стремились к тому, чтобы Крым оставался для русских лишь местом временных промыслов и торговли, но никак не осваиваемой землей. В договоре сказано, что русские не должны зимовать в устье Днепра и в «левобережьи», т. е. в местах, исконно привлекательных для Киевской Руси, а «при наступлении осени да идут в домы свои, Русскую землю». В то же время договор предусматривал русскую охрану крымских земель: «А о сих, оже то приходить чернии болгаре, и воюють в стране Корсуньстей, и велим князю рускому, да их не пущаеть: пакостять стране его». Такое условие было возможно лишь при наличии военных баз. Русские форпосты, вероятно, находились на всем побережье и главным образом на его западных и восточных окраинах. Многие историки именно к этому времени приурочивают начало Тмутараканского удела. Однако для создания удела было недостаточно связей с Византией и береговых форпостов – надо было покончить с властью хазар на восточной окраине полуострова. Воинственный киевский князь Святослав еще меньше, чем его предшественник Игорь, был склонен к случайным «набегам». Талантливый военачальник и политик, Святослав имел вполне обдуманный и широкий план действий. Он хотел полного освобождения низовий русских рек – Волги, Днепра и Дона. Борьба с хазарским ханом, или каганом, тудуном входила в замыслы Святослава. Разбив хазарские войска у Саркела, далекой крепости и столицы хазарской, Святослав пошел войной в Приазовье, завоевал Таматарху (Тамань) и крымский берег Керченского пролива. Именно тогда хазарские воинские гарнизоны могли быть заменены русскими. Это произошло примерно лет через двадцать после того, как Игорь заключил договор с греками, т. е. в 60-е годы X века. Так называемая готская провинция (горный Крым), которая в этот период находилась в зависимости от хазарского хана, обратилась за помощью к Святославу. В дневнике путешествия готского топарха (управителя Готии) рассказывается о его поездке в Киев к «владыке севера» Святославу в 965 году. Топарх искал у Святослава защиты от хазарских властей, и ему была обещана помощь. Мало того, Святослав одарил его деньгами и новыми землями в Крыму. Это был мудрый способ поставить Готию в полную зависимость от Русского государства. Сведения, которые дают записки, драгоценны тем, что они указывают на крымские владения киевского князя, граничившие с греческими где-то в горах Крыма, в самом сердце его. История Тмутараканского удела, образовавшегося на Таманском полуострове, неотделима от истории Крыма. Есть все основания считать, что русское влияние, осуществляемое в Крыму с конца X по начало XII века, связано с Тмутараканским княжеством – хозяйственной и военной базой Киевского государства. Образованию удела предшествовал довольно длительный период военных, торговых и рыболовных экспедиций к северо-западным, соседствующим с полуостровом берегам, к Сурожу (т. е. Судаку) и Корчеве (т. е. Керченскому проливу). Вероятно, уже Игорь был хорошо знаком с Таманским полуостровом и даже, быть может, посылал туда кого-либо из князей. Иначе как бы он стал выполнять договор о недопущении черных болгар? Тмутараканский удел служил важной опорой и для киевского князя Владимира Святославовича во время его похода. Дружины Владимира шли к Херсонесу с мирными намерениями, в качестве союзных Византии войск; сам Владимир готовился закрепить этот союз браком с сестрой византийского императора. Но император передумал, и его вероломство заставило русского князя осадить и после длительной осады взять Херсонес (апрель 988 года). Взятие Херсонеса грозило Византии полной потерей Крымской колонии. Владея Керченским проливом, а на западе обладая Херсонесом, киевский князь мог стать полным хозяином Крыма. Херсонес, в который Владимир вошел победителем, был одним из великолепнейших созданий культуры того времени. В нем была сосредоточена власть над всей береговой частью полуострова. Взяв Херсонес, Владимир получал доступ ко всем землям византийской колонии. Византийские историки (например Лев Диакон) утверждают, что Владимир, кроме Корсуни, покорил еще десять городов и пятьдесят деревень в Крыму. Поход Владимира широко открыл пути русским купцам, стремящимся к черноморским торговым гаваням, и укрепил русское влияние в Керченском проливе. Ко времени княжения сына Владимира Мстислава Владимировича относится расцвет Тмутараканского удела. Владимир назначил Тмутараканский удел своему старшему и даровитейшему сыну Мстиславу, и это говорит о том, какое значение придавалось тогда владениям у берегов «русской реки» (так именовали Керченский пролив). Тмутараканские князья пользовались международным авторитетом и славились своим мужеством. Они вели постоянную борьбу с набегами кочевников тюркских племен и охраняли крымское побережье. Последнее упоминание в летописи о Тмутаракани относится к 1094 году. Существует предположение, которое основывается на очень неясных фактах, будто Тмутараканское княжество сохранилось и после того, как половцы, хлынувшие из северных степей, перерезали живую артерию, связывавшую этот удел с Киевским государством – торговый путь по Дону «из греки в булгары». Якобы и после того Тмутаракань оставалась политически сильным и влиятельным княжеством, хотя и находилась в полном отторжении от общей жизни своего государства. Но в «Слове о полку Игореве», повествующем о событиях конца XII века, Тмутаракань упоминается уже как «земля незнаемая». Однако русское население остается в пределах Керченского пролива, о чем имеется свидетельство у арабского историка XIV века Эль-Омари. Факт этот чрезвычайно важен для уяснения дальнейших связей Руси с Крымом. След Тмутараканского княжества теряется в русском летописании с распадом Киевской Руси. Страшные события монгольского нашествия прервали естественную связь Киевской Руси с Северным Причерноморьем, так хорошо налаженную в IX–XI веках. XII веком кончаются сведения и о тех связях с полуостровом, которые могут быть названы русско-византийскими. В XIII веке началось падение Византии. Греческие колонии в Крыму перешли в руки итальянцев – венецианцев и генуэзцев. Венецианский период связан с Сурожем, генуэзский – с Кафой (Феодосия)[8]. В середине XIV века вражда между венецианской и генуэзской республиками привела к победе Генуи. Следующий период, с XIII по XVIII век, характеризуется почти непрерывной борьбой Московского княжества (а затем Московского государства) с хищничеством крымских ханов. Начало этого периода ознаменовалось так называемым татарским нашествием. Нашествие монголо-татарского Улуса Джучи (Золотой или Большой Орды) было страшным бедствием Европы XIII века. Арабский историк писал, что это было «событие, искры которого разлетелись во все стороны и зло которого простерлось на всех; оно шло по весям, как туча, которую гонит ветер». Татарское иго (по словам К. Маркса) «не только давило, но оскорбляло и иссушало самую душу народа, ставшего его жертвой». Первое вторжение татар на Таврический полуостров произошло в 1223 году. Результатом его было уничтожение культуры городов Северного Причерноморья и гибель множества мирных людей. Разрушительные набеги продолжались в течение всего XIII века, пока полуостров и прилежащие к нему с севера степи не сделались официально Крымским юртом (уделом, княжеством) Золотой Орды. Характер Крымского ханства определился еще в эту первую золотоордынскую пору существования, длившуюся более чем полтора столетия (до 70-х годов XV века). Крымский юрт объединял кочевые племена татар-скотоводов, основным промыслом которых была война. Сделавшись хозяевами степей Таврического полуострова, татары и здесь продолжали вести ту полуоседлую, полукочевую жизнь, которая характеризовала быт всего Улуса Джучи. Такой образ жизни требовал простора – и татары не стремились занимать горные и береговые районы, тяготея к северным и юго-восточным частям полуострова. Там пасли они свои табуны лошадей и стада верблюдов, не имея склонности ни к земледелию, ни к торговле (кроме торговли пленниками, приносившей огромные доходы). Ремесла татар были связаны преимущественно со скотоводством (изделия из верблюжьей шерсти, из кожи и т. п.). Еще в XIV веке многие из татарских князей-военачальников лишь зимовали на полуострове, а весной уходили в Поволжье, в места, близкие к Большой Орде. Но постепенно захватывались и лучшие земли Крыма, и оседали на них семьи, отколовшиеся от Большой Орды: Ширины, Мансуры, Аргыны и Яшловы. Они были первыми крымскими феодалами – основателями ханства. Наряду с феодалами-военачальниками земли Крыма были захвачены не менее могущественным магометанским духовенством. Служители ислама (муфтии, кадии, шейхи) составляли особую знать, и на них должны были работать все те, кто не мог откупиться налогами. Экономика Крымского юрта основывалась на нещадной эксплуатации нетатарского населения края. Посредниками являлись венецианские, а затем генуэзские купцы, колонизировавшие побережье Крыма. Местные земледельцы должны были обрабатывать земли татарских феодалов. «Законная десятина» (т. е. десятая часть дохода) должна была доставляться в положенные сроки новым хозяевам. Кроме того, были установлены разнообразные пошлины и поборы, не считая трудовых повинностей. Крымский юрт хозяйничал по образцу Золотой Орды. Для сбора дани в Орде были особые чиновники (баскаки): таможенники, раскладчики податей, заставщики, мостовщики и т. д. С помощью такой мощной организации «улавливались» все неплательщики, и золото непрерывно поступало в юрт. Насколько деятельны были ханские чиновники и как много их было, можно судить по тому, что ханы, не препятствовавшие торговле итальянских купцов в крымских городах, брали определенный процент с каждой торговой сделки. За каждым купцом устанавливалась слежка. Крымский юрт являлся частью огромного золотоордынского государственного механизма, служившего войне. Положение землевладельца сочеталось у золотоордынских военачальников с профессией воина. Время от времени предпринимался смелый чапун[9] во имя наживы и воинской славы. Центром татарского Крыма сделалась разрушенная греческая колония, на месте которой около VIII века возникла хазарская крепость[10]. Татары назвали ее Солхатом, а позднее – Эски-Крымом (Старый Крым). В золотоордынскую эпоху монголо-татарского ига в Крыму город этот играл роль крупного торгового центра. Сюда прибывали товары, идущие караванами из центров Золотой Орды к приморским городам Крыма, преимущественно к Кафе, откуда отправлялись в Византию, Египет, страны Западной Европы. По мере того как татаро-монгольское государство расшатывалось от непрерывных феодальных раздоров и войн, Крымский юрт, отдаленный от золотоордынского центра, приобретал самостоятельность, начиная всё больше тяготиться зависимостью от «коренного юрта», от хана-властителя. Однако это не исключало стремления со стороны Крымского ханства стать во главе всех других юртов, подчинив их себе. Борьба за «господство» и привела татарские царства к окончательному развалу. Процесс постепенного отпадения Крымского ханства происходил в течение почти столетия. С ним связано и постепенное перенесение столицы из Солхата в долину Чурук-су, что символизировало новую политику крымского хана-наместника и, по-видимому, являлось фактическим началом государственной самостоятельности Крымского ханства (хотя датой его образования считается 1462 год). В 1428 году хан-наместник избрал своей резиденцией уединенный Кырк-иер (Чуфут-Кале) и долину близ мест, где позднее был построен Бахчисарай. Эти места отъединяли Гиреев (династию крымских ханов) от европейских соглядатаев, населивших Кафу с близлежащими степями и побережьем. В период разложения и падения Золотой Орды, сохранявшейся на юге, Крымский юрт начал заявлять свои права на дань, которую устанавливала на Руси Золотая Орда. Даньвымогали разными средствами, преимущественно путем различных помех в торговых сношениях. По мере того как крымский хан приобретал независимость и усиливался, положение нетатарского населения в Крыму становилось всё тяжелее, а сношения с Крымом затруднительнее. Русские торговые караваны боялись не только нападения ногайских конников, но и ханских чиновников, которые занимались грабежами под видом взимания дани. Крымские ханы видели в своем отпадении от Золотой Орды способ усилиться. Однако общий развал монголо-татарского государства неизбежно влек к гибели и ту небольшую его часть, которая осела в Причерноморье. В то время как разваливалась Золотая Орда, русский народ, страдавший под ее властью, собирался с силами. Знаменитая Куликовская битва (1380 год) показала значительность этих сил. Но открытая борьба в полной мере была невозможна по причине разрозненности русских княжеств и междоусобиц. Процесс становления Русского государства, возглавленного Московским княжеством, происходил тем интенсивнее, чем сильнее было народное желание освободиться от золотоордынской зависимости, и в этом процессе Крымскому ханству была такая же угроза, как и любому юрту Золотой Орды. Распри в Золотой Орде создавали возможность компромиссов и сговоров с отдельными татарскими феодалами по поводу тягостной дани. Утвержденная татаро-монгольскими правителями в 50-е годы XIII века система дани ко времени отпадения Крыма от Золотой Орды была уже совершенно расшатанной. К этому привели и загнивание всей баскаческой военно-политической организации, и искусная политика русских князей, к середине XV века окончательно установленная Москвой. 70-е годы XV века ознаменовались крупными событиями в Юго-Восточной Европе. Турция кончила свои войны с Византией полной победой, в результате которой империя была разгромлена, и Константинополь сделался резиденцией турецкого султана и европейским средоточием ислама. Уже в силу того, что магометанство к этому времени стало религией большинства татар, связь Стамбула с Крымским ханством установилась самая близкая. Общая задача состояла лишь в избавлении от итальянских колонистов, занимавших береговые черноморские крепости. Так был заключен турецко-татарский союз, который ознаменовался изгнанием генуэзцев с берегов Крыма. В 1475 году турецкий флот подошел к Кафе. Началась осада этого крупнейшего на побережье порта, охраняемого системой крепостей. Турки брали Кафу с моря, помогавшие им татары наступали с суши. Город был разгромлен, стены полуразрушены, большинство генуэзцев бежали. В русских летописях под 1475 (6983) годом значится: «Того же лета 6983 туркове взяша Кафу, и гостей московских много побита, а иных поимаша, а иных пограбив на окуп даваша…» В Кафу вступил сын турецкого султана Баязет, и город отныне стал резиденцией наместника падишаха. Вслед за Кафийской крепостью турецко-татарские войска заняли и все другие крепости побережья: Сурожскую, Алуштинскую, Гурзуфскую, Ливадийскую и Балаклавскую. Турецкие гарнизоны были поставлены по всему побережью. Старой культуре Крыма были нанесены непоправимые раны. Именно 1475 год можно считать завершением периода золотоордынской власти в Крыму и началом существования Крыма в качестве вассального относительно Турции государства. Турецкая империя не стремилась ликвидировать Крымское ханство, но она поставила под свой контроль политику крымцев, взяла в свои руки все форты и крепости полуострова и сделала своей областью южное побережье полуострова (от Херсонеса до Кафы). Государство, которое стало вассалом Турции, было значительным по силе и территории. Основной его частью был Крымский полуостров. В состав ханства входили земли при нижнем течении Днепра. Позднее (уже в XVI веке) к нему присоединились Прикубанье с Ногайской ордой и Буджакская орда, образовавшаяся из Астраханского княжества. С начала XVI века крымские ханы назначались и свергались в Стамбуле, и их достоинство измерялось двумя качествами: преданностью Турции и военными удачами. Но в хозяйственный уклад Крымского ханства Турция не вмешивалась. В ее интересах было сохранение архаического строя Крымского улуса, так как именно этот строй обеспечивал постоянную готовность к войне. Крымское государство существовало войной, и оружие его было обращено на север. Тем самым Крым являлся для Турции надежным заслоном. Стамбул не мешал непрестанным военным вылазкам татар даже в тех случаях, когда они не соответствовали намерениям турецкой дипломатии. Но некоторые походы крымцев поддерживались военной силой Турции, и Московское государство уже в конце XV века вынуждено было иметь дело не только с татарской, но и с турецкой агрессией. Своеобразное вассальное состояние Крыма относительно Турции усложнило русско-крымские отношения. Благодаря тому что Турция предоставила Крыму самостоятельность в делах хозяйственных и военных, сохранялся и такой пережиток золотоордынских времен, как притязания на русскую дань. Это создавало для Московского государства XVI–XVII веков необходимость посольств в Бахчисарай и переговоров с Крымом помимо тех, которые надо было вести с хозяйничавшей на Черном море Турцией. Ханом, который передал судьбы Крыма в руки Турции, был Менглы-Гирей. Договариваясь со Стамбулом, он не только не подозревал, что крымские ханы теряют свою самостоятельность, но и предвидел усиление крымских ханов, которые, по его мнению, должны были возглавить распадающиеся части Большой Орды. Уничтожение армии Золотой Орды было в интересах Турции, так как она хотела иметь под своей рукой все монгольские орды и ничего не имела против того, чтобы это собирание осуществил Крым. В деле уничтожения остатков Золотой Орды у Крыма был и другой мощный союзник – Московская Русь. И вот в 80-е годы XV века при поддержке Оттоманской Порты и полном сочувствии со стороны Русского государства войска Крымского ханства пошли против армии Большой Орды, разгромили эту армию и покончили с золотоордынской властью. Тогда, пользуясь развалом Орды, усилившееся Русское государство предприняло поход на Казань, в результате которого Казанское ханство вынуждено было признать власть Москвы. И хотя это подчинение продолжалось недолго, уже не могло быть и речи о прежнем самоуправстве казанских и других татар на Руси. Крымский хан, рассматривавший свой поход как путь к власти надо всеми татарскими царствами, должен был убедиться в невозможности восстановления монголо-татарской империи. Препоной к восстановлению было усилившееся Русское государство, ослабление которого стало целью турецко-татарской военщины. Будучи хитрым политиком, хан Менглы-Гирей еще в 1505 году уверял московское правительство в нерушимой дружбе, в подтверждение чего русскому послу в Бахчисарае Заболоцкому была выдана шертная, или клятвенная, грамота. Клятвы не мешали хану в то же время сколачивать по совету Стамбула военный союз против Русского государства. Одним из первых шагов, предпринятых Менглы-Гиреем в этом направлении, было объединение сил Литвы, Крыма и Казанского царства. Этот союз отстоял самостоятельность Казани, вновь оказавшейся агрессивной в отношении Москвы, что дало возможность крымским войскам в 1507 году ринуться на Москву. Поход этот и без участия турецких войск (хотя турецкая артиллерия была пущена в ход) мог быть назван первым столкновением России с Турцией, так как совершился с соизволения султана. Самостоятельность крымских ханов продержалась не более десятилетия со времени взятия Кафы. После смерти Менглы-Гирея крымские ханы стали назначаться властью султана, и «союз» с Портой получил откровенный характер вассальной зависимости. Начиная с похода на Москву 1507 года, все вторжения татарской конницы на русскую территорию получали санкцию в Стамбуле. С ведома и одобрения Стамбула упрочивалась и система вымогательства «поминок». Объясняя постоянную военную активность крымских татар, принесшую неисчислимый урон Московскому государству, исследователь русско-татарских отношений А.А. Новосельский показал связь военной политики крымцев с их экономическим и социальным укладом и с историческими традициями внешней политики. «Выход из хозяйственных затруднений, – пишет он, – татары находили не в развитии производительных сил, к чему природные условия предоставляли полную и широкую возможность, а в отыскании сторонних источников средств, какими сделались для них беспрестанные войны с соседями и получение с них принудительных платежей. Эти статьи дохода с давних времен вошли в качестве органической части в состав средств, поддерживавших существование крымского населения… Один только русский полон ‹…› доставлял татарам огромные суммы». Дальше историк останавливается на распределении средств, получаемых татарами от полона и дани, и приходит к выводу о ничтожной доле рядовых, улусных татар. «Нужен был ряд удачных походов, чтобы захват полона и его реализация на рынке принесли облегчение татарской бедноте. Вот почему татары присваивали прозвище “счастливых” тем царям, при которых происходили неоднократные и успешные набеги на соседние страны»[11]. Касаясь исторических традиций внешней политики, А.А. Новосельский пишет о том, что политика эта сводилась к вымоганию дани и что требование дани, установленной в XIII веке, продолжалось со стороны крымцев и в XVII веке, причем методы оставались прежними: вымогание сопровождалось грубым насилием над послами, жестоким обращением с русскими пленниками и т. п. Летопись татарских набегов на Русь в XVI–XVII веках однообразна, и количество их кажется невероятным. Так, только в XVI веке крымцы двадцать восемь раз переходили Конскую реку (обычный маршрут крымской конницы) с целью наступления на Московское государство. Первый поход на Москву, окончившийся неудачей, был предпринят в 1507 году. Все следующие набеги имели ту же цель и кончались более или менее одинаково: бегством из пределов Рязанских или Тульских земель. Таковы были походы 1512, 1515, 1517 годов. В 1521 году крымская конница во главе с ханом бежала из-под самой Москвы. Походы 1527, 1533, 1534, 1541, 1542, 1552, 1553, 1558, 1559, 1562, 1564, 1565, 1567, 1570 годов кончились кровопролитием, пожарами и богатой добычей (в том числе множеством пленных, угнанных в Крым) на злосчастных рязанских и тульских землях. В 1571 году крымцы с ногайцами достигли наконец Москвы, взяли ее, произвели страшные разрушения и пожары, но всё-таки вынуждены были бежать, не завершив дела; новый поход 1571 года, стоивший Крыму не меньшего напряжения, ничего не прибавил к предыдущему. Походы 1572, 1574, 1576, 1577, 1586, 1587 годов носили такой же характер, что и набеги 20-х – 60-х годов XVI века. В 1591 году хан Казы-Гирей подступил к Москве, вел себя вызывающе, как победитель, но, узнав о полках, идущих из всех областей государства на подкрепление, позорно бежал, не успев даже увезти награбленное. Собравшись с силами, крымцы, однако, уже в 1592 году затеяли месть и совершили набег на каширские и тульские земли. Этот набег был самым кровопролитным и жестоким из всех, причем хан пытался доказать, что построение городов на окраинах Московского государства бесполезно и что они будут неизменно уничтожаться. Все эти многочисленные нападения (не считая еще коротких набегов и стычек на границах Русского государства и постоянных ограблений торговых и посольских караванов) приносили огромный урон и держали население в вечном страхе. Главной целью татарских набегов были пленники. Каждый набег давал несколько тысяч людей (около 200 тысяч, например, за первую половину XVII века). Пленных, мирных русских людей, среди которых были и женщины, и дети, угоняли в Крым преимущественно для продажи на знаменитом невольничьем рынке Кафы. Лишь небольшая часть пленных оставалась на работах у военачальников и рядовых татар. Продажа пленных была доходнейшей статьей, так как стоимость невольника колебалась от 50 до 150 рублей золотом (исчисляя тогдашними русскими деньгами). Наскоки татар, ошеломлявшие в первое мгновение, затем почти всегда отражались русскими людьми, которые умели заманивать степняков в лесные чащи и болотные топи. Мужественно и терпеливо оборонялись московские люди, прогоняя татар со своей земли. От обороны переходили к наступлению, чтобы предотвратить ожидаемый удар. Так и в 1553 году, получив сведения, что крымские татары замышляют двинуться на Астрахань, Иван Грозный послал тринадцатитысячный отряд к Перекопу, в Мамаевы луга, стремясь преградить путь хану. Слух о направлении оказался ложным (обычная военная хитрость): крымцы шли на Рязань. Тогда отряд под начальством Шереметева пошел вслед татарам и, догнав их в 150 верстах от Тулы, заставил удалиться восвояси. Маленькие отряды русских храбрецов непрерывно действовали то на Днепре, то на Дону (дьяк Ржевский, Чулков). В начале 50-х годов XVI столетия Турция решительно устремилась к созданию мусульманского объединения, направленного против Русского государства. Кроме Крымского ханства, в объединение должны были войти еще Казанское и Астраханское ханства и Ногайская орда. Хотя это мусульманское объединение должно было служить лишь интересам Турции и способствовать ее усилению, крымские ханы видели в нем путь к осуществлению своих целей. Они имели наивность надеяться на господство Крыма, подобное прежней власти Большой Орды. Так или иначе, Русское государство приняло меры, чтобы помешать собиранию антирусских сил. Дипломатия Ивана IV содействовала тому, что ногайцы отказались войти в объединение. Дипломатическими переговорами предполагалось убедить и Казань. Однако в этом ханстве в то время верховенствовала крымско-турецкая клика, и она оказала противодействие соглашению с Русским государством. Установленный еще при Иване III протекторат был нарушен не без содействия крымцев, и началась война. Победы под Казанью (1551 год), а затем Астраханью (1556 год) были избавлением от татарского ига, и лишь Крымский юрт оставался опасным гнездом разбоя и притязаний на золотоордынские права. Освобождение можно было бы считать полным при условии ликвидации крымской опасности. Был выдвинут проект большого похода на Крым. Политики утверждали, что с помощью запорожцев можно разом покончить с ханством. Так советовала Избранная рада: братья Адашевы, Шереметев и Андрей Курбский, впоследствии изменивший родине, а в то время – один из приближенных Грозного. Курбский считал, что царь по легкомыслию, из-за «трапез и кубков» упустил удобный момент наступления на КРЫМ, отделавшись посылкой маленьких отрядов, вместо того чтобы двинуть большое войско и самому идти на Девлет-Гирея. Однако дело обстояло гораздо сложнее. Поход против Крыма мог оказаться успешным только в том случае, если бы Русское государство могло укрепить свои позиции в Причерноморье. Это было невозможно по ряду причин. Главной из них являлись безлюдность и неосвоенность степных пространств, ведущих к полуострову. Не менее важным было и то, что расправа с Крымским ханством повлекла бы за собой войну с Турцией, в то время могучей морской державой. Взвешивая все эти препятствия и сообразуясь с расстановкой сил, Иван IV считал поход в Крым несвоевременным. Но именно при Грозном началось наступление на Крым планомерным заселением и укреплением южных окраин Русского государства. Была выработана система, которая носила характер именно наступательный, а не только оборонительный. Она состояла в постройке линий укрепленных городов, слагалась из сторожевой, казачьей службы, фортов, выдвинутых в степь, и поселений. Воспользовались и старой линией укреплений, идущей по реке Оке, для защиты от набегов кочевников. Старая линия по плану Грозного явилась второй, внутренней полосой укрепленных городов, впереди которой выдвинулась другая передовая линия крепостей. Старую линию составляли: Нижний Новгород, Муром, Мещера, Рязань, Тула, Серпухов, Звенигород. Линия Грозного составилась из крепостей Алатырь, Темников, Мценск, Орел, Новгород-Северский, Рыльск, Путивль. По всем направлениям высылались разъездные станицы – сторожи. Впереди, по самой степи, были сделаны рвы, засеки, лесные заслоны, забои на реках – всё это охранялось бдительной стражей. Вторая, внутренняя линия, охранялась значительными войсками и поддерживала непрерывную связь с передовой. В каждом из городов был свой воевода с отрядом служилых людей, казаков и стрельцов. Станичники поочередно отправлялись в степь, образуя сторожи, которые были в беспрестанной связи друг с другом. Они составляли ряд неразрывных линий, пересекавших степные дороги, по которым татары ходили на Русь. По мере того как крымцы прокладывали новые дороги для своих набегов, русские разведчики сообщали о них воеводам, и дороги преграждались. При Борисе Годунове продолжалось интенсивное наступление «степными городами». Бурно и планомерно строились города-крепости: Воронеж, Белгород, Оскол, Елец, Валуйки. Украинское и русское население новых городов вместе с казачеством успешно вело борьбу с татарскими набегами. Степь продолжали укреплять и заселять и при царе Михаиле Федоровиче. Существует ряд документов того времени, свидетельствующих о постройке валов с изгородями, башнями и воротами. Сохранилась карта всей южной части государства, куда входили и пределы Крымского ханства, северный Крым, несмотря на то что к началу XVII века соотношение сил Крыма и Русского государства было очевидно не в пользу крымцев, которые могли подвести итоги своим неудачам, – угроза набегов оставалась прежней. Обнажился характер торга, который составлял крымскую дипломатию. Так, в 1614 году, во время обмена послами, крымский посол заявил: «Если не станет государь присылать ежегодно по 10 000 рублей, кроме рухляди, то мне доброго дела совершить нельзя… Ногайские малые люди безвыходно вас воюют, а если мы с своими силами на вас же придем, то что будет!..» Он заявил с полной откровенностью, что военная добыча для Крыма выгоднее, что с одного взятого войной селения татары могут иметь тысячу пленных, стоимость которых 50 000 рублей, и что, дескать, русским прямой расчет заплатить 10 000 рублей в качестве «поминок». Сношения с Крымом носили характер откровенного торга из-за «шерти» (обязательства не нападать) и пленных. Но эти сношения, несмотря на всю их тягостность, были лишь частью дипломатии, связанной с Черноморским побережьем. Основные вопросы могли быть решены только в непосредственных переговорах с Турцией. Посольство в Стамбул в 1584 году явилось началом того периода отношений с Крымом, который можно назвать русско-турецким. Не только Московское государство, но и Литва и Польша являлись помехой воинственным планам Крыма и стоящей за ним Турции. Временные содружества то с одним, то с другим из этих государств не останавливали азарт разбойничьих набегов. В течение нескольких столетий опустошались Подолия, Галиция, Волынь, а также белорусские земли. Еще в XX веке украинские кобзари пели о черных днях татарских набегов XVI–XVIII веков. От татарских нашествий страдали не магнаты в своих укрепленных замках, а мирное украинское население, и без того угнетенное польскими помещиками и шляхтой. Вольное казачество, бежавшее от поборов и насилий на остров Хортицу, в так называемую Запорожскую Сечь, явилось передовым отрядом в борьбе с крымцами. Вторая половина XVI века была периодом усиления казачества. Казаки отражали нападения татар, преследовали их и подчас наступали. Весь мир удивлялся безмерной смелости и отваге этих людей, бросающихся со своими небольшими отрядами на хорошо вооруженные крымские и турецкие войска и укрепления. Народное творчество запечатлело этот героический период во множестве песен. Не только набеги и сухопутные походы предпринимали казаки против Крымского ханства, но и строили свой флот. На своих ладьях казаки спускались по Днепру веками испытанным путем к берегам Черного моря и нападали с молниеносной решительностью на укрепленные порты Крыма. Неоднократно брали казаки Гёзлев (Евпаторию) и Кафу. Главной задачей их было освобождение невольников, тысячами томившихся на этих рынках живого товара. Недаром старая украинская песня кончается неизменным припевом:Визволь, боже, бiдного невольника
На святоруський берег,
На край веселий, меж народ хрещений!..
Многовековая борьба за Черное море завершалась. Началом развязки в этой затянувшейся трагедии была война 1769–1774 годов, именуемая Первой турецкой (пятой войной с Турцией, начиная с 1687 года, если считать, что предыдущие войны велись не с Турцией, а с Крымским ханством). Об этой войне, решившей судьбу Крыма, и о той, которую принято именовать Второй турецкой войной (1787–1792 годы), будет кратко рассказано в начальных очерках книги «Таврида». Но не описание доблести русского оружия составляет цель данной книги, а рассказ о победах русской культуры, о цивилизующей роли России на Черном море. То, что было сделано за пятьдесят лет после присоединения Крыма, поистине удивительно, хотя хорошее сплелось с плохим и страшным, явилось из дебрей крепостного, вельможно-чиновного бытия.
Последние дни Крымского ханства
Крымское ханство XVIII века мало отличалось от Крымского юрта времен Бату или Ногая[12]. Свой уклад татары принесли в Причерноморье из северо-восточных кочевий Улуса Джучи. Четыре знатных рода продолжали владеть землей, которая была занята их предками – основателями юрта. Стада баранов и табуны лошадей паслись на этих землях так же, как некогда паслись их предки, согнанные с прикаспийских степей или зеленых лугов Урала. Война была профессией каждого отпрыска четырех знатнейших родов. Каждый из этих феодалов обладал собственным войском, и оно могло служить крымскому хану, но могло и свергать его. Властитель бейлика[13] владел землями и стадами, но прежде всего он был военачальником. Простые татары могли владеть клочком земли, пасти своих овец или сеять просо, но главным их делом была война. Война давала хлеб, скот, одежду, рабов. Так было в дни Батыя. Так оставалось и в дни последних ханов.Обозрение полуострова
Крымский полуостров «посередине перерезывается лесом, и та часть его, которая обращена к Понту[14] и в которой находится знаменитый город Кафа ‹…› вся состоит во власти турок ‹…› Другою частью ‹…› владеют татары», – писал о Крыме в конце XVI века в своих известных «Записках о Московии» Герберштейн. Турция не доверяла хану морских границ и дозоров Крыма. Не только пустынный Чуфут-Кале, но и плодородные долины Мангупского кадылыка[15] принадлежали Турции, и ее чиновники собирали здесь налог. В Мангупский кадылык входили не только все деревни «счастливого» (берегового) Крыма, но и великолепная Байдарская долина, долина Бельбека и лесистые Коккозы с их синими водоемами, кишевшими рыбой, медоносные Гавры, Мухульдур, Богатыр и узкая густолесная и влажная долина Узеньбаша. Стамбулу принадлежали все крепости, начиная с маленьких замков на степных холмах и кончая оплотом Крыма – воротами крепости Ферх-Кермен[16], или Ор-Капу, в древности именовавшейся Тафре, а позднее – Перекопом. «Путешествие будет трудным!» – говорили опытные люди тем, кого любопытство или дела побуждали отправиться на Крымский полуостров. Во времена последних ханов такое путешествие было немногим безопаснее и проще, чем во времена Батыя. Особенно неприятен был путь посуху, по степям, где кочевали ногайцы. Они всегда были готовы напасть, чтобы взять ясыря[17] или выкуп. Небезопасно было и само пребывание на полуострове с его бездорожьем и безначалием. Кто здесь хозяева: турецкие янычары, татарские конники, чиновники хана или «независимые» кадии[18]? Европеец, который привык к экипажу и верховой езде по удобным дорогам, чувствует себя беспомощным на полудиких лошадях, на верблюдах, в скрипучих мажарах; он предоставлен воле проводников, которые видом своим напоминают разбойников. Обычно путешественник прибывает на полуостров сушей и возвращается морем. Первые впечатления суровы. Сова, которая украшает крепостные ворота Ор-Капу, загадочно смотрит на путешественника, вступающего в пределы Крымского ханства. Мост на цепях соединяет Крым с большой землей, а длинный глубокий ров – Перекоп – служит преградой. Op-Капу осенена турецким знаменем, полторы тысячи янычар зорко сторожат подступы к полуострову, и турецкие пушки выставляют свои жерла со стен крепости. Сам калга-султан, сын падишаха, является сюда из Кафы в дни войны, и слово его важнее ханского. Сюда, к стенам Op-Капу, гонят пленников на продажу в Кафу и Гёзлев. Стоны этих несчастных оглашают окрестности, когда работают они на крепостных стенах под палящими лучами солнца, подгоняемые нагайками. Торговые и посольские караваны подолгу задерживаются в воротах Op-Капу, прежде чем мост на гремящих цепях опустится и откроет им путь в пределы полуострова. Караваны (белые двугорбые верблюды с вьюками или впряженные в огромные арбы) направляются по древнему Соляному пути на восток, к Кафе. Путники, прошедшие ворота Op-Капу, надеются сразу же увидеть сказочную красоту Крыма, но их взору открывается голая степь. Такую степь увидел Василий Зуев, которого русская Академия наук послала в Крым. В 1778 году, докладывая о своих наблюдениях, он писал: «Беспрестанное пасение множества скота ‹…› и вождение его весь год по степи с места на место причиняет ‹…› что не успевает трава из земли отпрыснуть, как скот ее или сорвет, или помнет ногами». Ногайская орда раскинула по степям Приднепровья и перекопской степи свои табуны, стада овец и верблюдов, стойбища из кибиток (юрт), крытых войлоком или кожей. Ногайские селения похожи на кочевые стойбища и военный лагерь. Сакли, слепленные из самана и глины, не жаль оставить, как оставляют любое укрытие. Весь скарб ногайца умещается в арбе, которую влечет по степи упряжка верблюдов: немного деревянной и глиняной посуды, каменные жернова, кожа, войлок. Достояние ногайца – в его оружии и конском снаряжении: саблях, кинжалах, ножах, уздечках, пиках. Из всех монгольских племен, составлявших ханство, одни ногайцы, или, как в древние времена их именовали, мангыты, сохраняют еще дух и облик золотоордынцев – их воинственную жестокость и грубую простоту. За плечами ногайца, впрочем, кроме лука с колчаном, теперь торчит и ружье. Вот он мчится по степной целине наперерез каравану, который направляется на юг. Он – образец охотника, выслеживающего зверя. Он – олицетворение наездника, лихо гарцующего на коне. Косматая бурка из черных овчин скрывает оружие ногайца. Косматая шапка до бровей мешает рассмотреть его лицо. В руке ногайца плеть с особым наконечником (ногайка). Таким изобразил ногайца художник, который пересекал перекопскую степь в дни последнего хана. Караваны, мирно идущие к Старому и Красному озерам за солью, к Альме и Бахчисараю – с посольскими грамотами, драгоценными мехами или любопытствующими европейцами, боятся степи. Глаз путешественника радует горная гряда, синеющая вдали. У Бахчисарая кончается дикий, вольный, полуязыческий Крым с табунами и всадниками и начинается Крым «каменистый» – Крым минаретов, гаремов и дервишей. Здесь, в предгорье, сама природа заботится о посевах, лугах, огородах и садах. В цветущих долинах можно добыть всё, что нужно человеку: хлеб, плоды, вино, и всё это «в весьма довольном количестве». Но и здесь татары «не рачительнее тех, по степи со стадами пасущихся». Татарин не хлопочет о произрастаниях – «был бы у него лишь баран жирный и столько хлеба, сколько ему с сим бараном съесть надобно». Таковы наблюдения ученого Василия Зуева, путешествовавшего по ханскому Крыму. Дорога от Ак-Мечети (нынешнего Симферополя), резиденции ханского наместника, калги, в столицу ханскую Бахчисарай идет среди прохладных рощ, через Качу. На тенистом берегу этой реки находится монастырь, хранящий волос из бороды пророка; сюда несут правоверные свои молитвы, свои горести, золото и медяки. Здесь, на Каче, летний дворец хана и его лучшая охота. По этой дороге идут нищие, показывающие свои язвы; они возглашают хвалу аллаху. Идут изнуренные дервиши, муллы и монахи. Простые мажары робко движутся за богатыми, устланными коврами, в которых сидят жирные важные беглербеи или увенчанные чалмами бородатые старцы. Их перегоняют всадники с оружием, покрытым драгоценной чеканкой, охотники со сворами тонкомордых борзых и свитой пестрых шутов, гремящих бубенцами. Продвигаясь к морю, один из юртов Золотой Орды осел в предгорье, где привычная степь перемежается глубокими долинами, особенно надежными там, где их осеняют горные хребты. Гребни Албата и древняя Чуфут-Кале могли служить защитой и были удобны для дозора. Родоначальник одного из четырех знатнейших татарских родов взял приступом Кырк-иер, а затем, торжествуя победу, спустился в долину, в молодой буковый лес (яш-лов). Так долина и крепость стали бейликом Яшловым, а по каменистым склонам и по дну долины воинственное кочевье рассыпало свой юрт. Позднее, уже в XV веке, Гиреи сделали крепость и потаенное селение своей резиденцией, покинув старую столицу Солхат, расположенную на открытом месте. Здесь, среди серо-лиловых глыб, у черной речки Чуруксу, Гиреи возвели Бахчисарайский дворец (начало XVI века). Ослепительный, со своим благоухающим садом и фонтанами дворец ханов со всех сторон окружен подступающими к нему саклями из глины, щебня и дикого камня. Эти слепые жилища с нахлобученными крышами, напоминают кибитки кочевья. В столице ханской нет обширных площадей для торжищ и народных гуляний, нет зданий государственных, дворцов и домов вельмож. Путешественник едва проталкивается по единственной улице, которая ведет к дворцу. Ларьки с пестрым товаром так и лезут друг на друга. Бараньи туши касаютсязолотошвейных «фес», предназначенных для татарских красавиц; дегтем смазанные постолы бедняков наступают на яркие сафьяны, а сверкающие на солнце лезвия ножей и кинжалов словно готовы вспороть мягкие бараньи шкурки, висящие насупротив. Среди всех этих великолепий важно ходят посетители Мекки, толкаются турецкие солдаты и полуголые татарчата; иностранные дипломаты и путешественники в напудренных париках и кружевных жабо с любопытством заглядывают под навесы. Единственная улица Бахчисарая – арсенал крымского ханства. Под навесами двадцать оружейных лавок. У лавок – ногайцы, равнодушные к толпе, озабоченные покупками; привычной рукой они пробуют лезвия сабель и кинжалов. Путешественника оглушают звон меди, лязг оттачиваемого железа, грохот кузниц, кашель верблюдов и пронзительные голоса муэдзинов, возглашающих призыв к молитве с вышек своих минаретов. За торговыми лачугами, немного отступя, громоздятся дома богачей, похожие на длинные сараи и такие же подслеповатые, как и лачуги бедняков. Немного резьбы у карниза и жиденькие колонки, поддерживающие кровельный скат, – вот и вся роскошь этих «сералей». В полутемных комнатах прохлада. Шаги заглушены коврами и войлоком – всё располагает к дремоте на мягких, низких диванах вдоль стен. Слуги бесшумно вносят и ставят перед гостем низкие столики, украшенные резьбой; в посеребренных «санах» и «чанах» – лучшие яства татарские: мясо молодых жеребят, бараний жир, светлый мед и розовый шербет, к которому тайно примешивается сок винограда (запрещенный Кораном). Хозяин, тучный эмир-заде, с огромной черешневой трубкой в зубах и перстнями на жирных пальцах, показывает гостю свои богатства: мускулы и бедра своих невольников и рабынь, золотошвейные ткани и оружие, развешанные по стенам. Чтобы ближе познакомиться с нравами, путешественник заглядывает в кофейный дом, мечеть, где происходит молебствие дервишей, и в судилище, где премудрый кадий разбирает тяжбы и завещания. В кофейном доме (а таких множество по обе стороны узкой улицы, средь лавок и мастерских) царит удивительная тишина, так что «дом кофейный может почесться домом молчания». Хозяин у очага передвигает свои ослепительные кофейники. Татары, те, у которых дела идут неплохо, часами молча сидят на циновках, поджавши ноги, или возлежат по древнему обыкновению. Перед ними кофе и дымящиеся трубки. Трудно поверить, что иные из этих молчальников, войдя в свою мечеть, будут совершать неистовый танец, визжать и кричать до полного изнеможения. Жильбер Ромм[19], посетивший молебствие дервишей в 1784 го-ду, описал его со всеми подробностями: «Всё в целом, – пишет Ромм, – производит впечатление воя своры собак, оспаривающих друг у друга кость и своим ворчанием угрожающих той, которая осмелится первой схватить ее зубами. И порой сквозь это ворчание прорывается глухой собачий лай. Тот из этих несчастных, которому наконец удается привести себя в состояние наиболее сильного возбуждения, начинает с величайшей быстротой кружиться на одной ноге посреди круга, сначала скрестив руки на груди, затем, удвоив ревностное усилие, начинает бить по воздуху обеими руками… С него падает головной убор, сваливается более свободная часть одежды, ткань его тюрбана спускается ему на плечи. Этот беспорядок в одежде служит наилучшим выражением его энтузиазма… Он продолжает до тех пор, пока не начнет валиться с ног; тогда его поддерживают, кружась вместе с ним, рыдая и раскачиваясь». В судилище кадия путешественник узнает многие подробности, которые бесстрастный писец вносит в особую книгу, именуемую Кадиаскарский сакк. В прохладной полутьме на мягких войлоках сидит престарелый равнодушный кадий. Ищущие правосудия расположились у стен. Писарь монотонно читает завещание какого-то бея, который есть «образец великих и почтенных, рудник всех добродетелей, аг собственного двора – источника счастья, рассадника могущества премилостивого нынешнего крымского владыки (да увековечит аллах его величие)». Сын бея – Омер – получает в наследство «половину нижнего дома, состоящего в Бахчисарае[20], половину виноградника со стороны сада еврея, сорок семь штук овец, одну невинную девушку рабыню двенадцати лет, темно-серую кобылицу с жеребенком, пурпурно-красный дульбенд и множество других вещей». Сам кадий – тоже образец «великих и почтенных», он судит сообразно знатности и достоянию подсудимого. Недаром он излюбленный герой татарской народной сказки. Бедняку нечего добиваться правосудия, если хитростью и сметливостью, как рассказывается в сказке «О блудливом кадии», он не надеется пересилить «хранителя Корана». Единственная улица Бахчисарая начинается у входа в теснину и тянется на запад, вглубь, к старому ханскому дворцу Ашлама, уже не существовавшему в XVIII веке. Дорога к крепостным воротам Чуфут-Кале идет по глубокой лесистой лощине вверх по реке Чурук-су к «Иосафатовой долине» смерти, над которой царствует одинокая каменная глыба. Снизу видны пещеры, зияющие над пропастью, – там ханские пленники. Пернатые хищники вьются здесь, чуя добычу, сухой ветер врывается в отверстия меж каменных завалов. Двадцать один год с тоской смотрел в такое «окно» знаменитый ханский пленник Василий Борисович Шереметев. Князь-воевода вместе с соратником своим Ромодановским был ввергнут в узилище Кырк-иера в феврале 1661 года. «Полонное терпение» их было беспредельно. Они вернулись на родину изувеченными стариками. Когда пленников водили к Газы-яскеру, они имели возможность полюбоваться мавзолеем дочери Тохтамыша с надписью «Да будет прославлен тот, кто вечно велик и милостив к своим рабам». Так было во времена могущества ханов, но и теперь, во времена падения, ханы считают скалу Чуфут-Кале надежнейшим убежищем для пленников, за которых можно получить хороший выкуп. Чуфут-Кале числится турецкой крепостью. Она служит не столько для дозора над неприятелем, сколько для «охраны» строптивого Бахчисарая. Немецкий купец Клееман был удивлен в Бахчисарае многочисленностью и дерзостью турецких солдат. На базаре они безнаказанно задирали всех и даже с головы почтенного торгового гостя сбили колпак. Да, поистине хан не был хозяином в своей столице. И был ли Бахчисарай столицей? Клееман этого не думал, он считал столицей турецкую Кафу, о чем и сообщил в своей книге «Клееманово путешествие». Все дороги ведут в Кафу. Кафа – береговой оплот полуострова, «рассадник великолепия», «Малый порог счастья», Малый Стамбул, дающий понятие о Большом Стамбуле. Все дороги и тропы ведут в Кафу. Татарин, залучивший в степи ясыря, грек, желающий продать свои оливки, лук или рыбу, богатый караим, желающий выгодно поместить свои деньги, путешественник, нуждающийся в содействии крымских властей, правоверный, едущий на поклонение в Мекку, все беи, беглербеи, мурзы, все люди, принадлежащие к сонму ханских чиновников, – все устремлены к резиденции наместника падишаха. Дорога из Бахчисарая в Кафу – самая лучшая из крымских дорог, и хоть ни о каких дилижансах и почтовых лошадях здесь и не слыхивали, по этой дороге может пройти не только арба, но и заезжая карета, запряженная четверкой. Дорога идет на Ак-Мечеть, к белым скалам и Черной реке бойко торгующего Карасубазара; недалеко от старого Солхата, где еще видны золото и голубая эмаль стены старой мечети, дорога выходит к морю, к розовым стенам, обнимающим Кафийский залив. Хотя за три века туретчины Крым и приобрел черты мусульманского Востока, но крепостные башни, возведенные на побережье генуэзцами, побеждают магометанские вышки минаретов и царят над архитектурой Кафы. Подобно Стамбулу, основавшему свое величие на памятниках византийского искусства, город Кафа, или Ярым-Стамбул[21], великолепием своим обязан побежденным предшественникам. Хотя минареты семидесяти мечетей поднимаются над городом, а старые храмы и дворцы осенены магометанской луной, рисунок города обозначен остатками старой генуэзской стены. Итальянцы (венецианцы и генуэзцы) вели себя в Крыму как колонисты-завоеватели, и крепостные башни были для них важнее всех других построек. Но всё-таки в Кафе оставались и церкви, и виллы, и торговые площади, и фонтаны в мраморных нишах. Торговая улица Кафы, впоследствии названная Итальянской, напоминает Болонью или Геную. В глубине аркад виднеются роспись, лепные украшения и гербы. Кое-где сохранившиеся дома генуэзских консулов и купцов теперь служат двору наместника падишаха. От широких свободных улиц и площадей паутиной раскинулись проулочки, тупички и улицы, ползущие на Тепе-Оба. Среди бань и мечетей, перестроенных из храмов, стоят новые дома турецких богачей. Ярым-Стамбул хочет походить на резиденцию падишаха. Там – Великая дверь и Порог счастья, здесь – Малая дверь и Малый порог сына падишаха. Ему поручено наблюдение за страной, именуемой Крымским ханством. Наместника окружает двор, который состоит из почтенных эфенди и военачальников. Над всем городом царит огромный рынок на старой площади. Там, рядом с пестрым восточным товаром и изделиями европейских мастеров, с табунами горных верховых лошадок и могучими волами в ярме, продаются люди. Молодые девушки и юноши, старики, женщины с детьми сидят здесь среди нечистот и площадной пыли, стоят группами или проходят гуськом, соединенные одной цепью. Слышится русская речь. Работорговцы и рабовладельцы пальцами лезут в пересохшие от жажды рты, щупают груди и мускулы и громко, свирепо торгуются, звеня пиастрами и гершами. Теперь, во времена, близкие французской революции, так же как и в те дни, когда первый турецкий корабль подошел к пристани Кафы, торг людьми составляет главную статью дохода ханства. Ни сладкое сурожское вино, ни черноморская рыба не могут сравниться с этим товаром. Никакой труд не может так обогатить татарина, как удачная людская добыча. Людей грузят в трюмы кораблей и отправляют в Синоп. За них Крым получит и хлеб, и оружие, и драгоценности, и наркотики. Ярым-Стамбул и ханский порт Гёзлев до последних дней последнего Гирея – крупнейшие невольничьи рынки. Татарский Бахчисарай – сокрытое гнездо военного разбоя и резиденция ханов. Турецкая Кафа – истинная столица вассального крымского ханства. Из этих двух городов колёсные дороги ведут в торговые порты Гёзлев, Керчь и Бни-Кале, в Ак-Мечеть, Карасубазар и Солхат. Гёзлев соревнуется с Кафой своим «флотом». У пристани стоят во множестве купеческие фелюги, преимущественно турецкие. Огромные, покрытые свинцом мечети, фонтаны, многочисленные ханы (гостиницы) и бани Гёзлева говорят о богатствах города, основанных на торговле. Но торговля эта, дающая изрядные доходы, свидетельствует о жалком состоянии хозяйства Крымского ханства. Турки везут в Крым тонкие ткани, нитки, мыло, табак, кожу, медь, глиняную посуду, краски, клейстер, доски, желуди, яблоки, сушеные груши, орехи, пшено, уксус, масло, горох, не говоря уже о пряностях, кофе и таких плодах, как апельсины, лимоны и финики. Павел Сумароков, перечисляя в своей книге «Досуги крымского судьи» эти товары, восклицает: «Нерадивость крымцев вредит целому их обществу; ибо кто поверит, что к ним привозят старые сапоги, деревянные ступы, прядильни, чашки, ложки и тому подобное?» «Сия нерадивость крымцев» поддерживается Стамбулом, который смотрит на Крым как на воинский стан, где всегда готовятся к войне и где в свободное время пасут отары овец и стада верблюдов. Что, кроме вечной готовности к войне, можно извлечь из этой страны? Соль, войлоки, грубошерстные бурки, узкая шерстяная домоткань, от которой пахнет верблюжатиной, – вот и вся нехитрая торговля ханства. Однако береговые земли и земли горного Крыма, которые принадлежат Оттоманской Порте, не благоустроеннее тех, где хозяйничает хан. Турецкие власти не заботятся о дорогах – ведь по этим дорогам сами они почти не ездят; что касается татар, то их считают слишком диким народом. Зачем бы им понадобились удобные дороги? Трудно путешествовать по Крыму, если путь не лежит к таким городам, как Бахчисарай, Кафа, Ак-Мечеть, Гёзлев, Карасубазар и Солхат. Если путнику нужно попасть в южнобережные селения и погода не позволяет плыть на попутной фелюге, ему предстоит трудный подъем и опасный спуск. Ему предстоит путешествие верхом или пешему. Тем, кто из Бахчисарая направляется на южный берег, надо добираться до деревни Черкес-Кермен, а затем лесною чащей, по пути орлиных залетов перебраться через отроги Яйлы, чтобы выйти в Байдарскую долину. От селения Скеля узким каменистым ущельем надо лезть к головокружительному отвесу Шайтан-Мердвеня (Чертовой лестницы), который ведет к морю. И хорошо, если шайтан, который умудрился в скале проделать эту лестницу, находится в хорошем расположении и не нагонит облаков и туману, чтобы заманить несчастного путника в бездну. Так говорят старые татары и даже улемы[22] (которые всё знают). Впрочем, татары редко ходят по всем этим опасным тропам. Береговые селения их не привлекают. В античные времена, когда Херсонес, с одной стороны, а Боспор – с другой являлись торговыми и просвещенными центрами, жизнь побережья била ключом. Предприимчивые колонисты, захватившие Северное Причерноморье, были не только торговцами и мореходами, но и земледельцами и рыболовами. Они разводили вокруг своих селений деревья и кустарники Пелопонесского побережья: инжир, виноград, гранат, лавр. Береговые рощи ореха и плодоносных маслин давали немалый доход. Леса южного склона Яйлы снабжали колонистов корабельным лесом и смолами, а черноморская рыба составляла богатейший промысел. Старая Ялита (Ялта) – глава южнобережных селений – славилась корабельными мастерами. Суда, здесь сооружавшиеся, шли, груженные оливковым маслом, сладким луком и рыбой. Береговые поселенцы легко передвигались вдоль побережья и были довольны непроходимостью перевальных дорог. Яйла служила естественной крепостью, оберегавшей от воинственных степняков. Но татарское нашествие разорило древние селения, колонии и богатые города побережья. Разор и омута содействовали пиратским набегам с моря. Венецианские и генуэзские купцы-хищники пришли на побережье и учредили фактории в Чембало (по-татарски Балаклава), Феодосии, Суроже, Ливадии, Гурзувите, Алустоне. Строительство новых колонистов ограничивалось крепостными стенами, их хозяйство – поборами среди населения. Торговля, которую вели итальянцы, была выгодна лишь для Венеции, Генуи и золотоордынского юрта, с которым они находились некоторое время в союзе. Южный берег начал приходить в запустение. Турки, которые стали хозяевами полуострова в 70-е годы XV века, держались лишь старых береговых укреплений, изредка подновляемых. Пульс торговли стал замирать. Стамбул нуждался лишь в живых людях, в многочисленных пленниках, пригоняемых с севера. Орудие, которое изготовляли татарские мастера, и немного шерсти – вот всё, что требовалось от полуострова, и незачем было Ялте строить суда для береговой торговли и рыболовства. Со времен ханского владычества Ялта перестала быть городом и представляла собой небольшое селение с остатками крепостной стены и старого византийского монастыря. Турецкая власть ограничилась в Ялте гарнизоном солдат, кофейней и мечетью. Но Ялта, Алушта, Гурзуф, Алупка, Мисхор и Массандра всё-таки остались христианскими селениями со множеством церквей, монастырей и часовен разных святых: Петра, Василия, Ивана и Даниила (Ай-Петри, Ай-Василь, Ай-Ян и Ай-Даниль). В старой Ялте – маленький порт и доки для тех несложных фелюг и рыбачьих лодок, которые мастерят ай-васильские корабельщики. По всему побережью ловят и вялят рыбу, топят рыбий жир, выращивают лук, маслины, грецкий орех. Райи (так магометане именовали живущих среди них христиан) занимаются виноградарством и виноделием в старой Сурожской долине. Они разводят сады на Альме и Каче и огороды в Марианополе, близ Бахчисарая. Если в ханском Крыму и есть кое-какие товары, то производят их райи, которые любят земледелие и промыслы. Всюду, где требуются труд и мастерство, работают райи. В Кафе они строят мечети, серали, ханы, бани и на всем этом оставляют отпечаток христианского искусства. Искусству райев (византийскому) принадлежат, например, дома с висячими балконами, те самые, что так забавно встречаются друг с другом в узкой улочке, которые почему-то доныне принято называть татарскими. Изображение этих домов можно найти в книге «Константинополь» архитектора Джелала Эссада, там, где говорится о старых, дотурецких кварталах города (глава «Византийское искусство и византийские здания»). Купец Клееман в своем «Путешествии» по Крыму в 1768 году сообщает о том, как он удивлялся, глядя на татарские мечети, имеющие форму креста. Он пишет об одной из мечетей Кафы: «Главная мечеть среди города на площади украшена многими на крыше сделанными фигурами. Ее большие окошки и прочие монументы ясно доказывают, что сия церковь христианская». Но и те здания, которые не имеют отпечатка христианского зодчества, могут ли считаться произведениями татарской архитектуры? Древнейший памятник татарского владычества в Крыму, мечеть Солхата (Старого Крыма), построил (в 1287 году) велением египетского султана Эльмелик-эль-Мансура египетский зодчий. Из Египта были присланы и каменотесы, и краски, и позолота. Гордость ханского Крыма – мечеть в Гёзлеве – соорудил турецкий архитектор Коджа Синан, родом грек, тот самый, который построил еще две мечети, три месджиды (часовни), баню и малый дворец Бахчисарая. Все эти строения ничем не отличаются от мечетей, бань и часовен, построенных Синаном в Стамбуле, Адрианополе, Мекке, Дамаске и многих других городах. Это образцы османской архитектуры. Бахчисарайский дворец подобен многокрасочной палитре. В замысловатости его строения соединились усилия арабского, персидского и османского искусства, но тщетно искать здесь подобия золотоордынским сералям с их округлыми или воронкообразными крышами, тяжелыми полами из мраморных или кирпичных плит с цветной керамикой, в которой преобладали желтые и голубые тона. Зоркий глаз академика Палласа, побывавшего на полуострове в конце XVIII века, приметил лишь один памятник золотоордынского зодчества. Это были мавзолеи Эски-Юрта в предместье Бахчисарая (близ Азиса), которые Паллас считал местом «старого кочевья». Полуразрушенные, они тем не менее сохранили «куполообразность» и тяжелую мраморную облицовку дверей, которую Паллас сравнивал с мавзолеями приволжской золотоордынской столицы Сарая-Берке. Однако нужны были пытливость и познания Палласа, чтобы разобраться в причудливой смеси всего, что оставили в Крыму европейцы времен Гомера и те, которые властвовали здесь в дни Юстиниана, рассмотреть остатки монгольского могущества и образцы арабского, персидского и турецкого искусства. Заурядный путешественник, совершив свои дипломатические или торговые дела, спешит оставить эту страну, где политика всегда колеблется, где торговля ничтожна и где, любуясь красотами природы или зодчества, рискуешь поплатиться жизнью. Свое пребывание в этом сомнительном государстве путешественник стремится скорее завершить. Обычно он возвращается морем. В Кафе или Гёзлеве он ждет отплытия какого-нибудь судна, предпочитая волю стихий произволу ханских дорог.Покрыли тенью бунчуковИ долы и хребты сии.С. Бобров
Крым-Гирей, дэли-хан
Народ татарский в покое быть никогда не желают для своего обыкновенного облову и корысти и желают всегда войны и кровопролитья, отчего они яко хищники полнятся и богатеют.Черные и улусные татары и те, которые ковыряли землю Крыма самодельным плугом и бороной (занятие презренное, годное лишь для рабов), – все ждали дня, когда наконец затрубит рог посланцев сераскира и можно будет собирать табуны, отощавшие в сухих степях, и седлать коней военным снаряжением. Всю зиму, лето и осень только и жили россказнями о богатом ясыре прошедших войн, когда вся семья, считая и женщин, ежедневно ела мясо, а пленники, связанные попарно или закованные в колодки, обрабатывали поле и лепили из самана новые загоны для овец. Было время! А теперь дети с раздутыми от всякой дряни животами играют заржавевшими колодками и ремешками, которыми когда-то связывали пленников. Люди голодают. Дошли до того, что даже главе семьи пекут лепешки только к пятнице, да и то из ячменных высевок. Все остальные хлебают тощую кашицу из проса и грызут чеснок. – Алла, алла, алла, – провозглашает муэдзин, как будто хочет сказать: «Мужайтесь, братья!» Мулла, который хорошо знаком с самим карасубазарским муфтием Сеид-Ахмед-эфенди, говорит с его слов, что всё дело в недостатке молитв и что, когда народ был богомольнее, всё шло хорошо: были благословенные пророком войны против неверных, землю возделывали пленные и всем хватало того, что привозили с войны и что давали поля. А ведь по всей стране было более двухсот тысяч кибиток и ста пятидесяти тысяч домов. Муфтий, несомненно, говорит правду, потому что он ученейший человек и кроме священного Корана всегда читает огромную книгу о землях Крымского ханства, написанную от руки на татарском языке шейхом Махамедом еще двести лет тому назад. Многие же из бывалых людей винят во всём тех султанских капуджиев, которые распоряжаются всеми татарами Крыма, запрещая им под страхом смертной казни ходить к русским селениям за ясырем и другой поживой. Татары должны терпеливо ждать, пока султан пришлет хану «саблю и кафтан» (что означает: «Собирайся в поход!»). Нет, народ татарский, и особенно ногайцы, недовольны такими порядками. Ропот слышится повсюду, и в глухих балках уже находят обезглавленные трупы ханских и султанских чиновников. Наконец по степям пронесся тот ветер, который предвещает бурю. Разнесся слух, что дни хана сочтены и что буджакские мурзы поднимают восстание за нового хана, сераскира Буджакской орды, Крым-Гирея. Этот Гирей, по словам посланцев от Буджакской орды, могуч и страшен, как горный поток весной. Он стремится всей своей силой обрушиться на неверных, которые еще не отмщены за поход 1737 года. Буджакские мурзы распространили в народе слух, что Крым-Гирей не намерен сидеть у Порога Счастья и ждать милостивого соизволения, что при нем турецкие солдаты перестанут хозяйничать в стране. Главное же, что обещали буджакские мурзы, – это войну. Ведь Крым-Гирей знает: народ татарский войной живет. Так сказал еще в давние времена хан Сахыб-Гирей. Весной 1758 года ногайцы оставили свои очаги и сели на коней, чтобы помочь такому хану, как Крым-Гирей. Турецким солдатам и страже, и, наконец, самому хану Мухамед-Гирею ничего не оставалось, как бежать, и Крым-Гирей был провозглашен ханом всех татарских народов: «Крымских, буджакских, кубанских, едисанских, жамбуйлукских и едичкулских без изъятия…» Нового хана встречали пушечной пальбой. Сотни баранов румянились на вертелах в его честь. В шербеты добавили столько виноградного соку, что все были пьяны, не исключая улемов и шейхов, которые, как известно, больше держались буквы закона Магометова, чем его существа. Султану Мустафе ничего не оставалось, как прислать халифскую грамоту тешрифат, в которой «милостиво подтверждалось и гарантировалось ханское достоинство» Крым-Гирея. Крым-Гирей был из тех людей, которые, однажды поставив перед собой цель, добираются до нее любыми путями. Целью этого Гирея была война с Россией, война сокрушительная, уничтожающая. Еще будучи сераскиром Ногайской орды, он хаживал в русские пределы, уничтожал приазовские крепости и даже грозился «повесить свою плеть на столице русской, в Петербурге», заставив русских вновь платить дань, как было при его отцах и дедах. Вот каковы были намерения Крым-Гирея. За победой должны были следовать новые войны, ибо этот Гирей вообразил себя новым Батыем или Чингисханом. Войны ждало с нетерпением всё мужское население Крымского ханства потому, что война была верным средством насытиться до отвала. Война была средством разбогатеть. И татарский народ приветствовал нового Батыя или Чингисхана как такого правителя, который заботится о народном благе. Поэтому, говоря о политике Крым-Гирея, вовсе незачем делить ее на внутреннюю и внешнюю. Достаточно лишь кратко рассказать о замыслах этого последнего из сильных Гиреев. Крым-Гирей собирался принять под свою руку кавказские племена. Русские должны были забыть пути к Черному морю. Священная война (джихад) против России, страны, которую Крым-Гирей ненавидел лютою ненавистью, могла сделать хана свободным, самостоятельным. Долго ли крымские ханы, благородные отпрыски настоящих ильханов из рода Чингизидов, будут пресмыкаться в Стамбульском серале? Разве не мог Крым-Гирей вернуть Крымскому юрту могущество Золотой Орды, и разве Гиреи не могут быть защитниками Мекки и Медины, подобно властителям Порты? Подумать только, что не он, всеми признанный «кладезь премудрости», «доблестный» Крым-Гирей, а жалчайший угодник гарема Мустафа[23] имеет власть падишаха!.. Чтобы казаться величественным, этому Мустафе приходится сильно белить свое багровое лицо и чернить свою рыжую бороду, и всё равно он кажется жалким рядом с Крым-Гиреем. Крым-Гирей говорил о себе, что он только воин. Действительно, он мог довольствоваться куском вяленого мяса и спать, положив под голову седло. Но то, чем довольствовался Крым-Гирей в походе, совсем не устраивало его в Бахчисарае. Турецкие историки отдают должное Крым-Гирею как «последнему татарскому богатырю» (Ресми-эфенди), но они порицают его за чересчур «богатырские» замашки – разгул и пьянство. Громозвучный хохот и оглушительные звуки дасула и дарие (двух инструментов, от которых непривычный может оглохнуть) возвещали о том, что идет хан. Вокруг него всегда толпились шуты, фокусники, комедианты, и сам он любил огорошить важного посетителя какой-нибудь забавной хронограммой или замысловатой шуткой. Хан не довольствовался ни татарской кухней, ни своим гаремом. Ему нужно было разливанное море вина, разнообразнейшие кушанья и такие увеселения, о которых скромные люди говорили только шепотом и при закрытых дверях. За все эти проделки хан Крым-Гирей носил вполне заслуженное прозвище «дэли-хан»[24], которое и осталось за ним в истории. Чем обширнее были честолюбивые замыслы хана, тем больше средств он тратил на свой дворец, мечети, роскошные бани, фонтаны и памятники. Никогда еще Бахчисарай не украшало такое количество лазури и позолоты. Ханский дворец был заново перестроен, и блеск его слепил глаза. Во время больших приемов хан сидел на оранжевых сукнах (цвет ханского достоинства, подобный солнечному), и золотой полумесяц горел над его престолом среди синей лазури и золотом прочерченных звезд. Хан был облачен в султанский халат, обшитый соболями, тот самый, который «приносит счастье»[25]. На голове его была соболья шапка с «миропобедительными соргуджами»[26], скрепленными алмазом. Вокруг хана стояли его телохранители – капычеи и сеймены, вооруженные луками и стрелами. Хотя Крым-Гирей и был вознесен на ханский престол волной мятежа и дорогу в Бахчисарай очищали для него пики ногайских конников, в Бахчисарае он был окружен сановниками, беями четырех знатнейших фамилий и улемами самого высшего достоинства. Их нельзя было назвать придворными. Все они считали себя не ниже хана и терзали его советами, доносами, интригами, заговорами. Крым-Гирей был осторожен и таил про себя самые сокровенные из замыслов. Они приоткрывались лишь в сношениях с иностранными дипломатами. У Крым-Гирея была мания величия. Но не следует думать, что он был наивен и рассчитывал только на свои силы. Нет, ему нужна была поддержка, и он искал ее совсем не в магометанских странах. Он добивался популярности у дипломатов Западной Европы, и это ему удавалось. Послы и консулы, являвшиеся в Бахчисарай, находили здесь зрелища дикие и фантастические, роскошь Востока, щекотавшую их пресыщенное воображение. Особенно любопытен был сам хан Крым-Гирей. Достаточно сказать, что он, который носил длинную бороду и ел руками, мог неожиданно заговорить о философии Монтескьё или комедиях Мольера. Это было забавнее, чем услышать говорящего попугая или увидеть обезьяну в кринолине и пудреном парике. «Образованность» не требовала от хана больших усилий. Он не знал языков и не умел читать книг, о которых рассуждал, но у него были прекрасная память, сметливость и природный ум. При нем состояли два-три ученых магометанина, хорошо знавших, что Лондон, Париж и Петербург находятся в разных странах и их не следует путать, если хочешь делать политику. Но если Крым-Гирей и не был образованным человеком и, быть может, не всегда хорошо знал географию страны, с которой вел переговоры, то он обладал острым нюхом охотника: слышал запах войны на громадном расстоянии. У него были свои кумиры в Западной Европе. В 1750 году он послал от Буджакской орды посла к прусскому королю Фридриху II, именуемому Великим. Посольство не имело другой цели, кроме восторженного удивления, которое Крым-Гирей выразил цветистым слогом. В 1751 году, когда «великий» завоеватель Фридрих был в самом жалком положении, после того как русские взяли Берлин и подступили к Померании, Крым-Гирей снова подал голос, уже в качестве хана и, так сказать, собрата по профессии. На этот раз крымское посольство явилось для того, чтобы предложить пруссакам помощь в виде 16 000 татарских всадников. За это, разумеется, надо было заплатить звонкой монетой, но хан надеялся и на другую плату. Союз с Пруссией казался ему неплохим началом. Так открывался путь к могуществу, и будущая империя представлялась уже совсем реальной. Для Фридриха помощь хана была очень своевременной: являлась надежда отвлечь русских от Курляндии. К тому же «Древний Херсонес Таврический, окруженный роскошнейшими цветами античной мифологии и поэзии, мгновенно оказался новой исходной точкой для самых смелых планов среди непрерывной цепи военных соображений и расчетов короля». Другими словами, Фридрих был не прочь сделаться опекуном крымских татар и освободить Турцию от излишних забот. Прусский король уже мысленно спускал корабли в Черное море и представлял себя хозяином прекрасных гаваней. Тогда Англия… Но не будем вдаваться в эти недоступные нам миры воинственных фантасмагорий. Напрасно прусские послы томились в Бахчисарае в ожидании договора с ханом. Напрасно посол Гольц проявил столько ловкости, затрагивая самые чувствительные струны. Союз Пруссии с Крымским ханством не состоялся потому, что переменился ветер, и король нашел поддержку в новом русском императоре Петре III, давнем поклоннике прусской военщины. Не только план великого союза оказался иллюзорным, цель, которую преследовал хан, неожиданно отдалилась. В 1764 году Крым-Гирей был лишен ханского достоинства. Это значило, что не только Стамбул был недоволен политикой хана, но и в Бахчисарае обнаружились враги Крым-Гирея, таившиеся до времени. Верные ногайцы были готовы к мятежу, но хан не пожелал его возглавить и покорился Высокой Порте. Крым-Гирей был слишком уверен в своей силе, чтобы считать отъезд из Крыма окончательным. Хан был свергнут с престола потому, что, как утверждали турецкие историки, «принятыми на себя неуместными притязаниями потерял свой престиж и авторитет». Другими словами, он проявил чрезмерную самостоятельность, тогда как должен был оставаться послушным. Вернула Крым-Гирея на ханский престол война, и этим он был обязан Франции. Дело в том, что Людовик XV воодушевился теми же иллюзиями, которые увлекли прусского короля, с той разницей, что французский план был более обдуманным и выразился в серьезной работе дипломатов в Константинополе и Бахчисарае. Для предполагаемой войны с Россией избрали благовидный предлог: польские дела. Порта должна была рыцарски выступить на защиту конфедератов. Франция хотела руководить этим благородным делом. Но подоплека войны была другая: Людовик XV, подобно Фридриху II, уже видел себя хозяином южных морей. Так или иначе, всё шло к войне. В Крым на место нерешительного синьора Форнетти был отправлен достаточно ловкий консул. Это был барон де Тотт, впоследствии написавший воспоминания о своей деятельности в Крыму. Барону помогли события. В июле 1768 года отряд казаков потрепал татар в Балте (город принадлежал хану). Некий Якуб-ага, которого нетрудно было взять лестью или золотом, поддался на уговоры барона и отправил к Порогу Счастья донесение, в котором казачий набег изобразил как вторжение русских войск. Донесение заставило встрепенуться ленивого Мустафу III, проводившего свои дни в гареме. Факел войны был зажжен! (Так выразился историк Ресми-эфенди.) В день Рикеаб, когда министры стоят у стремени властителя Порты, могущественный Мухсинзаде был превращен в ничто, а бывший кондитер осыпан милостями и возведен на пост верховного визиря. 4 августа 1768 года, по словам турецкого историка Ресми-эфенди, «верховный визирь Эмин-паша со священным знаменем в руках торжественно выступил из внешних ворот Сераля», другими словами: война была объявлена. Тогда-то в Стамбуле вспомнили об опальном Крым-Гирее. Никто не мог заменить его по части ненависти к России. Он был назначен главнокомандующим и тотчас, несмотря на холода, отправился в поход. Консул Людовика XV со своей канцелярией сопровождал хана. Хан выступил из Стамбула во главе почти стотысячной армии и направился в пределы Новороссии, предполагая, что такая же армия двинется одновременно к Дону и левому берегу Днепра. План ближайших операций состоял в том, чтобы взять Елизаветинскую крепость (Елизаветград) и оттуда направиться в Польшу, где и должны были произойти встреча хана с конфедератами, триумф спасителя, посрамление России и, быть может, дальнейшие походы и триумфы. Стотысячная армия Гирея состояла из двадцати колонн турецких спагов и татарской конницы. Во главе девятнадцатой были султаны-сераскиры, двадцатую вел главнокомандующий хан. Пестрота одежд, блеск лат, колчанов и сабель, разукрашенных позолотой и камнями, сочетались со строгой мрачностью европейской амуниции. За колоннами воинов двигалась свита. Священное знамя пророка и новенькие французские пушки замыкали торжественное шествие армии Гирея. Таково было выступление. Война же началась в том порядке, или, на взгляд европейца, беспорядке, который всегда сопутствовал движению татарско-турецких войск. Скоро всё перемешалось. Татарская конница с обычным воем стремительно понеслась целиной, не разбирая дорог, всё сметая на пути своем и унося всё, что можно было унести. Там, где пролетали ханские отряды, вспыхивали пожары; города и сёла сгорали дотла. Армия, как смерч, прошла по степям Украины и, достигнув польских пределов, продолжала всё жечь, грабить и увлекать за собой. Спасаемая Польша была залита кровью не меньше, чем наказуемая Украина. Чем глубже на северо-запад забиралась армия, тем более громоздким становился ее обоз: тысячи пленных и всевозможный скарб. Каждый конный татарин гнал за собой стадо и несколько пленников. Армия отяжелела и, пресыщенная грабежом, уже помышляла о возвращении. Чего же более? Ясырь был велик, и войну можно было назвать счастливой, хотя тысячи воинов остались погребенными в оледеневшей пустыне степей. Но Крым-Гирей не мог считать войну законченной, она только начиналась. Предстояло не только двигаться вперед, но и закрепиться на пройденных землях. И хан казнил тех, кто проявлял трусость, и тех, кто удалялся в поисках пропитания. Казнил простых спагов и важных эмиров. Хан показывал чудеса выносливости и смелости со своими любимыми ногайцами, но ничто уже не могло воодушевить его армию. Пыл стяжательства погас, а с ним вместе и то, что стремило войска вперед. Пыл погас раньше, чем было дано настоящее сражение. Крепость Елизаветы, казалось, была уже в руках Крым-Гирея. Разведка показала, что укрепление было преодолимо. Но осаду даже не начинали. Никакая сила не могла заставить турецких спагов идти на штурм. Они предпочитали самоубийство, если нельзя было бежать. Даже ногайцы не хотели идти вперед, их вполне устраивало то, что они уже получили в этой войне. Как всегда бывает в случаях, когда для солдат потерян смысл дальнейшего движения, армия стала слабеть. Находилось множество причин, которые вели к отступлению. Трусость турецкой кавалерии, опаздывающее снабжение, лютые морозы, и вот будущий «Батый» вынужден был отступить. Консулу Людовика XV было сказано, что армия нуждается в отдыхе и подкреплении и что вскоре она с новыми силами пойдет к Дунаю. Но для хана этот поход оказался последним. Вместе с тем, это было и последнее нашествие крымцев на Русь. В то время как Крым-Гирей, «развернувший свое знамя на крайних пределах доблести», умирал в Каушанах от приступов геморроя (такова одна из версий) или от яду, подсыпанного ему велением Стамбула (другая версия), готовились события, которые показали всю иллюзорность замыслов Людовика XV. Было бы несправедливо умолчать о том, что Крым-Гирей умер как человек, любивший радости жизни и тем не менее стоик. Он велел музыкантам исполнить самый веселый танец и за минуту до смерти хохотал.П.А. Толстой. Состояние народа Турецкого (1703–1706)
Трофей фельдмаршала Румянцева
Судьба побед меня лишила.Один старый солдат рассказывал, что при Румянцеве «хотя и жутко было, но служба веселая, молодец он был, и как он, бывало, взглянет, то как рублем подарит и оживит нас особым духом храбрости». Возможно, что солдат был участником достославной Кагульской битвы. Тогда турки с татарами шли лавиной, и одна только пестрота одежд и бунчуков могла вызвать страх у неприятеля. Притом русских было вдесятеро меньше, чем турок. И вот, когда полки смешались, Румянцев, уже довольно грузный, с юношеской легкостью вылетел вперед, крича: «Стой, ребята!» В обычной жизни Румянцев не всегда был велик: не без подозрительности, обидчив, раздражителен. Но все эти черточки стушевывались, когда Румянцев бывал в деле. Здесь проступал цельный характер полководца даровитого и своеобычного. Дело, о котором надлежит нам коротко рассказать, – это так называемая первая турецкая война 1768–1774 годов, которую иногда именуют Румянцевской. Из такого наименования следует, что роль Румянцева в этой войне была велика. И действительно, самое беглое обозрение событий показывает, что Румянцев был не только полководцем, решившим исход войны, но и мудрым дипломатом, действовавшим без промаха:Г.Р. Державин
Что, положа чертеж и меры,
Как волхв невидимый, в шатре,
Тем кажет он в долу химеры,
Тем в тиграх агнцев на горе…
Смерть сквозь главу его промчалась…[30]
Конец давней истории
Великий государь признал за единое и непременное средство, к приведению себя от казанских татар в безопасность, чтоб их царство совсем под власть свою покорить… После чего остался один только Крым и подвластные ему татары, от которых Россия уже с двести тому лет как страждет и разные разорения претерпевает.К тому времени, о котором идет речь, т. е. ко времени присоединения Крыма, Потёмкину было сорок три года, и он достиг уже такой доверенности от императрицы, какой не имел ни один из ее приближенных. Судьба этого человека была необыкновенная. Потёмкин родился в семье отставного полковника, не имевшего ни родовитости, ни особого достатка. Вероятно, пример родителей, не ладивших между собой, навсегда отвратил Потёмкина от семейной жизни. Талантливый, он оказался одним из лучших студентов Московского университета. Деятельный и беспечный, он не усидел за книгами. Ему хотелось опасностей и наслаждений. Военную службу начал Потёмкин капралом. Ему посчастливилось быть в полку, который участвовал в перевороте. От возведенной на престол Екатерины он получил «два чина по полку да десять тысяч рублей». Екатерина приметила могучую и статную посадку конногвардейца, а впоследствии, как она утверждала, ей удалось оценить «смелый ум, смелую душу, смелое сердце» Потёмкина. В этом грубоватом и необузданном человеке было нечто, привлекавшее даже его порицателей. «Великий человек: велик умом, велик и ростом», – отзывался о Потёмкине Суворов. «В нем непостижимо смешаны были величие и мелкость, лень и деятельность, храбрость и робость, честолюбие и беззаботность, То, чем он обладал, ему надоедало, чего он достичь не мог, возбуждало его желание; ненасытный и пресыщенный, он был вполне любимец счастья и так же подвижен, непостоянен и прихотлив, как само счастье». Так писал о Потёмкине его политический противник, французский посол Сегюр. Все дипломаты считали Потёмкина искусным министром и превосходным политиком. Английский посол Гаррис, который терпеть не мог светлейшего (на что имел свои, дипломатические, причины), писал: «Я был бы несправедлив, если бы не упомянул, что Потёмкин обладает необыкновенной проницательностью, светлым умом и быстрым соображением». Гаррис считал, что хозяйство России могло оказаться в блестящем состоянии, если бы Потёмкин «уделял больше времени и сил на управление страной». Но не станем приводить бесчисленные, всегда противоречивые и подчас забавные суждения современников о Потёмкине, чтобы, подобно почтенным биографам светлейшего, не смешать важное с пустяками. Ни биография Потёмкина, ни исследование его обширной деятельности не входят в нашу задачу. Надлежит лишь коротко рассказать об участии Потёмкина в присоединении Крыма к России, так как именно он поставил последнюю точку в этой длинной истории. Вскоре после Кучук-Кайнарджийского мира Потёмкин получил генерал-губернаторство в трех южных областях: Астраханской, Азовской и Новороссийской. Он становился наместником Южной России, заселению и устройству которой Екатерина придавала чрезвычайное значение. Потёмкин начал заселять пустынные степи, строить города и флот по пути «из варяг в греки». Екатеринослав и Херсон явились вдруг, как в сказке, на местах казачьих селений. Теперь мог завершиться, наконец, предначертанный Грозным план наступления на Крым степью. Теперь можно освободиться от этого «пластыря или бородавки на носу», говорил Потёмкин. Записка Потёмкина о присоединении Крыма предшествовала манифесту 1783 года и была последней в целой серии таких же записок разных лиц, начиная со времен взятия Казани. Первое рассуждение принадлежало Курбскому, который, изъясняя Грозному выгоды присоединения Крыма, упрекал царя в бездеятельности. По мнению Курбского, надо было идти на Крым тотчас же после того, как пало Казанское ханство. Ученейший муж Юрий Крижанич писал о присоединении Крыма царю Алексею Михайловичу, убеждая его «совершить поход и прогнать из Крыма общих для всего света мучителей и разбойников». Но и царь Алексей нашел поход преждевременным. Фаворит Софьи, честолюбивый Василий Голицын написал трактат о Крымском ханстве и план присоединительного похода. Царевна Софья, думая больше о славе, чем о делах государства, доверилась Голицыну, натворив немало бед обременительным и бесполезным походом в Крым. Азовские походы Петра I и его замыслы относительно Крыма подготовили события екатерининского времени. В начале царствования Екатерины II какой-то русский патриот (имя свое он скрыл от потомства) подал записку «О Малой Татарии», в которой показывал неизбежность присоединения Крыма. Вскоре об этом заговорили многие. Канцлер Безбородко, вместе с Потёмкиным занятый восточным вопросом, в 1776 году представил пространную записку под названием «Картина, или Краткое известие о Российских с татарами войнах и делах». Записка эта кончалась исчислением всех причин, по которым дальнейшее существование Крымского ханства представлялось немыслимым. По-видимому, Безбородко не сам сочинял эту записку, а воспользовался анонимным «Рассуждением молодого российского патриота о бывших с татарами делах и войнах и о способах, служащих к прекращению оных навсегда». «Рассуждение» начинается прологом к истории золотоордынского нашествия. «Ужасная и притом печальная картина, а именно вся Россия, раздробленная на части и в собственной своей крови плавающая. В одной ее стороне виден возженный татарами пламень, пожирающий города и селы, в другой их меч, сверкающий над головами наших предков». Дальше автор перечисляет бедствия, терпимые Русью от Золотой Орды, облегчение после того, как пало Казанское царство, и неисчислимый урон от крымцев. «Рассуждение» заканчивается решительным суждением о том, что «сколь нужно принять добрые меры проживу сих наших вечных неприятелей, дабы единожды навсегда привести себя от них в безопасность и тем доставить отечеству своему надежный покой, к чему ныне, кажется, наиудобнейшее есть время и случай». Кто был автором этого рассуждения, остается загадкой. Но примечательно, что Потёмкин отчасти воспользовался советом безымянного патриота: применить к Крыму способ действий, который в свое время принес успех Грозному. Способ этот состоял в том, чтобы обратить себе на пользу продажность и распри татарских князей. Хотя крымскими делами ведал главнокомандующий фельдмаршал Румянцев и хотя назначенные в Крым Долгорукий, Прозоровский и наконец Суворов подчинялись его распоряжениям, после 1774 года всё было в воле Потёмкина. Похоже было на то, что оркестром управлял не дирижер, стоящий перед музыкантами, а другой – невидимый для публики, которому и подчинялись музыканты… Дела шли в порядке, предначертанном Потёмкиным, и всё складывалось благоприятно. Явился претендент на ханский престол, калга Шагин-Гирей. Наблюдательный Румянцев об этом человеке сказал, что «он собенность свою (т. е. свою особу) всему предпочитает». Действительно, Шагин-Гирей считал себя рожденным для высокого полета (недаром его имя по-турецки означает «сокол»). Историк, подобный Ресми-эфенди, умеющий рядить иронию в пышные одежды восточного слога, наверное, сказал бы, что «честолюбие пожирало Шагин-Гирея с ранних лет, что оно рано погасило румянец щек Шагин-Гирея и зажгло алчным блеском его глаза, что он уже с молоком своей матери пил желчь обид и яд подавленных стремлений». Историк, обладающий восточным слогом, сказал бы, что ветви древа Гиреев так переплелись, что одна уничтожала другую. Отец Шагина, Мухамед-Гирей, был отстранен от бахчисарайского престола стараниями своих родственников. Ему пришлось кончать свои дни в адрианопольском имении, где он и оставил плачущий гарем и полдюжины сирот. Опека над детьми была такова, что матери Шагин-Гирея пришлось искать убежища в Фессалониках. Там ее старший отпрыск Шагин-Гирей приобщился к усладам жизни, не стесненной Кораном. Когда Шагину исполнилось двадцать лет, его дядя, воинственный Крым-Гирей, призвал его в Бахчисарай и назначил сераскиром Ногайской орды, рассчитывая, что Шагин легко разберется в хитростях ногайцев, не всегда безопасных для Бахчисарая. Ногайцы сохраняли дух Золотой Орды, соединяя безудер-жную отвагу с лисьей, трусливой хитростью. Они не были искушены в большой политике, и их дипломатия сводилась к выгодным для Орды сделкам. Шагин-Гирей легко добился того, что стал правой рукой Джан-Мамбета-бея, главного мурзы Едисанской орды, кочевавшей меж Дунаем и Кубанью. Вскоре мурза сказал о Шагине: «Из всех Гиреев один этот султан народом любим». Старая лиса Джан-Мамбет-бей учуял в Шагин-Гирее союзника во всяком деле, если оно тешило его самолюбие. Дядя Шагина, хан Крым-Гирей, тоже был ставленником Ногайской орды, и до поры до времени ногайцы оставались верны этому хану. Как мы увидим, Крым-Гирей ошибался, считая ногайцев вечными врагами России, но в походе 1768–1769 годов они еще были опорой хана. Сераскир Шагин-Гирей предводительствовал ногайскими отрядами в злополучном для Крым-Гирея походе в Новую Сербию. Он был в числе немногих, кому удалось бежать вместе с ханом Каплан-Гиреем после разгрома татарских войск под Хотином. Его отряды, отступившие за Прут, оказались в окружении русских. Шагин-Гирей явился к лиману (о. Березань) и держал совет с ногайскими мурзами. С этого времени туманные замыслы Шагин-Гирея стали принимать более ясные очертания. Он убедился в том, что сила на стороне России. После позорного поражения турок в этой войне веления Стамбула стали сомнительными для татар. Не только ногайцы, но и многие другие крымцы склонялись к отпадению от Турции. Ногайцы были готовы изменить Бахчисараю и начали переговоры с Россией о возвращении пленных отрядов. Условием возвращения ногайцев русские поставили отказ Орды от турецкого подданства. Джан-Мамбет сказал русскому послу Веселицкому, что «Шагин-Гирей предан безмерно России» и что «благонамереннейшие из татар очень бы хотели видеть его ханом». Вряд ли Веселицкий верил в «безмерную преданность» калги Шагин-Гирея, еще не успевшего износить одежд, в которых воевал против России. Но честолюбивые замыслы калги были связаны тогда с отъединением ханства от Турции. Тем самым Шагин мог стать союзником русской политики. Следовало поощрять молодого честолюбца. Потёмкин счел это полезным. В Петербурге пожелали услышать подробный доклад о крымских делах и вызвали Шагин-Гирея. Он прибыл в Петербург 20 ноября 1771 года и оставался там целый год. Поездка была гибельным соблазном для завистливого калги. Петербургские дома показались ему дворцами, а лакеи, прислуживавшие за столом, более значительными особами, чем любой из крымских беев. Очутившись в залах, наполненных коврами, фарфором и бронзой, сераскир Ногайской орды почувствовал неодолимое желание завести всё это в своем ханстве. «Первенствующий министр», или «верховный визирь» Панин быстро раскусил характер калги и спешил ослепить его столичным блеском. Честолюбие калги и его недальновидность были очевидны, но вместе с тем и полезны для русской дипломатии. Он напустил на себя важность и требовал знаков уважения к его достоинству, выражаясь в таком замысловатом стиле: «Хотя я не более как глыба земли, но древнего поколения Али-Чингиз-хана!» Калга заявлял, что «в его кармане лежит всё то, что касается татарского народа». На этом основании он выманивал у Екатерины деньги и подарки (ведь при всей «образованности» калга недалеко ушел от тех своих предков, которые, явившись с посольством, выторговывали у Москвы «поминки опришные» или «девятные»). Из докладов Шагин-Гирея о положении в Крыму были сделаны выводы, которые дополнили наблюдения русских послов и военачальников (Долгорукого, Щербинина и других). Картина складывалась жалчайшая. Видна была полная нежизнеспособность Крымского государства, меж тем как сам калга предполагал для ханства грандиозное будущее. Наконец Шагин-Гирей отправился восвояси, окрыленный желанием устроить в Бахчисарае свой Петербург и приобщить татар к европейской цивилизации. Он был уверен в себе (а еще больше в силе русского оружия), но, как человек недальновидный, начал, как говорится, с ходу. Шагин-Гирей явился в Бахчисарай русским вельможей в пышном экипаже, вместо того чтобы явиться конным в сопровождении конников, как подобало военачальнику и калге. Он привез с собой петербургских слуг и столько «ухищрений неверных», что мусульмане, видя все эти предметы роскоши, сплевывали на сторону и бормотали не то молитву, не то ругательства. Еще не сделавшись ханом, Шагин-Гирей взял так круто, что должен был свалиться на повороте. Даже старая лиса Джан-Мамбет-бей стал поводить носом, почуяв запах чего-то чужого. Ведь он всё-таки оставался диким кочевником и ничего не понимал в делах просвещения. Шагин-Гирею было трудно теперь разговаривать с такими людьми. Он признавался приехавшему с ним русскому посланнику: «Я зашел в лес, издавна без присмотру запущенный; если я не смогу искривившееся по застарелости дерево распрямить, то буду его срубать». Калга говорил это с гордостью, вообразив себя деятелем, подобным русскому исполину Петру. Между тем (это случилось очень скоро по возвращении Шагин-Гирея из Петербурга), ему пришлось бежать под укрытие русских пушек, умоляя не выдавать его тем, кого он собирался «преобразовывать». Шагин-Гирей, явившись в совет, потребовал выдачи тех, кто возмущает спокойствие в стране. Он вел себя как человек, за которым огромная сила. Никто в совете не сказал ни да, ни нет. Старики, мутившие воду, сидели с видом великих мудрецов. Чем глупее поступал калга, тем легче было вести темную игру. Калга сказал: «Вы доведете меня до того, что я буду вынужден покинуть свое отечество». В совете ему сказали: «Мы тебя не удерживаем». Калга стал угрожать оружием и сослался на Долгорукого. Это было то самое, чего ему не следовало делать. Когда разъяренный калга выскочил из дворца, вслед ему полетели каменья и всякая дрянь. За ним гнались толпы дервишей и фанатиков, и он едва живой примчался в Карасубазар в ставку командующего 2-й армией, требуя войск для расправы с непокорными и всенародного объявления его ханом крымским. Но война была еще не кончена, шли переговоры с Портой. Россия добивалась своих прав, и Екатерина пыталась удерживать торопливого Шагин-Гирея от необдуманных поступков. Впрочем, он не отличался чрезмерной смелостью и теперь, когда понял, что в ближайшее время ханом ему не быть, заторопился прочь из Крыма «куда-нибудь, где бы его никто не знал». Калгу поселили в Полтаве. Однако сильно струсивший Шагин-Гирей не собирался вовсе уходить на покой. Он не собирался становиться полтавским помещиком. Но он не знал, на что решиться. Наконец Шагин-Гирей получил благоприятные сведения. В нем опять нуждались. В степях было неспокойно. Порта вела переговоры с воинственной ногайской конницей, то устрашая ее потерей свободы, то прельщая богатыми подарками. Всё это было делом рук Девлет-Гирея, который так долго лежал у ног султана, что наконец получил барат на ханский престол. Девлет-Гирей был ставленником большинства татарской знати, которая и слышать не хотела о независимости и отложении от Турции. В помощь Девлет-Гирею султан прислал калгу, который соблазнял ногайцев богатыми подарками. Пока калга бренчал золотом, муфтий шелестел листами Корана, уверяя ногайцев, что аллах покарает их жестоко, если они осмелятся изменить падишаху, который есть покров и истина всех правоверных. После такой обработки даже Едичкульская орда (на которую так рассчитывал Шагин-Гирей) подняла «знамя пророка», что выразилось в зверской расправе с русским отрядом. Тогда командующий крымскими войсками Долгорукий написал Шагин-Гирею, предлагая ему немедленно явиться на Кубань и положить предел проискам Турции. Полтавский пенсионер, он же будущий «владетель великой Черноморской империи», не стал медлить. Он принял начальствование над Ногайской ордой и потребовал, чтобы русское правительство утвердило его ханом. Это совпало с русскими победами в Молдавии, и Турция поспешила подписать предложенный Румянцевым мирный договор. Независимость Крыма была утверждена и турецкие земли в Крыму присоединены к ханству. Румянцев счел за благо пока не раздражать султана свержением его крымского ставленника. Шагин-Гирей выжидал. Хан Девлет-Гирей, однако, не считал свое дело проигранным. Он требовал отвода русских войск на том основании, что независимый татарский народ сможет обойтись без их помощи. В то же время хан умолял падишаха о высадке турецких десантов. В Стамбул была отправлена депутация, которая от имени Крымского ханства просила великого визиря нарушить Кучук-Кайнарджийский договор. Крымские улемы и беи говорили, что впредь они не только согласны отказаться от ханского жалованья, ежегодно выплачиваемого Портой, но сами согласны платить дань, лишь бы падишах не отказался от своей власти над Крымом. И великий визлом, но, убедившись в своем бессилии, повел другую политику. Отряд Орду-али занял Тамань. Для улемов, которыми кишел Крым, перебираться из Гёзлева в Синоп и обратно было столь же привычным делом, как перелистывать книгу Магомета. В то время как Шагин-Гирей пытался сколотить войско из разброда Ногайской орды, – один из крымских шейхов Али-мулла готовил мятеж. Наконец Шагин-Гирей получил разрешение двинуться к Бахчисараю вместе с русскими отрядами, и Девлет-Гирею пришлось покинуть дворец. Однако не успел Шагин-Гирей занять вожделенный престол, как Али-мулла во главе вооруженных фанатиков ворвался в Бахчисарай. Избитый, раненый хан вынужден был бежать в ставку русского командования. Фанатики провозгласили ханом Селим-Гирея, который прибыл на турецком фрегате. Румянцев писал Екатерине по поводу этих событий: «Турки ‹…› умели составить из суеверия искру неугасимого огня и положить ее между нами и татарами; они станут поддувать ее всевозможными способами… Турки, невзирая на неблагоприятное время, отправляют уже свои войска на ободрение бунтовщиков». Фанатики собирали крымских татар в местах диких и бездорожных, вокруг древних пещерных поселений; русское командование не хотело кровопролития и стремилось держаться в границах договора. Но положение было таково, что требовалась самозащита. Вскоре фанатики оказались отрезанными от городов и крымских селений. Голод и тяготы войны быстро отрезвили беднейших. Народ начал роптать на своих предводителей. Мятежные мурзы и улемы согласились послать депутатов к Шагин-Гирею, а сами бросились на турецкие фрегаты, увозя с собой ценности, семьи и своего ставленника Селим-Гирея. Народ татарский остался ни при чем. Те, которые пытались остановить бегущих с казенными ценностями, получили несколько залпов с турецких кораблей. Правление Шагин-Гирея началось с весны 1778 года при обстоятельствах трудных и сложных. Страна была разорена фанатиками. Оставшееся духовенство и беи продолжали подговаривать простых татар к переселению на анатолийские берега. Одно только назначение генерал-поручика Суворова удерживало Крым в состоянии некоторого покоя. Назначение Суворова в Крым было делом рук Потёмкина и свидетельствовало о его прозорливости. Миссия Суворова заключалась в том, чтобы подготовить Крым к присоединению. Задача была ответственная, а положение Суворова чрезвычайно осложнялось тем, что, служа под главнокомандованием Румянцева (которого Суворов чтил), он был обязан подчиняться Потёмкину, не любимому Румянцевым. Распоряжения подписывал Румянцев; именно он ведал военным делом и всей дипломатической кухней, но при этом часто не был в курсе замыслов Потёмкина. Это вносило неизбежную путаницу, и нужен был острый ум и четкость Суворова, чтобы при таких условиях дело не пострадало. Между тем, операции предстояли сложные и не только военные, но и дипломатические и административные. Суворов, как всегда разом, зорко охватил военное положение и воинское хозяйство. Побережье было слишком доступно для десантов. В море то и дело появлялись турецкие суда. Они бросали якоря близ крымских крепостей и по ночам высылали разведывательные шлюпки. Это называлось мирными отношениями. Надлежало следить за турецким флотом, не давать туркам высаживаться, но при этом требовалась особая осторожность: нельзя было забывать о пунктах мирного договора. Румянцев очень боялся, что Суворов не сможет действовать с должным тактом, без запальчивости. Но Суворов повел переговоры с турками по-своему, без слов. Суворов затребовал резервный корпус и, создав непрерывную цепь отрядов, окружил ею крымские берега. Всюду были установлены кордоны и ходили дозоры. Офицеры обучали солдат распознавать суда и сигнализировать. Как всегда, Суворов вникал во все мелочи жизни армии и в ее отношения с местными жителями. 16 мая Суворов издал приказ по войскам Крымского и Кубанского корпусов, где предусмотрел всё, вплоть до запрещения ломать заборы и ограды. Он требовал от армий человеколюбия, приказывал делать «жалобе всякого обывателя тотчас должное удовольствие». Дипломатия была бременем для Суворова. На него легли постоянные переговоры с ханом. Шагин-Гирей непрерывно досаждал резиденту Суворову различными просьбами. Ему нужен был металл для чеканки монет, сукно для обмундирования своих солдат и деньги, без конца деньги. Дорвавшись наконец до власти, Шагин-Гирей хотел переменить всё разом и сделать из Крымского юрта цивилизованное государство. Он начал с того, что перенес ханскую столицу из Бахчисарая в Кафу (ранее принадлежавшую туркам). В Кафе строился обширный дворец с парком у самого моря (образец для этого дворца был присмотрен под Петербургом). Кафу намечено было распланировать подобно городу Петра I. Хан затевал постройку адмиралтейства, казарм, арсенала и монетного двора. В Бахчисарае для хана соорудили (тоже по петербургскому образцу) маленький легкий дворец у самых скал. Вот как высоко взлетел этот сокол, поднявшись над узкой долиной Чурук-су! Внутри дворца всё было на европейский лад, и приближенные хана, одни титулы которых требовали обширнейшего места, вынуждены были сидеть на узеньких стульях, выписанных из Парижа. Предприятия Шагин-Гирея были разнообразны, и он спешил. Ему нужен был флот, и он велел позвать к себе кучукламбатских греков, чтобы они немедленно приступили к делу. Но остановка была за лесом, металлом, снастями. Суворов возвращал хану огромные списки на вещи и мастеров, говоря, что русское государство не может расходовать деньги и людей на устройство Крымского ханства. Шагин-Гирею предлагали обходитьсясвоими средствами. Шагин-Гирей решил расправиться с татарской знатью, забравшей себе в голову полное равенство с бахчисарайским властителем. Ведь беи не признавали иных отношений к хану, кроме тех, которые связывают одного феодала с другим. Они с удовольствием ездили с ханом на охоту и давали ему своих борзых и шутов. В случае войны они являлись со своими отрядами. При таких условиях хан не мог без них обойтись, а они могли помыкать ханом. Шагин-Гирей заставил беев принести присягу ему как неограниченному властителю (если бы они отказались, хан немедленно пожаловался бы Суворову). Всем беям бы-ло назначено жалованье до пяти тысяч ежегодно, и они стали чиновниками и придворными. Осанистые, чалмоносные Адильша-ага, Мегметша-Мурза-Мансур-бей, ширинский и оргинский беи стали служить и прислуживать хану, как будто они были его рабами, и это новое положение очень нравилось хану и было неприятно для них. Вместо важных капуджи-баши, келерджи-баши, ханкуль-аги и других лиц, состоявших при особе хана спокон веков, Шагин-Гирей обзавелся лакеями из немцев, французов, англичан и русских людей, которые согласились служить хану за большие деньги. Сам он упрятал ханскую бороду в широкий галстук (сбрить ее он всё-таки не решился) и носил что-то среднее между халатом турецкого покроя и европейским камзолом. Дошло дело до того, что он позволил изобразить себя масляными красками на полотне, что привело в негодование всех правоверных, так как это запрещено Кораном. Таким образом, Шагин в какие-нибудь несколько месяцев сокрушил вековые устои ханства, и о нем заговорили. Но в самый разгар всех этих нововведений хана начали вдруг одолевать серьезные неприятности. Первой помехой было неожиданное и оскорбительное для Шагин-Гирея переселение всех христиан из подвластных ему земель в русские области. Несмотря на то что дела ханства шли как нельзя хуже и оно могло существовать только военной добычей или турецкими подачками, было сделано так, что хозяйственная несостоятельность Крымского ханства обнаружилась с ясностью, подобной дневному свету. Это сделали при помощи переселения христианских тружеников на другие земли. В июне 1778 года Суворов получил распоряжение Румянцева о переселении христиан в приазовские степи. Фельдмаршал при этом подчеркивал, что идея переселения ему не принадлежит: «Христиан, пожелавших в Азовскую губернию, отправляйте сходственно предписанию князя Григ. Алекс. Потёмкина». Поручение было для Суворова неприятное. Явилось много забот о снабжении, лошадях, фураже. Надо было улаживать отношения с ханом и «глотать купоросные пилюли фельдмаршала». Однако Суворов действовал с обычной быстротой. Уже в сентябре переселение было закончено. Опустели Марианополь (греческая слобода около Бахчисарая), прибрежные села, Гурзуф, Ялта и многие другие места Крыма. Осень стояла в тот год небывалая, уже в сентябре начались заморозки, неубранные фрукты и виноград валились на обмерзшую землю. Татары в недоумении бродили по опустевшим базарам: цены вздулись, многие товары исчезли. В Бахчисарае и Карасубазаре, где торговая жизнь била ключом, вдруг наступила зловещая тишина. Что мог сделать в Крыму предприимчивый хан без помощи райев? Его строители, его купцы, его корабельщики – все были райи. К тому же Суворов запрещал хану брать на службу русских архитекторов и инженеров из тех, кто приезжал в Крым. Хан был раздосадован и возмущен до крайности. Он не понимал цели переселения и во всем винил Суворова. «Изнуряемый гневливостью» хан покинул Бахчисарай и расположился лагерем в степи. Оттуда прислал он к Суворову депутатов с требованием отмены распоряжения и даже делал темные намеки на неприятные для русских последствия. Хан собирался покинуть полуостров и из Кубани проникнуть в Персию. Его поведение было вызывающим, и можно было думать, что он уже не вернется к власти. Однако он вернулся в свои дворцы (желание властвовать было у него неодолимым). Нелюбимый своим народом, одинокий среди татарской знати, он заперся в своем новеньком кабинете европейского образца и предался размышлениям. Мысли его были в кубанских степях. Кавказ с его многочисленными горскими племенами манил воображение хана. В это время над ханом разразилась беда, которая для него была еще чувствительнее, чем переселение христиан. Не питая больше надежд на серьезное вмешательство в крымские дела, турецкие политики занимались тем, что перечитывали до дыр (так именно выразился турецкий историк) условия Кучук-Кайнарджийского договора и каждый раз находили в подписанных ими пунктах новые несообразности. Это навело их на мысль о том, что кое-какие положения договора можно изменить путем уточнения. Записав свои соображения, политики вынесли скрижали на усмотрение русских дипломатов. Мирные отношения с Властительной Портой в эту пору были очень желательны, и 10 марта 1779 года обе стороны подписали соглашение, именуемое Айналы-Кавакской конвенцией. В соглашении содержалось несколько уступок, нечувствительных для России, зато сильно подбодривших сторонников мирной политики в Турции. Одна из этих уступок выражалась в передаче туркам закубанских или так называемых очаковских земель. Тем самым Буджакская орда как бы выходила из повиновения хана, хотя и значилась в его титуле. Другая уступка состояла в том, что была брошена кость магометанским фанатикам; крымские ханы по прежнему обычаю должны были испрашивать благословения у падишаха, который для магометан являлся заместителем пророка на земле. Обе эти уступки повергли Шагин-Гирея в величайшее уныние и беспокойство. Дело в том, что именно в Буджакской орде и закубанских землях видел он путь к достижению задуманного. И чем больше боялся хан за свою власть на полуострове, тем надежнее казался ему Кавказ в качестве опоры. Затаив злобу, хан начал заниматься тайными переговорами и оказывать явное покровительство людям, которые могли быть ему полезны для сношений с Блистательной Портой по поводу земель, лежащих между Днестром и Бугом. Уступка, касаемая благословения халифа, тоже не нравилась Шагин-Гирею. Разве он не был свободен от этих предрассудков и не считал себя ничуть не ниже падишаха? Тем не менее ему пришлось послать четырех депутатов с махзаром (прошением), и они привезли благословительную грамоту от султана Абдул-Гамид-хана, всегда победоносного, «его высочеству носителю эмирской власти, правителю области, обладателю счастья, богатства и крайнего могущества, гордости рода людского, развернувшему свое знамя на крайних пределах доблести, единственному в доме богатырского рода каанской династии, избраннику ильханской семьи, ныне хану крымскому Шагин-Гирею-хану». Абдул-Гамид сообщал хану, что на основании этой грамоты, именуемой «высоким царским тешрифатом», в прекрасной крымской земле вновь должно произноситься в молитвах великое державное имя турецкого властителя. Хан Шагин-Гирей был так недоволен унижением его влас-ти, что даже не почувствовал удовольствия от «августейшего миропокоряющего дара: обшитого соболями султанского халата, приносящего счастье, хаканской сабли с блестящим клинком в ножнах, осыпанных драгоценными камнями» и собольей шапки с двумя парными «миропобедительными соргуджами». Обшитый соболями халат не принес счастья Шагин-Гирею. Оставив на время свои мирные предприятия, Шагин-Гирей взялся за создание татарской армии. И в этом деле, так же как и в других, он хотел быть истинным реформатором. Он начал с одежды. Выбрав прусский образец формы, он срочно заказал партию обмундирования и обрядил в нее свою гвардию. Затем он принялся за саму армию. Он решил объявить по всем ордам рекрутский набор и кое-как набрал войско из беднейших крымцев. Желая походить на некоторых властителей, лично занимавшихся обучением солдат, хан ежедневно отправлялся по дороге, ведущей из Бахчисарая в Тепе-Кермен, и там принимался муштровать своих новобранцев. А так как татарский народ, по мнению хана, был «непонятлив и зловреден», то он отпускал новобранцам затрещины и придумывал для них самые жестокие наказания. Это кончилось печально: новобранцы разбежались, и недовольный ханом народ взбунтовался. Люди говорили, что готовы на всё, лишь бы избавиться от хана Шагин-Гирея. Тут, разумеется, вмешались и беи, которые были унижены ханом, и вся каста улемов, которая видела в хане отступника от велений Магомета. Соединившись воедино, фанатики, знатные и простые татары кинулись во дворец и выволокли оттуда Шагин-Гирея. По одним сведениям, он был ранен и избит, по другим – бежал без повреждений. На ханский престол был немедленно посажен заготовленный на этот случай Гирей (Бегадыр-Гирей, брат Шагина), и в Стамбул отправилась делегация с просьбой об утверждении его в ханском достоинстве. Кроме того, требовалась военная помощь. «Государственники» Стамбула, которых так порицает умный историк Ресми-Ахмед-эфенди, немедленно снарядили морскую экспедицию. Феррах-Али-паша попробовал высадиться на крымских берегах. Но при Суворове это оказалось невозможным. Тем временем Шагин-Гирей бежал в Ени-Кале, а затем в Керчь. Его тянуло поближе к черкесам, среди которых орудовал подосланный турками Зан-Оглу-Мухамед-Гирей. Шагин надеялся, что горцы сразу же перейдут на его сторону и тогда он сможет договориться с великим визирем. В этот момент хан был так сердит на Суворова и своих русских покровителей, что, нисколько не смущаясь прежними делами, готов был передать судьбы Крыма в руки падишаха. Но было поздно. Суворов принял меры, и кровопролитие в Крыму прекратилось. Хана попросили вернуться в Бахчисарай. Турецкие политики скрылись в тень, а татарские вынуждены были удалиться по направлению к Синопу. Разъяренный хан успел многих арестовать и устроил публичные казни тем, кто участвовал в мятежных действиях против него. Он готовил виселицу для своих братьев Бегадыр-Гирея и Арслан-Гирея, и только вмешательство военных русских властей прекратило его неистовства. В феврале 1782 года Потёмкин писал Дебельману, командовавшему в то время войсками на полуострове: «По поводу донесений ваших и посланника при хане господина Веселицкого об учиненной в Крыму казни многих из татар, в последнем неспокойстве тамо участвовавших, предписываю вашему сиятельству по содержанию оного объявить хану в самых сильных выражениях, что ее императорское величество с прискорбием получить изволило сие неприятное известие… Казни, при том случае употребленные и повторенные потом многократно, не могли устрашить других, а только огорчали его подданных и предуготовили последнее возмущение. (Потёмкин имел в виду возмущение по поводу рекрутского набора и обучения солдат с помощью мордобития. – И.М.) Ее величество желать изволит, дабы он управлял сими народами с кротостью, благоразумному владетелю свойственной, и не подавал причины к бунтам, ибо не может ему быть не ощутительно, что сохранение его на ханстве не составляет еще для Империи Российской такого интереса, для которого ее величество обязаны были бы находиться всегда в войне или, по крайней мере, в распрях с Портою». Русское командование потребовало от хана выдачи приговоренных к казни Гиреев (братьев и племянников хана), а Потёмкин предупреждал, что «если б хан поступил на казнь означенных князей крови его, то сие долженствует служить поводом к совершенному отъятию высочайшего покровительства от сего владетеля и сигналом ко спасению Крыма от дальнейших мучительств и утеснений». Благоразумие требовало удаления из Стамбула крымских фанатиков и прекращения необъявленной войны. Великая Дверь должна наглухо закрыться для тех, кто хочет войны, так говорили в Стамбуле, полагая, что татарину надо запретить переступать Порог Счастья, если Бахчисарай не хочет мирной жизни. Что касается Шагин-Гирея, которого именовали не иначе как летуном, то о нем больше не хотели знать в Стамбуле. Потёмкину было известно непостоянство Блистательной Порты. Тем больше он видел оснований торопиться. Шагин-Гирею можно было пообещать трон персидского шаха и подыскать для него в российских губерниях городишко подальше от южных границ. «Крым положением своим разрывает наши границы, – писал Потёмкин Екатерине, требуя от нее решительных действий. – Нужна ли осторожность с турками по Бугу или со стороны кубанской – во всех сих случаях и Крым на руках. Тут ясно видно, для чего хан нынешний туркам неприятен: для того, что он не допустит их через Крым входить к нам, так сказать, в сердце. Положите теперь, что Крым ваш и что нет уже сей бородавки на носу, – вот вдруг положение границ прекрасное: по Бугу турки граничат с нами прямо сами, а не под именем других. Всякий их шаг виден. Со стороны кубанской сверх частых крепостей, снабженных войсками, многочисленное войско донское всегда тут готово. Доверенность жителей в Новороссийской губернии будет тогда несумнительна, мореплавание по Черному морю свободное, а то извольте рассудить, что кораблям нашим и выходить трудно, а входить еще труднее. Еще вдобавок избавимся от трудного содержания крепостей, кои теперь в Крыму на отдаленных пунктах. Всемилостивейшая государыня! Неограниченное мое к вам усердие заставляет меня говорить: презирайте зависть, которая вам препятствовать не в силах… Приобретение Крыма ни усилить, ни обогатить вас не может, а только покой доставит… С Крымом достанется и господство в Черном море… Хану пожалуйте в Персии, что хотите, – он будет рад. Вам он Крым поднесет нынешнюю зиму, и жители охотно принесут о сем просьбу. Сколько славно приобретение, столько вам будет стыда и укоризны от потомства, которое при каждых хлопотах так скажет: вот она могла, да не хотела или упустила». Так решительно изъяснял Потёмкин вопрос о Крыме. Из записки видно, что Екатерина, весьма чувствительная к мнениям просвещенных европейцев, находилась в нерешимости. Английский посол в Петербурге Джеймс Гаррис зорко приглядывался ко всем движениям Екатерины и доносил в Лондон о том, что Потёмкин «не жалел усилий для того, чтобы возбудить честолюбие Екатерины, называл ее колебания робостью», между тем как она «не решила вопроса, сохранить ли ей весь Крым, и расположена удовлетвориться обладанием заливом и его окрестностями» (т. е. Керчью и Ени-Кале). Европейские дипломаты заговорили хором о насилии, о правах народов, о благодеянии России, освободившей Крым от турецкой зависимости (что не мешало тем же дипломатам поддерживать Турцию в ее притязаниях на Бахчисарай). За всеми этими фразами скрывалось лишь беспокойство правителей и кабинетов о Черноморском бассейне, столь соблазнительном для европейской торговли и промышленности. Присоединение Крыма к России сокрушало замыслы о господстве английского торгового флота. Турцию хотели усилить и тем самым влиять на нее, управлять ею, а она начинала разваливаться. Это не входило в планы западной дипломатии. Присоединение Крыма казалось тем опаснее, что оно было частью «царьградского» плана. Потёмкин считал возрождение христианского Константинополя (Царьграда) делом, завещанным праотцами. Мало того, возрождение Византии по этому «царьградскому» или «греческому» проекту возможно было только при том условии, что Россия возьмет на себя верховную власть и ее ставленник займет константинопольский трон. Екатерина уже готовила этого ставленника в своем внуке Константине. Вскоре «греческий» проект был оставлен как фантастический, но в канун присоединения Крыма замыслы Потёмкина еще казались реальными. Ведь такой же по своей грандиозности проект увлекал в то время и некоторых политиков Англии. Только, по их планам, Стамбул должен был превратиться в город «зон» разных европейских влияний. Потёмкин был раздражен нерешительностью Екатерины и ее женским вниманием к пересудам и угрозам. Он ходил хмурый и по своему обыкновению (замеченному всеми дипломатами) грыз ногти. Наконец он прямо заявил Екатерине, что она не смотрит вперед и не оглядывается назад, а управляется минутным настроением. «Я уеду в деревню и никогда больше не появлюсь при дворе!» – заявлял Потёмкин, раздраженный долгими уговорами. Весь 1782 год прошел в том, что Потёмкин убеждал Екатерину, которая то предлагала ему немедленно выехать для решительных действий, то удерживала его. В августе один из ближайших к Румянцеву людей писал ему, что 1 сентября Потёмкин поедет в Херсон и до Перекопа, чтобы «собою всё осмотреть», но вскоре извещал, что «поход херсонский ‹…› отложен до будущего года». Летом 1782 года Потёмкин сформировал шесть корпусов на пространстве от Молдавии до Кавказа. Кубанский корпус он поручил Суворову, Крымским хотел командовать сам. Невозможно было думать о спокойствии в Крыму, пока орды, вооруженные и привыкшие к воинской поживе и разбою, кочевали в степях близ Перекопа и у Кубани. Суворову надлежало окружить Ногайскую орду, установив при этом дружелюбные отношения с нею. Казачьи отряды рвались «поучить» ногайцев, этих вековых обидчиков и разорителей донских и кубанских казачьих селений, но корпусу Суворова велено было лишь преграждать им путь в горы и к морю. Суворов должен был уговаривать ногайцев переменить кочевье, действуя лаской и подарками. Часть орды действительно двинулась к уральским степям. Но большинство ногайцев не хотели покинуть южные пределы. Делая вид, что они готовы к дружелюбному сговору с русскими, военачальники вели тайные переговоры с турецкими лазутчиками или пытались истреблять русские отряды, заманивая их в глухие безводные места. Между тем, в самом Крыму дело быстро шло к развязке. Хану предложили отречься от престола ввиду его явного неумения управляться с народом. Шагин-Гирей получил предписание направиться в Херсон и ожидать там прибытия Потёмкина. Хан попытался было ослушаться и выехал в Тамань, надеясь на Ногайскую орду и стремясь к Кавказу. Он успел даже перетащить в Тамань свой гарем и все ценности. Но из Тамани Шагин-Гирею пришлось покорно последовать в Калугу, избранную для него как место безопасное. Так кончилось царствование хана, пожелавшего затмить своей славой всех Гиреев из рода Али-Гирея. Надо сказать, что многие из числа людей проницательных и дальновидных обманывались в этом человеке. Но Потёмкин сказал о нем так: «Это человек бездарный и смешной, имеющий претензию быть подражателем Петра Великого, на которого похож одной только разве жестокостью». Конец этого честолюбца весьма примечателен. Он выпросил у русского правительства разрешение отдаться покровительству турецкого султана и покинул Калугу. В августе 1787 года Шагин-Гирей «бесстыдно прибыл в богохранимое высокое государство и был сослан и заточен на острове Родос», пишет турецкий историк Ата-бей. «Когда комендант означенного острова Гази-Хасанбей ‹…› осведомился у родосского наиба, будет ли Шагин-Гирей казнен по высочайшему фирману, то оказалось, что он, показуя низость своей презренной натуры ‹…› бежал ‹…› чтобы спастись в родосское консульство французского государства». После настойчивых просьб французское консульство всё-таки выдало вышеупомянутому эфенди «проклятого изменника», который и был казнен. «Голова его была отослана в Порту к Порогу Счастья».Рассуждение одного российского патриота о бывших с татарами делах и войнах и о способах, служащих к прекращению оных навсегда.
Наконец составленный Потёмкиным манифест о присоединении Крыма и Кубани был подписан Екатериной. Это произошло 8 апреля 1783 года. Обнародован манифест был не сразу. Потёмкин выехал на юг, чтобы принять командование армией и сделать нужные распоряжения. Предполагалось, что войска войдут в Крым еще весной, однако Потёмкин по каким-то соображениям медлил и выжидал. Можно предполагать, что он избегал решительных действий в Крыму до того времени, когда будут завершены дела ногайские. Потёмкин не хотел кровопролития, и Суворов, действуя уговорами, к лету 1783 года заставил многих ногайских мурз прислать ему боевые знамёна. Меж тем, сам Потёмкин, как всегда, вел себя загадочно и чудаковато. На пути в Тавриду он посетил Белую Церковь и предался роскошной, пиршественной жизни у Браницких. Затем он поехал в Херсон и там увлекся новыми постройками и верфью, только что сооруженной. Тем временем отправил он вице-адмирала Клокачёва в Ахтиарскую гавань, где были возведены укрепления (часть кораблей оставалась на Керченском рейде). Теперь Екатерина слала Потёмкину письмо за письмом, поощряя его к решительным и быстрым действиям. Она писала: «Дай Боже, чтоб татарское или, луче сказать крымское дело скоро кончилось. Я думаю, что менее теперь станешь мешкать, то лутче, дабы турки не успели оному наносить препятствия, какие ни на есть». Суворов докладывал Потёмкину о делах на Кубани, приезжал к нему и имел с ним совещания. Потёмкин ждал окончания дел на Тамани, где один из фанатиков, Тав-султан, пытался поднять восстание. Суворов подоспел вовремя, и заговор не удался. Военачальники степных орд начали приходить к присяге. В конце июня 1783 года Потёмкин во главе своих дивизий двинулся в Тавриду. Страна была в упадке: разоренные покинутые поля и сады дичали, покрылись сорными травами, города превратились в руины, бескормица, жара и болезни мучили людей. Надо было немедленно приниматься за дело. Отдав военные распоряжения, заняв форпосты и укрепив берег, Потёмкин со своим штабом торжественно въехал в Карасубазар и направился к лагерю, который велено было расположить на плоскогорье Ак-Кая (Белая гора). Русские путешественники назвали отвесную скалу Ак-Кая Тарпейской[31], так как с ней была связана страшная быль о русских пленниках, которых сбрасывали отсюда в пропасть. Памятуя об этих погибших, Потёмкин избрал Тарпейскую высоту местом присяги татар. Неприступная с одной стороны, Ак-Кая образовала с другой спокойное плоскогорье. По нему и расположились палатки Потёмкина. Утром 10 июня 1783 года сюда стали прибывать конные татарские отряды, мурзы и беи.
Потёмкинские деревни
На полуострове всё надо было заводить вновь: дороги и города, пристани, крепости, пашни, сады и пастбища. Поля ханского Крыма выглядели клочками среди вытоптанных скотом степей и лугов. Сады были запущены, виноградарство и фруктоводство, в древности процветавшие, находились в самом жалком состоянии. Леса не составляли никакого хозяйства и беспорядочно вырубались. Города представляли собой лабиринты лачуг, лепившихся по склонам гор. Среди этих лачуг возвышались лишь величественные строения мечетей (по большей части переделанные из византийских церквей). Торговля и мелкая промышленность ютились в ларьках и сараях. Конские тропы заменяли дороги в горах и на побережье. Почты не существовало (только последний хан пытался ее завести). Флот ограничивался несколькими фелюгами, а так как не было флота, не заботились и о пристанях. Одним словом, Крым из турецкой провинции надо было превратить в черноморскую крепость Российского государства, в его «пространный сад» и «кладовую сокровищ». Это были задачи первостепенной важности. Кроме того, предстояло создание новой российской Таврической области с новыми административными центрами взамен сорока восьми кадылыков Крымского ханства и старой столицы в ущелье Чурук-су. В течение четырех лет со дня присоединения было положено начало всему: заведен Черноморский флот, основан порт Севастополь, заложены виноградники в Судаке, шелковичные рощи в Старом Крыму, ботанический сад в Алупке; положено основание губернскому центру Симферополю[32], проложены и починены дороги, связавшие Крым с северными городами постоянным движением почтовых экипажей. Уже в 1786 году, имея особые привилегии для смены лошадей, можно было проделать путь из Москвы в Симферополь за десять дней. Обыкновенные путешественники тратили на этот путь около трех недель. Земля Крыма открылась взорам всех любопытствующих и любознательных в новом молодом своем обличье. Откуда же явилось мнение, что ничего не было сделано, а всё начатое осталось незавершенным или оказалось ненужным? Никто не сомневается в том, что Потёмкинские деревни – это такие деревни, которые существуют лишь на бумаге или в виде декораций. «Потёмкинскими деревнями», впрочем, называют всякое фальшивое, дутое предприятие, затеянное для того, чтобы отвести глаза. В отличие от многих острых словечек и поговорок, которые невесть когда появились, происхождение ходячего выражения «потёмкинские деревни» может быть объяснено подробно. Время его возникновения – 1787 год, место – Крым, автор – некто из сопровождавших Екатерину II в ее торжественном шествии на юг. Обстоятельства его возникновения следующие. Ко времени прибытия Екатерины Потёмкин заказал особые декорации, которыми прикрыли неблаговидные халупы, землянки, сараи. Есть основания предполагать, что проект этих декораций (равно как и всего шествия) был поручен архитектору Ивану Егоровичу Старову. Такой проект не мог быть исполнен рядовым художником, он требовал отменного знания перспективы и великого вкуса. По-видимому, декорации эти не были плоскими, а представляли собой своеобразные макеты и части зданий, построенные так, что получались совершенно как бы настоящие селения. Всё это было непрочно, шито, как говорится, белыми нитками, но издали производило впечатление полного благоустройства. Идиллические селения явились для некоторых спутников Екатерины мишенью острот и насмешек, так что иные острословы, увлекшиеся своим остроумием, так и не рассмотрели подлинной Тавриды. Крылатое словцо было подхвачено всеми, кто недоволен был Потёмкиным, и чем больше старались восхвалявшие светлейшего князя официальные историки, тем прочнее врезывалась в память поколений характеристика, выраженная словами «потёмкинские деревни». Их повторяли и слева, и справа, так что даже Николай I заявлял с важностью, что Потёмкин «всё начинал и ничего не кончил». Между тем существовали уже в 1787 году по всему Крыму не воображаемые, не театральные, а подлинные деревни, которые можно назвать Потёмкинскими по той причине, что возникли они во время наместничества Потёмкина. Не иллюзией, а реальным фактом было то, что за время наместничества Потёмкина во всей Новороссии поселилось 121 600 русских крестьян, из них около 15 000 – на полуострове. Уже на картах 1786 года (например, на карте Тизенгаузена, сделанной по заказу Потёмкина) значатся селения Саблы, Петровская слобода, Мазанки, Курцы, Мангуш, Зуя, Владимировка, Изюмовка. Кроме того, многие русские семьи поселены были в покинутых татарами деревнях, названия которых оставались прежними. Деревни эти заполнялись переселенными из северных губерний казенными крестьянами («людской излишек» по последней ревизии), беглыми крепостными и солдатами крымских гарнизонов. Меж татарскими селениями и городами по особому распоряжению были расквартированы войска крымских гарнизонов. Они жили и в казармах, и в землянках, и в кордонных будках, составляя особые военные поселения, занимаясь и военной службой, и сельским хозяйством, и различными работами по строительству. Крестьянское хозяйство было немыслимо без женщин, и Потёмкин послал уполномоченных людей, которые сманивали солдаток, желавших соединиться со своими мужьями, и покупали «девок», чтобы отдать их в жены новым поселянам. Несколько позднее, уже перед смертью, Потёмкин увлекся еще одним видом поселений – своеобразными матросскими хозяйствами, предназначенными для прокорма флота. Хозяйственную слободу начали учреждать близ Севастопольского порта, но дело это было заброшено, как только умер Потёмкин. Таковы были основы потёмкинских поселений, хребет молодой Тавриды. Еще до 1787 года, преимущественно в степях, появились хутора и селения, состоящие из довольно изрядных домиков, обнесенных заборами усадеб, сарайчиков и тому подобных признаков среднезажиточной жизни. Здесь можно было найти гнёзда всевозможных сект и церковных ересей. В 1785–1787 годах в Тавриду прибыли три тысячи «заштатных церковников», заблудившихся в ересях и других прегрешениях. Эти переселенцы, не в пример простым крестьянам, получали «удобные и выгодные для жилищ и хлебопашества места и все нужные к построению домов вещи». Наконец над всеми этими хибарками, казармами и домиками вознеслись по образцу всероссийскому несколько великолепных барских усадеб. Некоторые из них уже в 1787 году имели вполне благоустроенный вид. На планах «владельческих земель», сделанных в 1785 году, уже значатся барские дома и хозяйственные строения. Русские вельможи и чиновники получили в Крыму огромные имения. Свои земли они были обязаны населить и обработать, на что им указывались сроки. Если срок проходил, а земли оставались втуне, с новых помещиков взимали штраф. Из переписки Потёмкина с таврическими чиновниками и из мемуаров известно о казенных ботанических садах, заложенных в Алупке и Старом Крыму, о казенных виноградниках в Судаке, о старокрымских шелковичных плантациях. Все эти предприятия Потёмкина были задуманы и осуществлены стремительно, в каких-нибудь четыре года. Меж тем, многие из обозревателей Тавриды расценивали сделанное как ряд ошибок или неосуществимых затей наместника. Главными критиками тех оснований, на которых преобразовывался край, были русские помещики. Хулители из аристократов, ненавидевшие фаворита, утверждали, что всё затеянное в Новороссии – лишь разор государству, что весь край надо населить иностранными колонистами. Они видели в своеобразных методах заселения подрыв законности и порядка и хотели, чтобы южные дела решались коллегиально, а не оставлялись на произвол наместника. Многие считали, что следует всеми силами удерживать татар, покидавших Крым, и делать им чрезвычайные уступки. Екатерина отчасти разделяла это мнение, Потёмкин думал иное. Впрочем, дело было не в том, как устраивал он новые земли, а в нем самом. Ненавидя его, вельможи петербургские ненавидели и его южные предприятия. Екатерина получала множество подметных писем и велеречивых, подписанных именитыми людьми посланий, где ей раскрывали глаза на дела Потёмкина, превышавшего власть свою. Помещики помельче были уязвлены раздачей земель преимущественно чиновникам и сановникам, деятельность которых была связана с югом, или различным придворным любимцам, которых награждала Екатерина. Мелкие дворяне называли эти усадьбы «вообразительными», так как большая часть земель в них оставалась втуне по причине недостатка рабочих рук. Жаловались на «безнравственность», «дерзостность» и «развратность» переселенцев. Помещик Мертваго, автор известных записок, называет Потёмкинских поселенцев не иначе как бродягами. Он обвиняет Потёмкина в способах поселений и утверждает, что «таковое основание, конечно, должно было принести вредные плоды». «Получа всё, что крестьянину иметь надобно, оставшись на свободе без всякого присмотра, предались они распутству», – пишет Мертваго. Если вспомнить, что «развратом» и «распутством» именовалось всякое сопротивление помещику и начальству и что именно эти слова вошли в официальные документы о Пугачёвском восстании, то станет понятно, какому распутству предавались крестьяне, «оставшиеся на свободе безо всякого присмотра помещиков». И действительно, помещику, привыкшему к рабскому послушанию, было не по себе среди этих людей, бывалых, бойких, уже не склонных гнуть шапку перед барином. Беглый – это был совершенно особый характер. Нужно было отчаяние человека, озлобившегося, затравленного, чтобы бросить насиженный угол, родных, землю отцов и шагнуть в неизвестность. Нужна была решительность, чтобы из какой-нибудь Олонецкой, Вятской или Ярославской губернии двинуться к южным морям, за тысячи верст, пешему, разутому и раздетому. Нужна была еще и вера в землю, на которой оседал беглый в поисках куска хлеба и воли. Потеряв всё, он считал, что терять ему нечего, и уже ничего не боялся. Жизнь на новых землях была нелегкой. Это была тяжелая жизнь голого человека на голой земле. Обещанного «снабдения» ожидали месяцами, кормились травами, ягодами. Нередко случались стычки с начальством. Деньги, отпущенные на хозяйства и пропитание переселенцев, прилипали к рукам чиновников. Сам Потёмкин хоть и не казнокрадствовал, но нередко заимствовал у казны и для себя и для предприятий, которые казались ему срочнейшими. Бывало, что растрачивал он именно то, что было отпущено переселенцам, и возвращал слишком поздно. Люди умирали с голоду или уходили на поденщину, а хозяйства, о которых Потёмкин столько хлопотал, так и не были созданы. Но из всего этого неустройства, путаницы, чиновничьих хищений и казенного равнодушия народ как-то выпутывался, и жизнь шла. Новые люди киркой и кувалдой разгоняли застоявшиеся веками соки земли древней Тавриды. Страна оживала, в теплых недрах зрело зерно, и вскоре поля покрылись новыми всходами.Его Таврида
Одно лишь название этой страны возбуждает наше воображение.Потёмкин принимал присягу, расположившись лагерем на высотах Ак-Кая. Люди, лошади, арбы и дома Карасубазарской долины казались игрушками у ног светлейшего князя. Да и вся Таврида не была ли его «маленьким парадизом», которым он мог теперь любоваться всласть? Давно вглядывался он в контуры большой камбалы, распластанной в синеве. Такою видел он Тавриду на своих картах. Теперь он знал ее всю (хотя нигде почти еще не был)[33], видел узкие, покатые русла ее рек, заглядывал в ее недра, ощущал тепло ее земли. Чувство обладания этой страной явилось у светлейшего с той минуты, когда карета миновала подъемный мост и ворота древнего Тафре. Сиваш и степные озера, наполненные солью, привели его в самое доброе расположение духа. Это – недурное хозяйство, не требующее почти никаких вложений. Отныне для него было две Тавриды: одна – давно известная из книг, актов и дипломатических прений, решившая древний спор о свободном плавании, умножившая славу империи; другая – услада, прекраснейшая оранжерея его стола, Таврида, им (так он считал) добытая. Теперь собирался он устраивать эту страну, смешивая, как всегда, свое и государственное в одно ему принадлежащее хозяйство. 10 июля и еще на следующий день светлейший[34] принимал татарских мурз и военачальников. Светлейшего томила жара; ему надоели низкие поклоны, раззолоченные ткани и шербеты. Он потребовал клюквы, которую возили за ним повсюду, и отправлял ее пригоршнями в рот, глядя перед собой с видом рассеянным, а на деле более чем внимательно. Как всегда в эту пору, несмотря на зной, воздух был напоен ароматами шалфея, полыни, цветущего шиповника и едва уловимым запахом моря, который ощутим на всех высотах Крыма. Полукружием лежали складки гор, от их мягких хребтов исходило неиссякаемое тепло. С высот Ак-Кая был виден лабиринт беспорядочно пересекающихся улиц старого Карасубазара, его семьсот домов и двадцать четыре минарета. В Карасубазаре было пусто и неприютно. Шумная, многоязычная торговая площадь умолкла и опустела. По ней, взметая клубы белой пыли и обливаясь потом, маршировали солдаты. За высокими каменными оградами жизнь, казалось, замерла; лишь кое-где можно было заметить выглянувшую феску или чалму. Барон Игельстром, в те дни управлявший Тавридой в качестве начальника войск, и татарские правители Гаджи-Казы-ага, Казаскер-Муслядин-эфенди и наместник Мехметша-бей Ширинский изо всех сил старались отвратить взор светлейшего от опустошений и ублажить его восточным гостеприимством и роскошью подготовленной резиденции. Живописно расположенный у реки Тыназ сераль одного богатого мурзы, покинувшего Крым, теперь был наскоро подмалеван в «турецко-аравийском» стиле. В комнатах, отведенных для светлейшего, была та полутьма и прохлада, которые и составляют негу восточных покоев. Курильницы дымились драгоценными ароматами. Всюду были персидские ковры, полки уставлены сосудами из серебра древней турецкой чеканки, стены увешаны татарским оружием. На маленьких резных столах, подобно солнечным дискам, сверкали плоские позолоченные подносы. Несколько похожих друг на друга татарских мальчиков, с оливковой кожей и темной бахромой ресниц, должны были прислуживать светлейшему. Но все старания правителя Крыма Каховского и князей Ширинских оказались напрасными. В турецком походе видывал светлейший и ковры, и мальчиков, и серебро, и медь. Всё это ему надоело. Он велел сделать себе постель в северной галерейке и отворить все окна и двери, устроив неслыханный сквозняк. Постель ему воздвигли на сенниках со свежей полынью и мятой. Кадильницы убрали. Было ясно, что роскошный обед в восточном вкусе не может быть подан. Нет, не островерхий минарет должен венчать холмы Тавриды, а пропилеи, портики и колонны. Потёмкин усматривал разительное сходство Крымского полуострова с Пелопоннесом. Здесь будет новая Эллада, и строгая классика созданий Старова заменит этот магометанский стиль, представленный в самом жалком виде. Сейчас Иван Егорович был занят в Петербурге постройкой дворца-памятника таврической славы Потёмкина, но вскоре предстояло ему путешествие на юг для проектирования городов, портов и парков таврических. Античный стиль был в духе времени, на него была мода. Однако светлейший, сверх того, обладал тем чутьем прекрасного, которое редко бывает у людей, не причастных к искусству. Недаром он приблизил к себе Старова и всемерно поощрял этого строгого классика. Не без влияния Старова светлейший предпочитал женственный ионический ордер дорическому и коринфскому и ценил свободную стройность не загроможденных деталями построек. Впрочем, блистательный мрамор, только что вышедший из-под резца, был ему куда милее желто-серых поверхностей античной скульптуры, хотя он и приказал Каховскому добыть для петербургского дворца побольше античных амфор, статуй и даже обломков, которыми изобиловала земля Херсонеса. В то время как производились эти раскопки, а за столом светлейшего рассказывали миф об Ифигении[35], солдаты и матросы, поощряемые начальством, разбирали в Партените и Херсонесе древнюю кладку для постройки казарм. Светлейший не имел пристрастия к археологии и сегодняшний день всегда предпочитал вчерашнему. Но классический стиль был великолепен и придавал величавость его особе и его деяниям. Крым именовался ныне, как и в эллинские времена, Тавридою. Байдарскую долину светлейший изволил назвать Темпейской[36], высоты Ак-Кая – Тарпейскими. Новый русский порт был назван Севастополем (городом славы). Город, который должен был стать губернским, Симферополем (соединяющим). Кафа вновь стала Феодосией, Гёзлев – Евпаторией, Эски-Крым – Левкополем, Судак – Афенеем. Но не одно только классическое великолепие делало привлекательными для Потёмкина греческие названия. Не одно только природное сходство с Пелопоннесом заставило его избрать для Тавриды классический стиль как лучшее убранство. В грандиозных замыслах Потёмкина судьбы русского Черноморья были неразрывны с будущими судьбами Греции. Не только Таврида ныне снимает с себя обличие монгольское, но не предстоит ли это и Стамбулу, в котором должна возродиться Византия? Таковы были мечты Потёмкина. Если Таврический полуостров сходствовал с Пелопоннесом природою своей, то не должен был он отстать и в изобилии. Английский садовод Гульд утверждал в письме к Потёмкину, что «ни Италия, ни другая какая страна не может сравниться с Крымом приятностью и богатством ‹…› в ней можно найти с избытком всё то, что есть нужно и полезно для человеческой жизни». Потёмкин желал доподлинно узнать силы края: его произрастания, как садовые, так и дикорастущие, пастбища, ископаемые, рыбу и птицу. Он вызвал к себе ученых геологов и ботаников Мейера и Габлица для составления особого «Физического описания Таврической области» и вместе с Мейером начал объезжать новые владения. Конечно, избирал он места не слишком дикие, удобные для его экипажа. Он побывал в долинах Качи, Альмы, Бельбека и в своей излюбленной Темпейской. Габлиц докладывал светлейшему наименования растений, присовокупляя, что «они суть те же самые, как на противолежащем анатолийском берегу растут, и что многоразличная между ними смесь должна быть доказательством об изяществах климата и земли Таврической». Действительно, многообразие природы Тавриды удивляло светлейшего. Здесь было всё, хотя и в миниатюре. Здесь были неприступные скалы и рядом мягкие холмы, жесткотравые степи и луга с зеленой муравой, непроходимые леса и веселые рощи, морская ширь и узкие горные речки, и даже плоские озерки и болотная топь. Нельзя сказать, чтобы со времен Потёмкина пейзаж резко изменился. Но было меньше садов и больше леса. Древний таинственный Мангуп скрывался в чаще, и по мере восхождения на его холмы деревья становились крупнее. Огромные южные сосны с лилово-серыми стволами в те времена еще сторожили подступы к пустынной крепости Чуфут-Кале, их смолою был напоен знойный воздух Иосафатовой долины. Меж Севастополем и Инкерманом холмы были покрыты тенистыми рощами, и мощные стволы дубов были «вышины и толщины необыкновенной». На открытых солнечных лугах, омываемых горной водою, где-нибудь близ Альмы или Коккоз во множестве росли плакучие ивы, именуемые черноталом, с ветвями, ниспадающими пышным и светлым каскадом. Травы там были высокие и сочные. Склоны холмов восточного берега тогда еще покрыты были кевовыми рощами и можжевельником, а ближе к морю, как и теперь, – одиноким тамариском и широко раскинутой зеленой паутиной каперсов с их цветами, дурманящими ладаном. Татары рубили и жгли лес как попало, без всякого порядка. На Яйле они вырубали леса вокруг кошар, но не потому, что не хватало пастбищ, а потому, что этот лес был под рукой. Потёмкин видел, как огромные дубы лежали, поверженные, у самых дорог. Только в глубоких горных падях, где-нибудь на северных спусках Яйлы, лес оставался нетронутым. Вокруг неохватных дубов, буков и тисов во множестве росли дикие яблони, орехи, груши, сливы, черешки и вишни с терпкими, душистыми плодами. Под ними теснились кусты держи-дерева с плоскими легкими бубенчиками, терн выставлял острые шипы меж светло-синих ягод,торчала колким остролистьем вечнозеленая иглица. Лес был увит диким виноградом и кружевным плетеньем без конца цветущего ломоноса. Трава вокруг была жесткая и сложноузорная. Леса спускались в долины, соединяясь с садами, заполняя их хмелем, плющом, кустами ежевики, дикими травами и лесной порослью. Прекрасносортные груши, абрикосы, сливы и яблони дичали, покрываясь у ствола высокой травой. Виноградные лозы оплетали эти деревья или стлались по земле. Только у немногих хозяев, и то близ строений и у проезжих дорог, лозы были подняты на шесты и перекладины, образуя галереи, столь отрадные в зной. Ученый Габлиц замечал, что к садам крымским приложено «везде столь мало следов труда и старания, что кажется, будто всё оставлено на попечение одной натуры». Он обращал внимание Потёмкина на то, что «редкий хозяин сада прививает какое-нибудь дерево или старается очищать оное надлежащим порядком; невзирая на это, большая часть плодов отменно хорошего качества». Каковы же могли быть эти плоды у прилежного хозяина! Автор «Досугов крымского судьи» Павел Сумароков писал: «Невозможно без сожаления видеть, с каким пренебрежением крымец обходится с дарами всех родов, от щедрой природы ему подносимых. Он не приищет ни лучших лоз винограда, не привьет доброго рода плода, не приложит попечения о скоте своем, составляющем главнейшее его имущество, не удобрит нив и не помыслит о каковом-либо новом изобретении. Всё отправляется, можно сказать, вопреки и всё при том растет, спеет и обогащает». Нигде не было «столь много благовонных цветов, как здесь, и такого изобилия рыб, как в этих водах». Мед и рыба – вот что можно будет вывозить на север и даже в другие государства. Паллас в «Физическом описании Крыма» утверждал, что «оранжевые, лимонные деревья, особливо называемые бодряками, которые гораздо крепче первых, – могут, при помощи весьма малого закрытия и старания, остаться невредимыми во время зимы». Для составления «Физического описания Таврической области» Габлицу невозможно было ограничиться одними парадными поездками. Надлежало выяснить на месте, каковы «совершенства» и «несовершенства» соляной добычи на Сиваше и на озерах Старом, Красном и других, более мелких. Потёмкин уже успел снестись с Екатериной и получил таврическую соль в свое полное владение, обменяв ее на подаренный императрицею дворец (который вскоре был возвращен ему, опять же в виде подарка). Следовало устроить большие соляные магазины у озер и в Перекопе. Заботясь о запасах хлеба для полуострова, а пуще того о доходах с принадлежащих ему сивашей, Потёмкин распорядился отпускать соль за хлеб. Кто привезет в Перекопский магазин ржаной муки, тому платить за четверть двадцать два пуда валовой соли. Соль заботила светлейшего не на шутку. Лето было особенно жаркое, и соль давала отличную садку. Следовало посмотреть, как наивыгоднейшим образом устроить добычу, которая во время ханов шла без всякого порядка. Ученый Габлиц должен был заняться солью всесторонне и, может быть, не столько для науки, сколько для доходов светлейшего. Задыхаясь от пыли, зноя и йодистого запаха соляных топей, ученый разъезжал вокруг озер в открытой таратайке. Он наблюдал и изучал. Напрасно Павел Сумароков назвал этот пустынный мир «чудовищем, оберегающим райские красы Тавриды». Напрасно считал он его мертвенным и безобразным. Здесь была своя жизнь, свои краски. Близ белесых, недвижных сивашей, несмотря на зной и йодистые испарения, веселились стайки птиц: степной ходульник и вертлявая шилоклювка. Паслись бурые двугорбые верблюды, медленно шествуя по лилово-красному полю курая и солянки. У соляных заберегов копошились люди. Добыча шла первобытная – не было даже шлюзов для спуска воды, топкие берега не были замощены. Люди стояли по пояс в соляном болоте, пожираемые солнцем и солью. Можно было издали наблюдать, как они уходят в топь, всё глубже и глубже, не переставая работать лопатами. Габлиц видел изъязвленные ноги и лица без кровинки, но вряд ли об этом стоило докладывать светлейшему. Пробы подтвердили славу испытанных веками озер: Старого и Красного. Во всех других соль была горька и не так чиста. Потёмкин увлекся ископаемыми и камнями. Екатерина прислала ему из Петербурга ученого геолога Фалькенберга, который, даже не поднявшись на Чатырдаг, доложил о залегавших там драгоценных породах. Сам светлейший тоже делал изыскания. Он получил из Херсонеса сердоликовый перстень и теперь утверждал, что следует искать камень сердолик поблизости, может быть, на Фиоленте. Он не хотел и слышать о том, что перстень может быть изделием, привезенным древними из Эллады. Карадагские находки убедили всех. Успел Потёмкин высмотреть и прекрасный строительный камень сюренских скал, и мягкий туф близ Евпатории, и легкий камень Инкерманских высот. Теперь он торопил добычу, забывая о том, что остановка была за каменотесами. Ученый Мейер доложил Потёмкину, что «в состоящих повсюду горах весьма много находится железной руды, известкового камня, мелу, треполю, вохры, горного мыла, особенно по дороге от Карасубазара к Акмечети, и синего купоросу». Светлейший спросил важного бея Ширинского, что делают его поселяне с драгоценным навозом, и, узнав, что ничего не делают и гнушаются, велел собирать и по казачьему примеру кизяком топить печи. Главе таврического земства[37] Мехметше-бею Ширинскому было предписано взять леса под особую опеку и совершенно запретить порубки. По кадылыкам был разослан строжайший приказ о посадках деревьев, как лесных, так и садовых. Потёмкин составил расписание ближайших работ и требовал неукоснительного его выполнения. Он предписывал:Екатерина II – принцу де Линю
1. Способствуясь советам садовника Гульда, насадить рай-дерева на Каче по сырым местам, а осенью стараться многое число достать семян каштановых и диких каштанов сеять. 2. Камня и кирпича заказать готовить большое количество у Акмечети, где будет губернский город Симферополь. 3. Не упустить строить большие соляные магазины у озер…И еще множество пунктов было в этом расписании, подтверждаемом особыми распоряжениями. Потёмкин заявлял, что сделает из своей Тавриды «рай», замыслив грандиозные ботанические сады, оливковые и тутовые рощи и венгерские виноградники. Он обещал «устлать шелками» путь императрицы в полуденную Россию. Это значило, что в Крыму будут делать шелк. Близ Солхата, который стал именоваться Левкополем[38], велел он отвести под тутовые «произрастания» почти 2000 десятин, не считая старых шелковиц, растущих в долине св. Георгия. В Левкополе думал он поселить грузин, знающих, что такое шелк, и мастеров-итальянцев. Сурожская долина, славная своими виноградниками с незапамятных времен, должна была обогатиться новыми венгерскими лозами, «дабы излить ароматное вино свое в российские подвалы». Оливковым рощам надлежало украсить склоны, и масло черных олив не должно было уступать провансальскому и гишпанскому. Екатерина вслед за Потёмкиным увлеклась нововведениями. «Главным делом в Тавриде, – писала она, – должно быть, без сомнения, возделывание земель и шелковичное производство, следовательно, и разделка тутовых дерев. Изготовление сыра было бы там тоже желательно (нигде в России не изготовляется сыра). Еще одним из главных предметов в Тавриде могли бы быть сады, и особенно сады ботанические». Каждая поездка светлейшего вызывала множество распоряжений, отмен, проектов. О садах было особенно много приказов, касающихся их расширения, поливки и обрезки. Он поручил сады Тавриды управлению садовода француза Нотары и сам следил за покупкой в Константинополе олив, кедров, кипарисов, лавров, буксусов, гранатовых деревьев, чинар. Древние, как мир, деревья на южном побережье говорили о великих возможностях садоводства. Здесь надо было устраивать опытный сад с разнообразнейшими породами, теми, что растут в Италии и Греции. Было положено начало устроению южного берега. Потёмкин никогда не бывал на «полуденном берегу», а лишь любовался им издали с высот Ласпи. Но он хорошо представлял себе все эти земли по описаниям, планам, рисункам, для него изготовленным. Для первых опытов избраны были собственные земли светлейшего меж Ласпи и Форосом, а также водообильная Алупка. Весной 1784 года были заложены первые парки на принадлежащих Потёмкину землях близ Фороса. В 1786 году было закуплено в Константинополе, Смирне и на Принцевых островах множество семян и саженцев. В рапорте закупщика Клефрова – огромный список растений. Здесь маслина, шелковица, лавры, иудино дерево, гранаты, чинары, терпентинные деревья, пинии, дендроливаны, «мастяшные» деревья, рододендроны, сумахи, кипарисы, айвы, виноградные лозы и множество луковиц и семян лилий, тубероз, табака, пармских фиалок, «солнечного цветка» и других. Ласпийские свои земли велел Потёмкин засадить шелковицей и маслиной, а все другие растения, привезенные с анатолийского берега, испробовать в Алупке. Там заложен был большой южнобережный парк, который должен был распространиться и дальше на восток. Несколько богатых греков, не уехавших в свое время в Мариуполь или возвращенных оттуда Потёмкиным, предложили свои услуги в качестве садоводов. Кандараки, дед автора «Универсального описания Крыма», занялся новыми посадками. Он-то и посадил здесь первые кипарисы, из которых два дожили до наших дней. Этот Кандараки и сам, по-видимому, имел владения в Алупке и в других местах побережья. Он (или его родственник) оставил по себе в Никите несколько ценных деревьев, заинтересовавших ботаника Стевена. Алупкинские посадки расположили так, как это делается при устройстве больших парков. Кипарисы сажали правильными линиями и маленькими рощами. Лавры с их темно-зеленой блестящей листвой перемежались серыми оливами и алоцветными кустами гранатов. Всё это должно было составить «прекрасные группы». Посаженные деревья «укоренились с успехом», и в начале следующего столетия алупкинские сады превосходили все прочие… Алупка, «будучи из самых южных селений в Крыму, служила ‹…› образчиком, что в нем иметь можно». Парковые и фруктовые деревья потёмкинских посадок встречались и за пределами Алупки. От селения к селению на восток видны были следы планировки парков с лужайками, обсаженными розой или самшитовым кустарником, кое-где были устроены клумбы с сиренью и жасмином. Мисхор славился рощами лавров и маслин и гранатовой аллеей. Екатерина одобряла планы Потёмкина безоговорочно. Она писала: «Князь Григорий Александрович, представленные вами распоряжения работ, по проектам в Таврической области назначенные, утверждаем мы ‹…› желая вам в производстве всего того добрых успехов». Но в «производстве» были немалые затруднения, и главным из них был недостаток людей. Не хватало руководителей всех этих начинаний: инженеров, архитекторов, планировщиков, садоводов, виноделов и т. д. Нужен был рабочий люд: земледельцы, садовники, мастеровые. Татары сидели на порогах своих домов, раскуривая трубки и размышляя, ехать ли им по слову мурзы, бея или муллы куда-нибудь в Македонию или Добруджу. Татарские беи принимали перед русской властью низкопоклонное обличие и будоражили народ, которому внушали необходимость стать на защиту Корана или, во всяком случае, удалиться под сень его, в земли правоверных. Потёмкин знал, что доверять всем этим Ширинам и Аргинам было невозможно. Многие из них имели тайные сношения с Турцией, а те, которые не считали себя призванными готовить возмущение в Крыму, стремились его покинуть. Двенадцать знатных мурз прямо заявили о своем желании переселиться на анатолийские берега. Эти двенадцать мнили себя апостолами ислама, испытавшими гонения в русском Крыму. И хотя не только не было этих гонений, а были всяческие изъявления русской веротерпимости, мурзы желали, чтобы народ следовал их примеру. Потёмкин им не мешал. Напротив того, «уведомляясь, что татары, оставляя свои дома, удаляются из Крыма», предписывал «нимало не делать им в том препятствия, но оставить их в полной свободе ехать куда пожелают»… По правде говоря, от тех, что оставались, не много видел он толку. Они кочевали от селения к селению, ища лучшего, переселялись в брошеные дома, захватывали чужие участки и не спешили браться за лопату. Степняки заводили в горных хозяйствах свои степные обычаи, сеяли просо и мололи его на ручных жерновах, гоняли отару и с величайшим равнодушием смотрели на иссыхающие сады. Для начинаний в Тавриде нужны были люди. В 1784 году Екатерина издала манифест о прощении «не помнящих родства» крестьян, бежавших в свое время за границу. Потёмкин применял этот манифест ко всем беглым, являвшимся в его наместничество. Жалобы Екатерине от пострадавших помещиков были бесполезны. Потёмкин стоял на своем и не возвращал бежавших. Дело было не в человеколюбии, а в хозяйственном расчете. Не может быть и речи о том, что Потёмкин проявлял в крестьянском вопросе какое-либо вольнодумство. Хорошо известна помощь, которую оказал он Екатерине своими советами во время Пугачёвского восстания. Именно советы и меры, которые принял Потёмкин для того, чтобы предотвратить подобные восстания (уничтожение Запорожской Сечи и самоуправления донских казаков), содействовали его возвышению. Правда, Потёмкин произвел некоторые реформы в армии в пользу солдат и был сторонником обуздания помещиков в расправах с крестьянами, так как вообще не терпел «кнутобойства», но было бы смешно считать его сторонником ограничений крепостного права. Потёмкин добывал рабочие руки любым способом, так как крепостных на юге было ничтожно мало. Он закрывал глаза на «законное право» помещика и поощрял побеги крепостных, делавшие их вольными поселянами. Поступая таким образом, Потёмкин рисковал многим, но чутье практического деятеля заставляло его вступать в невольную борьбу с установлениями режима, им же утверждаемого. Не менее свободно действовал Потёмкин в отношении солдат тех полков, которые стояли на юге. Если ему нужен был поселянин, он списывал любого солдата как негодного к службе. Солдат получал земельный надел и превращался в казенного крестьянина. Отпущенные солдаты были потеряны для помещиков. Эти солдаты больше не возвращались в крепостное состояние. Нужны были опытные садоводы, и Потёмкин решил, что жители Эгейских островов и побережья Средиземного моря лучше всех других освоятся на землях Крыма, особенно на южном побережье. Потёмкин пригласил для садоводства албанцев с греческими военачальниками во главе. Они имели большие заслуги в Чесменском и других боях с Турцией, и теперь им поручалась береговая охрана. Они создали особый греческий батальон, который подчинялся флотскому севастопольскому начальству. Штаб его находился в Балаклаве, а отряды – по всему южному берегу. Арнауты, своей одеж-дой напоминавшие античных воинов, вооруженные ятаганами, кинжалами, пистолетами и длинными турецкими ружьями, были грозой турецких разведчиков и возмутителей и неоднократно оказывали помощь русскому флоту:
Когда, бушуя на свободе,
Эвксин разгневанный кипит
И флотам гибелью грозит,
Тогда не дремлют ни минуты
Воинственные арнауты!
‹…›
Но арнауты-удальцы
На бреге те же молодцы…
Патриархальными семьями
Странноприимно над водами,
На новой родине своей
Они живут вблизи полей.
Рождение славного города
Могу сказать, что во всей Европе нет подобной сей гавани – положением, величиной и глубиной.Штурман прапорщичьего ранга Иван Батурин осенью 1783 года был назначен командовать «описной партией», посланной с дозорного корабля «Модон» в Ахтиарскую бухту. Штурман Батурин и его команда должны были составить подробную карту всего берега от Херсонесского мыса до Бельбека. Батурин избрал для съемок высоты, с которых открывается широкая перспектива рейда, с большим округлым заливом, идущим к подножию Инкермана. От северных холмов он двигался к югу, и перед ним развертывался рисунок берега. Десять бухт[40] причудливым узором изрезали землю. На берегу Большого залива – деревня Ахтиар; восемь маленьких домишек и небольшая казарма. За ними в глубине – долина, поросшая дубняком и можжевельником. С юго-запада береговую линию замкнул прямоугольный кряж, омытый морем с трех сторон. На севере – изгибы реки Бельбек. В ее излучине – селение, другое – у подножия Инкермана, на реке Черной (Чурук-су), еще именуемой Инкерманкой[41]. Селения все небольшие, домов по двадцать. Штурман Батурин произвел съемки и обмеры тщательно и подробно; на карте изображены холмы, пещеры, развалины каменной кладки и те самые крепостные стены и башни, о которых рассказывал Мартин Броневский в своей книге «Описание Крыма в 1579 году». За стеной и валом на карте Батурина значатся пять византийских церквей и две мечети, которых нет ни на других планах, ни в описаниях. Изобразил Иван Батурин на своей карте и остатки великолепного моста через речку Инкерманку, его четыре арки, одна из которых была полуразрушена. Отметил он и остатки рва у стены, указывающие границы херсонесских владений. Главной задачей команды был промер глубин Большого залива. Батурин прошел его на своей шхуне вдоль и поперек, записывая промеры в футах, а не в саженях, как это делали обычно. Пятьсот лет находились в забвении знаменитый у древних Ктенус и бухты, где некогда стояли боевые суда с дружиной князя Владимира. Места эти окутала тишина. Несколько рыбачьих лодок составляли портовое богатство Большого залива. Морской опорой монгольских пришельцев были Кафа на востоке и Гёзлев на западе. В подновленной турками в XVI веке Инкерманской крепости стоял небольшой гарнизон. В 1778 году турецкая эскадра посетила тихий рейд. Это было в последние дни ханских междоусобиц, когда султан, потерявший Крым, делал последние усилия, чтобы уцепиться за его берега. Турецкие корабли, именовавшиеся торговыми, стояли здесь неспроста. Отсюда, с пустынного этого берега, шли тайные связи с Бахчисараем. Сюда должны были прийти большие морские силы. На беду турок в Крыму был Суворов, назначенный командовать Крымской армией. В то время не слезал он с маленького, быстрого своего коня, носившего его по всем крымским дорогам. Суворов зорко следил за берегом. Вдруг узнал он об убиении казака в Ахтиарской бухте: турки стояли близ ее берегов. Прилетев к Ахтиару, Суворов действительно увидел турецкие флаги и смятение в маленьком отряде казаков. Он приказал бить камень и носить песок. Под покровом ночи с суворовской быстротой были возведены укрепления, временные батареи, сделанные на славу. Хотя Суворов и презирал «известь и кирпич», считая фортификацию не своим делом, но строил он, как и всё делал, – хорошо, ладно, крепко. Вслед за тем Суворов велел возвести в Ахтиарской бухте казарму для размещения увеличенного казачьего отряда. Так положено было начало форту. Осенью 1782 года, когда фрегаты «Осторожный» и «Храбрый» входили в Большой залив, судьба Ахтиара была решена. Рейд был признан лучшим на побережье. Потёмкин просил президента Адмиралтейской коллегии Чернышёва поторопиться с подробным изучением места для нового города и гавани. Капитан 1-го ранга Иван Максимович Одинцов, фрегаты которого стали на якорь в Ахтиаре, получил распоряжение проделать подробнейшие съемки и промеры на предмет устройства портовых сооружений. Это была первая зимовка, подробных сведений о ней ждали в Адмиралтействе. Команда с фрегатов Одинцова разместилась в опустевшем селении Ахтиар. Кругом не было ни души, и моряки оказались в положении «робинзонов» на тихих берегах. Они ладили сети, ружья для охоты на диких коз, а главное, отстраивались и чинили жилье. Начальник эскадры Одинцов вместе с капитан-лейтенантом Юрасовым готовили карту и донесения в Петербург. Одинцов писал в коллегию: «С начала пребывания моего в Ахтьярской бухте прошлого 1782 года с 17 ноября по 7 марта 1783 года, порученной мне эскадры фрегаты стоят на одних якорях посредине самой бухты; при перемене якорей канаты всегда бывают целы, потому что грунт – ил мягкий; при всех бываемых крепких ветрах волнения никакого не бывает, кроме вестового, от которого при ветре немалое волнение, а по утишении – зыбь, но безвредна. В разных местах опущены с грузом доски, также и фрегаты осматриваемы при кренговании, однако червь нигде не присмотрен: сему причина – часто бываемая при остовом ветре, по поверхности губы из речки Аккерманки, пресная вода, в губе превеликое множество дельфинов, или касаток; но они безвредны». Словом, выяснилось, что зимовка прошла очень хорошо, что в Большом заливе и в бухтах может быть поставлено множество военных и купеческих кораблей, что для строений места удобные, а камень инкерманский годится на всё. Хотя донесения, касаемые берегов Крыма по ведомству морскому, шли в Адмиралтейство к графу Чернышёву и распоряжения и назначения исходили от него, на деле всем этим управлял Потёмкин. Любое начинание коллегии он мог отменить, если оно ему не нравилось. Действовал светлейший через императрицу. Он добился того, что все офицеры на вновь заводимый на Черном и Азовском морях флот назначались им самим. Только адмиралы утверждались Чернышёвым. Но Потёмкин вмешивался и в эти назначения. Граф Чернышёв покровительствовал знатным. Потёмкин не видел проку в паркетных шаркунах. На суше и на море они были одинаково плохи. Нет, светлейший предпочитал тех, кто стоял крепко на собственных ногах. И граф Чернышёв не мог оспорить назначение, угодное светлейшему. Он подписывал его. Так, по слову Потёмкина, начальником всего Южного флота был послан герой Чесмы вице-адмирал Федот Алексеевич Клокачёв. Это был живой и деятельный человек, моряк по призванию. Ранней весной Клокачёв уже был на юге. Эскадра под его флотом вошла в Большой залив и приняла салют фрегатов Одинцова. Клокачёв потребовал планы и осмотрел берега до самого Херсонеса. Он нашел маленькую Ахтиарскую бухту неудобной для одиннадцати кораблей. Становиться на якорь в Большом заливе, открытом западным ветрам, было небезопасно. Кроме того, следовало подумать об укреплениях, начало которым положил Суворов. Клокачёв избрал самую обширную из бухт, впадающих в залив с юга. Отныне она называлась Южной, или Гаванью, и была облюбована для стоянки эскадры. Строения, к устройству которых предполагал приступить немедленно Клокачёв, должны были расположиться не к востоку, а к западу – на пространстве между двумя бухтами. Здесь и быть порту. Вскоре пришло распоряжение Потёмкина именоваться ему Севастополем, городом славы, знаменитым. «Без собственного обозрения нельзя поверить, чтоб так сия гавань была хороша!» – восклицал Клокачёв, утверждая, что в Европе ничего подобного этому не видывал. Он писал в Адмиралтейство, исчисляя все выгоды и достоинства учреждаемого порта: «Здесь сама природа такие устроила лиманы, что сами по себе отделены на разные гавани, т. е. военную и купеческую». Молодой инженерный полковник Корсаков, приглашенный Потёмкиным для устройства южных крепостей, предложил проект дока для Севастополя. Остроумие этого проекта заключалось в том, что вода должна была собираться в бассейн для шлюза из горных источников и могла служить водным запасом при осаде города. Проект Корсакова рассматривался Екатериной и был передан в Адмиралтейскую коллегию. Потёмкин считал необходимым осуществить его в ближайшее время. Начальником эскадры, стоящей в Большом заливе, по отбытии вице-адмирала Клокачёва оставался контр-адмирал Мекензи. Ему были поручены портовые сооружения, хотя план их был уже намечен Клокачёвым, который, начальствуя в Херсоне, неукоснительно следил за Севастополем. Наступила глубокая осень, и даже в тихой бухте шла зыбь от неспокойного моря, а две тысячи человек команды (всего было две тысячи шестьсот) качались на своих судах или мерзли в береговых землянках. Больные лежали вповалку в дощатом сарае, и «гнилая горячка» начала косить людей. Нужен был карантин. Нужен был водопровод для ключевой воды, потому что команда пила воду из мелких колодцев, вырытых близ гавани, и вода эта была плохая. Провиант и снаряжение, выгруженные транспортниками, мокли под дождем и разметывались ветрами. Весной ожидали прихода второй большой эскадры, об устройстве которой, казалось, не стоило и помышлять: не было ни лесу, ни кирпича, ни цемента. Мекензи докладывал в Адмиралтейство, что «лесов и материала весьма мало, а других совсем нет – одним словом, во всём при здешнем порте крайний недостаток». Пытаясь обойтись своими средствами, он приказал ломать стены Инкермана и «старого Херсона»[42] и переносить в бухту тесаный камень, изготовленный древними. Надо признать, что Мекензи не был любителем археологии, и среди офицеров его эскадры не нашлось никого, кто, подобно Ивану Батурину, счел бы эти памятники достойными внимания. Сложилась даже легенда, что Севастополь весь как бы возник из «старого Херсона». Павел Сумароков писал, что «погибший Херсонес предстал с богатым завещанием. Повезли из него каменья, столбы, карнизы, и показались порядочные строения». Между тем, матросы, таскавшие эти плиты, столбы и карнизы, убедились вскоре, что выгоднее бить природный инкерманский камень. Более всего Мекензи был озабочен лесом. Он послал своего офицера к «татарским начальникам для отыскания в их дачах годных дерев», чтобы татары «своим коштом, за сходную казне цену вырубали и свозили этот лес к Южной бухте». Татары соглашались, но сам Мекензи без соизволения коллегии «приступить не осмеливался». Он ждал решения Петербурга, а там дела обсуждались не слишком поспешно. Иногда докладывали даже самой императрице, потому что она была любительница входить в мелочи, считая, что тем самым держит всё в своих руках. Мнение «ее величества» бывало самым неожиданным, а решение задерживалось. Но и без высочайшего вмешательства ответ приходил не скоро. Кроме волокиты петербургской, с осени началась еще и херсонская, по непосредственному начальству. Вице-адмирал Клокачёв заболел «гнилой горячкой», свирепствовавшей в Херсоне, и вскоре умер. На его место назначили контр-адмирала Сухотина. Он был мало осведомлен и очень осторожен – это заставляло его постоянно откладывать дела «для рассмотрения». Мекензи не раз приходил в отчаяние, но сам распорядиться не решался. Казалось, обстоятельства эти способны были сокрушить все замыслы. Но вопреки всему, при всей волоките и оттяжке, при явной невозможности без строевого лесу закончить работы к весне, было сделано всё и даже больше, чем задумывали, и «юная колония без повеления, без денег, без плану и без материалов составила из себя городок…» Не только мастеровитые матросы, отобранные плотники, столяры, каменщики, штукатуры охотно и сами от себя делали свое дело, но и остальные, все, кого не точила болезнь и кто не был на вахте, стремились на береговые работы. Корабли «Азов» и «Хотин», фрегаты «Храбрый», «Перун», «Поспешный», «Скорый», «Стрела», «Вестник», «Легкий», «Крым» и «Победа» с рассвета высылали на берег свои команды. Явились сюда и беглые помещичьи люди, и отпущенные солдаты. Среди них были и олонецкие каменотесы, и белорусские землекопы, и галичские плотники со своим нехитрым снаряжением: пилами, топорами, шпунтами и молотками. Все эти пришлые составили с матросами единую семью севастопольцев, да так и остались в созидаемом городе. Веками безмолвные берега и прилежащие долины теперь гомонили до поздних сумерек, и этой воли к созиданию не могло остановить ни петербургское, ни местное начальство. На рейде стоял тот особый гул портовой стройки, в котором соединились грохот дробимых камней, визг пил, удары топора и над всем этим – всё заполняющий, хотя и негромкий, мерный рокот моря. Матросы ворочали глыбы, мерзли в студеной воде и взрыхляли землю, которая еще не ведала лопаты. Они были изыскателями, грузчиками, ломовой силой, строителями и художниками. Не зная этой земли, они находили всё, что им было нужно: известь, песок, глину, камень и лес. Поднимаясь вверх по незнакомым, путаным тропкам, они попадали в дикую чащу. Исцарапанные, изодранные шипами, колючками, крючковатыми сучьями, они достигали высот, где росли изрядные деревья, годные для плотников и столяров. Ровный лес был драгоценностью, но и корявый, сучковатый, кряжистый годился на кницы, брештуки. Целыми днями люди бродили по берегам бухт в поисках полезных предметов, которые иногда дарило им море. Обрывок веревки, старый крюк, корабельные доски – всё было нужно. В своих записках адмирал Сенявин, в то время флаг-офицер у Мекензи, рассказывал: «Офицеры и матросы, расходившиеся каждый день по окрестным местам для отыскания дерев на постройку, камня и всего для себя пригодного – по образцу поселенцев на полудиком месте – нашли невдалеке от Херсонеса, на берегу нынешней Казачьей бухты, четыре грузовые лодки, испорченные во время возмущения ханскими поверенными у здешних обывателей и покинутые там своими владельцами». Лодки были хороши, должно быть, те самые, которые видел в 1783 году штурман Батурин, и они не требовали большой починки. Было доложено в коллегию, что лодки «сделали великую выгоду как для возки воды на фрегаты, так и каменьев из старого Херсона». Каждый день приносил новое: росли стены зданий, стропила покрывались крышей, из печных труб валил первый дымок. Уже явственны были очертания города. Величину его можно было видеть по охвату земли, от Южной бухты до той, которая ныне именовалась Карантинной. По всему этому пространству уже намечался рисунок улиц, берущих начало от площади у самой гавани. Уже набережная кое-где оделась камнем, и свежеоструганным деревом блистала маленькая пристань на западном мысу. Это был Севастополь.Вице-адмирал Ф.А. Клокачёв – графу З.Г. Чернышёву
«Хочешь зе́мли?»
Зе́мли, вместо небольших участков полезным поселянам, назначались тысячами десятин или боярам, оставившим их без внимания, или неизвестным пришельцам, не ведающим домостроительства.Путешествуя по Тавриде, ученый Карл Иванович Габлиц, случалось, спрашивал поселян: «Чьи это, голубчик, земли?» На что по большей части он получал неизменный ответ: «Их сиятельства светлейшего князя Потёмкина». По этому поводу Карл Иванович мог вспомнить известную сказку о Коте в сапогах и маркизе Карабасе, которому принадлежали все земли и замки. Появление светлейшего в Тавриде, его сребро-розовый выезд и сверкающая упряжь производили впечатление ошеломляющее. Потёмкин был не просто наместником – он владел Тавридой. Разумеется, и все земли принадлежали только ему. Легенды о потёмкинских поместьях дошли и до наших дней. Крымские справочники и поныне утверждают, что Гурзуф и Артек некогда были потёмкинскими[43], хотя это вовсе не соответствует истине. Действительно, светлейший взял себе почти треть всех свободных земель, около 94 000 десятин. Ему принадлежали бывшие султанские владения[44], богатейшие долины Байдарская и Судакская. Земли его спускались к морю на востоке у Судака и на западе у Фороса. Остальные свободные земли полуострова были розданы сановникам, придворным, приближенным Потёмкина. Таврида устраивалась наподобие Царского Села, где дворец со всех стороноблегали придворные усадьбы, как бы составляющие неотъемлемую часть царских владений. Не забывая тех, кто был ему поближе или сродни, Потёмкин, появляясь в петербургском высшем свете, предлагал полуденные земли, словно раздавал лотерейные билеты или приглашения на бал. Именно там, в Петербурге, лежали планы всех этих земель. Соблазнялись степными, пахотными участками, долинами Бельбека, Альмы и Качи и старого винодельческого селения Судак. Стремились ближе к городам, согласно своим занятиям. Адмиралы, призванные на Черное море, избирали земли близ Севастополя; высшие офицерские чины, гражданские чиновники селились у Карасубазара, где располагались военные части, где в то время находилась резиденция и самого Потёмкина. Многие тяготели к Старому Крыму и его окрестностям. Там у Потёмкина на реке Бурунче, в Кишлаве, затевалось грандиозное овцеводческое хозяйство. Когда столица таврическая определилась в Симферополе и город стал благоустраиваться, земли по Салгиру приобрели особый интерес. Именно там создались богатейшие усадебные гнезда – Тавель и Саблы. Эти поместья, со множеством служб, большими основательными домами и тенистыми аллеями, ничем не отличались от имений на Украине или в средней полосе России. Более мелкие усадьбы создавались на благодатных землях старой Сурожской долины, где селились те из новых помещиков, которые хотели завести виноградники и стать виноделами. Впрочем, на это шли очень немногие из русских дворян. Пионерами русского виноделия явились не весьма богатые Капнисты (семья поэта), Римские-Корсаковы (предки композитора), академик Паллас, Княжевичи. По настоянию Екатерины завелась на месте древнего Сурожа немецкая колония, а выше – русское селение. Земли южного побережья были «за тридевять земель, в тридесятом царстве». Этими сказочными сокровищами никто из столичных магнатов не стремился обладать. В качестве диковинного подарка Екатерина подносила их знатным иностранцам, имевшим заслуги перед русским троном. Так, земли Партенита, Кучук-Ламбата и Никиты подарила она австрийскому принцу де Линю, а Марсанду (Массандру) – принцу Нассау-Зигену. Эти новые помещики пожелали осмотреть свои имения и во время путешествия 1787 года отправились налегке, верхом через дикие скалы Шайтан-Мердвеня – на южный берег. Это была смелость, но де Линь видел свои имения (первый и последний раз) и мог потом рассказывать о чудесах южного берега с тем блеском, которым отличался его слог. Кое-кто из русской знати получил дарственные на земли, лежащие за перевалом Яйлы, но эти дарственные казались чем-то вроде почетной грамоты. О земле забывали, а иногда и отказывались от нее, если из Тавриды приходили напоминания о заселении и застройке. Один только адмирал Мордвинов, избрав лучший по плодородию кусочек близ Ялты по реке Гуве, выстроил там небольшую усадьбу и разбил парк. Подробное, так называемое камеральное, описание всех земель Тавриды Потёмкин поручил сделать гражданскому правителю Тавриды Василию Васильевичу Каховскому. (Следовало описать султанские и ханские земли, сады и усадебные постройки, оставшиеся после выехавших за границу мурз.) Каховский очень не любил головоломных поручений и препоручил камеральное описание таможенному чиновнику Караценову. Таможенный чиновник смекнул, что дело это темное, но прибыльное, и призвал на помощь бывшего ханского откупщика Абдул-Хамита-агу. Тут и пошла у них работа. Абдул-Хамит-ага позаботился о «своих», а Караценов – о «своих». Абдул-Хамит-ага, не пренебрегая взятками, многие лучшие земли приписывал к владениям богатых татар. Если же Абдул-Хамит-ага чувствовал себя обиженным, он, напротив, показывал занятые земли пустующими, и владельцу предстояла неприятнейшая тяжба, почти всегда кончавшаяся в пользу нового хозяина. Так они с Караценовым и вертели четырьмя сотнями имений, не считая множества садов и мелких участков, наблюдая, видимо, не без ехидства, как старый помещик попадал, как муха в паутину, во владения к какому-нибудь новому магнату. Хороши были только планы межевания, выполненные на славу. На эту работу наряжены были лучшие землемеры и чертежники. Лучшие картографы – Туровский, Ананий Струков и Мирон Мухин (тот самый, что сделал первую прекрасную карту всего полуострова) – обмерили горные кряжи, долинки, овражки, дороги и строения и сделали отменные экспликации с аккуратнейшими надписями. На эти планы нанесены не только межи и размеры – на них черты времени, имена. Вот перед нами карта одного из многочисленных владений Потёмкина: «План земли его светлости высоковелительного господина генерала-фельдмаршала и разных орденов кавалера князя Григория Александровича Потёмкина». Земли эти исчисляются в тысячах десятин и состоят на реке Салгире близ Симферополя, вдоль дороги на Перекоп. А вот и другой план земли «высоковелительного» – на реке Каче, у дороги, идущей из Севастополя в Бахчисарай. Здесь тоже несколько тысяч десятин. На плане помечены два господских дома и мельница, которые возникли, видимо, по мановению светлейшего. 1559 десятин земли в перекопских степях помечены на плане как владения камер-юнгферы Скороходовой, находящейся «при ее императорском величестве». Перебирая эти экспликации и планы, мы узнаем неожиданно, что Кишлав, это степное селение в оврагах, вдали от большой дороги, принадлежало знаменитому архитектору Старову. «Высоковелительный» распорядился отвести эти земли своему архитектору, дабы иметь его под рукой в Тавриде, так же как в Петербурге. Любопытно узнать о деловитости севастопольского контр-адмирала Мекензи. Ему принадлежал небольшой хутор в ущелье Биюк-Узеньбаш. Хозяйственный адмирал занялся там добыванием таврического мыла, именуемого кил; на плане его усадьбы помечены «мыльные ямы». А вот загадка для археолога. На плане деревни Теберты Бахчисарайского каймаканства помечен двойной обводкой в виде рыцарского щита какой-то замок, или, вернее, его руины. Кто и когда жил в этом замке? Щедрой рукой наделял Потёмкин ближайших помощников. Правитель его канцелярии Василий Степанович Попов получил 28 000 десятин – Кап-сихорскую долину и прекрасные земли Чатырдагской дачи. Немалые наделы получили братья Каховские, военный и гражданский правители Тавриды. 27 500 десятин отдал светлейший угодливому Мегметше-бею Ширинскому, и без того богатому землевладельцу крымскому. Русская знать, владевшая подмосковными, смоленскими, тульскими, украинскими и другими имениями, присоединяла к ним еще и земли где-нибудь на Альме, Салгире, Авунде. Весь двор, вплоть до камердинеров, камер-юнгфер, придворных поваров, конюхов и истопников, получил крымские усадьбы. Фрейлина Екатерины Наталья Кирилловна Загряжская в старости рассказывала Пушкину: «Потёмкин, сидя у меня, сказал мне однажды: “Наталья Кирилловна, хочешь ты земли?” – “Какие земли? С какой стати?” – “Разумеется, государыня подарит, а я только ей скажу…”»[45] Загряжская спросила у светлейшего планы, и чиновник потёмкинской канцелярии Тамара выбрал ей земли. С этими землями было много хлопот, не говоря об их заселении. Границы новых владений часто оказывались неясными, да и права на землю спорными. Случалось, что Потёмкин награждал землями, которые значились лишь на планах, лежащих у него в Петербурге. На самом деле земель этих вовсе не было или на них уже прочно угнездился новый помещик по выбору Абдул-Хамита. Так, почтенный вице-адмирал Войнович получил несуществующую усадьбу у Ак-Мечети. Вице-адмирал Мордвинов получил в Байдарской долине земли, почти сплошь состоящие из мелких татарских усадеб. Татары арендовали их у султана. Теперь арендаторы считали себя хозяевами земли и начали тяжбы. В ханские времена татары пользовались правом заселять пустующие земли. «Обработал, огородил – твоя», – гласил закон, согласный с Кораном. Екатерина объявила, что не посягнет на эти права, но на самом деле все земли, которые принадлежали Порте, она раздала и закрепила за новыми владельцами. Многие помещики получили земли вместе с татарскими селениями и хуторами. Они хотели, чтобы татары обрабатывали их помещичьи земли, как это велось во всей крепостной России. Но татары оставались вольными, не хотели работать на помещика и не хотели уходить с его земель. Кончалось тем, что помещик отдавал спорные свои земли в аренду татарам, и они должны были выплачивать ему «десятину», как раньше выплачивали ее турецким беям. Казенные поселяне неохотно селились на землях помещиков, несмотря на то что здесь им предоставлялись готовые жилища, земля для пахоты и всё оборудование, а на казенных землях давали лишь пару волов и плуг на четыре семьи. Проще всего устраивались со своими землями те, кто управлял Тавридой. Им ничего не стоило отобрать себе поселенцев из числа беглых, которые уже не могли уйти из их рук. Так, начальник канцелярии Потёмкина Попов, завладевший в Тавриде 27 876 десятинами, просил в марте 1787 года у правителя Тавриды Каховского прислать ему для Чатырдагской дачи (имение Тавель) «семей десяток», а для капсихорских садов «прислать сей весны пять полных семей», чтобы они могли «приучаться, как обрабатывать виноград и с ним обходиться». На это Каховский отвечал 14 марта: «Для вашей дачи привлек довольное число поселян, коих привожу я в правление для формального отобрания самоличного их желания и для учинения им допросов». Случалось, новые помещики придумывали такие способы заселения своих крымских земель, что Екатерине приходилось вмешиваться. Так, принц де Линь хотел поселить на своих партенитских землях английских преступников, «в ссылку и каторгу осужденных, да еще скитающихся по Лондону арапов» (т. е. негров). Но несмотря на пристрастие императрицы к де Линю, его плантаторский проект не осуществился, так как вызвал решительный протест русского посла в Англии. В конце концов имения де Линя и Нассау-Зигена были проданы русской казне. Беспечная раздача, по мнению многих, вела к запустению земель. Оренбургский помещик Мертваго (впоследствии ставший таврическим губернатором) писал в своих записках: «Боярин (т. е. Потёмкин), ничто в цену не полагающий, стал жаловать землями. Почти всё досталось шутам и угодникам, коим селить было некого». Однако не только в том было дело, что некого селить. Загряжская рассказывала Пушкину про свои земли в Крыму, о том, что с ними было: «Проходит год; мне приносят 80 рублей. “Откуда, батюшка?” – “С ваших новых земель, – там ходят стада, и за это вот вам деньги…” Проходит еще год, другой. Тамара́ говорит мне: “Что ж вы не думаете о заселении ваших земель; десять лет пройдут, так худо будет; вы заплотите большой штраф”. – “Да что же мне делать?” – “Напишите вашему батюшке письмо, он не откажется вам дать крестьян на заселение”. Я так и сделала; батюшка пожаловал мне 300 душ. Я их поселила; на другой год они все разбежались, не знаю отчего. В то время Кочубей сватался за Машу. Я ему и сказала: “Кочубей, возьми, пожалуйста, мои крымские земли, мне с ними только что хлопоты”. Что же? Эти земли давали после Кочубею 50 000 доходу». Из записи Пушкина мы узнаем, что земли в Крыму раздавались с тем, чтобы владелец в десять лет заселил их, а заселять было некем даже такой важной даме, как Наталья Кирилловна Загряжская, дочь известного богача Разумовского. К нему-то и пришлось обратиться за крепостными. Загряжская сама была в недоумении. Отчего разбежались ее крепостные? Ее приятель светлейший князь Потёмкин мог ей объяснить причину, если бы захотел, хотя, возможно, что и он не вполне отдавал себе отчет в этой причине. Может быть, нам она будет отчасти понятна из следующих рассказов.П.С. Сумароков
«О способах встретения императрицы»
Уверены мы, что со стороны вашей все потребные приуготовлены и распоряжения к выгодному проезду нашему учинены будут.Третий раз за эти три года Потёмкин являлся в Тавриду. Теперь прибыл он в конце декабря, накануне путешествия Екатерины. Это была первая зима, которую видел он здесь. Начало ее было необычно теплым, и только в феврале подморозило. «Здесь уже зелень», – писал Потёмкин в Петербург. Склоны гор были серо-сиреневые с проступающей по оврагам яркой травой. Кое-где на высотах поблескивал снег, но солнце уже не только заливало эту землю светом – оно грело тем особенным, ранним теплом, которое поднимает всходы. Не отдыхая, Потёмкин сделал первый смотр всему новому, что должно было явиться за время его отсутствия. Дорогой видел он засеянные поля, изумрудом расцветившие бурую степь. Кое-где уже виднелись глинобитные хатки, еще сырые, прикрытые камышовыми крышами. На въезде в Левкополь выросли тутовые рощи, о которых так много хлопотал Потёмкин. Деревья прижились, они уже просыпались от зимней спячки; на посветлевших, налитых соками ветвях набухали красноватые почки. На Салгире, около татарского городка Ак-Мечеть, вырос областной город Симферополь[46]. Теперь он уже был не только географическим названием. Маленькая мощеная площадь солидно обставилась зданиями присутственных мест, и чиновники разных возрастов и положений с озабоченным видом перебегали и переходили эту площадь, исчезая в своих «присутствиях». Какие-то мужички, похожие на смоленских земляков светлейшего, чего-то терпеливо ожидали, сидя на своих мешках за углом большого здания. Каменщики мостили короткую улицу, прилегающую к площади. На ней ранжирно выстроились небольшие, но солидные дома значительных чиновников, и против каждого по линейке, так же ранжирно, стояли маленькие акации с круглой подстриженной кроной. Из окон слышались визгливый голос, отчитывающий служанку, чириканье канарейки, плач дитяти и тенорок, вытягивающий высокую ноту модной песенки. Навстречу экипажу светлейшего вылетела и остановилась желтая коляска с полицейским чином, и его горделиво вздернутые, пышные плечи вдруг разом осели. Словом, всё здесь уже было на месте, так, как это бывает во всяком русском губернском городе, и только просторные дали вокруг «присутствий» напоминали о том, что новому городу лишь положено начало. Потёмкин держал путь на запад, на побережье, так как главным из всех таврических устроений был новый порт. Светлейший не заехал в Бахчисарай – мечети, высокие трубы и чалмы только мелькнули перед его глазами. Впрочем, заметил он себе на память, что надо проверить работы в ханском дворце, затеянные два года тому назад. Тут же велел Каховскому, правителю области, ехавшему с ним, обратить внимание на бывшую столицу ханов. Две эскадры Черноморского военного флота салютовали Потёмкину, прибывшему в новый город, именуемый Севастополь. То, что светлейший здесь увидел, превзошло всякие ожидания. Севастополь не только обстроился, т. е. имел улицы, здания, казармы, облицованную камнем гавань, но он уже жил полнокровной жизнью портового города, которая размерена приходом и отходом судов и количеством штормовых баллов. Тихий залив покрыт был множеством парусников, шхун и галер. Над ними реяли всевозможные флаги. Партии переселенцев наполняли город пестротой своих одежд, лиц, говоров. Моряки ходили по городу с тем особым, деловым видом, какой бывает у хозяев. Флаг-офицер Сенявин, приставленный к Потёмкину ординарцем, не мог удержать молодого восторга, рапортуя светлейшему о трудах севастопольцев. Как ни старался он вывести на первый план устроителей порта, вице-адмирала Мекензи и графа Войновича, всякий раз получалось у него, что всё здесь делалось как-то помимо всевозможных начальников, что чудотворным распорядителем здесь была та самая масса матросов, которая и сейчас что-то грузила, валила, подбивала, накатывала. Потёмкин не только не остановил Сенявина в его похвале этим людям, но, слушая его внимательно, запомнил и в том же именно духе, как мы увидим, изложил Екатерине, когда она прибыла в Севастополь. Сам того не ведая, Сенявин своим рассказом очень угодил светлейшему, который любил, чтобы между его распоряжениями и их исполнением не стояло никаких выдающихся лиц. Обозреваемое радовало Потёмкина: это были первые всходы недавнего посева. Но того ли ожидали глаза, ранее не знавшие Тавриды, глаза, которые привыкли к зрелищам пышным, великолепным? А здесь всё еще было в начатке, в хаосе созидания и недавних разрушений. Каховский, Попов и прибывшие с Потёмкиным сановники, которые составляли не то свиту, не то комиссию для осмотра, переговаривались озабоченно. Через месяц Екатерина уже отправлялась в путь. Тайный советник и камергер Евграф Александрович Чертков, старый соратник светлейшего по гвардии, отличавшийся склонностью «резать правду-матку», прямо сказал: «Не понимаю, что́ здесь можно показать ее императорскому величеству. Нигде ничего не видно было отменного». Потёмкин отнюдь не имел вида озабоченного и торопливого. Как всегда, он действовал так, как будто и вовсе ничего не намерен делать. Устроившись в новом своем карасубазарском дворце, он начал задавать пиры местной татарской знати, развлекаясь прогулками и красивыми женщинами. Правитель канцелярии находился, впрочем, при нем неотлучно. Это было признаком напряженной деятельности светлейшего, которая никому, кроме Попова, не была заметна. Обладая умом гибким и проницательным, Попов лавировал между желаниями Екатерины и требованиями Потёмкина (что не всегда совпадало). Он понимал Потёмкина с полуслова, даже умел читать его жесты; он подхватывал на лету его замечания, суждения, характеристики и превращал их с быстротой виртуоза в циркуляры, ордера, письма и договоры. Во дворце, в парке, на прогулках только и слышно было: «Василья Степановича» да «Попова»; «Попова» да «Василья Степановича». – Василий Степаныч, – зовет светлейший, слыша шуршанье бумаг где-то вблизи. – Как там с картинными деревнями для встретения государыни? Исполнено ли? – Как же-с, ваша светлость, давно готов проект, – говорит, входя, Василий Степанович Попов со своим всегдашним выражением лица, которое можно бы назвать туманно-облачным. – А где чертежи? – В мастерских при главном строении в Карасубазаре. Показать образцы? – У тебя здесь они? – Как же-с, – и Попов через минуту является с аккуратно надписанной папочкой, где хранятся копии с проектов. При своей неаккуратности светлейший особо ценит сверхмерную аккуратность Попова. Нет вещи, которая понадобилась бы Потёмкину и которую Попов тотчас бы не доставил, при этом без малейшей суеты. Раскрашенные образцы имеют веселенький вид: белые хаты с красными черепичными крышами, у каждой по два и по три оконца, тут же дощатые сарайчики для скота. – Очень хороши, таких вот и настроим, – весело говорит Потёмкин и смотрит на Попова. Лицо Василия Степановича еще гуще укутывается в облако, так, что ничего нельзя разобрать. «И как это я хотел его прогнать?» – думает Потёмкин, силясь вспомнить, за что именно. – Тебе, Василий Степанович, помнится, табакерка была по вкусу, которая с жемчугом и бирюзой по эмали с изрядным бриллиантом, так возьми ее себе. Сквозь туманную завесу лица Василия Степановича пробивается нечто похожее на светлую улыбочку и гаснет сей же миг. Василий Степанович говорит положенные слова благодарности и укладывает папку. – Да, а как же с землями для надворного советника Старова? – вспоминает Потёмкин. – Приготовлена экспликация, но неважно сделана, придется заказать новую. – Это в Судакской долине, у горы Алчак, помнится? – Выбрано Иваном Егоровичем там, но не применимо. – Почему же неприменимо, ведь я велел тебе! – И Потёмкин вспоминает, за что хотел прогнать Попова. – Их величество (в произнесении сего голос Попова приобретает некоторую дрожь) изволили прибрежную часть долины по собственному выбору пожаловать камер-юнгфере Скороходовой Анне Константиновне. – Да ведь ей нарезали полторы тысячи десятин хорошей пахотной земли в Перекопском уезде, помнится, у татарской деревни Кучук-Мин! – Память удивительнейшая, именно там, но и здесь. – Зачем же и здесь? Облако на миг сползает с лица Попова, чтобы показать лицо вполне ординарное, но весьма удивленное. Потёмкин смотрит на него мельком и кусает ноготь, что делает всегда, будучи недоволен. – Вот, извольте видеть, экспликация Кишлавской округи с разоренною деревней Бор-Кая, назначенная в отвод господину надворному советнику Старову. С севера гора Бор-Кая… – Да там же ямы, овраги, нету ни лесу, ни речки… Потёмкин представил себе Ивана Старова с его любовью ко всему величественному в природе и искусстве запрятанным в дикие отроги Бор-Кая. – Я поищу в планах сам, – сердито говорит он Попову. – Если что из принадлежащих вашей светлости, а свободных нет. – Ну вот еще, нет! – сказал Потёмкин и подумал, что своих земель (а их было почти 100 000 десятин в самых наиживописнейших местах) выделять незачем и что можно благоустроить и Кишлавскую округу, на то Старов и искусник. – А как с постройкой хат, ведь не в картинных домах люди жить будут? Осьмнадцать тысяч, которые я у матушки сговорил на казенные постройки, назначены ли Томашевскому? Томашевский был инженер и архитектор, работавший сейчас в Бахчисарае, и Попов за день до того передал ему несколько тысяч из назначенных на сельское строение, только не на то дело. – Ваша светлость запамятовали, что велено мне было из этих сумм взять на каскады в карасубазарском парке вашем, на постройку дороги к инкерманской беседке, откуда будет вкушать вид их величество, да еще… – Попов запнулся и посмотрел в глаза Потёмкину значительно, и Потёмкин окончательно вспомнил, почему ему хотелось прогнать Попова и почему он не мог этого сделать. По беспорядочности своей и страсти к великолепиям Потёмкин вечно брал деньги из казны для себя. Иногда, впрочем, вкладывал и свои в предприятия государственные. Попов всегда был в курсе этого и всегда как-то выпутывал Потёмкина, когда являлась отчетность и в Петербурге спрашивали. Получалось так, что грозы не было, все прихоти исполнялись и кредиторы (их тоже было немало) молчали. Но Потёмкин не чувствовал благодарности к Попову за «выпутыванье», а напротив, часто видел себя запутанным, но уже ничего сделать не мог. Не мог и прогнать Попова. Замяв разговор, Потёмкин решил, что испросит у Екатерины дополнительных сумм на построение деревенских изб. Подготовка к шествию императрицы окончательно запутала денежные дела Потёмкина. Казенных денег не хватало на украшения, услады и иллюзорное благоденствие жителей. Не хватало средств и на пышную встречу в собственных дворцах и парках. Здесь-то постоянно приходилось прибегать к сложным комбинациям, на которые был так искусен Попов. Распоряжения Потёмкина «о способах встретения императрицы» посланы были во все наместничества, начиная с петербургского и кончая таврическим. Последнее полагал светлейший самым важным, потому что именно в Тавриде была конечная цель. Были сделаны общие предначертания по области, и все они поручались Попову и Каховскому. Оба чиновника взялись за «устроение встречи» с величайшим рвением, надеясь на благодарность и внимание императрицы. Еще в 1785 году Потёмкин разработал проект «Пути Екатерины». Это был подробнейший план дорог, соединяющих столицу с Тавридой. В согласии с этим планом и вырабатывался маршрут путешествия 1787 года. На полуострове Екатерина намеревалась посетить Бахчисарай, бывшую столицу ханов, новый порт Севастополь, новый город Симферополь, Карасубазар, Старый Крым и Феодосию. По мысли Потёмкина, Екатерина должна заранее почувствовать приближение к «эдему», и потому дорога от Кизикермена к Перекопу будет отличаться от других. Ее начали делать еще в 1784 году «богатою рукой, чтобы не уступала римским», и назвали Екатерининской. Широкая, она украшалась каменными обелисками, обозначавшими расстояние в милях. По обеим сторонам дороги выстраивались тополя – их посадили свыше десяти тысяч. Для увеселения глаз, утомленных однообразием степи, подсаживались маленькие рощи и строились узорчатые беседки, вкруг которых предполагались цветники. Светлейший повелел обратить особое внимание на старый Перекоп, предписав «всевозможное старанье в отделке ворот». Они должны были явить собой ворота славы Екатерины. Усердные чиновники разбирали древние стены и отбивали головы чудовищ и зверей, украшавшие Тафре. Вице-губернатор таврический Свербеев и комендант фон Фок, желая угодить Потёмкину, умудрились разломать крепостную стену и все сооружения греческого, итальянского и турецкого зодчества, дабы построить из «огромных камней» небольшой дворец и арку. Въехав на полуостров, императрица не должна удивиться пустынности его. На всем пути от Перекопа до ханской столицы она увидит новые поселения, молодые хозяйства. Для этого поодаль от дороги возводили стены без крыш, крыши без стен, заборы и ворота к несуществующим дворам. Всё это располагалось в перспективе очень искусно и получало вид новых построек. Молодые фруктовые сады должны были дополнить этот жизнерадостный вид. Немногочисленные хатки, уже построенные поселенцами, обносили «службами», заборами, белили, украшали веселым узором наличников, а «нечистоту» дворов прикрывали насаждениями. Шествие императрицы предварялось не только подробнейшим планом, но и художественным проектом, несомненно, исполненным лучшим архитектором. По всем признакам проект был сделан состоящим на службе у Потёмкина знаменитым Иваном Старовым. Печать его дарования лежит на строгих обелисках, поставленных по пути следования от Петербурга и Пулкова до Бахчисарая[47]. Судя по описаниям, временные дворцы, даже беседки и ограды, отличались такой строгостью классических линий и таким умением приспособить строение к природе, что могли принадлежать вкусу лишь славного художника. По расписанию, на пути от Перекопа предполагалось: у Пяти колодезей – обед, ночлег – в Дюрмени, отдых – в Айбаре, обед – у Трех Абламов[48]. Все эти на маршрутной карте помеченные и красиво звучащие названия принадлежали татарским деревням, похожим на кочевые стойбища. Маленькие небеленые сакли служили, казалось, лишь для того, чтобы пастухи имели крышу от непогоды. Деревням этим надо было придать вид «благоприличный и чтобы не валил из очагов дым, как от костра». Всего лучше было заслонить эти домишки от взоров возведением киосков, беседок и даже наносных холмов. Потёмкин повелел, где возможно, исправить «несовершенства природы», и по всей Тавриде шли земляные работы: копали канавки, пруды, гроты и делали насыпи. По маршруту предполагалось, что императрица посетит Судак, но дорога из Старого Крыма на Топлы была в невозможном состоянии, и легче было проложить новую через Кишлав. Так было хоть дальше, но спокойнее, равниннее. Не меньшие беспокойства вызывала дорога из Бахчисарая на Севастополь; она была крута и узка до того, что и думать нельзя было пустить по ней императорский поезд со всеми его пристяжными. Решили везти Екатерину прямиком через сады живописной Бельбекской долины, сняв все изгороди и проложив здесь временные пути. Светлейший непременно хотел поразить «шествие» видом южного берега Тавриды. Но берег был неприступен, и надлежало отыскать удобнейшее место для его обозрения. Попов и Каховский были уверены, что местом отдохновения императрицы и центром ее внимания явится будущая столица Тавриды – Симферополь. Для того начали они особые приготовления к встрече с местными чиновниками и небольшим дворянским кругом. Но светлейший сообщил, что императрица даже не заедет в Симферополь на пути в Бахчисарай, а что посетит его уже после осмотра Севастополя. У светлейшего была какая-то особая мысль насчет Бахчисарая; именно он должен был явиться как бы целью поездки, тем местом, где будет сказано: «Вот мы и в Крыму». Бахчисарай был в запустении со времен последнего хана. Шагин-Гирей терпеть не мог свою столицу и даже собирался взорвать каменные громады, образующие Бахчисарайскую долину. При нем дворец не подновлялся, и даже многие из украшений его были сняты и перенесены в Кафу, где готовилась новая ханская резиденция. Покидая престол, Шагин-Гирей постарался захватить как можно больше ценностей из дворца. Еще в 1783 году светлейший писал генералу Игельстрому: «Состоящий при Бахчисарае и, как я слышу, приходящий в запустение ханский дворец, именуемый Асламе, вашему превосходительству рекомендую привесть в то состояние, в котором он был прежде, и испорченное всё исправить, с таковым наблюдением, чтобы сохранен был вкус, в котором всё построено». Генерал, доложив, что с усердием начинает работы, ничего не сделал: тогда в 1784 году Потёмкин, уже не рекомендуя, а приказывая, возложил восстановление дворца на Каховского. Правитель Тавриды Каховский, не имея никакого понятия об искусстве и никакого желания тратить время на поездки в Бахчисарай, поручил это дело капитану Моисею Томашевскому и архитектору греку Кальфе. Сообразуясь с повелением светлейшего «сохранить вкус», архитекторы, видимо, занялись обмерами и предварительными работами, причем Кальфе требовал особых константинопольских красок и позолоты, а также предлагал набрать рабочих из татар. Дело затянулось, потому что Каховский относился к нему спустя рукава и задерживал суммы, отпущенные на дворец. Когда явившийся зимой перед самым прибытием императрицы светлейший узнал, что еще ничего почти не сделано, гнев его обрушился на грека и Томашевского. Велено было их прогнать. Каховский предложил на их место «художника» де Рибаса. Этот француз отличался изысканностью манер, не повлиявшей, однако, на его деятельность реставратора. Тут и Каховский принялся за дело, побывал во дворце и велел наблюдать в отделке «всевозможную пестроту», чем, по его мнению, и отличался турецко-арабский стиль. Срочно были выписаны из Петербурга и Харькова краски, фольга, ткани. Русские рабочие – солдаты, беглые и несколько владимирцев – принялись за работы, срочные и неотложные. Де Рибас решил превзойти все ожидания. Он пустил столько позолоты по стенам, потолку и дверным косякам, что можно было ослепнуть. Путешествующая в то время по Крыму миледи Кревен утверждала, что в жизни никогда ей не приходилось видеть «такого количества разных оттенков золота и серебра». Каховский нашел, что оставшиеся от времен ханских роспись и резьба не годятся своей бледностью и малым количеством. Стены дворцовые теперь украшались фресками, на которых изображались татарская конница, ви-ды Стамбула, эдем с гуриями и правоверными, утопающими в наслаждениях. На минаретах изобразили муэдзинов, сзывающих на молитву. Всё это было грубой, хоть и роскошно-пестрой размалевкой, вовсе не согласной с духом Корана, который запрещает предавать кисти и полотну человеческие лица. Кроме дворца, было немало других дел в Бахчисарае. Дома пришли в ветхость, их надо было подновлять, мостовая единственной улицы бахчисарайской никуда не годилась, многие фонтаны иссякли, а базар был слишком скуден, чтобы его можно было показать Екатерине. Главное же – Бахчисарай был почти безлюден. Надо было откуда-то при-гнать народ. Никто не понимал, как и когда это будет теперь сделано. А сколько еще требовалось выстроить, закупить, расположить, приготовить и собрать! Походные дворцы для отдыха устраивались со всевозможной роскошью. Перед ними должны были лечь алые сукна и ковры для монарших ног. Отделка их производилась в восточном духе, и обойные атласы расцвечивались яркими узорами. Помимо восточных подстилок и диванов, мебель подбиралась хоть и европейская, но цветная и вся в резьбе. Татарской знати, встречающей императрицу, предложено было иметь костюмы по старинным татарским образцам. Помимо положенных на каждый обед или завтрак баранов, телят, птиц домашних, окороков, солений, варений и печений, татары, караимы и местные греки должны были заготовить свое угощение: всевозможные бекмесы, чебуреки, шербеты розовые и лилейные, особые напитки, вроде татарской бузы, кофе и т. п. Таврическому откупщику Макару Кузмичу Мясникову велено было озаботиться о русских питиях: меде, полпиве и кислых щах, без которых не мог обходиться сам светлейший, уверенный в том, что и Екатерина будет вкушать их при всех остановках. Каховский больше всего был озабочен церемониалом «шествия». В других губерниях встреча государыни была поручена дворянству. Губернии старались одна перед другой, сооружая триумфальные ворота, приготовляя пышные празднества и спектакли. Было прямо сказано, что если бы «кто из господ дворян ослушным или нерадивым оказался, таковой подвергает честь, жизнь и имение свое опасности». В Тавриде не на кого было возложить эти заботы, они ложились на правителя области; что же касается тягот, то их приняли на себя те немногие, кто составлял теперь кровь и плоть обновленного края, – народ. Светлейший распорядился разослать по уездам Тавриды ордера капитан-исправникам, чтобы они «внушали жителям домоводство» и приказали им, отступя десять сажен около больших дорог, земли распахать и засеять. Каховский докладывал светлейшему о том, что «здешние обыватели просят дозволить отделать им дорогу от Ак-Мечети до Зуи и от Ак-Мечети до Альмы» и что он «не принял бы смелость представить» это прошение, «если бы мог приметить, что оное происходит не от усерднейшего радения и желания как мурз, так и простых татар быть участниками в чинимых приуготовлениях для высочайшего прибытия». Но вскоре вынужден был правитель Тавриды сознаться, что «мурзы хитро избегали повинностей», переложив их на плечи русских крестьян. Переселенцам велено было не только спешно пахать и сеять на полях, им не принадлежащих (по большей части помещичьих), не только участвовать в земляных, дорожных и всяких других работах, но и готовиться к самой церемонии встречи. Это были настоящие репетиции. Учили кланяться, водить хороводы, петь русские песни, не те, заунывные, которые пели дома, а другие, со славою и величанием. Женщины завалены были шитьем. Раздали кумачи, пестрядинные ткани и полотно, чтобы оделись все единообразно и чисто, как полагается народу, встречающему свою государыню. То, что делалось по принуждению, велено было считать добровольным. Распорядительные чиновники умилялись готовности народной. Попов прелицемерно докладывал: «В губерниях светлейшего князя всё теперь в превеличайшем движении. Строение дворцов, наряд лошадей, многие другие приготовления и собрание всех отовсюду вместо отягощения новых наших поселенцев, кажется, умножают их бодрость и охоту к трудам». Церемониал таврической встречи содержал множество самых мельчайших, подробнейших сведений о том, где должен был явиться народ, как вести себя, чем развлекать и угощать. Велено было «во всех на дороге селениях жителей поставить по обеим сторонам улицы, так как и из окружных близлежащих селений приказать на оных местах на тот день, когда будет шествие, пригнать, дабы в проезде от поселян во всех частях лучший вид был представлен. При всех оных крестьянах должны быть тех селений начальники, кои наблюдают между ними тишину и порядок, чтоб все крестьяне мужеска и женска пола были в пристойной крестьянской, чистой одежде; также строго смотреть того, чтобы между сими поселянами не было больных и увечных». Строжайше было запрещено под страхом плети и каторжных работ кидаться к императрице с просьбами и жалобами. Нужда, болезни, труд, нечистота и голод сокроются с глаз шествующей государыни. Всё возрадует ее взор спокойствием, изобилием и довольством.Екатерина II – Г.А. Потёмкину
Свадьбы
Для заведения русских селений исходатайствован манифест, коим прощаются беглецы.Архивы почти совсем не сохранили имен первых поселян Крыма. Это были беглые крепостные люди, которые перешли в собственность новой администрации; это были солдаты из крепостных, оставшиеся волей Потёмкина на новых землях. Имена их попадаются лишь в купчих крепостях, в делах судебных и в распорядительных ордерах Потёмкина. Впрочем, в этих ордерах чаще находятся цифры, обозначающие, сколько человеческих голов отправлено или прибыло. Именно так обозначено прибытие партии женщин, вербовка и покупка которых была поручена особым закупщикам, посланным на север. Чтобы описать необыкновенную историю покупки, путешествия и прибытия в Тавриду сотен крепостных женщин и свадьбы, которые учинил светлейший, автор нашел уместным прибегнуть к некоторой доле вымысла, дополняющего документальные факты и записи современников. Еще в 1785 году Потёмкин писал Каховскому: «На рапорт ваш коим доносите о сделанных вам от капитана Крыжановского и еврея Шмуля Ильевича представлениях касательно вывода в Таврическую область поселенцев в резолюцию предлагаю: 1) Намерение их таковое похвально, и буде вы кап. Крыжановского находите способным к отправлению какого-либо звания в области Таврической, то может он о сем ко мне представиться с вашим удостоверением. 2) Вы хорошо сделали обещавши еврею за каждую привезенную в Тавриду девку по пяти рублев, но в прочих его требованиях много излишнего…» Для вербовки (т. е. покупки и похищения) крепостных женщин в разных губерниях Российского государства Потёмкин послал двух агентов: Шмуля Ильевича и капитана Крыжановского. Агентам были вручены какие-то деньги для оплаты купленных у помещиков крепостных девок и солдаток. По-видимому, деньги давались из казны и «товар» поступал в казну. Агентам было обещано по пять рублей за каждую доставленную в Тавриду женщину. Дополнительные сведения имеются в «Записках» помещика Д. Мертваго. Он пишет: «Со всего государства велено было собрать солдатских жен и отправить к мужьям. Под присмотром привезенные в Крым женщины, коих мужья давно померли, разбираемы были солдатами, лишь объявит желание поселиться на землях, к тому назначенных в Крыму». Зимой 1786 и весной 1787 годов женщины партиями стали прибывать в Крым. Одна из партий, двести пятьдесят восемь женщин, привезена была около 10 апреля. Каждую из привезенных немедленно выдавали замуж за солдата или беглого крепостного из числа тех, кого Потёмкин предназначил для поселения. Имеются глухие упоминания о том, что светлейший устроил около Перекопа общую свадьбу, явившуюся для него потехой. Согласно распорядительным ордерам Потёмкина, к приезду императрицы у Перекопских ворот сооружалась триумфальная арка. На места построек сгоняли тех солдат и беглых крестьян, которые знали ремесла, среди беглых было немало умельцев, добывавших себе кусок хлеба трудом каменщиков, столяров, кровельщиков, лепщиков и богомазов.Из записок Д. Мертваго
i
В деревне безымянной, безымянной губернии, у безымянного помещика жил крестьянин Иван. У Ивана была плохая изба и большая семья. Был он вдов, и всё хозяйство вела его старшая дочь Катерина. Сам Иван считался слабосильным работником, а дочь его слыла на все руки мастерицей. Но она не угодила барину, когда он милостиво обратил на нее внимание, и за это ее согнали на скотный двор. В тот год, о котором идет речь, зима началась вьюгами и кончилась метелями. Снегу намело по всему новому тракту от Луги до Киева. Избы засыпало снегом, и была такая непогодь, что добрый хозяин и собаку не выгонял со двора. Иван сидел дома и шорничал. Вдруг слышит: колокольчик близко, и сани к избе подкатили. Выскочил, как был, босой, видит, какой-то приезжий из саней лезет. Мужик не мужик, баба не баба. Поверх тулупа шалью обвязан, платки бабьи на голову навернуты, один нос сизый над губой висит. «Я, говорит, к вам, господин шорник (так и сказал: “Господин шорник”), у меня до вас дельце». – «А какое дельце может быть у бедного человека к другому бедняку?» – «Дельце до вас, господин шорник, имеет сам светлейший князь Потёмкин». Иван очень удивился, но, вспомнив одну сказку (а он знал их множество), подумал, что и так бывает, и позвал приезжего в избу. Сизый нос долго не мог выпутаться из тряпок и наконец представился в качестве главного предмета на тощем личике. Нюхнув кислого запаху, которым была пропитана изба, нос опустился на губу, придав всему лицу самое кислое и печальное выражение: «Я был у пана-хозяина, и ясновельможный пан (чтоб ему на том свете мучиться, как он мучает бедных людей!) и пани (нечего сказать, пышная пани, но и капризная, боже мой, до чего капризна…) сказали мне, что имеют хороший товар, так вот я пришел до вас, господин шорник, посмотреть этот товар; а зовут меня Шмуль Ильевич[49], или правильнее Самуил, сын Ильи. И если вы хотите, чтобы я был ближе к делу, – товарец не для меня, господин шорник (на что он мне!), а для светлейшего князя Потёмкина. И, боже мой, если бы вы видели его, как я видел – совсем близко, то вы бы ослепли, господин шорник, я вас уверяю, что вы бы ослепли, потому что его одежда сверкает ярче звезд на небе». Иван сделал усилие, чтобы сказать хоть слово, но язык его вдруг отяжелел так, что не мог повернуться, и сам Иван отяжелел и не мог сдвинуться с места. «Хозяин ваш сказал, что продает мне (т. е. самому князю, уверяю вас) такую девку, которой цены нет, и что за эту девку мало той цены, что платят за целый десяток здоровых баб. Эта девка, извините, господин шорник, – ваша дочка. Будто одна может она вспахать и засеять всю землю светлейшего князя. Она, говорит, с лица чистый персик, так что, говорит, князь будет доволен. Ты, говорит, Шмуль, можешь даже не смотреть, а плати деньги. А пани, его супруга, говорит: “Мы хотим сделать сюрприз Григорию Александровичу, а то бы ни за что не стали продавать такую девку”». Тут Шмуль, или правильнее Самуил, увидел, что глаза у Ивана совсем пустые, мертвые. Испугался Шмуль Ильевич и попятился из избы вон, на ходу мотая свои платки и шали.ii
Шли недели, а Катерина всё лежала ничком на соломе крытых рогожей саней и не поднимала головы. Когда втолкнули ее в эти страшные сани, отец сказал: «Прощай, дочка», и рука его поднялась для крестного знамения, дернулась и упала. С той минуты наступили непроглядная ночь и мертвая тишина. На самом деле тьма сменялась светом, и шуму хватало. Останавливались, толкали в сани таких же горемычных, как и сама Катерина. Кто-то кричал над ними истошно, и сами они голосили, и плакали, и жаловались друг другу. С Катериной в санях были еще три женщины: две проданные и одна солдатка, которую посылали к мужу. Позадии впереди ползли такие же рогожами крытые сани. И там бабы плакали, и кричали, и спорили. Кроме сопровождавшего обоз Шмуля Ильевича, появился еще один с неприятным визгливым голосом. Он вопил, пролетая то и дело верхом вдоль обоза: «Я есмь пан Кржановский, а ты, пся крев, мусишь знать…» Слышно было, как он ссорится с Ильевичем из-за каких-то денег и кому-то дает затрещины. Когда физиономия капитана с красными, тугими щечками просовывалась в щель рогожного полога, женщины вскрикивали и жались одна к другой. Но он только тыкал каждую в бок маленькой острой палочкой, мурлыкая не то ругательства, не то утешения, и быстро исчезал. Шмуль Ильевич, или правильнее Самуил, напротив того, действовал обстоятельно. На остановках он влезал в сани и не спеша подсчитывал товар (т. е. женщин). Тут он начинал свою несвязицу: – Все на месте. Куда они денутся? Я говорю капитану: зачем им бежать? Куда бежать? Одна едет прямо к своему солдату, а другие тоже получат, что им полагается. Разве они захотят подвести такого бедного человека, как я? Ведь я буду платить за каждую полной монетой, а где я возьму? Одна-таки убежала… Ну и что же? Она, наверное, замерзла, ее занесло снегом. Ой, девка! – обращался Шмуль к лежащей ничком Катерине. – Я не знаю, что это за девка, не ест, и не пьет, и не спит, и не плачет. – Она порченая, – говорит солдатка и пытается растолкать Катерину. Шмуль сует ей бублик, но девка не поднимает головы. Сани сменили на глубокие телеги – арбы. Огромные колеса вязли и хлюпали, а волы еле передвигали ноги. Солнце днем изрядно припекало, и в холодные струи воздуха врывался теплый ветер, неся какие-то неведомые запахи. Катерина мало-помалу возвращалась к жизни. Она теперь слушала, спрашивала, отвечала. То, что казалось ей особенным, только ей принадлежащим горем, представилось общей бедой. Девушки были куплены точно так же, как купили Катерину. Одна из солдаток ревела о брошенном на злую свекровь сыне. В соседних арбах были еще солдатки. «Сказывал тут один служивый на станции, сколько ихнего брата перемерло в той земле, и не счесть числа, говорил…» Другая ей вторила: «И, милые! Солдаты те в земле жили, в землю живые закапывались, а земля там, слышно, гнилая, чумой и померли». – «А ну как и моего в живых нет, куда денешься?» – «Поди знай…» Однажды возы вдруг разом остановились. Приоткрыв мешковину, Катерина увидела сребро-молочную пелену, всё застилавшую. На черном небе сияли огромные звезды, и луна казалась огромной, не в меру светлой, совсем не такой, как над Волховом. По светлому полю двигались черные тени чудовищ: кони с горбами и маленькими головками, как у птиц. Меж горбами сидели человечки в лохматых шапках и что-то кричали, словно каркали. Всё это двигалось по серебряной глади, не то по земле, не то по воде. Что-то скрипело на все лады, где-то рычали собаки и слышался дикий посвист и вой. В довершение всего несколько огненных языков вдруг полыхнули в небо, а за ними взвилась шестерка долгогривых коней и пропала. Не здесь ли «тот свет», о котором сказывали отец и поп, не в преисподнюю ли попала за грехи Катерина? Тоска и страх сжали ее сердце. Она вдруг первый раз заплакала, по-детски всхлипывая и дрожа озябшим, онемевшим телом. От этого проснулась соседка. Прибежал Ильевич: «Что здесь? Кто плачет? Чего испугалась? Уже приехали, девочки, уже ваши земли, лезьте вон!» – Здесь нам и быть, на этом поле? – спросила солдатка. – Дурная баба, как можно здесь быть, когда здесь Перекоп, великая крепость и войско… Ваши земли дальше. – Какие наши земли, наше поле далеко осталось: три аршина каменюк да колючек – вот наши земли! – сказала солдатка и грузно спрыгнула с арбы. Случившийся здесь мужичонка, гнавший обоз с Молочных Вод, потыкал кнутовищем землю и сказал, сплюнув: «Как есть мелюзга!» Ему хотелось показать, что он бывалый и крымские земли ему не в новинку. «Земля здесь пречудная, дай ей воды – она тебе родит богато, не дашь – вовсе в пыль высохнет. А где воды взять – одна татарва знает… Ключи, значит, у них береженые в горах. Они в ночное дело, когда месяц на небе светит, теми ключами воду открывают и пускают ее вдосталь на свои поля. А ты поди знай, где она, вода-то…» «Невежество! – буркнул пробегавший мимо капитан Крыжановский. – Быдло как есть!» Отругав за что-то Ильевича, он велел ему с рассветом разгружать возы. В обозе было пятнадцать возов, и в них около шестидесяти женщин, купленных и сманенных в северных поместьях. Здесь были и совсем юные, и в полном соку, и пожилые, с усталыми, помятыми лицами. Девчонки спрыгивали из телег, как воробьи с веток, и тут же принимались охорашивать линялые зипуны и лапти. Бабы выходили степенно и крестились на восток, жалостно приговаривая и оправляя выбившиеся из-под повоя косы. Катерина, дородная не по годам, спрыгнула и удивилась особому хрусту земли. Она даже нагнулась и посыпала меж пальцев розоватый ракушечник. Вся земля казалась розовой, рядом голубела вода. Ветер нес терпкие запахи. Он был теплый. Неужто уже весна? Катерина потуже затянула платок, прикрыв лоб по самые брови, осмотрела свои праздные, побелевшие руки и тяжело вздохнула. – Ишь, Катька-богатырка! – усмехнулась солдатка. – Катерина великая, – тихо сказал Ильевич, засмеялся своему остроумию и опасливо посмотрел в сторону пана Крыжановского. – Царица-то, сказывают, невелика росточком, с меня будет, – пояснила солдатка. – Цыц! – шикнул на нее Ильевич и опять оглянулся.iii
Полыхнувшие в небо огненные языки, которые видела ночью Катерина, были факелы. Ими освещали дорогу светлейшему князю Потёмкину, когда на шестерке великолепных коней влетел он в городок, именуемый Перекопом. Потёмкин часто ездил ночью и появлялся неожиданно до рассвета, когда особенно хорошо спится ленивым и нерадивым. Не то чтобы он не любил пышной встречи – напротив, любил чрезмерно, но не тогда, когда был в горячке устроения. Хотя до коменданта Перекопской крепости полковника фон Фока и доходили смутные слухи о прибытии Потёмкина, но светлейший отбыл с полуострова в Кременчуг только в конце января, и никто не ожидал его обратно раньше конца апреля. Между тем, 8 апреля он был снова в Тавриде. Ему не сиделось, так как дошли до него слухи, что с приготовлениями к шествию императрицы не торопятся и что у Перекопа еще не начали сооружать триумфальную арку. Слышал он и о том, что перекопский комендант не ладил с гарнизоном и рабочими мастерами и что дело чуть не дошло до убийства. Вместо того чтобы снестись с Потёмкиным, комендант написал обо всём в Петербург. Этого уж совсем не терпел светлейший. Теперь комендант с видом побитой собаки лебезил перед Потёмкиным, делая ему путаный доклад. Светлейший преспокойно сказал ему дурака и еще прибавил в сторону нечто о мундирных вертопрахах, а затем приказал ему к полудню приготовить закладку триумфальных ворот. Не пожелав остановиться в удобном доме коменданта, Потёмкин велел раскинуть свою палатку на площади, недалеко от ворот. Там облился он холодной водой, хотя дул довольно холодный ветер, выпил водки, съел моченое яблоко и, напялив кое-как меховой халат и просторные туфли, уселся за работу. Главным делом было окончательное устройство вольных поселян, которые еще бродили с места на место, теснимые то татарами, то новыми помещиками. Сейчас в Перекопе и под Симферополем находился изрядный обоз женщин, пригнанных сюда из северных губерний. Надо было учредить свыше двухсот пятидесяти новых поселенческих гнезд. Надо было не только окончательно утвердить поселян на земле и поторопиться с раздачей скота и хлеба на обзаведение, но и придать этим поселениям какую-то благовидность, без которой невозможно было показать их Екатерине. Потёмкин взял только что доделанную Тизенгаузеном карту Крыма, разложил ее на коленях и, как всегда, согнувшись в три погибели, стал наносить на карту пометки цветными мелками, которые пачкали руки и уже оставили следы на лбу светлейшего. Идея устройства новых поселений состояла в том, чтобы они вклинивались в татарские, нарушая их уединение. Новые деревни намечались меж Старым Крымом и Карасубазаром, меж Карасу и Ускутом, за Кутлаком близ Судака, в Капсихоре и Кучук-Узени, на перекрестке дорог меж Коккозами и Узеньбашем и в Байдарской долине – словом, везде, где минареты венчали долины и сохранился дух золотоордынских гнездовий. Во всех этих местах земли были розданы русским помещикам, дабы усадьбами своими они вовсе изменили лик этого дикого края. В горно-береговых селениях Потёмкин не надеялся скоро устроить хозяйство. Надеждой края считал Потёмкин земли степные, где могло быть хлебопашество. Там в степях он предполагал иметь богатые стада тонкорунных овец. Светлейший намечал большие селения у сивашей, близ Джанкоя и близ Кафы. Уже зачались слободы и поселки вкруг молодого Севастополя и вкруг Ак-Мечети, превращенной ныне в город Симферополь. Потёмкин вытащил замшевую папку со множеством планов, сделанных еще в 1785 году Мироном Мухиным и Ананием Струковым. На них уже значились новые поселения: Петровская слобода, Курцы, Мазанки, Саблы, Зуйское селение, Владимировка, Изюмовка и слобода Старого Крыма. Все эти селения требовали забот. Хозяйства были еще ничтожны, людей было мало, и они по большей части жили в безобразной нищете. – Василий Степанович, а Василий Степанович! – позвал он своего управителя Попова. Попов явился с обычным своим непроницаемым видом. – Что же шаромыжники, здесь они? Попов понял, что речь идет о капитане Крыжановском и Шмуле Ильевиче. – Пригнали сюда возов двадцать, ваша светлость, ведь комендант докладывал. – Вертопрах… от него не поймешь и толку. А остальные где же, ведь всего-то было более двухсот девок, так ли? – Так, ваша светлость, всего двести пятьдесят восемь, кажется, двести уже под Симферополь загнали, другие закуплены где-то на Смоленщине, всё сговорили, за обозом дело. Там они своих людей оставили и вскоре обещают еще партию. – Хорошо, это еще когда будет, а пока семейств сто утвердим у Старого Крыма. Остальных погнать в Севастополь, пусть слободы строют округ нового города. В Севастополь – лучших, знающих ремесла, каменщиков, столяров. – А как же, ваша светлость… – возразил Попов, – ведь в Старый Крым иностранные колонисты назначены государыней… – Слово «государыней» Василий Степанович произнес несколько сладко, и с лица его при этом сошло облако и проглянула светлая улыбочка. – Пошли они, знаешь, куда… – здесь светлейший завернул крепкое словцо да подпихнул его другим и третьим, так что Василий Степанович совсем укрылся в свое облако. – Что ж, чужим поселенцам лучшие земли, а своих на сухотравную степь? Так, что ли, ты полагаешь? Попов заметил, что это желание государыни, а он здесь ни при чем. Но светлейший отлично знал, что Попов разделяет мнение большинства петербургских, которые не представляют себе иначе благоустройства края, как поселивши там иностранцев. Однако в этих делах Попов не пытался ни возражать, ни противодействовать. Здесь Потёмкин шел напролом и вступал в спор с самой Екатериной. – Там сколько народу на стене работает? – Небольшая артель, ваша светлость, должно быть, человек одиннадцать. – И что, все мастеровые? – Да, кажется, де Рибас отбирал. – Не эти ли бунтовали? – Да вот, говорят, старик здесь один всё стадо портит, комендант жаловался, безбожнейший старик. Собирал на храм, да иконы побросал, растоптал и говорит: «Это мне всё нипочем, я волю пойду добывать». – Ну и как, добыл? – с интересом спросил Потёмкин. Попов посмотрел на светлейшего и сказал жестко: – Вредный старик! – Старика тоже женить можно, как ты думаешь, Василий Степанович? Я буду сватом, а ты, как человек положительный, посаженым отцом. Вот, кстати, свадьбы-то молодцам мозги вправят. С бабами-то не очень покуролесишь, живо скрутят. (Светлейший был совершенно убежден, что с женитьбой для всякого мужчины кончается жизнь и начинается самое жалкое существование.) – А что попы? Прибыли? – озабоченно опросил Потёмкин. – Я велел, чтобы и дьяконы были, чтоб всё чин по чину. Сделал? – Старокрымский отец Аристарх прибыл, с причетом, кажется. Не справлялся, ваша светлость. – Вот еще, всегда медлишь некстати. Дело срочнейшее. – Куда как нужно, – пробурчал чуть слышно Попов. – Ты чего бормочешь? Аль не понял смыслу? Разжевать тебе? Вели приготовить церкву походную, окрутим всё бабье. – А как же, ваша светлость, замужние? Там ведь десятка два солдаток, остальные девицы. – Засади людей комендантовых за списки гарнизонов. Бабские списки сейчас у Шмуля отбери и сличай. Коли жив и баба прибыла – туда ее, к месту гарнизона. Оттуда велю отправлять на поселения. – Ну, а если нету? Вам ведь известно, ваша светлость… Их перемерло немало зимой в гарнизонах на Альме, Каче, у Инкермана. Повальные болезни. – Ну и что? Вдовых окрутим, реветь будет недосуг… А вот повальные, ты говоришь, болезни… Всё Мейер, вертопрах красномордый, я ему велел гошпиталь учредить. Где гошпиталь? – Суммы были отпущены недостаточные, ваша светлость, да и те… – запнулся Попов. – Ну, об этом после… Так ты распоряди там всё. – А если, ваша светлость, мужики женатые или по ошибке мужних крестьянок привезли, с ними как? – Да ты что сегодня, Василий Степанович, аль уморить меня вздумал? Никакого разуменья ни к чему… Сказано тебе: двести пятьдесят восемь хозяйств должно быть немедля. Тех там, в Ак-Мечети выдадут, а этим я сам сват.iv
Прибывших женщин считал на этот раз не Шмуль Ильевич, а капитан Крыжановский. Он построил их шеренгой и, придвинувшись близко, грубо поворачивал им головы, как будто хотел свернуть на сторону. Сочтя всех, записал прибытье шестидесяти и погнал женщин к сараю. Сарай был занят мужиками, которые теперь, опростав его, возились у дверей с лопатами, ломами и топорами. Один из них, рябой и бойкий, при виде женщин сдвинул набок островерхую шапку и прокричал петухом. Другой, весь в огромных пестрых заплатах, не торопясь прилаживал на пороге онучи и мерным голосом продолжал начатый рассказ: «И вот, братцы вы мои, срубили они березку…» Капитан толкнул его с порога и гаркнул: «Раз-зойдись!..» Мужики топтались на месте, любопытствуя и жалеючи баб. Случившийся здесь солдат-бородач перебирал глазами женщин, словно надеялся отыскать свою. – Откуда вы, милые? – спросил он одну, постарше. – С бору да с сосенки, – бойко ответила за нее солдатка. – А вы не солдатик будете? – спросила пожилая. – Сказывают, они, сердечные, перемерли, которые здесь-то… Бородач хотел ответить, но вдруг получил зуботычину от пана Крыжановского. Стоявший рядом с ним желчный солдат с перевязанной шеей выхватил из-за пазухи нож, и капитан, оторопев, попятился в сарай, прикрыв за собою двери. Оттуда долго слышался его визгливый голос: – Мародеры, жулики, гуляки… я вам покажу, я про вас самой матушке петицию напишу… Сарай, который освободили рабочие, был с нарами, но без потолка, с щелистой татарской крышей. Из другого, полуразвалившегося, шел дымок. Это была баня, в которую загоняли теперь женщин. Мужичонка из Молочных Вод швырнул сюда узелки со скарбом. Баня была безобразная. Здесь раньше стояли татарские кони. На ссохшийся навоз жиденько настелили соломы. Котел, в котором чабаны и конюхи еще недавно варили свою шорбу и который до сих пор вонял бараниной и чесноком, теперь был налит до краев мутноватой водой. Было холодно. Раздевались на грязных камнях, засовывая рубахи в щели облупившихся стен. Плевались от соленой воды, евшей глаза и превращавшей волосы в липкую паклю. «Не вода – слезы…» Терли спины друг дружке пучками жесткого сена, пахнувшего горькими, незнакомыми запахами. Капитан, нахально хихикая, то и дело просовывался в дверь, торопил. Шмуль Ильевич прохаживался вдоль сарая в качестве стража, и было слышно, как он сказал капитану: «Ну вы, пан Крыжановский, и храбрый мужчина, вы прямо-таки ничего не боитесь!» Промерзшим, мокрым бабам и девкам капитан совал какие-то бусы и пестрые ленточки, чтобы представились «лепо». – Приказываю, чтобы сопли не пускать, чтобы всё лепо было и чтобы не смотрели, как сычи. (При этом он косился на Катерину.) Катерина чуть повела в сторону прапорщика синим глазом и пристегнула пуговку на вороте рубахи. Тут кстати будет сказать, что Катерина вовсе не была красавицей, какой-нибудь сказочной Василисой Прекрасной. Была она не хуже и не лучше множества русских девушек: лицо широковато, нос чуть вздернут и толстоват, а глаза того цвета, какой бывает у цветущего льна или барвинка. Но Катерина была девушкой заметной, и не потому, что ростом вышла и статностью, а потому, что были во всей ее повадке и сила, и достоинство. Девушки вяло прихорашивали сарафаны и концы платов. Те, что пошустрее, примеривали бусы. – Затеяли свадьбу, да справили поминки, – сказала солдатка и заплакала. – Чего ты, теть, а теть? – робко спросила Катерина, и Шмуль Ильевич оглянулся, не узнав ласкового голоса. – Ты, теть, не как мы, пропащие сироты, у тебя свой есть, пожалеет… Не плачь, теть, – утешала Катерина, обняв солдатку, плачущую навзрыд. – Молчать! Не реветь… С вами скандал… цыц! – визжал капитан. Женщин повели кормить. За сараем, где была вонючая свалка, стояла покосившаяся сакля, важно именуемая столовой залой. В столовой у татарского очага сидел дядько в короткой шубейке и курил люльку. Он не выпустил люльку изо рта при появлении грозного капитана. Одной рукой придерживал он люльку, а другой – мешал ложкой какое-то серое варево. – Давай питанье, шустро!.. – Hi можно, нi як нi можно пане, бо воне ще сире, а хлiб… – Давай ложку, я сам выдам! – заорал капитан, и, схватив с полу миску, стал наливать в нее серо-лиловую жижу. – Про́шу на питание!.. Вдруг женщины попятились, кинулись по сторонам, уступая дорогу. Прямо на Крыжановского, стоявшего с протянутой миской, откуда ни возьмись вышагнул и навалился сверкающей громадой царь не царь, а похож на царя. Он был высок и широк. На нем был голубой камзол, шитый серебром, и по камзолу, как по небу, сверкали бриллиантовые созвездья. Несмотря на холод, камзол был расстегнут и видна была смуглая бычья шея с кое-как повязанным галстуком из драгоценных брабантских кружев. Искусно завитой парик сдвинулся набекрень, приоткрывая непричесанные космы темных волос. – Сам, сам светлейший князь! – шепнул, задыхаясь, Ильевич. – Здравствуйте, девушки! – громозвучно сказал Потёмкин. – Скоро будете жены, пожалуй, не худо быть сегодня свадьбе! Исайя, ликуй! – пропел он приятным баритоном и покосился на группку пожилых женщин, стоявших с печально поникшими лицами. Подойдя к оторопевшему Крыжановскому, Потёмкин взял из рук его миску с похлебкой, понюхал ее, сморщился и вылил, невзначай плеснув на белоснежные штаны пана. Камни на пальцах Потёмкина при этом так и брызнули радужно в глаза капитану, ожегши его хуже похлебки. – Давайте списки, откуда брали, почем… – обратился светлейший к Ильевичу. – Мне не сотни, мне тысячи надобны… Что мало привезли? Ильевич завел было, дрожа всем телом, свою несвязицу, но Потёмкин перебил его: – Ишь, труслив, как заяц, а небось пронырливее лисы… Давай всё Василью Степановичу. Невесты ничего, хозяйки будут, – сказал Потёмкин, оглядывая тех, кто помоложе, и ущипнув одну девушку за щеку. Потом он шагнул к бабам в повойниках и платах и ЧТО-ТО сказал им озорное, – одна, побойчее, прыснула в ответ, остальные стояли как мертвые, и в самом деле были едва живы… Подойдя к Катерине, светлейший посмотрел на нее внимательно и улыбнулся, но не тронул и даже руку за спину заложил. Попов подумал, что многие красавицы за эту улыбочку светлейшего были бы готовы друг другу глаза выцарапать, и спросил на всякий случай у одной из женщин: «Как звать эту?» – и кивнул на Катерину. Светлейший, занятый в это время чтением списков и купчих (на каждую привезенную была купчая крепость), услышал тихо произнесенное имя и сказал раздумчиво: «Катерина – имя знатное». – У нас еще две, только будут поменьше ростом, – бойко сказала девушка, проданная за какую-то провинность господами, воспитавшими ее в барском доме. Светлейший ухмыльнулся. – Эта, значит, большая, а те малые. Катерина большая, но не великая, – прибавил он и зорко глянул в спокойное, хотя и зарумянившееся лицо Катерины. Свита стояла, осклабившись. В эту минуту одна из баб с измученным, тихим лицом вдруг пала к ногам светлейшего. Офицеры бросились ее поднимать, оттягивая назад. – Государь ты наш милостивый, – заголосила баба, – не вели на срам вести, я жена мужняя, детная. – Тут она всхлипнула и дрожащим голосом сказала: – И дитё под сердцем. Светлейший грозно посмотрел на Ильевича. – Да как же ты, сукин сын, такую брал… Ильевич хотел отвечать, но в это время одна за другой бабы и девки ринулись к ногам Потёмкина. Только Катерина, несколько девчонок помоложе и несколько солдаток не трогались с места. Бабы кричали: – Отпусти ты наши души, пешие уйдем и хлеба не попросим, только отпусти домой, в деревни наши! – Куда домой? В какие деревни? – сказал Потёмкин голосом громоподобным. – Здесь домы ваши будут, и деревни явятся вашими трудами! Дуры вы! – И зашагал прочь.v
Древняя Тафре, крепость, закрывавшая доступ на полуостров, кое-как поддерживалась и подновлялась турками. В начале XVIII века стены, ров и подъемный мост еще устрашали неприятеля. Но уже Миних показал, каковы эти стены под ядрами пушек. Хан, который думал отсидеться здесь во время штурма, оказался пойманным в капкан. После событий 1771 года уже никто не верил в перекопские стены. Но Потёмкин нашел, что стены и ворота перекопские будут неплохой декорацией для первого акта того театрального действия, которое должно было произойти здесь в начале мая. Что же лучше? Здесь, где находилась цитадель воинственного ханства, теперь будет триумфальная арка с многозначительной надписью: «Предпослала страх и привнесла мир». Арка была спроектирована в мастерской Ивана Старова (кем-то из его учеников), делали ее из камня древней стены. Потёмкин явился к месту закладки в военном мундире, при шпаге и в этом обличии казался как бы другим человеком. Лицо его было строго, а единственный зоркий глаз так и буравил окружающих. Не преминул он заметить, как комендант крепости и прибывший только что губернатор Каховский охаживали Попова и как он им покровительствовал. Заметил Потёмкин и то, что архитектор Томашевский, прибывший с губернатором, больше понимает в рисовании, чем в сооружениях. Объяснения, которые он делал старшему в производимых работах, были малопонятны. Старший этот был неприятен и гадок Потёмкину, хотя комендант, докладывая о работах, особенно хвалил его усердие. Этот старший всё забегал сбоку, как собака, ожидающая куска, но, когда обращался к рабочим, менялся в лице. Вместо сладкого выражения на его скопческом личике то и дело появлялось злобно-настороженное. Когда остановились посмотреть, как работали детали для арки, старший испуганно и злобно стрельнул глазами в молодого парня, тесавшего огромную глыбу. Парень был тонок, как тростинка, и широк в плечах. Руки его двигались с такой проворной легкостью, словно он колол шпунтом сахар, а не упорный диорит, по которому работал кувалдой. – Как звать молодца? – спросил у старшего Потёмкин, и что-то похожее на улыбку тронуло его губы. Парень положил шпунт и поклонился светлейшему так, как кланяются старые слуги: почтительно и важно. Но при этом Потёмкин перехватил его взгляд, озорной и даже насмешливый. – Скитающийся под именем не помнящего родства, – сказал он без всякого обращения. – Из беглых он, ваша светлость, высоковелительный князь, Никитой звать, прозвания Щеглов, – торопливым шепотом пояснил старший. – Чей ты? – обратился Потёмкин к парню, не глядя на стелющегося старшего. – Барин велик, хоть и помельче вашего сиятельства ростом; со страху имя запамятовал, – ответил парень, весело глядя прямо в глаза светлейшему. – Народец здесь у тебя… Павел Максимович, – сказал Потёмкин коменданту и, оглянувшись на парня, отошел. Старший опять забежал и, елейно улыбаясь, зашептал: – С ними беды наживешь, ваша светлость, это такие люди… Комендант сказал: – Не смею советовать, ваше сиятельство, но следовало бы отправить этапным порядком, согласно запросам помещиков. Здесь таких человек шесть, всё стадо портят. – С какой стати отдать мастеров, вот еще! Чего боишься? Бунтуют, что ли? Говори! – Они… – начал комендант и запнулся, оглядываясь. У ям, вырытых для постаментов арки, стоял, опершись на лом, старик в шубенке, рванной клочьями, и без шапки; белые волосы спадали на лоб. Круглая голова его, обожженная солнцем, напоминала глиняный горшок, из которого бежало молоко. Черты лица его были расплывчаты, стерты годами. – Это и есть бунтовщик главный? – спросил Потёмкин коменданта. – Это ты, старый хрыч, вздумал ослушаться начальство и мутить народ? – Никак нет, ваша милость, – степенно отвечал старик. – Нам ослушаться никак невозможно, и чтобы мутить – этого не бывало. – Это у них в животе с голодухи бунтовало, ваша честь, вот про них и врут, – бойко сказал крепкий мужичонка, аккуратно укладывавший фундамент. – Ты, говорят, иконы бил? Ты бога не боишься, злодей? – сказал Потёмкин грозно. Старик так же степенно и медленно ответил: – Икон я не бил, а Пантелеймона целителя образ, верно, что одному трактирщику оставил… – Нашел место!.. – Место ему почетное, в красном углу, – сказал старик. – А сам наутек с церковными денежками, а? – Какие деньги! А это действительно хохлы, они наутек, так и зовут их втикачами, а мы, значит, пешим шагом, не бежавши, ничего, по прямой дороге… – Куда? – спросил Потёмкин. – Известно куда, к вашей милости. Народ сказывал: «Как дойдешь до потёмкинских селений, там, говорят, нашему брату и вес – земли много, а пахать некому». – Как? – не понял Потёмкин. – Он про манифест, ваша милость, – подсказал старший. Дед посмотрел на него уничтожающе: – Будто не знаем, что манифест, да смысл в нем какой, ты разберись, пустая твоя башка. Смысл тот, что цена на мужика. – Ну и чучело! Философ! Куда там… – расхохотался Потёмкин. – Тебе на печке лежать, какой ты пахарь! Старик показал на сложенный штабелями камень и сказал с важностью: – Даром хлеб не ели, да без хлеба неделю, ваша милость. – Что, кормят плохо? – Голодной курице просо снится, – низал свои прибаутки дед. – Жидковата похлебка, а? – Крупинка за крупинкой не угонится с дубинкой, ваша милость. Тут мужичок, ладно клавший камень, и длинный, как жердь, больной по виду солдат, и солдат-бородач, и еще два похожих друг на друга парня подступили к светлейшему и, став в аккуратном отдалении, но не кидаясь в ноги, заговорили: – Сдохнем здесь с голоду, коли так. По надсаде не хлеб, а горе, ваша милость. Работаем с зари до зари, а одного разу добром не покормят. – Коли что, так мы и сами сумеем взять, не замай, ваша милость, – сказал решительно мужичонка, хорошо укладывавший камень. При этом он улыбнулся и подмигнул так, словно предлагал и светлейшему принять участье. – Молчать! – рявкнул комендант, и стоявшие за ним офицеры двинулись к Потёмкину. Светлейший их оттолкнул: – Так вот вы как? Захотели воли – подтяните кушаки. Привыкли жрать барское, так и здесь вынь да положь! Где я вам хлеба вдоволь возьму? Вся Украина голодает, и в Приволжье сей год недород. Вот кончайте работу, землей оделю – вот и хлеб. На свой хлеб надейтесь, и чтобы у меня никаких разговоров. Речистым-то на лобном месте языки отреза́ли. Аль не слыхали? – повысил голос Потёмкин и как ни в чем не бывало, отойдя в сторону, стал обсуждать с Томашевским округлую линию арочного перекрытия. – Как же, хлеба нет… Кому нет, а у кого изо рта вон лезет, – сказал за спиной Потёмкина укладывавший камень и вдруг умолк. Оглянувшись, Потёмкин увидел офицеров Перекопского гарнизона, которые прохаживались около каменщиков. – Это к чему?.. Здесь не Сибирь – Таврида, – сказал он коменданту и велел прогнать конвой. Светлейший был очень доволен, что уладил всё без «кнутобойства». Он терпеть не мог сего занятия и, когда встречал в Петербурге Шешковского, известного своей деятельностью в тайной канцелярии, никогда не отвечал на его поклоны, а при случае сшибал язвительным словечком. Возвращаясь, Потёмкин сказал коменданту: – Хоть ты дворянин и фон-барон, а я на это не посмотрю, милостивый государь, и с тобой церемониться не стану, коли узнаю впредь, что людей дрянью кормишь. – Да они, ваше сиятельство, всё врут, они негодяи и воры: рыщут по степи и таскают татарских овец, быка угнали. Жалобы на них со всех сторон. Старший мастер, человек старательнейший и тихий, подступил было к ним с уговорами, так… Надели ему на голову грязный ушат и супом облили. – Должно, суп был хорош, я видел, хоть и не пробовал. И собака такой есть не станет. Хлеб у народа воруете, вот что. Тоже мне, дворяне… Комендант посмотрел на Потёмкина с ненавистью и тут же решил про себя, что отпишет подробно в Петербург обо всех проделках светлейшего. Вслух же он сказал подобострастно: – Ваша светлость, как верный ваш слуга говорю: не играйте с огнем. Эти люди учиняют скоп и заговор, и мы не должны попустительствовать… – Попов, стоявший около коменданта, взглянул на него значительно, и тот не стал продолжать. – Я солдат, – важно сказал Потёмкин, – и не боюсь ни огня, ни куста, как иные пуганые вороны… Что у тебя там на обед? Похлебка без круп, аль что другое? – И, узнав, что к столу у коменданта будет свежая рыба и поросенок с хреном, светлейший пожелал отобедать.vi
Когда Катерину спрашивали потом об ее свадьбе, совершившейся в тот самый день, как привезли ее в Перекоп, она ничего не могла рассказать толком и всякий раз плакала. Не потому плакала она, что тот, кому досталась, был ей не мил, а потому, что всё случившееся с ней после свадьбы было очень страшно. Пришлось немало исходить каменистых дорог Крыма и набить мозолей на руках и ногах, пока наконец свила она свое гнездо под скалами Севастополя, в Корабельной слободе. «Свадебки» разыгрывались на площади, против крепостных ворот, но Катерина не помнила, что было на площади, много ли народу и какие люди. Шла, как идет приговоренный на казнь. Помнила Катерина громозвучный голос князя Потёмкина, всхлипывания и рыдания женщин и отчаянный крик: «Женатый я, венчанный перед богом!», и причитания знакомой солдатки, которую брал хилый мужичонка с козьей бородой. Обомлела Катерина и ноги ее словно вросли в землю, когда услышала: «Которая здесь большая Катерина, выходи сюда!» Ее подтолкнули, и неведомая сила донесла ее до того места, где сидел князь Потёмкин. Показалось ей, что стоит она перед алмазной горой, которая надвигается на нее и слепит ей глаза. Тут вышел из толпы мужиков один и взял ее за руку, а Потёмкин сказал: «Ага! Не помнящий родства, приятель!» – и прибавил: «Вот это будет хозяйство!» Поп стал читать над ней и этим человеком молитвы быстро, быстро, чтобы поспеть всех обвенчать… Мужиков тут же, с ходу, погнали на работы. «Матушку», слышно, собирались встречать, так не до гульбы было. Бабам дали хлеба и толкнули на дорогу в степь. Степи не было конца. Днем пугали наскакивающие конники, вой степного волка и даже зайцы, перебегающие путь. В ночи было особенно страшно и холодно. Где же были эти земли, о которых толковал добрый Шмуль, где были суженые, мужья, избы, скотина? Никто не знал. Записи церковные куда-то услали. Остановили всех в городке со многими остроконечными башнями и без единой колокольни. Всех переписали и послали стайками поменьше, на этот раз без хлеба. Потом снова остановили, переписали и разогнали поодиночке. Расставаясь, плакали. Катерину послали на барскую усадьбу. Кругом была голая степь, но усадьба была такая же, как там, на Волхове. Господа были всё те же. Потом перегнали на английскую ферму. Чужие господа были не лучше своих. Не так рвали работу, но обижали стыднее. Солнце и ветер сожгли ее розовую кожу и покрыли всю ее пугающим, темным загаром. Камни и колючки искололи руки и ноги. Поздней осенью, когда полили дожди и загудели ветры, Катерину вызвали и снова отправили вдаль. Пригнали в городок, где море ей показалось черным, а берег светлым. Там встретил ее тот, «не помнящий родства», и повел по скользкой круче к своей землянке.По новому тракту
В июне 1783 года английский посол в Петербурге сэр Джеймс Гаррис писал сэру Роберту Кейту: «Важнейшее событие, происшедшее здесь со времени моего последнего к вам письма, состоит в получении здесь известия о том, что Крым и пограничные с ним области без всякого сопротивления присоединены к владениям Российской империи. Теперь мы находимся в самом тревожном ожидании курьера из Константинополя, через которого мы узнаем впечатление, произведенное там этой мерой. Нет никакого сомнения в том, что если турки будут предоставлены самим себе, они робко подчинятся не только этому, но еще более значительному уменьшению их власти». Можно подумать, что известие это произвело болезненное впечатление на сэра Гарриса, потому что он стал жаловаться на скверный климат Петербурга и осенью 1783 года был заменен сэром Фицгербертом. Черноморская политика младшего Питта[50] состояла в покровительстве Турции, стране, отличавшейся неподвижностью и косностью своего хозяйственного уклада. Турция была страной, которая имела шансы стать чем-то вроде английской колонии. Россия этому являлась помехой, и младший Питт заключал такие договоры, которые были враждебны русским интересам. Между тем, он не считал нужным отказаться от пышной идеи европейского союза, с которой носилась английская дипломатия уже в течение нескольких лет. Европейский союз предусматривал раздел Турции и совместное владение Черным морем и проливами. Целью этого союза, разумеется, было утверждение английской торговли и мореплавания. Но в 1786 году Англия заключила договор с Пруссией. Это был один из последних актов, подписанных Фридрихом II (он умер в августе этого года). Договор был направлен против России. Отныне Англия и Пруссия должны были совместно влиять на султана. Война Турции с Россией устраивала и Питта, и Фридриха. Тем временем Австрия в лице неуравновешенного Иосифа II испытывала миллион терзаний. Несмотря на договоры, связывавшие Австрию с Россией, император не был ни в чем уверен и хотел знать больше того, что ему было официально известно. Император проявил особую любознательность во время совместного с Екатериной путешествия в Крым весною 1787 года. И не только император, но и военные специалисты и дипломаты Австрии, Англии и Франции. Интерес к предприятиям России на юге был так велик, что дворы пытались удовлетворить его разными путями. Начался туризм, не всегда имевший целью удовольствие или научные данные. Среди туристов этого времени нельзя не отметить одну привлекательную аристократическую даму, писательницу и своеобразного дипломата, леди Кревен. Со свойственной британским туристкам смелостью совершила она поездку из Петербурга в Севастополь и из Севастополя в Стамбул почти в канун знаменитого шествия. Она следовала по тому самому новому тракту, который готовился для проезда Екатерины. Путешествие Екатерины в полуденные страны поразило воображение современников своей сказочной пышностью. Путешествие сопровождалось сложной дипломатической игрой и должно было кончиться серьезными последствиями. Обо всем этом много толковали, восхваляя, порицая и пророчествуя. Мемуаристы и историки взялись за перо, следуя по пятам за событиями. Иные из них уподоблялись рисовальщику Фердинанду Мейсу, на гравюре которого путешествие выглядит роскошной аллегорией. Екатерина шествует в великолепной колеснице, и «счастливый народ» встречает ее и приветствует. Она следует «по пути изобилия», народ подносит ей всевозможные плоды. Радость равно сияет на лицах старцев и молодых. Клио, муза истории, вьется в облаках над главой Екатерины, она венчает ее славой. Петр I (тоже взобравшийся на облака и сидящий там рядом с Зевсом) с полным удовлетворением взирает на ту, которая довершила его дело. Угождая императрице, художник изобразил ее одну, без сподвижников, и мы не видим около нее ни Румянцева, ни Долгорукого, ни князя Тавриды. Не стоит вникать в побуждения художника Мейса и ему подобных. Они получили по заслугам и от своих кумиров, и от истории. Теперь это наивное изображение кажется удачной карикатурой. Иные из мемуаристов готовы были заменять в своем описании шествия Екатерину Потёмкиным, ибо именно его считали победителем и властелином края. В противоположность наивным аллегориям существуют описания, исполненные чрезмерного скептицизма. Это преимущественно мемуары иностранцев. Император Иосиф, дипломаты де Линь, Фицгерберт, Сегюр и прочие показали нам оборотную сторону пышного шествия русской императрицы. Их заслугой является то, что они вскрыли язвы режима, но они постарались унизить и всё достигнутое. Это они пустили в оборот остроумное словцо о «потёмкинских деревнях» и готовы были даже Черное море считать театральной декорацией. Шествие Екатерины имело дипломатическую цель. Оно должно было утвердить мир в Европе, так как дипломаты могли убедиться в серьезности предприятий на юге России. Иностранные мемуаристы утверждали, что достижения на юге не могут себя оправдать, что они потребовали чрезмерных затрат и вызвали голод в нескольких губерниях. Можно было злословить о началах, которые не будут завершены, и о жертвах, которых не стоили постройки. Но нельзя было не видеть размаха строительства, задуманного во всей Новороссии, не видеть вновь рожденных городов, портов и селений. Нельзя было не видеть, от каких несчастий освободилась Россия, покончив с последним золотоордынским улусом. Продираясь сквозь чащу неумеренных похвал и дебри искаженных фактов, советский историк делает попытку осмыслить наконец события этого пресловутого шествия. Он рассматривает его как дипломатический акт, завершающий присоединение Крыма. Он стремится отделить подробности, рисующие разврат деспотизма, от подробностей, рисующих великие усилия русского народа.Леди Кревен любопытствует
Танцевать ли этой красавице?А лаврам неужели завянуть?Из французского романса Элизы Кревен
Если правду сказать, то у меня теперь в голове одни только географические карты и разные топографические планы. Всё, касающееся любопытства, не оставляю без внимания.Маркграфу Александру Ансбахскому, Бранденбургскому, Байретскому и князю прусскому было уже около пятидесяти, и он страдал маленькой одышкой, когда чересчур кружился с хорошенькими актрисами. Они, впрочем, находили его прелестным, несмотря на возраст. Что за веселое лицо! И эти раздувающиеся ноздри, и рот, который создан, чтобы целовать женщин. Легкостью стана Александр был истинным сыном гор (он ведь был родом из горной Баварии), поступками – настоящий француз, парижанин высшей марки, манерами – британец. Недаром Элиза (его последняя любовь) утверждала, что из чужестранцев ни один в мире так не похож на британца, как ее Александр. Еще бы, он воспитывался при дворе английского короля! Никто не принимал маркграфа за немца, и он этим чрезвычайно гордился. Немецкий язык он употреблял только в разговоре с прислугой, да и то у себя в Ансбахе (в Лондоне, Париже и Вене при нем были английские и французские слуги). Александр решительно не хотел быть немцем, и единственный, кого он признавал из своих родственников, – это дядюшка Фридрих Великий. Ну, конечно, и покойная тетушка Каролина, ведь она была английской королевой, благодаря чему сам Александр приходился дядюшкой английскому королю Георгу III. Гостить в Англии было гораздо приятнее, чем слушать военные поучения прусского дядюшки Фрица. В Англии можно распоряжаться в королевских конюшнях, а британские лошади не то что прусские. Лошади и хорошенькие женщины – вот чем имело смысл заниматься! Досадно только, что во всё это вечно въезжала политика (этакая скука!). Прусские войска, которые были поручены Александру, это еще ничего. Лошади, смотры, банкеты – это мило. Но что может быть скучнее вечных недоразумений между странами? Одно и то же: опять Дарданеллы, Турция, Россия, опять происки Франции. Маркграф не всегда точно знал, какой он ориентации: французской, английской или прусской. Сейчас, безусловно, английской. Ведь его любовница, милая леди Элиза Кревен, – англичанка. Да и этот лорд Г., друг Питта, который почему-то всё не хочет продать свою серую кобылу (что за прелесть!). Друг Питта всё твердит о великом союзе, чтобы все европейские страны были как одна и все имели права… На что, бишь, права? Да, почему-то им непременно нужно водрузить свое знамя (слова лорда Г.) в Константинополе. Что за идея! Впрочем, лорд Г. прав, когда говорит: «Ваша светлость, это для вас. Я знаю, вы космополит в высшем смысле, но вы и британец, не правда ли? Так вот, вы должны стать поборником этого союза. Австрия…» Тут маркграф зевает. Всё-таки глубины политики скучноваты. Но одно можно сказать: союз и вообще все европейские идеи интересней, чем ансбахские делишки. Нет, это просто умора (рассказать Элизе!): «мамаша» (так маркграф именовал свою старую любовницу, знаменитую актрису Клерон), путая немецкие слова, беседует с бюргерами о самостоятельности Ансбаха. И она возмущена равнодушием маркграфа. Нет уж, прошу покорно… лучше поручить себя другу Вильяма Питта лорду Г. Теперь он обрабатывает на этот счет Элизу, вместе с герцогом М. Если бы они видели гримаски, которые Элиза строит за их спинами, когда они начинают развертывать свои проекты! Это исключительная женщина: хороша, принадлежит к английской аристократии, великолепная наездница и какая музыкантша! В конце мая 1785 года любовники встретились в Лондоне. Маркграф Александр приехал из Ансбаха в Лондон, конечно, для того, чтобы навестить своих родственников на Полл-Молс[51], но, между прочим, и для того, чтобы повидаться с Элизой. Предположено было, что после респектабельного свидания в Лондоне они позволят себе немного отдохнуть в Париже, откудаАлександр выедет в Ансбах, а Элиза отправится в большой лечебный вояж по Европе. Юг Франции, Италия… Непонятно только, зачем Швеция, Петербург… и хорошо ли из этих снегов так резко на юг, в эту Скифию, и в Константинополь? Всё советы лорда Г., который помешан на турках. Ну для чего Элизе чалмы и фески и этот ужасный воздух в Стамбуле, который полон нечистот?.. Поездка должна укрепить расстроенное здоровье Элизы. Письма от самых высокопоставленных особ откроют ей доступ ко всем коронованным и некоронованным знаменитостям. Александр привез ей всевозможные прусские поручения. Просто смешно, о чем только не просили узнать Элизу, забывая, что она была просто миленькой и веселой женщиной, правда, иногда марающей пальчики чернилами. Но стихи и вся эта скучнейшая проза казались несовместными. Александр, смеясь, передавал Элизе какие-то нелепейшие путеводители по Европе (как будто Элиза собиралась посещать все эти крепости и казармы), и его обожаемая пери бросала их в свои веселые, пестрые баулы, наполненные разными дамскими штучками. При этом шалунья искусно изображала надутых сановников-политиканов, и они оба покатывались со смеху. Однако, лаская ее, он сказал ей на ушко: «Душка, вы сделаете для меня большую услугу, если в письмах между прочим вздором станете упоминать кое-что из того, чем интересуются эти унылые чудаки. Иначе они меня со свету сживут. И так все мои немецкие и лондонские родственники утверждают, что я больше забочусь о лошадях, чем о благе народов». Мы не стали бы касаться личных дел маркграфа Ансбахского, если бы эти дела не имели связи с тем, о чем написала леди Кревен в своей книге «Путешествие в Крым и Константинополь в 1786 году». Книга эта представляет собой не что иное, как письма к неизвестному «названому брату», т. е. к маркграфу. Элиза Кревен была встречена при всех дворах и во всех высших кругах столь радушно, с такими почестями, что, по-видимому, английский «племянник» и прусский «дядюшка» позаботились о ее путешествии, и перед Элизой открылись все двери, как будто она была маркграфиней. Миледи выехала в Париж 15 июня 1785 года и направилась в Турень, Венецию, Вену, Варшаву, Петербург и Москву. Отсюда 12 марта 1786 года леди Кревен отбыла в Херсон, Карасубазар, Бахчисарай, Севастополь и Стамбул. Возвращалась она через Афины, Смирну и Белград. Путешествие в Крым и Турцию явилось как бы конечной целью Элизы. Но прежде чем она очутилась в Крыму, маркграф получил от нее тридцать семь писем, наполненных ворохами сплетен, описаний, приключений и, между прочим, сведений более серьезных. Из письма Элизы, писанного в Петербурге, Александр узнал, что многие русские вельможи очень отговаривали ее от поездки в Крым, утверждая, что там «воздух нездоров», «воды ядовиты», и предвещали Элизе скорую смерть. Но она не устрашилась, потому что хотела увеселить своего милого «географическими описаниями, различными видами и воинскими действиями». Александр остался доволен письмами. Они давали ему сведения для этих… ну, как их… Словом, они были полезны для военной и другой деятельности маркграфа или, вернее, могли помочь ему меньше заниматься какой-нибудь деятельностью. Элиза в Петербурге видалась с Потёмкиным и была принята весьма почтительно. Светлейший всегда был почтителен к дамам, особенно к тем, которые были не уроды, а милы собой, подобно леди Кревен. К тому же эта прелестная англичанка имела множество сильных и высоких покровителей. Потёмкин сказал ей, что дорога до Херсона очень хороша и гладка и что там и в Крыму всё готовится для приема императрицы, а потому и миледи будет принята как следует и явится как бы первой вестницей шествия, в котором будут принимать участие и ее соотечественники. Элиза нашла светлейшего «очень скромным» – замечание своеобразное, свидетельствующее о том, что она ожидала, должно быть, встретить живого Калигулу и была удивлена, что светлейший не сделал ей немедленно какого-нибудь не совсем скромного предложения. Потёмкин через своего секретаря дал знать Каховскому, чтобы в Карасубазаре леди была принята как подобает знатной даме. Попов, вероятно, снабдил это известие подробностями о внимании к леди двух государств – Англии и Пруссии, чем немало всполошил таврическое начальство. Миледи Элиза Кревен, урожденная графиня Беркли, проехала бесконечные снежные равнины от Москвы до Херсона с быстротой удивительнейшей, в какие-нибудь десять дней. Санная кибитка летела по хорошо утрамбованной дороге, и миледи могла предаваться своим мечтам и расчетам. В Херсоне кибитку поставили на колеса, и ехать стало не так покойно. Перебравшись через Днепр лодкой, миледи наконец очутилась в преддверии Крыма. Была ранняя весна, когда Элиза Кревен направилась из Херсона (осмотрев его внимательно) к Перекопу тем самым трактом, который вскоре был назван именем Екатерины. Миледи ехала со всеми возможными по тому времени удобствами. Гостеприимное крымское начальство распорядилось о подставах и казачьем почетном конвое. Пока казаки меняли лошадей, леди выходила на лужок в своем дорожном капоте и пила чай, который лакей приготовлял совершенно так, как будто миледи сидела перед камином Берклийского замка. Глядя на холмистую крымскую степь, вспоминала она луга Англии, зеленые, как самый яркий бархат. Она находила, что за Перекопом степь похожа на те места в Англии, где «песчаные холмики простираются к берегу моря». Такие трогательные мысли и воспоминания обуревали Элизу Кревен. На рассвете 4 апреля леди прибыла в Карасубазар. «С усталым, утомленным лицом, в спальном чепчике я вошла на крыльцо к хорошо напудренным особам», – писала она своему «названому брату». «Губернатор генерал Каховский, брат его и весь почти генералитет уже встали и все были одеты… Тотчас все окружили меня, кавалеры со многими разноцветными лентами, золотыми цепями и другими знаками кавалерских орденов». Элиза писала, что подобную торжественность и великолепие видела она только на королевских приемах. Для миледи были устроены кавалькады, прогулки, русские хоры и даже смотр двух казачьих дивизионов со скачками и разными лихими упражнениями. Она описала это с подробностями, зная, чем угодить маркграфу. Генерал Каховский, серьезный и строгий, заваленный делами по военному губернаторству, бомбардируемый письмами и ордерами Потёмкина об отпуске солдат, о нарядах солдатам, о солдатских слободах, об офицерах для встречи шествия и т. п., бросив все дела, в парадном мундире сопровождал миледи в ее верховых прогулках, в ее посещениях дервишей и т. п. Элиза нашла его несколько рассеянным и усталым и постаралась очаровать. И он не забыл ничего, чем полагалось угождать в Крыму. Он показал Элизе даже древний Мангуп, который, впрочем, не произвел на нее особого впечатления. Миледи развлекали экзотикой старого Карасубазара с его банями, мечетями и лавками, увешанными сафьянами всех цветов радуги. Она побывала в гостях у бея и его важной супруги с лицом, размалеванным подобно карнавальной маске, видела дервишей, совершила горную прогулку, насладилась зрелищами Бахчисарая, башнями Судакской крепости – ну, словом, всем, что показывали в Крыму знатному путешественнику. Можно себе представить, какое умиление обуяло Элизу Кревен, когда въехала она в крымский лес, весь звенящий бурными горными потоками, благоухающий апрельским цветением. А какой предмет для поэта представляли таинственные улочки старого Карасубазара или узорчатые стены ханского дворца, или голубые заливы юного Севастополя! Можно было ожидать от миледи трогательнейших размышлений и поэтических описаний. Но письма о Крыме носят несколько иной характер. Казармы, солдаты, глубины заливов, состав флота и т. п. – вот чем была занята прелестная головка Элизы Кревен, если судить по ее письмам из Херсона, Карасубазара и Бахчисарая. 9 марта 1786 года она пишет своему другу из Херсона: «Город сей, в древности называемый Борисфен, построен на Днепре, реке, впадающей в Черное море; здесь быть верфям не очень хорошо; потому что когда корабль построен и когда надобно спускать его в ту часть канала, которая бы довольно была глубока для корабля, то непременно надобно его тащить верблюдами… Корсаков и капитан Мордвинов, оба воспитанные в Англии, со временем будут представлять отличных людей в воинских российских летописях. Последний, искусный морской офицер, занимает здесь инспекторское место в гавани при строении кораблей. В верфях теперь есть прекрасные фрегаты… Если правду сказать, то у меня теперь в голове одни только географические карты и разные топографические планы. Всё, касающееся до любопытства, не оставляю без внимания. На укреплениях и полях работают осужденные преступники, которых цепи и зверский вид произвели во мне сожаление и ужас… сих колодников около 4000 человек…»Путешествие в Крым и Константинополь в 1786 году миледи Кревен
Письмо 40-е Карасубазар, апрель 1786 г. Вчера я ездила смотреть вершину реки (Кара-су)… Нас было около сорока человек верхами. Разнообразность платья и цветов придавала зеленеющему лугу, испещренному разными цветами, более яркой зелености… Возвращаясь оттуда, я отстала от компании и пошла смотреть здешние казармы. В иные любопытство заставило меня войти. Они построены по прямой линии на стремнине.
Письмо 41-е Бахчисарай, 8 апреля 1786 г. Бахчисарай лежит в такой крутой покатости, что повисшие большие камни кажется, готовы упасть на домы и их задавить. За одну милю от города я видела на левой стороне небольшой, но хорошо одетый татарский корпус, под ними было более ста лошадей. Каймакан ехал перед этими солдатами и явился к нам, чтоб нас провожать. Не знавши сего, я спросила губернатора: есть ли здесь русские войска? На что он мне сказал, что повыше города есть 1000 человек…
Письмо 42-е Севастополь, 12 апреля 1786 г. Последнее мое письмо я послала к вам из Бахчисарая. С того времени я была еще на другом российском посте, находящемся на том самом месте, где был древний город Крым… Генерал Шитц там стоит с прекрасным русским конным полком.
Письмо 43-е Севастополь Любезный князь! Я весьма желала бы, чтобы вы могли видеть это место. Пристань вдоль по берегу моря между двумя такими высочайшими горами простирается, что «Слава Екатерины», самый большой корабль в Российском флоте, который стоит здесь на якоре, за нею не виден; потому что берег выше флюгера, привязанного на конце главной мачты. Место это так глубоко, что корабль едва достает до дна. Все европейские флоты могут быть в безопасности от бурь и неприятеля в гаванях и в таких натуральных пристанях, которых здесь очень много. Довольно бы было двух батарей, которыми можно укрепить устье с одной стороны, чтоб потопить те корабли, которые осмелились бы в них пройти; а если бы они находились со стороны моря, то воспрепятствовали бы войти флоту… Хотя я и не весь объехала полуостров, но верно надеюсь, что совершенно его знаю, и хотя это сведение для меня новое, но весьма б желала, чтобы такие искусные и трудолюбивые жители его населяли… Признаюсь, весьма бы я желала, чтоб английское селение завело здесь фабрики моего отечества. Оно обогатило бы эту страну, основало бы на этих берегах безопасную и знатную торговлю… и подало бы способ счастливым своим кораблям, проходя через архипелаг и Средиземное море, благополучно приставать к английским гаваням, находящимся на опасных для них, а для нас благополучных берегах нашего острова. Это желание не мечта и не пылкое поэтическое воображение; но это основательное и искреннее прошение женщины, почитающей род человеческий единым семейством… У меня много планов с этой земли, сделанных в точности и хорошо растушеванных, и надеюсь иметь честь их показать вам при первом нашем свидании.Но были люди, которым миледи должна была показать все эти планы еще до того, как карты и записи будут переданы Александру Ансбахскому. В числе этих людей был, например, император Иосиф Австрийский. Император ждал приезда миледи в Гермштадте и поспешил сам нанести ей визит. Он был безмерно любезен и, чтобы у Элизы не оставалось сомнений относительно его добрых намерений в отношении Англии и английского проекта, сказал ей прекрасный комплимент: «Сударыня, я считаю, что Англия – это страна, где люди, звери, деревья, одним словом, всё совершеннее того, что родится в других странах». Каково? После этого они с генералом Броуном «целые два часа с половиной» сидели над материалами, которые привезла Элиза. Император сказал, что «карты ему очень полюбились». Надо думать, что они с генералом Броуном рассматривали эти чертежи не так, как вежливые люди перелистывают альбомы с изображениями членов семьи хозяина. Ведь император готовился к поездке в Тавриду, и ему полезно было знать кое-что заранее. Сведения, которые Элиза послала маркграфу, были лишь маленьким художественным резюме из того, что она вывезла из Крыма. Маркграф был просто поражен деятельностью Элизы. Удивительно, как женщины любят политику. Маленькая леди возится с какими-то купцами точно так же, как его старая Клерон с ансбахскими бюргерами. Зачем ей эти купцы, о которых она так мило пишет? Ах, да, ведь это всё скучнейшие дела Вильяма Питта (пренеприятный господин, педант и деревяшка!) и его сторонника лорда Г. Всё дело в английской торговле и в английской промышленности. Вот и дядюшка Фридрих утверждал, что всё дело в торговле и армии, и на этом строил свои планы. Умилительно, что малютка делает все дела за маркграфа. Когда речь идет о союзе Пруссии и Англии, все начинают заниматься его особой, ведь он как бы олицетворяет этот союз. Но чего, собственно, надо добиться от России? Уступок туркам или Австрии? Ах, какая путаница в политике. Александру не хочется больше думать об этой канители, но он доволен Элизой. Что ни говори, всё, что она делала, пойдет ему на пользу и без малейших усилий с его стороны. Она ведь сказала, уезжая: «Я буду служить вам как усердная служанка, граф, вы получите целые вороха новостей, с которыми можете делать, что хотите». О, он не знал своей Элизы. Он мог теперь, бывая в Берлине, с видом знатока говорить (конечно, там, где это было уместно) о русских кораблях, стоящих в Севастополе, о херсонских укреплениях, о количестве войск, стоящих в Крыму: «Самый большой русский фрегат? Вы не знаете? Да, “Слава Екатерины”, – это флагманский, и, представьте, он стоит так, что берег выше флюгера, привязанного на конце главной мачты, и место это так глубоко, что корабль едва достает до дна. Уверяю вас, что все европейские флоты могут быть в безопасности от бурь и неприятеля в севастопольских гаванях. Прелестные гавани!» Положительно эта душка миледи Кревен втянулась в проекты лорда Г. Как она рассуждает! Вот она пишет из Севастополя, отправляясь в Стамбул: «Я намерена ехать в город, на развалинах которого надлежало бы основаться столице всего света». А из Стамбула: «Мне весьма весело в мыслях иногда располагать на пленительных этих берегах все прекраснейшие города… Лондон, Париж, Амстердам, Петербург, Москву. Я отделяю их один от другого и для каждого из них нахожу довольно места». (То есть это лорд Г. находит довольно места!) Но эту идиллию сама Элиза называет мечтой. В политике, как у медалей, есть лицевая и оборотная сторона. Элиза (т. е. лорд Г.) против «греческого проекта» Екатерины (который, как слышал маркграф, сочинил Потёмкин). Элиза называет этот проект «неосновательным». Еще бы, моя прелесть… Что же тогда достанется Англии! Элиза беспощадна к туркам, которые ее так вежливо принимали. Они «так глупы и ленивы», пишет она. Она хочет (по-видимому, лорд Г. тоже этого хочет или сам Уильям Питт), чтобы Турция оставалась в своих владениях. Она считает (т. е. лорд Г. и Питт), что «следует поощрять азийскую пышность, леность, суеверие и беспечность сих чалмами украшенных голов», потому что… Нет, здесь уж просто запутаешься, что́ следует поощрять и кто будет поощрять. Вот лорд Фицгерберт, как слышно, будет сопровождать русскую императрицу в ее путешествии на Юг. Он поедет по следам Элизы, и уж этот осторожнейший и умнейший человек знает, кого надо будет поощрять. Что касается маркграфа Ансбахского, то не пойти ли ему лучше немного развлечься? Ведь они с Элизой уже принесли дань политике.
«Путь на пользу»
Предупреждая – отвращу. Путь утвердит начатое.Был семнадцатиградусный мороз, когда Екатерина, закутанная в соболя, бодрая и уверенная в полезности своего предприятия, уселась в маленький дворец на полозьях и тронулась в путь. Восьмерка отменных коней в богатой упряжи разом свободно взяла сани, и сто восемьдесят экипажей и множество верховых потянулись за санями императрицы. Правительственный и придворный Петербург опустел. Его покинули первые министры, сановники, дипломаты, фрейлины, свитские офицеры. Императрица и сопровождающие ее везли огромный штат: ехали любимые камер-юнгферы, камер-медхены, камердинеры, ехали врачи, аптекари, почтовые чиновники, камер-курьеры и множество разной прислуги. Так на второй день нового 1787 года началось давно задуманное путешествие Екатерины в «полуденный край». Путь из Царского Села в Тавриду лежал через Лугу, Великие Луки, Смоленск, Чернигов, Киев, Кременчуг, Екатеринославль и Херсон. Дорога была широка, укатана, свободна от встреч, светла. Ночью жгли смоляные костры и двигались «как по огненному пути, которого свет был ярче солнечных лучей». Так образно выражался французский посол Сегюр, сопровождавший Екатерину; Фицгерберт, посол английский, говорил, что экипажи шли по снегу так же плавно и покойно, как гондолы. В просторном, пышно убранном экипаже Екатерины был салон, где ежедневно собиралась небольшая компания. Неизменно при царственной особе состоял новый фаворит, генерал-адъютант граф Дмитриев-Мамонов, именуемый «красный кафтан». Его можно было назвать и красной девицей за миловидное лицо и улыбку, выставлявшую белоснежные зубы. Он был хорош собой, но капризен и плохо переносил дорогу. Завсегдатаями дорожного салона были обер-шталмейстер Нарышкин и личный секретарь императрицы Храповицкий. Обладатель хорошего слога, Храповицкий являлся как бы корреспондентом путешествия и был всегда готов к обработке не совсем гладкой прозы Екатерины, большой любительницы литературных упражнений. Лев Нарышкин лицедействовал, изображая карикатуры известных людей и служа громоотводом в тех случаях, когда разговор принимал слишком серьезное направление. Екатерина желала, чтобы путешествие имело вид веселой обозревательной поездки. Еще в Царском Селе, садясь в экипаж, она выразила надежду, что спутникам ее понравится страна, «которую некогда обитала Ифигения». Да, она и ее спутники стремились посмотреть этот край, одно название которого оживляло воображение, и в пути надо было провести время как можно приятнее. Нелединский-Мелецкий, Дильон, Ламет, принц Нассау-Зиген состязались в остроумных играх, рассказах, анекдотах. Даже солидные и скучные князь Безбородко и граф Чернышёв пытались острить. Душой салона был блестящий де Линь, дипломат, не связанный службой, политик, философ и острослов, который говорил о себе, что он француз в Австрии, австриец во Франции и француз и австриец в России. Австрия была представлена здесь больше, чем другие страны. Присутствие принца де Линя и самого императора Иосифа II, присоединившегося к шествию в Херсоне под именем графа Фалькенштейна, делало незаметной роль австрийского посла графа Кобенцля. Посол отличался как талантливый актер в маленьких пьесах, разыгрываемых в экипаже императрицы, в то время как император выступал в более серьезной роли. Он изображал ближайшего друга России, сочувствующего всем ее начинаниям. Когда речь шла о внешней политике, и он, и Екатерина говорили «мы». Иосиф походил на свою сестру Марию-Антуанетту, королеву Франции: он был неотразимо любезен, обладал расчетливым умом (хотя и не слишком дальновидным) и отнюдь не отличался искренностью. Екатерина не замечала или не хотела замечать его лицемерия, когда он пускался в неумеренные похвалы. Английского и французского послов разъединяло всё, кроме политики их правительств в отношении Турции и торговой связи с Россией. Намерения их были одинаковы, но талантливый и ловкий граф Сегюр расположил к себе императрицу, а суховатый, хотя и ученый Фицгерберт не преуспел на этом поприще. Положение Сегюра было трудным: Франция неосторожно помогала Турции в деле подготовки войны за Черное море, вместе с тем, Людовик XVI требовал от Сегюра торговых договоров. Версаль был накануне великих событий, почва под ним колебалась, и не могло быть речи об уравновешенной политике. Сегюр действовал на свой страх и риск. Тем более не хотел он терять времени и, так же как и Фицгерберт, надеялся на откровенные беседы с императрицей во время долгого пути. Казалось, она их поощряла. Ежедневно один из послов присутствовал в ее экипаже, и в беседе не избегали острых, животрепещущих тем. Но как только заходили слишком далеко, кто-либо из присутствующих, обыкновенно Нарышкин, рассказывал подходящий к случаю анекдот или произносил остроту. Турция была злобой дня, но и о ней не говорили вполне серьезно. Екатерина именовала Сегюра «эфенди». Она говорила ему: «Вы не хотите, чтобы я прогнала ваших питомцев турок. Хороши они, они вам делают честь. Будь у вас в Пьемонте или Савойе такие соседи, которые ежегодно беспокоили вас голодом и чумой, убивали и уводили бы в плен по целым тысячам ваших соотечественников, что сказали бы вы, если бы мне вдруг вздумалось защищать их?» Сегюру ничего не оставалось, как отвечать шуткой, в то время как он сгорал желанием знать мысли императрицы о близости войны. Слухи о том, что война с турками вот-вот начнется, распространялись усиленно. Этим слухам содействовали и сам Сегюр, и другие дипломаты, внимательно следившие во время путешествия за войсками и укреплениями. Особенно много стали шептаться о войне после короткого и несколько таинственного приезда из Стамбула в Херсон русского посла Булгакова. Он имел свидание с Екатериной и Потёмкиным, после чего очень быстро отбыл в Турцию. Император Иосиф писал маршалу Ласси: «Екатерина спит и видит опять переведаться с турками; на этот счет она не принимает никаких резонов; самолюбие и постоянная удача ослепляют ее до того, что она считает себя в состоянии всё сделать одними собственными силами, без моего содействия». Имея в виду все эти слухи и сообщения, Екатерина шутила: «Путешествие мое чрезвычайно опасно для Европы, разве Вы не слышали о том, что мы с императором выступили в поход, чтобы завладеть всею Турциею?» Затем она изволила смеяться над султаном, который изнурял себя частым посещением гарема. «Что касается войны или мира – султан в руках у своих янычаров», – говорила она. В таком легком, веселом тоне проходили беседы в дорожном салоне Екатерины, и требовалось большое искусство, чтобы удержать этот тон, в то время как политические страсти разгорались и цель путешествия становилась очевиднее по мере приближения к югу. Отъезд Екатерины сопровождался хором недоброжелательных голосов за границей и в России. Там оспаривали полезность южных приобретений и считали делом решенным выступление и победу Стамбула. Здесь поносили Потёмкина, который уговорил императрицу покинуть на несколько месяцев дела и столицу для того только, чтобы мог он похвалиться роскошными своими затеями в Тавриде. И в России, и за границей утверждали, что на постройках южных городов гибнут от голода и болезней тысячи людей, что в местности той от постоянных гнилых горячек жить невозможно, что флот черноморский существует лишь в мечтах Потёмкина и т. д. и т. п. «Нет такого рода измышлений, которые не распускались бы по поводу моего путешествия в Тавриду», – говорила Екатерина и сравнивала себя с Петром, а дела свои на юге с построением Петербурга. В шуточном журнале, выпускаемом ею в пути, сообщалось, что местопребывание в южных областях «особенно вредно тем лицам, которые привыкли жить в горах, среди которых император Петр I построил Петербург». «Весьма мало знают цену вещам те, кои с уничижением бесславят приобретение сего края, – писала Екатерина московскому губернатору Еропкину. – И Херсон, и Таврида со временем не только окупятся, но надеяться можно, что если Петербург приносит осьмую часть доходов империи, то вышеупомянутые места превзойдут плодами бесплодные места». Надлежало убедить недоброжелателей и маловеров в природных выгодах «полуденного края» и в том, что процветанию его положено начало, что о возвращении его туркам не может быть и речи. Распоряжения, отданные Екатериной накануне отъезда, свидетельствовали о ясности ее намерений. Осенью 1786 года она писала Потёмкину: «Князь Григорий Александрович, в продолжение путешествия, нами предпринимаемого, желая видеть войска наши, повелеваем учредить из оных лагери по лучшему усмотрению вашему, как то удобнее быть может, и нужные вследствии того учинить распоряжения». На пути она желала встречи с лучшими генералами своими: Суворовым, Каменским и другими. Татарская конница, казаки, арнауты должны были являться на пути следования в наилучшем виде и боевой готовности. На всем пути непрерывно встречались войска. В одном городе видели стройно марширующую пехоту, в другом артиллерия выставила громадные свои пушки. В южных городах продолжались фортификационные работы. Херсон обращен был в крепость с артиллерийским парком в сто пятьдесят орудий и тридцатитысячным войском. Всюду в южных степях путешественников встречала казачья конница, стройно гарцующая на прекрасных своих лошадях. Казаки показывали чудеса наезднического искусства: на всем карьере ныряли под седло, неслись, стоя в стременах, перелетали единым махом широкие рвы и т. п. Во всех городах и даже селениях стояли гарнизоны, и солдаты были обмундированы с иголочки, согласно новому, потёмкинскому уставу. Делая смотр войскам, Екатерина являлась в мундирном сером платье, при орденских лентах и звездах, в шапочке казачьего образца. В пути ходили усиленные слухи о неспокойном состоянии Крыма. Говорили о возмущении татар, руководимых турками, об имаме Мансуре и турецком десанте. Еще до отъезда, в ответ на приглашение Екатерины быть ее спутником, принц де Линь писал, что Европа опасается за жизнь императрицы, а что он, впрочем, готов сразиться с полчищами татар и рад умереть ее рыцарем. Екатерина убеждала его, что никаких битв не предвидится и что светлейший не допустит беспорядков в краю, им управляемом. И действительно, ко времени путешествия все давно забыли о проповеди Мансура, призывавшего правоверных к священной войне, и о неблаговидных делах турка Ваапа, подосланного в Крым для разжигания ненависти еще осенью 1785 года. Уже в конце 1786 года правитель Тавриды Каховский докладывал, что «всё сие было пресечено не круто и не шумно». Если не считать происков султана, засылавшего в Крым своих людей, а также «пророчеств» и проповедей некоторых мулл, смущавших правоверных, в Крыму было спокойно. Особым указом Екатерина сохраняла за татарами прежние земельные законы, по которым татарские крестьяне были свободны, помещикам не принадлежали и барщину отбывать были не обязаны. Этот же указ освобождал татар от рекрутской повинности. Магометанская религия объявлялась неприкосновенной, и даже часть доходов, собираемых с Крыма казной, должна была идти на содержание мечетей, медресе и т. п. Екатерина надеялась, как она сама выражалась, «поймать на уду» духовенство и правоверных, ныне ее ненавидящих. Что касается татарской знати, оставшейся в Крыму, то ее ласкали и ублажали. Молодым татарским князьям и сыновьям беев были открыты двери военных корпусов, их принимали даже в гвардию, давали ордена и награды. Татары настроены были мирно. Еще на подступах к Тавриде ногайская конница своеобычным своим строем – полумесяцем – встречала шествие. Маленькие, быстрые их лошадки, кривые сабли, островерхие шапки и дикий, степной посвист напомнили путешественникам о временах, когда конница эта, не зная удержу и усталости, не зная препятствий и дорог, носилась по степи, уничтожая всё живое по пути. Теперь ногайцы гарцевали вкруг екатерининского поезда с видом почетной охраны. Они сопровождали Екатерину до ворот древнего, когда-то неприступного Ор-Капу. На старых перекопских воротах, ныне подновленных, было написано: «Предпослала страх и привнесла мир». Путешественники вступили на землю Тавриды. Как только вступили они на эту землю, их окружил тот мир восточных красок, звуков, костюмов и нравов, который, по мнению устроителей шествия, мог дать представление о побежденном ханстве. Казалось, сама природа усилилась создать восточный колорит. Была средина мая, и степь расцветилась маками, желтофиолем и синим шалфеем. По огненно-пестрому полю шли полосы ковыля, на ветру придавая степи блеск и переливы атласные. В степном Айдаре был приготовлен лагерь для отдыха. Палатки всевозможных цветов, выписанные из Персии, закупленные у знатных киргизов и ногайцев или просто сработанные в Петербурге, раскинулись по склону холма, вокруг шатра императрицы, сиявшего красным шелком и глазетовым подзором. Перед шатром лежали мысырские зеленоватые рогожки. Вход сторожили подростки-пажи в кафтанчиках, шитых золотом. Екатерина была встречена в Айдаре татарским земским правлением во главе с наместником Мехметшабеем Ширинским. Здесь же были и знатнейшие Гаджа-Казы-ага и Казаскер-Муслядин-эфенди в старинных халатах, украшенных драгоценными мехами. Бей Ширинский произнес речь, которая была слаще шербетов и узорчатее тканей, поднесенных императрице. По дороге в Бахчисарай навстречу шествию вылетела татарская конница, составленная из молодежи лучших и богатейших фамилий. «Бешлеи», или эскадроны, были подобраны по мастям лошадей, и в соответствии с мастью – костюм всадника: бархатные жилеты и нарукавники. Когда тысяча татар, сверкая обнаженными саблями, тучей двинулась за экипажем, многим фрейлинам стало дурно, многие вельможи и дипломаты заволновались. Принц де Линь, глядя на обеспокоенные лица, сказал Сегюру: «Согласитесь, что было бы весьма странным приключением, которое наделало бы много шуму в Европе, если бы вдруг эти татары, нас окружающие, повели бы всех нас к любому порту, посадили бы августейшую Екатерину и августейшего императора римского Иосифа II на корабль и повезли бы всех в Константинополь, чтобы доставить некоторое удовольствие султану Абдул-Гамету». Императрица и светлейший имели совершенно невозмутимый вид. Екатерина сохранила его даже тогда, когда уже близ Бахчисарая на повороте лошади ее вдруг понесли, и коляска грозила обрушиться с крутизны. Здесь произошло действие, потёмкинским церемониалом не предусмотренное. Татарские всадники собственными усилиями остановили лошадей и поддержали коляску. Екатерина была чрезвычайно довольна блистательным своим въездом в столицу ханов. Она написала своему постоянному корреспонденту Гримму: «Всю дорогу нас конвоировали татары, а в нескольких верстах отсюда мы нашли всё, что только есть лучшего в Крыму, на коне. Картина была великолепная; предшествуемые, окруженные и сопровождаемые таким образом, в открытой коляске, в которой сидело восемь персон, мы въехали в Бахчисарай и остановились прямо во дворце ханов». Бахчисарай сверкал золотом своих алемов[52], пестрел радугой красок подновленного дворца и новеньких домов в турецком духе на главной улице. Базар был полон товаров. Разряженный народ толпился повсюду. Откуда только взялись эти греки, опоясанные пестрыми кушаками, по обычаю черноморских рыбаков, эти болгары в строгих, темных сукнах, важные караимы и множество татар! Император Иосиф нашел, что Бахчисарай похож на Геную, и был в восторге от пестрой толпы, тесных улиц, криков муэдзинов и пляски дервишей. Этот азиатский город производил впечатление живущего полнокровной жизнью, а не безлюдного и опустевшего, каким он был на самом деле. Ворота дворца были распахнуты, и ханские музыканты извлекали из своих замысловатых инструментов протяжные и торжественные звуки. Вероятно, их исполняли во время выхода хана или в дни его побед. Потёмкин показал резное окно над воротами. – Здесь ранее выставлялись напоказ головы, которые хан за благо судил рубить, – сказал светлейший, присовокупив, что все эти минареты и всё это роскошное строение должны напомнить о сотнях лет страданий и бедствий, борьбы и, наконец, о победе и торжестве. Переводчик Мустафа Хурбеддин прочел несколько надписей, восхваляющих ханский дворец. Одна из них гласила: «Итак, если привлекательное это место мы назовем, как и быть должно, рудником радости, то каждое на него воззрение будет волнующимся морем наслаждения». Большой и малый внутренние сады дворца напоминали о прежнем «эдеме», где хан и его жены предавались неге у журчащих фонтанов и водоемов с золотыми рыбками. Над городом и дворцом весь день звенели восточные мелодии, а с высоты минаретов звучали время от времени торжественные призывы. «Ваш Бахчисарай, – любезно оказал Сегюр, – напоминает тысячу и одну ночь». Екатерина расположилась в покоях хана. Когда-то по стенам стояли лишь низкие диваны, а в центре был беломраморный бассейн. Теперь покои эти пестрели фресками довольно грубого изделия, позолотой дверных косяков и потолка, сверкающими люстрами и зеркалами. В простенках стояли резные столики, фигурные стулья, а за расписанными коринфскими колонками находился альков с постелью Екатерины, покрытой драгоценным покрывалом. Шкафы, буфеты, огромный стол довершали новое европейское убранство комнат этого азиатского дворца. За большим столом, уставленным хрусталем, Екатерина принимала татарских беев, мурз, последних из рода Гиреев. Оказалось, что со времени Шагин-Гирея они умеют управляться с вилками и ножами и хорошо владеют застольной беседою; лесть, облеченная в замысловатые формы, оказалась лучшей приправой к «азиатскому пиршеству» Екатерины. Было оказано должное внимание и племяннице Гирея, и бею Ширинскому. Екатерина расспрашивала о нуждах народа и дарила тех, кто ни в чем не нуждался. В мечети состоялось особое богослужение о благополучном завершении пути. Встреча, оказанная императрице, свидетельствовала о благожелательности татар, по крайней мере, мурз и духовенства. О добрых намерениях и полном удовлетворении татарского народа говорили Екатерине и бахчисарайский каймакан Мехметша-ага, и Аргины, представители старейшего бахчисарайского рода, и Ширинский, и многие другие. Тем неприятней ей было увидеть многочисленных челобитчиков, которые подали ей петицию о выезде в Турцию. Екатерина рассердилась. Она не стала беседовать с теми, кто желал отдать себя покровительству султана, и распорядилась не чинить им препятствий. Потёмкин и таврические управители рассказали ей о «плутоводстве и вертопрашестве здешних муллов», подстрекавших к отъезду всех остававшихся в Крыму правоверных, и советовали проявить большую суровость в отношении этих людей, принесших России неисчислимые бедствия… После трехдневного пребывания в Бахчисарае, утром 22 мая шествие двинулось в Севастополь. На высоты Инкермана прибыли в полдень. Там, где любитель садоводства адмирал Мекензи развел тенистый сад и цветники, на земле, ему пожалованной, был построен маленький легкий дворец. Столовая зала затемнена была занавесом для прохлады, и гости отдыхали от зноя, прохлаждаясь холодными блюдами и слушая тихие мелодии (светлейший угощал музыкой своего оркестра при каждом подходящем случае). Вдруг в разгаре обеда завеса раздернулась, и ворвался ослепительный свет солнца, сияющего над синим морем. Все восемь бухт Севастопольского рейда были как на ладони. Тридцать судов стояли в ряд, словно возникшие только что из черноморских пучин. Раздался салют с двух бортов каждого судна. Эскадра окуталась клубами дыма. Император Иосиф, до сих пор сохранявший неизменно любезную и в то же время скептическую улыбочку, вскочив из-за стола, в восторге воскликнул: «Подумать только, что за мысли должны явиться в голове моего товарища султана, он постоянно в ожидании того, что эти молодцы беспрепятственно придут и разобьют громом своих пушек окна султанского дворца». Сегюр сказал: «Флот, построенный в два лишь года, – это какое-то чудо». У него и у Фицгерберта на лицах были удивление и нескрываемая досада. После обеда гости отправились в Севастополь, к пристани. Она была из тесаного камня и составляла как бы одно целое с маленьким дворцом на мысу и адмиралтейскими зданиями. Пристань светлейший велел именовать Екатерининской. Перед нею была маленькая площадь, замкнутая с одной стороны длинной казармой, с другой – линией офицерских домов. От казармы шла тополевая аллея вдоль широкой Адмиралтейской улицы, уже отчасти застроенной. Каждый дом был окружен фруктовым садом, всюду были клумбы, трельяжи, палисадники. В Севастополе было не больше ста домов, считая все казармы, сараи, кузницы и сторожки, однако его нельзя было назвать городком или поселком. Правильная планировка, широкий захват улиц, уже намеченные кое-какими строениями новые пристани придавали ему вид значительного портового города. У пристани, сверкая позолотой и лаком, стояли гребные катера с зелеными шелковыми навесами. Гребцы, молодец к молодцу, одеты были в синее и белое с розовыми галстуками. Матросы на реях и вантах – в белом, с кушаками разных цветов, по кораблям. На катере императрицы цвет был особый, «ранжевый». Гребцы были красавцы на подбор, косая сажень в плечах. По левую руку сидели светло-русые, по правую – темноволосые. На них были «ранжевые» брюки и такие же куртки, выложенные черной тесьмой, а на головах черные шляпы с плюмажами. Они закинули пышные галстуки за спину и приготовились грести. «Здравствуйте, друзья мои», – сказала Екатерина, с удовольствием глядя на красавцев. Матросы отвечали стройно. – Как далеко я ехала, чтобы только видеть вас. Загребной шкипер Иван Жаров, «старый» севастополец с «Храброго», посмотрев на Екатерину задорно, ответил: «От евдакой матушки царицы чего не может статься». Ответ был неожиданный, и Екатерина сказала адмиралу Войновичу по-французски: «Однако какие ораторы твои матросы». Штаб-офицер дал знак, гребцы легли на вёсла, и катер легко пошел вдоль фронта выстроившихся кораблей. От каждого из них по мере приближения катера отделялась белая лодочка, и команда присоединялась к лодочной флотилии, объезжающей рейд. Воздух сотрясали салюты. Потёмкин в особом блистательном мундире главнокомандующего Черноморским флотом встречал императрицу на флагманском корабле «Слава Екатерины». Отсюда рассматривали Севастополь. Оказалось, что ни Екатерина, ни император Иосиф не знали, что при ханах здесь вовсе не было ни города, ни порта. Всё это было похоже на сказку. Потёмкин пересказал то, что докладывал ему офицер Сенявин. Тут же подал он и записку «о числе всех казенных и партикулярных зданий» Севастополя. «Порт сей никогда не был обитаем, всё, что видите, ваше величество, и что показано в записке, все построения сделаны руками матросов». При этом светлейший сделал жест в сторону стоящих по бортам гребцов, ожидавших отплытия. «Ими добыт камень, известь, черепица. Они же были и мастерами. Казне стоят все построения не более как двадцать тысяч рублей». В этих двадцати тысячах и был весь эффект рассказа, к нему-то и клонил Потёмкин, который знал, что его всегда обвиняют в излишних тратах. Екатерина сказала: «Это невероятно, это невозможно». Озадаченный император переспросил по-французски: «Как?» Гребцы сидели с видом напряженным под зорким присмотром боцмана. Матросы стояли по бортам, на вантах и реях, как изваяния. Им предстояло это до тех пор, пока гости не изволят отбыть. В лицах этих людей не было ничего героического. Они составляли часть своего судна. Никто не обращал на них внимания, как не обращали внимания на мачты, канаты и прочие предметы, ладно и удобно пригнанные к своим корабельным местам. Триумф принадлежал одному Потёмкину. На городской площади Екатерина вручила ему пальмовую ветвь с букетом, украшенным трофейными знаками. Эта ветвь поднесена была в знак присоединения Тавриды. Отныне императрица желала, чтобы светлейший носил титул Таврического. На другой день Екатерина принимала войска: сухопутные адмиралтейские команды, офицеров и флотских капитанов. В числе других ей представлен был и капитан первого ранга Федор Ушаков, командир корабля «Святой Павел». Он был скромен, неловок и не красноречив. Конечно, его нельзя было сравнить с Вениамином Тисделем – командиром «Марии Магдалины», который мог похвалиться не только своим судном, но и прекрасными манерами. Осматривая бухту Корабельную, на мысу, именуемом Павловским, Екатерина снова увидела Ушакова. Несмотря на парадный день, он не утерпел и заглянул в киленбанку, где надо было сделать распоряжения. Вряд ли и на этот раз Федор Ушаков обратил на себя всемилостивейшее внимание. После осмотра купеческих судов, прибывших в Севастополь, и некоторых партикулярных строений, день закончился великолепной иллюминацией и военной «потехой». На северной стороне залива нарочно для сего случая выстроили деревянный городок, который и был разрушен бомбардой «Страшного». Она обстреляла его из своих десяти пушек, четырех мортир и гаубиц. Бахчисарай и Севастополь были целью путешествия. На обратном пути, еще раз заехав в Бахчисарай, Екатерина пожелала посетить Симферополь, резиденцию Потёмкина Карасубазар, развалины Кафы и оттуда уже отправиться на Перекоп. Путешественников надо было угостить всеми красотами Крыма, для чего дорогу из Севастополя проложили особую, идущую через Балаклаву, Байдарскую долину и затем горным перевалом в Бахчисарай. Дорога шла садами и лесными опушками. В эту пору реки были полноводны и особенно шумны. Отовсюду бежали горные ручьи, трава была в соку, в цветах, некошеная. «Здешние места прекраснейшие, которые я видела отроду», – восхищалась Екатерина, обращая внимание на толщину дубов и буков. Дорога была хороша сама по себе, но светлейший щедрой рукой расцветил ее «сюрпризами». Свернув за Кадыкоем к Балаклаве,путешественники очутились в аллее мирт, померанцев, лавров и пальмовых деревьев. Аллея была усыпана цветами и душистыми травами. Среди всей этой благоухающей роскоши по обеим сторонам стояли амазонки. В зеленом и пунцовом, в белых тюрбанах, усыпанных блестками, эти девы походили на экзотические цветы, но они были под ружьем, и одна из них, капитан роты, выйдя вперед, скомандовала: «Смирно!» За этим следовали дикие горные ущелья и стремнины Биюк-Узеня, скалы, лесная чаща, козы, скачущие через пропасть, и, наконец, Ласпи над глубоким обрывом, с которого вдруг открылась панорама южного берега. В те времена он был дик и недоступен, и к нему вели только горные тропы. Один неутомимый принц де Линь, которому Екатерина подарила имение в Кучук-Ламбате, отправился через Шайтан-Мердвень, чтобы посмотреть свои владения. Симферополь не произвел особого впечатления, хотя расположение его оценили, решив, что трудно было найти лучшее для губернского центра – города, назначение которого было «соединять» столь разнообразные по природе и населению части Крыма. В очередном письме своему маршалу император Иосиф кисло заметил, что в Симферополе «уже устроены кое-какие здания вроде домов и довольно красивых зал и даже небольшой английский садик». В Карасубазаре путешественников снова ожидали чудеса. На берегу Тыназа светлейший выстроил себе дворец. Говорили, что он сделан из драгоценных мраморов старой мечети и еще более древней бани. Это было небольшое здание с пропилеями и фронтоном, высоким и легким. Дворец и английский сад, разбитый вкруг него, удивляли своей величавостью при скромных размерах. Тут были соблюдены пропорции, которые свидетельствовали о гении архитектора. Самое удивительное был маленький парк, созданный на клочке дикой природы. Он занимал полуостровок, омытый Тыназом и поросший лесом. Старые дубы, увитые плющом, водопад и маленький луг составляли его естественное убранство. Архитектор лишь разбросал здесь круглые легкие беседки, мост дугой через быстро бегущий ручей и несколько скамеек в прохладной тени. Поодаль, несколько выше, был дворец Екатерины; бросалась в глаза роскошь его отделки, сработанной на скорую руку. Эти торжественные здания находились как бы за крепостной стеной огромной казармы, построенной углом. Казарма выросла близ того места, где была главная квартира корпуса, которым командовал Потёмкин во время занятия Крыма. Рядом с ней стояла еще и та, в которой размещались русские войска во времена Шагин-Гирея и Суворова. Карасубазар был не только роскошной резиденцией светлейшего – в нем сосредоточивались сухопутные силы Тавриды. Гости могли видеть здесь лихие казачьи отряды и бравых преображенцев, шагающих среди татар, турок, армян и караимов – всего этого пестрого люда, который покинул было торговые ряды старого Карасубазара, а теперь возвращался. После пиршества, устроенного в честь прибывших, где помянули Лукулла и тысячу его блюд, гостей пригласили в иллюминированный парк. Фейерверк, взлетавший то и дело великолепными цветными букетами к темному небу, поразил даже тех, кто видел празднества Версаля и Трианона. «Особенно хорош был последний сноп из ракет, такой роскоши и полета мне еще никогда не случалось видеть», – писал Иосиф II своему неизменному корреспонденту. Этим великолепным фейерверком заканчивалось обозрение Тавриды. Напоследок путешественники лишь взглянули на Кафу, ныне вернувшую свое древнее имя Феодосия. Они увидели «повсюду разрушения и бугры из остатков оснований». Роскошные дворцы турецких сатрапов были обращены в развалины. «Где была слава Кафы и ее великолепие? Фонтаны ее не плещут, исчезла зелень древес, крепостные стены представляют обломанные частицы… Всё кажется под черным крепом, всё дышит ужасом и печалью». Потёмкин решил, что следует показать этот город в его натуральном виде, являющем картину разрушенного султанского владычества в Крыму. Любознательность дипломатов росла с каждым днем путешествия. И хладнокровный Фицгерберт, и де Линь, казалось, созданный лишь для салонных бесед, и Сегюр, всегда общительный и любезный, и Кобенцль ежедневно упражнялись в верховой езде, удаляясь от прямого тракта на далекие расстояния. Их занимало всё: природа, земледелие, здания, торговля. Они никогда не довольствовались тем, что было видно из окна кареты, они хотели удостовериться во всём и заглядывали повсюду. Они входили в землянки и хаты переселенцев, пробовали хлеб и квас, узнавали цены, щупали полотна, обследовали проселочные дороги и мосты. Расположения войсковых лагерей, укрепления, казармы и амуниция занимали их преимущественно. В Крыму они узнавали подробности о распрях татар с русскими помещиками, о мурзах и беях, уезжающих в Турцию, о злоупотреблениях чиновников. Но никто из дипломатов не проявлял такого ненасытного любопытства, такого желания видеть изнанку вещей и такого недоброжелательства в суждениях, как император Иосиф. Храповицкий жаловался: «Не дают покою граф Фалькенштейн и граф Ангальт, рано встают и в 6 часов утра они уже прохаживают». Генерал Ангальт был правой рукой императора. Он изучал досконально всё, что касалось армии. Это был необыкновенно деятельный генерал и опытный дипломат. Император писал о нем своему маршалу: «Ангальт разве тайком только позволяет себе покритиковать, а в глаза увивается как за императрицею, так и за князем Потёмкиным». В этом отношении генерал мог быть только учеником своего императора. Никто не умел так льстить Екатерине, как Иосиф. Он делал вид, что во всём ей доверяет. Он говорил: «Какая прелестная прогулка», – и подсчитывал количество пушек. Его беспокоили укрепления. Он находил их слабыми. Крепость у Херсонеса построена была на песке, «который даже не утрамбовали». Верки не имели должных скатов. Для орудий недоставало снарядов. Почему не приведен в порядок Перекопский ров и не оснащена старая крепость? А Балаклава – разве нельзя было укрепиться на этих скалах, как это делали генуэзцы? Император забывал, что недавно сетовал он на непосильные траты, возмущаясь ценой всех этих грандиозных предприятий. Мог ли он, римский император Иосиф, быть уверенным в защите полуострова, спор о котором еще не кончился? Ведь он должен двинуть свои великолепно обученные войска, чтобы согласно союзному договору дать отпор Турции, если она объявит войну. Если объявит… Она, конечно, объявит, да и сама Екатерина «спит и видит»… Иосиф не мог простить намека, невзначай ею сделанного, на то, что Россия может вести войну и без его помощи. И это свидание с Булгаковым… Нет, решительно император не мог подобно Екатерине торжественно созерцать и великолепно шествовать. Иосиф был суетлив и беспокоен, он ничему не верил, всё его раздражало. Если какое-нибудь селение решали объехать, император подозревал подвох и секреты. Если его везли в места, маршрутом не предусмотренные, он жаловался на потерю времени. Так, не мог он простить Потёмкину поездку в горы ради какого-то ландшафта. Вообще светлейший выводил его из терпения своими затеями, каких не мог позволить себе иной самодержец. Эти сто двадцать музыкантов, которых таскал он повсюду за собой… Этот дворец, вдруг невзначай построенный, – такой маленький и такой величественный… А всё это путешествие (император считал, что единственным вдохновителем его был Потёмкин), стоившее стране больше пятнадцати миллионов… А все эти затеи в Тавриде… Решительно император не мог быть равнодушен к такому расточительству. Он говорил Сегюру: «Мы в Германии и во Франции не смогли бы предпринимать того, что здесь делается». «Владелец рабов приказывает, рабы работают: им вовсе не платят или платят мало, их кормят плохо, они не жалуются, и я знаю, что в продолжение трех лет в этих вновь приобретенных губерниях вследствие утомления и вредного климата умерло около 50 000 человек». «Вы видите, что здесь ни во что не ставят жизнь и труды человеческие; здесь строятся дороги, гавани, крепости, дворцы в болотах, разводятся леса в пустынях без платы рабочим, которые, не жалуясь, лишены всего, не имеют постели и часто страдают от голода». И Сегюр, и австрийский император с величайшим возмущением писали и говорили о бесправии русского народа. Можно было подумать, что народы Франции и Австрии благоденствовали. Грянувшие вскоре первые залпы революции показали лицемерие этих политиков. Итак, все дипломаты в один голос твердили, что «игра не сто́ит свеч» и что достигнутое в южных областях далось России слишком дорогой ценой. Неясно было только, что их больше беспокоило: дорогая цена или достигнутое. Впрочем, император и французский посол сходились в том, что предприятия Потёмкина недолговечны, что он не способен довершить начатое, что едва ли Севастополь действительно будет «порядочным городом». Сегюр утверждал, что хорошо знает Потёмкина: «Его пьеса сыграна, занавес упал; князь займется теперь другими задачами… Старались украсить всё временно для императрицы…» Император был уверен, что камень, положенный им после Екатерины при закладке города Екатеринославля, был вторым и последним. «Флот, – рассуждал император, – действительно возник почти мгновенно, но из чего он сделан… Лес сырой, и, кроме того, корабли уже гложет червь…» Решительно император не видел вокруг ничего такого, чем можно было бы слишком восторгаться. Сплошная галлюцинация. «Старались украсить всё к приезду императрицы», – вторил императору Сегюр. Но как ни пытались судить всё с дурной стороны, как ни утверждали, что крепости – на песке, флот – из сырых досок, а фундаменты – без строений, – не могли не признать того, что и крепости, и флот, и строения существуют и выросли с чудесной быстротой. Это вызывало удивление и вместе с тем (и это было главное) страх перед исполинскими шагами, которыми могла двигаться эта страна. Севастополь был еще мал, но рос он, как богатырь, и что могло быть завтра? Некоторые спутники императрицы делали вывод, что не следует ждать этого «завтра». Они при этом спешили выразить Екатерине и Потёмкину свое лицемерное восхищение. Сегюр говорил светлейшему: «У себя во Франции я с восторгом опишу все эти чудные картины, которые вы предоставили нашим взорам: коммерцию, завлеченную в Херсон, несмотря ни на зависть, ни на болота; флот, построенный в два лишь года каким-то чудом в Севастополисе…» О Севастополе как о чуде говорили и принц де Линь и император. Самые строгие судьи удивлялись «чудесам» светлейшего. «В чем его волшебство? – спрашивал де Линь Сегюра и сам отвечал: – В гении, еще в гении, и еще в гении». Евграф Чертков, тот самый, что накануне приезда Екатерины не видел в Тавриде «ничего отменного» и прямо говорил об этом Потёмкину, теперь заявлял: «Бог знает, что там за чудеса явилися. Черт знает, откуда взялись строения, войска, людство, татарва, одетая прекрасно, казаки, корабли… Ну, ну, бог знает что. Какое изобилие в яствах, в напитках, словом, во всём – ну так, что придумать нельзя, чтобы пересказать порядочно. Я тогда ходил как во сне, право, как сонный. Сам себе ни в чем не верил, щупал себя: я ли? где я? не мечту ли или не привидение ли вижу? Ну, надобно правду сказать, ему – ему только одному можно такие дела делать, и когда он успел всё это сделать». Одна Екатерина не стремилась постигнуть причины и следствия, а считала, что всё созданное и созидаемое есть плод неусыпных ее забот. Когда и случалось ей наблюдать нечто неприятное, не подавала она виду и как бы не замечала. Так, не изволила она заметить, что шествие одно время было обслужено людьми вместо лошадей, которых забыли выставить для переправы через Днепр. Лошадей заменили солдатами. Целый день четыреста человек тянули барки с тяжелыми экипажами. Они шли по плечи в холодной воде, потом садились на весла, гребли и снова погружались в воду. Екатерина бы глубоко возмутилась, если бы народ предстал перед нею в рубище, если бы увидела она раздутые от голодухи и дурного хлеба животы, язвы, кровавые мозоли, нищенские жилища… Она говорила Храповицкому: «Всё вижу и замечаю, хотя не бегаю, как император». Быть может, князь Щербатов был прав, говоря, что Екатерина «видела и не видала». Она вовсе не стремилась походить на Гарун-аль-Рашида, пожелавшего увидеть, наконец, то, что сокрыто от глаз властителей. Как «некогда обожаемая Семирамида в сиянии славы, при звуке мусикийских орудий, шествовала она по цветущим областям ее, изумляя подданных своих величием и щедротами». Так писали поэты, сравнивая ее шествие с движением солнца. Мог ли Потёмкин представить ей всё в наготе правды? Это бы оскорбило ее. Подданные обязаны были чувствовать себя счастливыми. Желая увековечить шествие в Тавриду, Екатерина учредила медаль с изображением полуострова и своего портрета. В пути сочиняли афоризмы, достойные стать надписью к этой медали. Вероятно, они создавались в ее дорожном салоне, подобно буриме или шарадам. Один из спутников говорил: «Твои дела громки»; другой: «Путь живит края»; третий: «Повсюду светит луч». Были и более глубокомысленные, выражающие мысль путешествия. Наконец из тридцати восьми был выбран один: «Путь на пользу». Да, она хотела, чтобы было именно так. Ее путешествие должно «утвердить начатое» и тем послужить на пользу устроителям края. Видевшие Тавриду вернутся на север уже не хулителями ее, а сторонниками. Но путешествие должно послужить на пользу и тем, кто до сего дня не уверен в принадлежности этого края. Дипломаты, склоняющие свои государства к помощи Турции, быть может, изменят свое мнение, увидев Севастополь, и флот, и крепости, и войско. Предупреждая, Екатерина хотела бы «отвратить» их от ошибочного шага, последствия которого будут тяжелы. Но и Севастополь, и флот, и крепости не убедили Фицгерберта. Англия сочла возможным сделать ставку на Турцию. Через месяц после возвращения Екатерины война была объявлена.Проекты надписи к медали
Абдул-Гамид объявляет войну
Сегюр ошибся. Потёмкин не только не остыл к судьбам своего южного наместничества, но сквозь торжества и великолепия особенно ясно увидел всё то, чего недоставало этому краю. Степная целина требовала пахарей и селян. Города нуждались в купеческом сословии, товарах, новых зданиях. На белоснежной тугой бумаге с золотым обрезом, которую употреблял светлейший, чтобы написать: «Прости, мои губки сладкие» или «Ничто мне так не мило, как ты», – записывались все эти неотложные дела и предприятия, делались распоряжения срочные. Среди них – предписания о торговле, кораблестроении, Херсоне. Думая больше о мире, чем о войне, Потёмкин был озабочен расширением днепровского устья, чтобы значительные суда могли подходить к Херсону. Он составил проект «О канале и гавани днепровской, при устройстве которых и все суда большие купеческие прямо в Херсон с грузом проходить будут, также и военные без камелей[53] уже проведутся». Проект этот ждал одобрения императрицы и обсуждался адмиралами в коллегии. Самым важным, самым значительным делом на юге светлейший продолжал считать Севастополь. Иностранные дипломаты видели в постройке порта и в самом названии одну из величайших прихотей Потёмкина – предмет его тщеславия. Порт был великолепен, но бездорожен, а проложение необходимых дорог полагали они невозможным. Средства русской техники для этого, по их мнению, были слишком слабы. Поэтому они говорили, что Севастополь не имеет будущего. Потёмкин был уверен в своем начинании. По его мнению, в Тавриде «главная одна только крепость должна быть Севастополь, при гавани того же имени». Старые ханские крепости Ор-Капу, Гёзлев, Кафа показали свою ничтожность во время осады 1776 года – это были крепости, устрашавшие конницу, но не артиллерию. Что касается Черноморского военного флота, то Потёмкин гордился им чрезвычайно. Еще бы: ко времени прибытия Екатерины в Крым Черноморская эскадра состояла уже из тридцати военных судов и шестнадцати транспортных. Да еще в Херсоне на стапелях ожидали спуска два корабля и один фрегат. Еще около двадцати разных военных галер составляли Днепровскую флотилию для лимана. И всё это за три-четыре года. Много хлопот было с командами, доходившими до семи тысяч человек. Нужны были отборные опытные офицеры, матросы на подбор. Потёмкин писал Екатерине: «Прикажите отрядить хороших, а то что́ барыша, когда в новое место пошлют дряни…», – и, зная чем взять честолюбицу, добавлял: «Я, матушка, прошу воззреть на здешнее место, как на такое, где слава твоя оригинальная и где ты не делишься ею с твоими предшественниками». С постройкой судов проявил Потёмкин величайшее нетерпение и не хотел считаться с донесениями корабельного мастера Семена Афанасьева, который жаловался на сырой лес, негодный для обшивки, на плохую краску и главное – на чрезмерную спешку. Любой ценой Потёмкин требовал быстрого спуска наибольшего числа кораблей и лодок. Впрочем, многих подробностей этого дела он не знал, доверяясь контр-адмиралу Мордвинову, начальнику вновь заводимого на Черном море флота. Мордвинов был противником Севастополя, считая, что не следовало строить этот город и что было бы благоразумнее довольствоваться небольшим укреплением. То, как распоряжался Мордвинов в Херсоне по кораблестроению и флоту, пока не предвещало ничего знаменитого. Он досаждал Потёмкину просьбами и не выполнял его распоряжений, ссылаясь на различные трудности и недостатки. Он не умел и не хотел управляться теми малыми средствами, которые требуют изобретательности. В большинстве случаев Мордвинов был противником всего, что затевал Потёмкин. Николай Семенович Мордвинов, будущий сановник и политический деятель александровского времени, в то время только начинал свою карьеру в качестве моряка. Морскому делу он обучался в Англии. В 1785 году, когда Мордвинову был еще тридцать один год, Потёмкин взял его на Черноморский флот в звании капитана 1-го ранга и уже через три года поручил ему начальствование над всем Черноморским флотом. Был ли Мордвинов плохим моряком или плохим администратором, сказать трудно. Он не уживался с Потёмкиным. По рождению, связям, образованию и либеральным взглядам (требования общественной гласности, неуклонной законности и т. д.) Мордвинов принадлежал к противникам деспотических приемов выскочки-фаворита. Мордвинов порицал Потёмкина, не хотел признавать его дарований, не одобрял его распоряжений. Не одобрял Мордвинов и новшеств, которые хотел вводить Потёмкин, например, его новых распоряжений насчет обучения моряков. По мнению Мордвинова, надо было пользоваться для этого учителями наемными, офицерами иностранных флотов. Потёмкин счел возможным и тут завести новые порядки: он поручил обучение моряков капитану «Святого Павла». Особым приказом предписал он Ушакову «приучать служителей к скорым беганьям по снастям и при креплении и отдаче парусов, также для моциону через салинг, отдачу и прибавку парусов делать с отменной скоростью, поднимать и опущать их, осаживать шкоты и галсы[54] за один раз и сие повторять многократно до тех пор, пока люди совершенно приучены будут». Предписание Потёмкина усилило недоброжелательство к Ушакову со стороны Мордвинова и командующего Севастопольской эскадрой вице-адмирала Войновича. При этом Войнович и Мордвинов были «на ножах» и постоянно жаловались друг на друга. С адмиралами было трудно, но заменить их пока было некем. В таких заботах и делах застала Потёмкина война. Еще в июле 1787 года турецкая эскадра вышла из Биюк-дере[55], стамбульского порта, и направилась в сторону Крымского полуострова. Султан Абдул-Гамид обратился к правоверным, убеждая их пожертвовать всем, чтобы вернуть Крым и уничтожить русский флот. Быть может, тот, кого именовали «убежищем мира», и не решился бы выступить против России, но «друзья» Турции уверили его в победе. Послы Шуазель-Гуфье, Диц и Гексли советовали не откладывать военных действий и обещали поддержку со стороны Франции, Пруссии и Англии. Французские, английские и прусские инженеры принялись строить укрепления и оснащать турецкий флот европейской техникой. Главнокомандующим был назначен старый опытный моряк – капудан-паша Эски-Гассан, титулуемый Эль-Гази. Он принадлежал к турецкой знати и мог в любое время переступать «Порог Счастья», т. е., другими словами, он был любимцем султана. На него возлагали большие надежды, и действительно он привел черноморскую эскадру в хорошее состояние. С помощью тулонских верфей он имел флот из двадцати линейных кораблей и множества фелук, бригов и других мелких судов. Корабли его были легки на ходу, покрыты медной обшивкой и прекрасно вооружены. Никто в Стамбуле не сомневался в исходе войны. Император Иосиф был неправ, когда утверждал, что Екатерина «спит и видит переведаться» с турками. Считая войну неизбежной и готовясь к ней, Екатерина ее не желала. Во всяком случае, она не думала ее начинать и была бы рада оттяжке. Она писала Потёмкину, что «весьма нужно протянуть два года, а то война прервет построение флота». Но поведение Турции не обещало ничего доброго, и были сделаны распоряжения по войскам и адмиралтейству. Контр-адмирал Мордвинов должен был держать флот наготове, вице-адмиралу Войновичу было приказано крепить Севастополь. Однако и в середине августа, когда корабли Эски-Гассана показались у Гаджи-бея[56], Россия всё еще не хотела верить началу войны, и Потёмкин повелел оказывать туркам «дружелюбие и благоприятство». Это продолжалось до тех пор, пока русского посла Булгакова не заточили в Семибашенный замок, а турецкая эскадра не появилась у берегов Кинбурнской косы. 21 августа без объявления войны турки атаковали фрегат «Скорый» и бот «Битюг». Капитан-лейтенант Обольянинов вступил в бой, невзирая на ничтожные, по сравнению с вражескими, силы. Отчаянная смелость русского капитана озадачила турок, но всё-таки превосходство их в море было несомненным. Блистательная Порта начинала войну при общем одобрении Европы. Австрия считалась союзницей России, но и она явно выжидала. Екатерина писала Потёмкину с горечью: «Французские каверзы по двадцатипятилетним опытам мне довольно известны. Но ныне спознали мы и английские, ибо не мы одни, но вся Европа уверена, что посол английский и посланник прусский Порту склонили на объявление войны». Потёмкин, несмотря на великое свое честолюбие, принял главнокомандование неохотно. Вопреки сложившемуся мнению, светлейший вовсе не рвался в бой и предпочитал заниматься своими устроениями. Со времен Кагула он перестал быть солдатом в том смысле, в каком были солдатами Суворов, Каменский, старый Румянцев. Удачи и неограниченная власть избаловали его. Он превращал лагерную жизнь в роскошные пикники. Гром оркестров теперь был для него привычнее грома орудий. Но Екатерина верила в Потёмкина не только потому, что привыкла опираться на него во всех делах, зная его ум и проницательность, но еще и потому, что всё дело южной обороны государства было давно в его руках и представляло сложную махину, в которую входило всё: и землеустройство, и переселенцы, и новые города, и форты, и доки, и крепостные гарнизоны, и, наконец, Черноморский флот, созданный его попечением. Теперь к этому прибавилось еще и командование армией, и было ясно, что нельзя отделять распоряжение армией от других распоряжений Потёмкина, потому что всё это вместе составляло южную «государственную оборону».Гибель фрегата «Крым»
Я стал несчастлив…Светлейший был в отличном расположении духа и великолепен, как никогда. Осень была его любимой порой, он чувствовал себя бодрым – всё ему было по плечу. В сорок восемь лет он казался совсем молодым, когда не сидел, согнувшись в три погибели, или не валялся неприбранный в халате. Поступь и пламенный взор (единственного, впрочем, глаза) делали его величественным. Говорили о нескольких светских красавицах, любимых светлейшим одновременно; каждую дарил он особой привязанностью, от которой они были без ума. Впрочем, он уделял им не так уж много времени. Были у него и другие услады. За последнее лето, обозревая флот и форты, светлейший пристрастился к морю и любил ходить на маленькой яхте, лавирующей средь плотных упругих волн. Он наслаждался этим светлым блистающим морем, как давно ничем не любовался и не наслаждался. Почему именуют его Черным – какая странность?.. А этот Эски-Гассан, воображающий себя «владыкой морей»[57], – не смешон ли этот Черномор! Потёмкинская эскадра еще покажет этому хвастунишке! В Елизаветграде, в Херсоне и в Севастополе попеременно вел светлейший обычную свою пиршественную и с виду праздную жизнь, распоряжаясь южным хозяйством и началом военных действий. Мордвинову и Войновичу велел он выслать эскадру поближе к Стамбулу, чтобы сбить с толку и пугнуть турок, которые стояли в лимане вблизи Кинбурна. Но 17 сентября в Елизаветград прискакал фельдъегерь с донесением Войновича. Светлейший полагал адмирала в плавании и был удивлен вестью из Севастополя. Донесение было ошеломляющим. Войнович сообщал о шторме, настигшем эскадру близ Варны, у мыса Калиакрия, об исчезновении «Марии Магдалины» и гибели фрегата «Крым». Он писал: «Корабли и фрегаты имели великую качку, открылась во всех судах течь: 9-го числа в 8-м часу пополудни на корабле “Слава Екатерины”, на котором я был, изломало многие винт-путины, по-рвались ванты, а потом переломало мачты, которые упали в воду, и прибыло в нем воды до 10 фут‹ов›, так что, отливаясь всеми помпами, ведрами и ушатами, оная не убывала. В то же самое время видно было, что ломает и на прочих кораблях и фрегатах мачты. Оный шторм продолжался пять суток, после которого все старались с запасными стеньгами и реями спасать суда и довести оных до порта». Войнович утверждал, что не было недостатка «ни в рачении, ни в усердии, ни в осторожности, ни в искусстве; а всё произошло от слабости судов и снастей». Тут Войнович сделал подробное сообщение о плохом качестве вверенных ему кораблей. Оказалось, что при малейшем волнении борта расползались, мачты валились. К тому же суда эти, как писал Войнович, не были способны к бою. Плохое скрепление «судовых членов» мешало ставить на них много орудий. Светлейший был суеверен и в гибели «Крыма» увидел страшное предзнаменование. Война предстала перед ним в новом обличии. Фантазия его рисовала мощную эскадру старого морского волка Эски-Гассана. Рядом с ним видел он бедные свои, наспех строенные парусники, слабые, поросшие водорослями и ракушками. Он усиливался вспомнить несчастного Тверитинова, капитана погибшего «Крыма», и тот представлялся ему маленьким и ничтожным человечком. Море казалось ему разъяренным черным чудовищем (теперь понимал он его именование). Разве мог совладать с ним маленький капитан! Славное свое детище, великий новый порт видел теперь светлейший пустынным городишкой. Батареи севастопольские, казавшиеся столь надежными, вряд ли способны были отразить нападение и одного отряда турецкой эскадры. Крым был незащищен. Крым был обнажен, слаб, бесхлебен, полон изменами. Крым надо было сдать! Обуреваемый сомнениями, весь во власти мрачных картин, созданных собственной необузданной фантазией, светлейший писал Екатерине: «Крым удержать невозможно, надо выводить войска». «Матушка государыня! – писал он императрице. – Я стал несчастлив, при всех мерах возможных, мною предпринимаемых, всё идет навыворот. Флот севастопольский разбит бурею; остаток его в Севастополе, корабли и большие фрегаты пропали. Бог бьет, а не турки». Он просил освободить его от непосильного главнокомандования и дать ему умереть, так как пришел его конец. И действительно, светлейший вдруг почувствовал приближение конца. Как человек, пришибленный горем, он постарел, опустился, осунулся, заболел. Старые недуги дали себя знать: с ним сделался припадок от вздутия печени. Страшная слабость свалила его в постель. Его тошнило, он не мог есть, он не спал и целые дни лежал молча, не отвечая на вопросы и пренебрегая всеми делами. Екатерина не верила глазам, читая письмо светлейшего. Он ли это? И впрямь, как сам он пишет: «Нет в нем ни ума, ни духу». Мог ли он и помыслить об отсечении Крыма, и так слишком долгое время от русской земли отторгнутого? Ведь «об нем и идет теперь война», – отвечала Екатерина Потёмкину, увещевая его, как ребенка, и призывая к терпению. Она запрещала ему думать о крайних мерах, запрещала отказываться от командования, запрещала предаваться черным мыслям. Светлейший встал и, с трудом преодолевая болезнь, съездил в Петербург, издал приказы о формировании и движении армий и сделал назначения. Главным из них было назначение генерала Суворова, которому поручался важнейший участок военных действий.Г.А. Потёмкин – Екатерине II
Кинбурнское дело
Ты подтвердил справедливость тех заключений, которые Россия всегда имела о твоих военных действиях.Потёмкин знал, что в эту войну, так же как и при Шагин-Гирее, положение может спасти только Суворов, этот норовистый, напористый маленький генерал, с которым надлежало обходиться особенно. Суворов несколько раз приезжал и у постели светлейшего, который то вставал, то ложился и всё время жаловался на боли, имел с ним длительные совещания. Наконец Суворов стремительно отбыл в Кинбурн. Кинбурнская коса была ключом к вожделенному полу-острову. На карте это рисовалось явственно. Словно ключ в замке́, коса Кинбурнская торчала, выдвинутая в сторону турецкого берега, поощряя султана к действиям. Положение казалось султану благоприятнейшим. Очаковская крепость служила опорой эскадре Эски-Гассана, который на своем «Мелике-Бахре» был действительно если не владыкой морей, то, во всяком случае, владыкой лимана. С другой стороны, нельзя было назвать флотом то, что Мордвинов держал вблизи кинбурнского берега. Это были два судна: фрегат «Битюг» и бот «Скорый». Капудан-паша Эски-Гассан, старый и опытный моряк, не хотел повторять ошибок, сделанных его предшественником. Он помнил 1776 год, когда турецкий флот был так позорно изгнан из Ахтиарской бухты. Он считал, что эскадре его незачем приближаться к портам Крыма, и держался северо-западных берегов. Задача его состояла в том, чтобы овладеть Кинбурном. Потёмкин назначил Суворова ведать линией от устьев Буга до Перекопа. В сфере его действий был лиман. От него зависел исход войны. Впереди было опасное дело, и это веселило Суворова. Он принялся изучать лиман, «сондировать броды» и укреплять песчаный берег. Но необходим был значительный флот, а Мордвинов медлил, непростительно тянул. Суворов требовал, чтобы в лиман были посланы хотя бы гребные галеры. Вскоре прибыла флотилия, служившая Екатерине во время путешествия. Суворов спешно оснащал лодки, превращая их в плавучие батареи. Он ждал десанта со дня на день. 30 сентября 1787 года началась бомбардировка. С утра объехав укрепления, Суворов приказал батареям молчать. Что касается турецких пушек, то они не умолкали двое суток. Тем временем турецкие корабли подходили во множестве к берегу. 1 октября начали высаживаться войска. Суворов сказал: «Пусть все вылезут», – и продолжал заниматься своими делами, приказав сблизить резервы. Пять с половиной тысяч войск высадились на Кинбурнской косе. Турки были хорошо вооружены, с иголочки обмундированы. Английские и французские офицеры, распоряжавшиеся десантом, заставили солдат рыть окопы. Еще до полудня поперек всей косы от моря до лимана были сделаны четырнадцать линий ложементов. В этих неглубоких окопах и были устроены брустверы. Русских, считая и гарнизон и войска, было вдвое меньше, чем турок. У берега стояло лишь несколько вооруженных галер и старый корабль. Они составляли всю охрану берега. Суда, посланные Мордвиновым, при виде столь грандиозных десантных скоплений остались в бездействии, не имея решительных распоряжений морского начальства. Только одна галера «Десна» под командой мичмана Ломбарда самовольно отделилась от прочих и вступила в бой с неприятелем. Совершив дневной намаз, турки двинулись на приступ. Тогда раздался первый залп крепостных орудий. Кинбурнские пушки были обращены к западу, к турецкой эскадре. С кораблей отвечали. Им вторили орудия из ложементов. Быстрота, с которой небольшие отряды наскакивали на турецкие авангарды, создавала впечатление огромной лавины войск. Именно в тот момент, как началось дело и заговорили пушки, «Десна» вышла наперерез неприятельскому флоту, направилась к тем турецким кораблям, которые стояли близ крепостных стен, и атаковала их. Мичман Ломбард сделал как раз то, что нужно и важно было Суворову в этот момент для контратаки. «Десна» не только оказалась необходимой и отвлекла семнадцать судов от атакуемой крепости, но бесстрашием своим одна против многих вызвала у неприятеля страх, поколебала его уверенность. В стремительной быстроте и был гений Кинбурнского сражения. «Вторая линия вступила в бой сквозь первую линию… – вспоминал впоследствии Суворов. – Уже мы осадили половину ложементов – и ослабли. Пальба с обеих сторон была смешана с холодным оружием. Я велел ударить двум легкоконным эскадронам; турки бросились на саблях, оные сломили и нас всех опрокинули, отобрали от нас свои ложементы назад. Я остался в передних рядах. Лошадь моя уведена; я начал уставать, два варвара на своих лошадях – прямо на меня. Сколоты казаками, ни единого человека при себе не имел; мушкатёр Шлиссельбургского полку Новиков возле меня теряет свою голову, я ему вскричал; он пропорол турчину штыком, его товарища застрелил, бросился один на 30 человек. Все побежали, и наши исправились, вступили и пали в бой. Мы побежали на них и одержали несколько ложементов. С их флота они стреляли на нас из 500 пушек бомбами, ядрами и каркасами, а особливо картечами пробивали наши крылья насквозь, полувыстрелом я получил картечу в бок, потерял дух и был от смерти на полногтя. Прострелена моя рука. Я истекал кровью. Есаул Кутейников мне перевязал рану шарфом своим с шеи; я омыл на месте руку в Черном море… Спасибо! Мне лучше, так погоним же всех раненых турок в море, да и прочих туда же». Турки начали расстраивать ряды и отступать, теснясь к берегу. Вкруг Суворова вырастали груды убитых и раненых. То пеший, то конный, он появлялся всюду в минуты большой опасности. Ослабевших он делал героями, превращал отступление в победу и создавал видимость громадной армии там, где был всего лишь маленький отряд. Глядя на этого худенького человека, который оставался в строю, несмотря на три раны, и командовал безошибочно, несмотря на частые глубокие обмороки, солдаты не смели падать духом. После третьей атаки с десантом было покончено. Наступила ночь, безлунная и холодная. Она позволила нескольким сотням турок, уцелевшим после сражения, сползти к морю и укрыться в его волнах, за бревенчатой эстакадой. Турки ждали лодок. Но лодки не могли подойти к берегу, потому что крепостная артиллерия била по кораблям Эски-Гассана.Г.А. Потёмкин – А.В. Суворову
На корабле «Святой Павел»
Наш флотик заслужил чести и устоял против эдакой силы…В тихой Корабельной бухте находились сердце и мозг нового порта, потому что там была стоянка «Святого Павла», корабля Ушакова. Вокруг «Святого Павла» кипела работа. Здесь килевали суда, мастерили шлюпки, одним словом, здесь были верфь, адмиралтейство и морские классы, хотя никто их здесь не учреждал. Как-то само собой получалось, что всё необходимое для эскадры и порта делалось у «Святого Павла» под присмотром капитана 1-го ранга Федора Федоровича Ушакова. Хотя вице-адмирал граф Войнович и призван был к усовершенствованиям порта и эскадры, он не был особенно озабочен жизнью севастопольцев. Ни жизнью, ни смертью. При осмотре города в 1787 году Потёмкин остался весьма недоволен бараком, где лежали больные матросы. Об этом темном, холодном бараке ходило много злорадных разговоров среди иностранцев, столь чувствительных к чужим неполадкам. Барак был рассадником заразы и угнетающе действовал на здоровых матросов. Капитан Ушаков, будучи еще в Херсоне, одолел чуму, распространявшуюся среди моряков. Он спешно начал возводить близ своей Корабельной большую, обращенную к солнцу, годную на триста коек больницу. Адмирал не вмешивался в это, как и во многие другие дела Ушакова. Адмирал Войнович, командующий Севастопольским флотом и портом, был особой важной, не для всех доступной, занятой делами государственными и светскими. Адмиралтейство в его красивом доме у Графской пристани и портовая контора не были теми местами, куда мог заглянуть любой матрос или боцман. Флагманский корабль «Слава Екатерины», переименованный потом в «Преображение», был очень торжественным и парадным кораблем, он казался созданным для красивых маневров и великолепных встреч. Другое дело – «Святой Павел». Это был корабль, на котором каждый штурман, каждый мастеровой, матрос мог что-нибудь позаимствовать, чему-нибудь поучиться. В свободное от плаваний время лучшие офицеры Севастопольского флота толкались в Корабельной, слушая отрывистые замечания Ушакова. Этот капитан не любил длинных разговоров и всегда был занят делом. Он не искал легкой славы, ни перед кем не заискивал, в гневе был неукротим, обычно же терпелив и добродушен. Таков был его характер. Еще в 1785 году, приметив дарования Ушакова, Потёмкин поручил ему занятия со всеми моряками Севастопольской эскадры, но Войнович отчасти этому препятствовал, считая благоразумным ограничить Ушакова командой «Святого Павла». И Ушаков приучал свою команду к «скорому и красивому управлению всякого морского дела». На «Святом Павле» умели поднимать и опускать паруса с быстротой необычайной. Между тем, капитан всегда находил, к чему придраться: то крепление ему казалось слабым, то не так осадили шкоты и галсы. Он заставлял переделывать всё заново и упражнял людей десятки раз. Ушаков знал каждую щель в обшивке каждой шлюпки и неоднократно докладывал Войновичу о необходимых починках и приобретениях. Еще весной 1787 года он уговаривал адмирала доложить о неблагополучном состоянии кораблей. Хотя граф Войнович охотно принимал многие советы и планы Ушакова, выдавая их потом за свои, но на этот раз мнения их разошлись. Войнович боялся навлечь на себя гнев Потёмкина, занятого приготовлениями к торжественному приезду Екатерины. Он считал, что сейчас не время говорить о плохом состоянии кораблей. Ушаков никак не мог понять цели обмана. Он находил, что именно сейчас, при общих грандиозных расходах по устроению встречи, легче получить требуемое. Дело отложили. Вскоре затем Войнович занялся батареями Севастополя, потому что султан Абдул-Гамид угрожал Крыму. Потёмкин требовал немедленного выхода эскадры. Турки уже начали военные действия, и надо было им немедленно дать понятие о русском флоте. Шторм, разразившийся 8 сентября у мыса Калиакрия, был тяжким испытанием для кораблей Севастопольской эскадры. Адмирал Войнович, растерявший все мачты и реи на «Славе Екатерины», оправдывался перед Потёмкиным перечислением недостатков кораблей. Теперь он считал необходимым сказать правду. «Святой Павел» вернулся в Севастополь с незначительными поломками. Он держался в бурю крепче всех. Он держался крепко не потому, что корабль был сделан лучше, чем другие, а потому, что люди на корабле имели особую выучку и особое доверие к своему капитану. 18 июня 1788 года эскадра вновь вышла из Севастополя. Она состояла из двух линейных кораблей и десяти фрегатов. На ней было полтысячи орудий и четыре тысячи команды. «Святой Павел», назначенный авангардным кораблем, шел впереди других, и капитан Ушаков распоряжался всеми действиями эскадры, хотя командующим адмиралом оставался граф Войнович. 2 июля русские корабли наконец встретились с турецкими. Флот Эски-Гассана был велик. Его двадцать кораблей были оснащены тысячью орудий, а команды состояли из десяти тысяч человек. Флот Эски-Гассана стоял на ветре между русской эскадрой и Крымом. «Святой Павел» с фрегатами стремительно пошел к его авангарду. Обойдя голову турецкой колонны, Ушаков приблизился к адмиральскому кораблю. Турецкая эскадра начала атаку, сближая борта своих судов с русскими. На «Святом Павле» был дан сигнал стрелять ближними прицельными выстрелами. Огонь русской артиллерии и храбрость русских моряков, прямо идущих на вражеский рожон, ошеломили турок. Эски-Гассан давал сигналы к бою, он осыпа́л ядрами отступающие суда – ничего не помогло. Вскоре турки, вместо того чтобы двигаться к берегам Крыма, отправились восвояси. Это была первая великая победа юного Черноморского флота. Самое трудное было побудить графа Войновича к решительным действиям. Он размерял шансы количеством кораблей и пушек с той и другой стороны, тогда как Ушаков верил в свой флот, надеясь на своих людей. Доводы Войновича в пользу осторожности начинали раздражать фельдмаршала. Теперь, после сражения у острова Фидониси, несмотря на неоднократные предписания, Войнович удерживал эскадру в Севастополе и не пускал Ушакова делать поиски по берегам Черного моря. Операции в лимане, от которых зависел исход обороны Кинбурна, а затем осада Очакова были проведены Войновичем со свойственной ему вялостью. В результате флот отсутствовал в самые критические минуты. Нужен был гений Суворова на суше и самоотверженность моряков немногочисленных судов в лимане, чтобы туркам не удался кинбурнский десант. После победы нужна была особая бдительность в лимане, чтобы помешать капудан-паше Эски-Гассану доставлять снаряжение Очаковской крепости. Между тем, Войнович бездействовал. В середине июня 1788 года Суворов написал об этом преступном бездействии особое письмо, которое адресовал Попову (для доклада Потёмкину). Дабы «хороводу трутней», разносящих вести, нелегко было добраться до смысла, Суворов писал иносказательно и туманно: «Севастопольский флот спесив, неделя сряду был ему наиспособнейший ветер без перемены. Судите, коли бы бог дал! После… Здешним почти хуже Чезмы[58]: кроме нас Войнович их не выпустит». Это означало, что на лимане ожидали подкреплений из Севастополя и не дождались, в то время как необходимость в них былавелика. Это означало, что моряки, стоящие в лимане, терпят от того, что начальство (Мордвинов и Войнович) не ладит и что Войнович не пускает моряков переведаться с турками в большом деле. Наконец, когда во время осады Очакова Потёмкин сам убедился в бездействии Войновича (вдобавок еще и уклонившегося от действий в лимане для помощи войскам, штурмовавшим Гаджи-бей), Войнович был снят. Потёмкин перевел его со столь ответственного поста на тихий Каспийский флот, на его место назначил Ушакова, и всё переменилось. Назначение на столь важный пост никому не известного моряка (т. е. неизвестного петербургским сановникам и светскому Петербургу) вызвало недовольство в «сферах» и сочтено было за очередной каприз Потёмкина. Между тем, Потёмкин увидел в Ушакове качества, которыми обладал Суворов: он был не только напорист, смел, скор в решениях, но и мог найтись в случае самом трудном, даже безнадежном. Будучи уверенным в этих свойствах Ушакова, Потёмкин предписывал ему действовать в согласии с ними: «С эскадрой – толкайтесь на флагманский корабль. Обняв его огнем сильным и живым, разделите – которое судно должно бить в такелаж, которое в корпус и чтобы при пальбе ядрами некоторые орудия пускали бомбы и брандскугели, но не занимайтесь брать, а старайтесь истребить, ибо одно бывает скорее другого. Требуйте от всякого, чтобы дрались мужественно или, лучше скажу, по-черноморски». Таков был фельдмаршальский приказ, и Ушаков честно исполнил всё и не мог бы не исполнить по умению своему и характеру военного дарования. Итак, на второй год войны «Святой Павел» стал флагманским кораблем, и в середине мая 1790 года он вышел из Севастополя в сопровождении шести больших кораблей и двенадцати мелких. Он держал курс на турецкий берег. Три недели он бомбардировал и жег города и селения от Синопа до Анапы. Множество пленных и несколько купеческих кораблей составили его трофей. Но, разведав, что турецкий флот готовится выступить из Стамбула, эскадра, возглавляемая «Святым Павлом», возвратилась в Севастополь. Новый молодой султан Селим II объявил, что в ближайшее время Крым будет взят. Он считал виновником всех неудач капудана-пашу Эски-Гассана и передал флот своему любимцу Гуссейну. В советники юному адмиралу дал он знаменитого своей храбростью Саид-бея. 8 июля Ушаков встретился с Гуссейном у Керченского пролива. Как и при Фидониси, турецких кораблей было почти вдвое больше, чем русских. Саид-бей бросился в атаку, но был встречен такими «амфиладными залпами», которые заставили его отступить. «Святой Павел» преследовал флагманский корабль и бомбардировал его, сближая палубы. Весь раззолоченный, корабль Гуссейна теперь был в клубах дыма. Он почернел, и мачты его согнулись. Меткий выстрел сбил с него адмиральский флаг, пойманный шлюпкой «Святого Павла». Казалось, это лишило турок последних сил. Саид-бей дал сигнал к отступлению. Не прошло и двух месяцев со времени керченской победы, как «Святой Павел» со всей эскадрой направился к Тендровской косе, где стоял на якоре турецкий флот. Турки, не ожидавшие встречи, рубили канаты и уходили к устьям Дуная. Ушаков стремился отрезать арьергардные суда от всей эскадры и вызвал на бой флагман. На «Святом Павле» давались непрерывные сигналы об атаке и погоне. Жаркий бой при полном сближении продолжался два часа, пока не взлетел на воздух флагманский корабль. Тогда, по приказанию Ушакова, матросы бросились спасать людей. Они вынесли из пламени старого морского волка – Саид-бея – и положили его у ног своего адмирала. Вслед за тем был взят в плен и «Владыка морей» («Мелике-Бахр») – слава султанского флота. Капудан-паша Гуссейн немедленно принялся собирать силы и составил флот из турецких, алжирских, тунисских и триполийских судов. Весной 1791 года восемнадцать кораблей и семнадцать фрегатов под турецким флагом стали на якоре у румелийских берегов, близ злополучного для русских мыса Калиакрия. Севастопольский флот был вдвое меньше турецкого, что не помешало Ушакову, не поджидая подкрепления, двинуться в сторону Константинополя. Тремя колоннами двигался он вдоль турецкого берега, меж этим берегом и судами Гуссейна. Капитаны турецких кораблей делали теперь то, что казалось им единственно возможным при виде «Ушак-паши», – они командовали отступление, ставили паруса и снимались с якорей. Это был миг замешательства и страха. Миг этот и решил исход сражения. Напрасно турецкие адмиралы давали сигналы к атаке, напрасно пытались привести в порядок расстроенную линию кораблей, напрасно флагман бил по отступавшим – Ушаков уже сделал главное. Остальное зависело от ловкости маневров среди беспорядка вражеского флота, от хорошего попутного ветра и безотказности пушкарей. Как и тогда, при Тендре, здесь, недалеко от мыса Калиакрия, в 60 верстах от Константинополя, Ушаков сделал быстрый, неожиданный ход, срезав флагманский корабль под корму. Турецкий адмирал принял сражение и держался до поздней ночи. Искалеченный, он направился к Босфору, тогда как другие корабли его эскадры погибали в морской пучине, сдавались в плен или шли к берегам Румынии. Не дойдя до Стамбула, адмиральский корабль стал тонуть. О гибели своей он возвещал пушечными выстрелами, которые заставили содрогнуться сераль. Прошел слух, что Ушак-паша приближается к Порогу Счастья. Султан Селим-хан, «всегда победоносный», вызвал великого визиря и заговорил о мире, о Крыме он больше не говорил. Именно 31 июля 1791 года в день сражения у Калиакрии были подписаны предварительные условия мира, и победоносный «Святой Павел» со всеми кораблями, фрегатами, шхунами и катерами мог взять курс на северо-восток. Ветер ему благоприятствовал. В Корабельной его ждали большие труды.М.И. Войнович – Ф.Ф. Ушакову
Еще о Суворове
На что колоть тупым концом вместо острого?Из письма А.В. Суворова
i
Потёмкин с трудом перемогал болезнь и больше лежал, чем двигался. Он как-то разом обрюзг, черты его расплылись, румяные щеки вдруг поблекли и стали прозрачно-желтыми. Под одеялом, скрывающим мощное тело, фельдмаршал казался старым и беспомощным. Таким видел его Суворов накануне кинбурнских событий. Почти шестидесятилетний Суворов был юношески легок, подвижен, сух. Черты его обострились, в них было нечто жесткое, повелительное. Суворов стремился упорядочить замыслы Потёмкина в четком чертеже военного проекта. Было ли здесь место торжеству, жалости, удивлению? Перед лицом решительных событий важны были не чувства, не положение, не чины, а дело. Потёмкин не скрывал опасений, даже страха. Суворов был уверен в победоносном исходе. Они понимали друг друга с полуслова и намека. Распорядительные ордера главнокомандующего носили отпечаток руки Суворова. Туркам необходим был Кинбурн потому, что вместе с Очаковом он создавал укрепление лимана. Турецкое командование считало задачу решенной: десантные силы были велики, на море – преимущество. Силы русской обороны были незначительны, к тому же в час нападения морская оборона была ничтожной (опоздание адмирала Мордвинова). Тем не менее, вопреки всем расчетам турецкого командования, Кинбурн остался в русских руках. Мало того, Кинбурн укрепили так, что уже не могло быть речи о повторении операции. Потёмкин лучше, чем все другие, знал, что кинбурнская победа разом изменила характер войны. Так же как весть о гибели фрегата «Крым» повергла Потёмкина в состояние безнадежности, так весть о кинбурнской победе его оживила. Война могла стать теперь наступательной. Защита Кинбурна рассматривалась как необходимая часть очаковского дела, и потому было естественно, что, окончив кинбурнские операции, Суворов немедленно разработал проект штурма Очакова. «Осадить Очаков и, овладев оным, распространить твердую ногу в земле между Буга и Днестра» – такова была цель, поставленная военным советом еще в начале войны. Генерал и фельдмаршал снова свиделись в Херсоне. Светлейший уже больше не лежал, был бодр, величественен, окружен свитой и дамами. Его обрюзгшее лицо выглядело не так плачевно в рамке сверкающего мундира и брабантских кружев. Суворов, измученный ранами, казался слаб и неавантажен. Светлейший обошелся с генералом более чем милостиво, восхищался его находчивостью, храбростью его солдат, сокрушался о ранах. Однако о проекте отозвался уклончиво, заметив, что вряд ли понадобится брать Очаков штурмом и что осада приведет к тем же результатам, ибо турки напуганы и ретируются. – Вот как? – Суворов отнюдь не был в этом уверен, но, что делать, он примет участие в осаде. В ставке говорили о том, что турки решили сдать Очаков. Таковы, мол, слухи из вражеского лагеря. Низкопоклонная свита шепталась о гуманных чувствах светлейшего, который не хотел кровопролития и щадил солдата. Разумеется, здесь были намеки на тех, кто не щадил солдата и вел его на рожон. Вся эта болтовня не могла не задеть Суворова своей обидной лживостью. Суворов хорошо знал, что Потёмкин не любит стремительных атак и штурма. Он знал, что за этим кроется именно то, что делает Потёмкина посредственным военачальником. Не та мудрая осторожность, которая составляла великое качество Румянцева, а нечто другое. Нет, Румянцев хорошо понимал значение решительных атак и доказал это Кагулом. Румянцев знал, что чем сильнее и многочисленнее армия противника, тем важнее вдруг, неожиданно собрав небольшие силы в кулак, двинуть им с неотвратимой силой. Потёмкин боялся подобных часов высшего напряжения. Он мог проявить личную храбрость (Суворов видел его под ядрами, впереди войск), но он не обладал той внутренней силой, которая передавалась всей армии, всем солдатам и офицерам, смелым и боязливым, от знаменосца до полкового повара. «Он всё себе хочет заграбить!» – будто бы воскликнул светлейший, получив суворовский проект штурма Очакова. Он считал, что Суворову достаточно славы кинбурнской победы. Кроме того, Потёмкин считал план Суворова неблагоразумным. Он сказал ему: «Я на всякую пользу руки тебе развязываю, но касательно Очакова попытка неудачная может быть вредна… Я всё употреблю, надеясь на бога, чтобы он достался нам дешево». «Штурм, стремительный вслед за разгромом Кинбурнского десанта, должен принести скорую победу, а промедление таит опасность», – вот каково было последнее слово Суворова. Но план его не был принят, и лагерь главнокомандующего, со всеми его пышными палатками и громадным штабным составом, грузно осел у крепостного вала Черной крепости (Кара-Кермен). Крепость Кара-Кермен действительно казалась черной на фоне светлого лимана, на крутом его берегу. Построил ее Менглы-Гирей, и когда-то она была укрытием для ханских отрядов, разбойничавших в степи. В XVI веке крепость стала турецкой, как все крепости, принадлежавшие Крыму, и продолжала служить укрытием для подготовки набегов на Русь и Украину. Светлейший знал историю, и ему доставляло удовольствие показывать пренебрежение к турецкой твердыне. Еще в 1782 году, обозревая лиман, он написал Екатерине, что «усмотрел из Кинбурна неблистательное состояние Очакова». Он собирался взять крепость без малейшего кровопролития, не потеряв ни одного солдата. Был конец июня: голубизна моря и неба, штиль, отменная рыба. Дела немного: вялая перестрелка, осадные работы спустя рукава, легкая разведка. Устроившись в лагере с полной беспечностью, светлейший являл вид самый уверенный и спокойный. Он занялся… Осадными работами? Нет, они велись как бы сами собой. Дальнейшими планами похода? Ничуть не бывало. Он занялся литературным творчеством, переводом книги аббата Сен-Пьера о вечном мире, на коей изволил начертать: «Перевод с французского языка в стане перед Очаковом в 1788 году». Светлейший скучал, придумывая себе всякие утехи. Именно к этому времени относится целый ворох анекдотов о причудах и немыслимых затеях светлейшего. Дабы никто не заподозрил его во время этой унылой осады в трусости, он изредка отправлялся к ретраншементам турок и прохаживался или гарцевал под градом пуль и ядер. Одному из его генералов при этом оторвало ногу, что решительно упрочило слух о храбрости светлейшего. Тем временем турки трудились, как муравьи, таща в Очаков запасы снаряжения и продовольствия, а известный своей ловкостью капудан-паша Эски-Гассан прилип к лиману, подобно «шпанской мухе», держась всё время на близком расстоянии от крепости. В июле началось томление от жары и засухи. В конце месяца турки, собравшись с силами, сделали вылазку, которая чуть не стоила жизни Суворову. Пользуясь оврагами, турецкая пехота под прикрытием янычар вышла к левому флангу расположения русских войск и разгромила казачий отряд. Подоспевший Суворов дал туркам бой, после которого они спешно ретировались. Но Суворов счел необходимым их преследовать и ответить контратакой. Потёмкин приказывал Суворову вернуться. Суворов оставил приказ без внимания, пошел вперед, завязал бой. Потёмкин слал гонца за гонцом и свирепствовал. Суворов двинулся боем под самые стены укрепления, и только тяжелая рана заставила его вернуться. Объяснения с главнокомандующим были неприятны. Потёмкин требовал формального оправдания, повинной. Суворов отвечал без всякого покаяния. Он писал: «Невинность не терпит оправданиев ‹…› всякий имеет свою систему, так и по службе я имею и мою́, мне не переродиться, и поздно». Суворов не склонен был рассматривать свою атаку как ошибку. Напротив, она была началом того неизбежного, чего хотел избежать Потёмкин, – началом штурма Очакова. Этой неизбежности, очевидной для военного гения Суворова, упорно не хотел видеть Потёмкин. Если бы не рана, которая вывела Суворова из строя, атака могла быть удачной. Нужна была небольшая подмога – и вот конец несносной осаде, Очаков взят. Возможно, останься Суворов в строю, штурм Очакова состоялся бы вопреки распоряжениям Потёмкина, и ему бы ничего не оставалось, как торжествовать победу. Но атака кончилась ничем, были потери, и Потёмкин дал волю раздражению, упрекая Суворова в бесполезных жертвах и в нарушении дисциплины. Суворов попал в немилость и был удален в Кинбурн, где должен был наблюдать за морскими силами. Наступила осень, а затем ранняя, лютая своими ветрами очаковская зима, которая надолго осталась в народной памяти. Солдаты коченели в землянках. Начались болезни, мор. Дошло до того, что остался однодневный запас хлеба. Нужно было выбирать: отступление или штурм. Отступление явилось бы полным поражением главнокомандующего. Он вынужден был решиться на штурм. Это было в начале декабря (штурм происходил 6 декабря 1788 года), после пяти месяцев осады. Тогда, в июне, солдаты были бодры, сыты, здоровы, офицеры полны энергии, погода благоприятствовала, крепостной гарнизон был не так силен. Сейчас все преимущества были на стороне врага: крепость усилена, запасов достаточно, уверенность возросла. Осадные работы так и не были завершены, и теперь, в непогоду, уже нельзя было благоустроить плохо поставленные батареи. Выяснилась недостача и в штурмовом снаряжении: не хватало лестниц, шанцевого инструмента. Словом, ничего не было готово для нужного рывка, и потому этот рывок был особенно мучителен и кровопролитен. Потеряв огромную часть солдат и потратив уйму средств, Потёмкин пришел к победе, которая могла достаться сравнительно легко. Но светлейший нисколько не был смущен тем, что осада была столь неудачной, что, бахвалясь сохранить всех солдат, потерял до трех тысяч, что, наконец, полагая себя русским Вобаном, он не смог расчесть силы крепости, хотя Суворов его во всем упреждал. Зато именно он, и никто другой, был героем дня и победителем. Чтобы убедиться в этом – взгляните на портрет, гравированный Харитоновым: светлейший стоит твердою ногою при море, указуя на плывущие корабли. Позади него руины Очаковской крепости и пушка. Он один. Во всей его фигуре – мощь и уверенность. Потёмкина ожидал триумф: лавры, высшие ордена, фельдмаршальский жезл, усыпанный бриллиантами, денежные награды и слава, слава, которой он добивался, которая восхищала его на миг, а затем томила новой жаждой. Потёмкин хотел быть справедливым и из всех генералов выделил Суворова. Екатерина, согласно желанию Потёмкина, поднесла Суворову бриллиантовый вензель «К». Он был награжден за кинбурнское дело, составлявшее часть очаковской победы.ii
С весны 1789 года Порта переживала начало новой эры. Умер султан Абдул-Гамид. Престол занял молодой его племянник Селим, по счету третий. Селим III считал себя солдатом и всю юность провел в упражнениях, которые готовили его к войне. Разумеется, он объявил, что война будет продолжаться до полной победы и что Крым снова станет турецкой провинцией. Был издан приказ о поголовном ополчении мусульман и усилена помощь со стороны Франции, которую молодой султан считал вернейшей опорой Оттоманской империи. Селим собирался в наступательный поход. Война входила в новую фазу. Теперь было ясно, что утверждением в лимане нельзя было кончить войну, ибо Порта возобновит свои притязания. Война становилась наступательной. Только движение к Стамбулу могло вполне утвердить Россию на южных морях, только такая победа окончательно решила бы участь Крыма. Но Потёмкин опять осторожничал, ограничивал план военных действий Молдавией, считая, что на Валахию двигаться не следует. Мало того, он поверил провокации турок, будто бы развивающих наступление по Днестру и готовых к захвату Крыма, и оттянул большую часть армии к Бендерам, оголив те места, где должно было произойти наступление визиря. Хитроумный план верховного визиря удался бы на славу Порте, если бы не Суворов и та решительность, с которой он и на этот раз осмелился ослушаться Потёмкина. Суворов, назначенный в передовой корпус Молдавской армии, согласно предначертаниям светлейшего должен был начать с «ретирады», но отступление дивизии, стоявшей на удобных позициях, позволяющих наблюдать движение противника, казалось Суворову бессмысленным. Пользуясь молчаливым согласием Репнина, на время заменявшего Потёмкина, Суворов не только не отступил, но двинулся вперед, вскоре достиг успеха и разгромил два турецких лагеря близ укреплений Фокшан на границе Валахии. Это было поражение, создавшее панику и растерянность в войсках визиря. Именно здесь были сосредоточены отборные турецкие части, которым надлежало стать авангардом предполагавшегося вскоре наступления. Рассчитав весьма основательно, что союзному австрийскому командованию будет не под силу справиться с его янычарами, визирь был ошеломлен силой удара, который нанес им Суворов, подоспевший на помощь союзным австрийским полкам. Потёмкин сделал вид, что Фокшанская операция совершилась по его приказу. В реляции Екатерине от 29 июня 1789 года он сообщал: «По данному от меня повелению не терпеть перед собою скопляющегося неприятеля, генерал князь Репнин решил генералу Суворову идти купно с австрийским генералом принцем Кобургом, атаковать неприятеля, до тридцати тысяч скопившегося в Фокшанах, что помощию божиею с совершенным разбитием турок исполнилось». То, что Суворов вопреки плану Потёмкина пошел в Валахию, свидетельствовало о великой его прозорливости. В интересах турецкого командования было разъединение австрийской и русской армий, и поэтому удар готовился не в Молдавии, где была русская армия, а в Валахии, где находилась австрийская, которую легче было разгромить или склонить на уступки. Фокшанская операция Суворова заставила визиря действовать в этом направлении как можно поспешнее. Стотысячная армия двинулась к Рымнику, где и расположился лагерь турецкого командования. Фокшанская операция заставила австрийцев настолько поверить в могущество Суворова, что, как только визирь начал наступать на Рымник, герцог Кобургский призвал Суворова на помощь.iii
Движение от Бырлада, где располагалась дивизия Суворова, в селение Рымник к лагерю наступающего визиря не было простым и легким. Лагерь верховного визиря находился за рекой Рымник под прикрытием гряды лесистых холмов. Но прежде чем подойти к этим холмам и крутым берегам Рымника, надо было еще переправиться через Серет и обойти глубокие овраги, пересекающие путь. Дивизия Суворова двинулась в полночь на 8 сентября (1789 года). «Погода была ясная, как вдруг пал великий дождь с бурею, отчего наводнилось до непроходимости местоположение к понтонам», – писал Суворов Потёмкину. Суворов навел мост в течение суток, исправил берег, перешел вброд малые реки и вырубил лесную чащу в местах непроходимых. План действий был четок и ясен. Хотя считалось, что этот план выработал военный совет во главе с герцогом Кобургским, но по существу он принадлежал одному Суворову. По этому плану русская сила была решающей, а командование сосредоточивалось только в его руках. Диспозиция Суворова состояла в том, чтобы, перейдя реку Рымник, одолеть лесную чащу, а затем атаковать турецкие ретраншементы, лежащие за оврагом. Именно потому, что визирь считал себя в надежном укрытии, атака оказалась решающей. Когда передовая линия союзных войск приблизилась к противнику на расстояние километра, вперед была брошена кавалерия, которая, перескочив овраг и окопные рвы, неожиданно на полном карьере врубилась в ряды янычар. Тогда подоспела пехота, а кавалерийские отряды пошли в обход и, оказавшись в тылу у турок, преградили им путь к отступлению. Это был не только разгром турецкой армии, но и позор верховного визиря, столь славившегося своей стратегией. Тщетно именем пророка пытался он остановить мятущихся в панике янычар. Победа была полная. Потёмкин, который не предусматривал этого наступления в Валахии, вынужден был не только оценить его как победу, но и признать тем самым свою неправоту и прозорливость Суворова. «Объемлю тебя лобызанием искренним и крупными словами свидетельствую мою благодарность. Ты во мне возбуж-даешь желание иметь тебя повсеместно», – восторженно писал Потёмкин, позабывши о том, что Рымникская операция Суворова была еще бо́льшим нарушением субординации и дисциплины, чем очаковская атака. Но так же как и после фокшанского дела, Потёмкин сделал вид, что всё было предусмотрено главнокомандованием, хотя «победа приобретена искусством и храбростью Суворова». Екатерина не знала, как наградить Потёмкина и за Фокшаны, и за Рымник: «Ты, право, умница, спасибо, мой фельдмаршал, что дела ведешь умно и с успехом…» – писала она ему и в самом ходатайстве о награждении Суворова усматривала великодушие Потёмкина.iv
Суворов действовал не только решительно, но и обдуманно. Его военные планы вытекали один из другого и вели к ясно намеченной цели – разгрому турецкой армии. Рымникская операция требовала продолжения, и Суворов разработал план дальнейших совместных с австрийской армией действий, состоявших в продвижении за Дунай. Разрабатывая свой план, Суворов изучал врага: не только его военное расположение, состав армии, морские силы, но и состояние тыла и даже принялся за турецкий язык. Все помыслы и поступки Суворова были подчинены одной заботе: войне. Предусмотрительный, он видел, что турки не пойдут на уступки, пока окончательно не будут разбиты, и потому считал необходимым стремительное наступление. Надо было спешно пользоваться замешательством турецкого командования после Рымникской операции. Потёмкина гораздо больше, чем военные действия, занимало устройство южных губерний. Он вел мирные переговоры с Портой, надеялся на успехи и пренебрег суворовским планом нового похода в Валахию. Тем временем австрийцы сочли благоразумным для себя сепаратное перемирие с Портой. По договору, заключенному австрийцами, русской армии был закрыт доступ в Валахию, где стояли австрийские войска. Теперь для наступления, которое оказалось всё-таки неизбежным, оставался один путь: к востоку и юго-востоку от Галаца. Узкая полоса между Дунаем и берегом Черного моря была укреплена множеством крепостей, во главе которых стояла твердыня, составлявшая гордость султана, – дунайская крепость Измаил. Операции осени 1790 года начались с укреплений придунайской цепи: Килии, Тульчи, Исакчи. Но победа эта была бесполезной, пока держался Измаил. Измаил стоял на левом берегу Думая, охраняя пути, ведущие к сердцу Оттоманской империи. Еще покойный султан Абдул-Гамид несказанно гордился этой крепостью, так как именно он повелел сделать ее неприступной. Дело в том, что она уже была однажды взята русскими в 1770 году (не говоря о том, что в 1632 году ее брали казаки), и когда по Кучук-Кайнарджийскому договору Порта получила крепость обратно, решено было ее укрепить. Султан Абдул-Гамид с помощью английских и французских дипломатов пригласил лучших фортификаторов, какие только нашлись в Европе, и они возвели крепость мощности по тому времени необычайной. Главный вал ее тянулся на шесть километров и был окружен глубоким рвом, наполненным водою. Высота ее стен была около двенадцати метров. На верках крепости установили триста пушек, и в Измаил был послан тридцатипятитысячный гарнизон под начальством опытнейшего полководца, трехбунчужного паши Айдозлы-Магомета. Что касается запаса продовольствия и снаряжения, то его могло хватить надолго. Потёмкин снова применил свой метод медлительной осады, и так же, как под Очаковом, этот метод лишь постепенно разлагал войска, не оказывая действия на противника. Меж тем, наступили ноябрьские холода с пронизывающими степными ветрами. В осадном корпусе не хватало хлеба, не было дров, по размытым путям с трудом подвозили снаряды. Дальнейшее сидение у стен крепости становилось бесполезным. Военный совет постановил перейти к дальнейшей блокаде, т. е. отойти на удобные позиции, держа крепость на прицеле. Постановление совета отослали в Бендеры к главнокомандующему и начали отводить части осадного корпуса. Турки ликовали, считая себя победителями. Но решение, которое все считали вполне согласным с осторожной тактикой Потёмкина, не было одобрено. Потёмкин наконец убедился, что мирные переговоры безрезультатны, пока не одержана решительная победа на суше и на море. Такой победой на суше могло быть взятие крепости Измаил. И Потёмкин решился на штурм. На этот раз он не имел охоты быть во главе штурма. Он поручил его Суворову, не принимавшему участия в осаде. Рассказывали, что будто бы, сидя в Бендерах, Потёмкин со дня на день ждал сдачи Измаила и томился беспокойством. Гречанка София Витт, любовница светлейшего, гадала на картах. Карты предсказали падение Измаила через три недели. Потёмкин, усмехнувшись, сказал ей, что знает способ взять Измаил гораздо скорее, и тут же послал ордер Суворову на взятие крепости в течение трех дней. После этого светлейший будто бы совершенно успокоился и предался увеселениям, а ровно через три дня было получено известие о том, что Измаил пал. Анекдот интересен тем, что показывает, как верил Потёмкин в Суворова, держа его в качестве безусловного, но крайнего средства поразить врага. Ордер Суворову за № 1336 послан был 25 ноября 1790 года, а Измаил взят 11 декабря. Суворов находился в Галаце и получил ордер только на пятый день. 2 декабря Суворов докладывал: «К Измаилу я сего числа прибыл». Когда Суворов появился у стен Измаила, все поняли: предстоит штурм. Отходившие части немедленно вернулись на места. Генералам, составлявшим «сейм нерешительных», пришлось признать свою ретираду постыдной. Собравшись вновь, они постановили: «Обращение осады в блокаду исполнять не должно. Отступление предосудительно ‹…› приближаясь к Измаилу, по диспозиции приступить к штурму неотлагательно». Прежде чем приступить к подготовке, Суворов обратился к «превосходительному сераскиру Магомет-паше-Айдозле, командующему в Измаиле, почтенным пашам и прочим султанам». Суворов написал: «24 часа для сдачи и воля, первые мои выстрелы уже неволя, штурм – смерть». Парламентеры отвезли обращение, изложенное более округлыми фразами. Сераскир просил десятидневного перемирия. Ему отказали. Девять дней подготовки к штурму Измаила были знаменитым подвигом и образцом суворовского мастерства. Суворов сам считал, что на такой штурм можно решиться раз в жизни. – Победа или славная смерть! – сказал Суворов. Последние часы перед штурмом он провел среди солдат. Штурм начался в 3 часа ночи на 11 декабря. «Нет крепчей крепости, ни отчаяннее обороны, как Измаил. Приступ был мужественен, неприятель многочисленен, крепость к обороне способна, отпор был сильный и отчаянная оборона обратилась на гибель и совершенное сокрушение неприятеля», – так рапортовал Суворов, и, по правде говоря, трудно было рассказать об этом событии с большей ясностью. Секрет диспозиции Суворова, который открыт был лишь тогда, когда крепость пала, состоял в том, что штурм был предназначен лишь четырем колоннам, атакующим со стороны Дуная (наиболее доступная часть крепости). Все остальные части, хотя и действовали так же, как главные, были нужны лишь для того, чтобы рассредоточить оборону турок на всё протяжение шестиверстной стены. Падение этой дунайской крепости упрочило судьбу Крымского полуострова, на который еще зарилась Турция. На крепостных стенах Измаила нашли свою смерть иные из тех, кто еще надеялся на восстановление Крымского ханства: Каплан-Гирей, Ахмет-Гирей и другие султаны – братья и племянники злополучного Шагин-Гирея. Знаменательно, что удары, которые нанесли штурмующим Гиреи, были отражены героем Алуштинского сражения генерал-майором Кутузовым. Именно на его долю выпала расправа с воинственным гнездом, укрепившимся в Измаиле, и, хотя военные действия продолжались, исход войны был предрешен. Стамбул дрогнул от падения Измаила. Европейские заговорщики, уже готовившие совместные действия против России, оставили свои замыслы. Суворов стал героем дня. О нем заговорили во всем мире. Сам он, кажется, впервые осознал свой гений военачальника. Но именно потому, что слава его была велика, Потёмкин сделал так, чтобы могущество затмило славу. Принято считать, что Потёмкин помешал должному триумфу Суворова потому, что Суворов повел себя с ним заносчиво и дал понять, что имеет право не искать его милостей. Известен рассказ о том, что в ответ на вопрос Потёмкина «Чем мне наградить ваши заслуги?» Суворов отвечал: «Я не купец и не торговаться с вами приехал. Кроме бога и государыни никто меня наградить не может». Суворов скоро понял, что бог и государыня не подумают награждать его, ежели того не захочет всемогущий Потёмкин. Взамен лавров и ожидаемого фельдмаршальского жезла он получил всего-навсего чин подполковника Преображенского полка. Правда, чин этот имел видимость высокой награды, так как полковником в этом полку была сама Екатерина. Не могло быть и сравнения меж тем приемом, который оказали ему после Кинбурна, и тем, что ожидало его в Петербурге после Измаила. От него просто поспешили избавиться, услав в Финляндию для укрепления границ. На знаменитом торжестве в Таврическом дворце в честь измаильской победы Суворов не присутствовал.Светлейший уходит из жизни
Имя странного Потёмкина будет отмечено рукою истории.Со времени злополучного шторма светлейший находился в каком-то особом состоянии. Теперь не мог он, как прежде, «нося беспечный вид, беспрестанно трудиться». То лежал он недвижим, страдая тошнотами и мучительной болью в желудке и печени, то приободрялся и снова становился здоров, невоздержан в пище и весел. То укрывался он вдали от сражений, вздрагивая от гула орудий, то вдруг летел впереди войск, веселясь свистом пуль. Иногда вдавался он в мельчайшие подробности военных планов, а иногда всем решительно пренебрегал, лежа на боку или предавшись разгулу. Он давал волю самым разнузданным страстям своим, прихотям и капризам. Его называли Аннибалом, ему приписывали пороки Александра Македонского и обвиняли его в том, что он превращает русскую столицу в Капую и Вавилон. Обладая колоссальными богатствами, он умудрился за годы войны сделать два миллиона долгов. Он тратил десятки тысяч на одни цветы и к своим коллекциям редкостей прибавил еще собрание часов всех размеров и несметной ценности. В походы он возил за собой огромный оркестр с дирижером Сарти во главе и балетмейстера Розетти с фигурантами. Скандальная связь его с Прасковьей Потёмкиной сменилась еще более скандальным сожительством с красавицей гречанкой. Прекрасная София долго ходила по рукам, явилась в Яссы и пленила светлейшего настолько, что он заставил императрицу принять ее во дворце. Однако вскоре он бросил гречанку, потеряв голову от прелестей добродетельной княгини Долгорукой. Теперь походные палатки превращались в салоны княгини, и адъютанты скакали за тысячи верст, чтобы доставить ей модные туфельки. Он оскорблял армию, заставляя стрелять из пушек в честь пробуждения княгини, и возмущал Петербург своими неистовыми пиршествами в то время, как война еще не кончилась. Последним, неслыханным, затмившим все другие празднеством было устроенное в новом петербургском доме Потёмкина, близ Конной гвардии. Дом этот именовался Таврическим дворцом. Державин уподобил его «одеуму или пантеону». Всё великолепие Таврического дворца было в монументальной простоте. Главную роскошь убранства составляла игра света: всюду были огромные зеркала, «всё усугубляющие». «Алмазовидная» пирамида, воздвигнутая в честь Екатерины, производила такое «радужное сверкание», описать которое не мог и сам Державин[59]. Празднество 28 апреля 1791 года было дано в честь взятия Измаила, посвящено Екатерине и должно было явиться триумфом фельдмаршала. Но было нечто трагическое в этом триумфе. Светлейший вдруг стал невесел и, по мнению Екатерины, слишком хорош, словно разом излечился от всех своих пороков. При этом явил он безмерную свою усталость. Возвращение Потёмкина в армию летом 1791 года было печальным. Подавленный трудно скрываемой болезнью, он вынужден был опять и опять садиться в кибитку, одолевать эти нескончаемые пространства, ехать, ехать… Опять Херсон, верфи, доки, армия, неприятности с таврическим управителем, опять Бессарабия, армия, походы. Всё это уже непосильно, но никто не должен подозревать о слабости светлейшего. В конце июля были подписаны предварительные условия с Турцией. Лиман – защита Крыма – стал русским, но он требовал укреплений, построек. Так же как любовная страсть продолжала посещать этого уходящего из жизни, но всё еще сильного человека, так и страсть к строительству, созиданию оставалась у него до последних дней. Любимцу своему зодчему Ивану Старову поручал он украшение и благоустройство Крымского полуострова. Светлейший писал Старову: «Отправляясь в Тавриду, проездом осмот-реть в Евпатории мечеть. В старом Бахчисарае есть небольшие здания, из которых одно знаменитое. Я хочу селение тут возобновить и обратить помянутое в церковь, то о приделке алтаря дайте ваши мысли. Есть тут небольшой фонтан, и тот исправить… В Севастополе церковь большую прожектировать, место же лучшее выбрать; для губернского города Симферополя расположить строения, стараясь их с выгодою казне прожектировать. Подумайте о кирпичных и черепичных заводах… …По дороге к Феодосии, где переезд через Салгир-реку, нужно сыскать место, которое бы способно было для сделания каменного моста». Все прошения о наделах, приписке к городам Крыма, все дела переселенцев шли в собственные руки Потёмкина. Смоленский ямщик Гридин Андрей Савельев просит приписать его к городу Симферополю. Это нравится светлейшему, он согласен. То же и об орловском купце Данилове, который просит отвести ему в Севастополе 40 квадратных сажен для постройки дома. Следует расселять русские семейства в татарских селениях, чтобы тем самым не было скрытых потаенных очагов для всяческих проповедей и уговоров от турецких посланцев. Переселяемый должен отличаться самыми лучшими качествами земледельца и садовода, о чем светлейший предупреждает своего секретаря Попова. О каждом таком семействе Попов делает подробный доклад Потёмкину, который задает при этом самые неожиданные вопросы. Военному управителю Тавриды отдает он повеления о «выключке» из гарнизонных батальонов капрала Ивана Анохина и рядового Никиты Конюхова, так как «они женаты на таврических поселянках». Этих солдат надлежало «приказать в число казенных Таврической области поселян». «Немедленно предписываю дать мне знать, имеют ли обитатели тамошние довольное число для посеву ярового», – пишет светлейший Каховскому, считая, что полуостров не должен являться нахлебником других областей, и хлебопашество в северных степных пределах может вполне его прокормить. «Для учреждения фабрик и разведения нужных в Тавриде произрастаний, – предписывает светлейший гражданскому правителю, – избрать для того способную дачу ‹…› и отрапортовать с приложением оного плана». Также предписывается Каховскому учредить в старообрядческих селениях «торгу в каждую неделю по понедельникам и трех ярманок в год»… Теперь, под хорошую руку, светлейший надеялся окончательно уговорить Екатерину о переселении в Таврическую область старообрядцев и этим отчасти возместить недостаток в пахарях и торговом сословии. Потёмкин был уже у предела жизни, когда началась спешная постройка Николаева. Охладев к Херсону с его болотами, Потёмкин решил перенести всё кораблестроение в Николаев. Теперь, в связи с приобретением лимана, у него рождались грандиозные планы портовых и кораблестроительных работ. Подробнейший проект, который разрабатывал светлейший, касался ежегодного распорядка действий Черноморского флота, его артиллерии, заготовок леса для кораблестроения, углубления фарватера Ингула (против Очакова) и т. п. На Днепре ниже порогов предполагал Потёмкин завести строение судов для гребного флота и канатный завод. На бугских порогах хотел устроить он водяные машины для кузнечных адмиралтейских работ и починки якорей. Больше всего светлейший был озабочен людьми, которые могли бы сделать всё задуманное, и, «чтобы навсегда устранить затруднения, встретившиеся в получении мастеровых из отдаленных губерний», он решил поселить близ Николаева «не менее 2000 человек, обязанных поочередно заниматься работой в адмиралтействе и содержать себя хлебопашеством». Для начала он поселил в этих изобретенных им адмиралтейских слободах 850 человек собственных крепостных, которым дал вольную, да еще столько же «беспаспортных бродяг», заштатных церковников и рекрутов. Слобожане обязаны были устраивать фермы, чтобы снабжать черноморцев горохом, фасолью, салом и мясом. Они сажали лес для судостроительных верфей, разводили «аптекарские сады» для черноморских госпиталей и сооружали мастерские для различных мелких изделий, необходимых на флоте. Такую же слободу проектировал светлейший и близ Севастополя. Всё это требовало досмотра, собственного внимательного глаза, и Потёмкин давно порывался сам быть в Николаеве и Севастополе. В начале октября он окончательно решил ехать и 4 октября покинул Яссы, где была его фельдмаршальская ставка. Накануне сделался у него жестокий припадок вздутия печени. Изнывая от жара, велел светлейший открыть все окна, облить себя холодной водой и напился квасу, а затем, как докладывал лейб-медик, «съел целого гуся и впал в рецидиву». Никакие уговоры не могли заставить светлейшего следовать медицине. Его раздражали эти «эскулапы», помышляющие что-либо изменить в его судьбе. Он хотел жить так, как ему заблагорассудится, так, как всегда. Надо ехать, и поскорее!.. В 40 верстах от Ясс, близ селения Пунчешти, светлейшему стало совсем плохо. Он велел остановить лошадей и сказал: «Будет теперь, некуда ехать, я умираю, выньте меня из коляски, я хочу умереть в поле…»А.С. Пушкин
Устроители и разорители
Во времена Потёмкина заводили в Причерноморье города с грандиозными сооружениями, селения среди диких степей и скал, сгоняли тысячи людей для осушки болот, прокладки дорог и садовых насаждений. Не щадили ни денег, ни людей. Пренебрегая правами помещиков, приманивали в Новороссию множество крестьян, расселяемых на казенных и помещичьих землях без разбору, устанавливали не существующие в стране льготы торговому люду и щедро раздавали земли, не вникая в их принадлежность. Так удалось добиться необходимого. Прежний оплот турецкой военщины превратился в мирную окраину России, уже кое-как заселенную и хорошо охраняемую. Молодой флот и форт Севастополь успели показать себя миру. Дело было сделано. Ближайшие преемники Потёмкина, призванные продолжить его начинания, явились лишь исполнителями государевых распоряжений, более или менее рачительными. По смерти Потёмкина многое полезное осталось недовершенным, сделанное требовало новых усилий и расходов. Екатерина назначила генерал-губернатором южного края последнего своего фаворита Платона Александровича Зубова. Любовник дряхлеющей императрицы был мелок, мелочен и недалек умом. Память заменяла Зубову сообразительность, упрямство – волю. Суворов попросту называл его болваном. В качестве генерал-губернатора Новороссии и начальника Черноморского флота Зубов получил возможность мстить памяти Потёмкина, которого не любил особенно за то, что светлейший не обращал внимания на его интриги и происки. Зубов начал уничтожать всё то, что было сделано. Стремясь найти во всем следы влияния французской революции, Зубов прежде всего отменил все потёмкинские «вольности». Он распорядился о возврате беглых, и это нанесло тяжелый удар хозяйству края. В царствование Павла I, ненавидевшего всё екатерининское, началось полное запустение Новороссийского края, и особенно Крыма. Можно было только удивляться тому, с какой быстротой происходили порубки тутовых и маслиновых рощ, приходили в запустение дороги, иссыхали лавры и растаскивались кирпичи начатых строений. Упразднили саму Таврическую область. Упоминание о Тавриде вызывало у Павла I прилив желчи. Казалось, императору хотелось, чтобы весь полуостров, подобно памятнику на могиле Потёмкина, «засыпали землей и изгладили так, как бы его и не было». В конце царствования Павла I Таврида представляла печальное зрелище. Ближайшим сотрудником Павла по разорению края был генерал Михельсон, этот человек со срезаннымчерепом (каким его изобразил скульптор Шубин). Павел назначил Михельсона «управляющим Новороссией» (генерал-губернаторство было отменено), чтобы навести порядки там, где, по его мнению, Потёмкин так долго насаждал беспорядок. Михельсон подавлял народную революцию, и призрак Пугачева преследовал его до конца дней. В Новороссии, и в особенности в Тавриде, уничтожал он «вольный дух» и тем самым закрывал вольный путь переселенцам. Но вопреки желанию монарха и его приспешников, вопреки распоряжениям, мешавшим работе, вопреки отсутствию нужных средств и материалов для строительства, прорастали посеянные всходы, крепли новые корни, кое-как просачивался к Черному морю поток беглых крепостных, являлись даровитые строители и сохранялся вольный дух, который помещики именовали «буйственным и непокорливым». Среди людей, создавших в павловское время, вопреки всему, немало ценного, первым должен быть назван адмирал Ушаков. В эту злосчастную эпоху продолжал он строить Севастополь, так что город стал почти вдвое больше. А между тем, Павел отнял у Севастополя даже его имя. Приказано было называть его Ахтиаром, по имени ничтожного селения, на месте которого был построен город. Первые распоряжения Александра, касающиеся Новороссии, характерны своей двойственностью и неясностью. Сведения о развале и беспорядках в хозяйстве и управлении заставили Александра в первые же дни царствования обратить внимание на южные области. Можно было бы ожидать, что прежде всего будут удалены распорядители. Между тем Михельсон остался на своем посту, а в особый комитет «О устроении Новороссии» был введен другой разоритель края – Платон Зубов. Зато адмирал Ушаков, который, помимо своих заслуг начальника Черноморского флота, прославился как устроитель и отличный хозяин Севастополя, был удален с Черного моря. Александр отлично знал о заслугах Ушакова, но Ушакова не любили петербургские сановники, вице-президент Адмиралтейств-коллегии Мордвинов, который был теперь приближен и даже назначен министром морских сил (хотя очень скоро смещен). Александр, не считая нужным проверить враждебные сведения, снял Ушакова и поставил на его место Фондезина, хотя Фондезин ни в какой мере не мог заменить Ушакова. Таким образом, первые распоряжения Александра не только не улучшили, но ухудшили положение. Надежда была на комитет «О устроении». Есть основание думать, что учреждение комитета было подсказано Александру двумя людьми, которые и вошли в комитет: Кочубеем и Мордвиновым. Кочубей и Мордвинов в некотором смысле олицетворяли внутреннюю политику времени «прекрасного начала» царствования Александра. Виктор Павлович Кочубей знаменовал собой уклончивость и любезность, Николай Семенович Мордвинов – англизированное свободомыслие на подкладке русского крепостничества. Оба они имели решающее влияние на дела Тавриды. Комитет «О устроении Новороссии», как и другие комитеты, учрежденные Александром, был громоздкой, медленно двигающейся машиной. Комитет, в свою очередь, создал комиссию под председательством сенатора И.В. Лопухина. Комиссия «для разбора споров по землям и для определения повинностей на Крымском полуострове» отправилась в Симферополь в 1802 году и пробыла там три года. Нельзя сказать, чтобы комиссия обременяла себя трудами. У членов комиссии явно была большая склонность к досугам, чем к занятиям. Председатель суда Павел Иванович Сумароков даже посвятил этим досугам целую книгу с названием: «Досуги крымского судьи». В записках таврического губернатора Мертваго мы читаем весьма нелестные отзывы о деятельности комиссии. «В течение трех лет не было решено ни одного дела. Члены комиссии, обеспеченные хорошим содержанием, старались оттягивать дела». Несомненно, что если бы комитет и комиссия больше действовали, чем изучали и совещались, в таврическом архиве не осталось бы многочисленных дел о злоупотреблениях и взятках в губернских учреждениях, возглавляемых губернатором Бороздиным, который больше сибаритствовал в Саблах и Карасане, чем заботился «о устроении». Главным предметом изучения комитета было население. Его не хватало для того, чтобы обработать пространства. Способы заселения, которые применял Потёмкин, были страшны. Шлюз, открытый Потёмкиным, следовало прикрыть как можно плотнее. Никаких беглых. Никакого потворства беззаконию. Но, охраняя права помещика, «устроители» становились в тупик. Был найден выход, который, однако, противоречил естественному ходу событий. «Устроители» решили колонизовать южные земли иностранцами. Члены комитета были связаны с французской аристократией, которая бежала от гильотины. Все они потеряли свое имущество во Франции. Они казались хорошо осведомленными в тех областях хозяйства, которые следовало насаждать на юге. Комитет рассматривал различные проекты этих эмигрантов, которые клонились к тому, чтобы Новороссия, и особенно соблазнительная Таврида, превратились в своеобразную эмигрантскую колонию. Почин комитета получил одобрение царя. С 1805 по 1822 год, когда на южное губернаторство были поставлены герцог Ришелье и сменивший его граф Ланжерон, идея французской колонизации начала осуществляться. Если бы не события Отечественной войны, с одной стороны, и реставрация Бурбонов – с другой, огромные хозяйства Рошешуаров, Рувье, графа Мэзона, Ревелльо и самого Ришелье, вероятно, ширились бы и заполняли собой пространства низовий Буга и Днепра, степи Тавриды и, наконец, ее горные и приморские земли. Но опыт искусственной колонизации не удался, хотя нельзя было отказать многим из перечисленных эмигрантов в хозяйственных дарованиях и подлинной изобретательности, полезной для края (стада мериносов Рувье и Мэзона, суконные фабрики Памо, виноградники Ришелье и т. д.). Жизнь края продолжала развиваться вопреки неосуществимым проектам и мнимым «устроениям». Потёмкинские деревни оказывались жизнеспособными. Сменялись поколения и гнёзда упрочились. Земля переставала быть чужой и незнаемой.Жив Севастополь
Смерть предпочитаю я легчайшею несоответственному поведению и бесчестному служению.Ушаков принадлежал к тем людям, на долю которых достается самое трудное. Словно Ивану-царевичу в русской сказке, судьба подсовывала ему всё новые испытания – одно сложнее другого. По окончании войны достались ему починка и оснащение вконец разболтавшегося флота, притом, требовалось привести его в порядок не позднее мая, когда эскадре можно будет выйти в море. Корабли были плохи. Рангоуты растрескались, паруса изорвало в клочья, в обшивке бортов, источенной червем и облепленной ракушками, зияли щели. Пришлось конопатить, красить, смолить, перебирать заново. Надо было ставить новые паруса, блоки, канаты и т. п. Для всего этого требовались лес, краска, смола и многое множество разного материала. Наконец нужны были новые мундиры, рубашки, фуфайки, сапоги, потому что команды вовсе износились. Нужны были одеяла и белье для госпиталя, нужен был провиант. Из всего, что затребовал Ушаков, привезли в Севастополь небольшую часть, а затем дело остановилось из-за бездорожья и осенних бурь. После смерти Потёмкина «на верху» не было никого, кто хотел бы всерьез заниматься нуждами Черноморской эскадры и порта. Снарядившись, Ушаков сам отправился в Херсон, где надеялся взять кое-что с верфей и складов. Наступила осень, и суда поставлены были на кренгование. Адмирал не хотел рисковать большими кораблями. Он составил караван из наиболее увертливых на волне катеров и отправился за материалами, невзирая на погоду. Матросы принялись за старые севастопольские дела – пошли в леса, на починку дороги и на городскую стройку, которую Ушаков затеял согласно своим усердно разработанным планам. Главной заботой его был госпиталь. Его строили из хорошего камня, о двух этажах, с большими окнами и красивым фронтоном. Ушаков настаивал на том, чтобы здание было непременно красивым, хотя по скромности и непритязательности своей никогда не видел смысла в различных ухищрениях зодчества и осуждал Потёмкина за пышность его сооружений. Но госпиталь он хотел видеть красивым. Весной здание госпиталя не только было готово и возвышалось над Корабельной так, что были видны все три его светлые стенки, но и заполнялось уже больными, перенесенными из старых бараков. Зимой 1797 года в Севастополь явился посланный адмиралтейством для особого осмотра контр-адмирал Карцев. Он подробно докладывал о состоянии военного порта и работах, в то время производимых. Несмотря на сухое изложение, мы легко можем представить себе Севастополь таким, каким видел его адмирал: «При входе в залив, на северном и южных мысах, также возле города и при самой воде построены были для защищения входа довольно сильные каменные батареи… Адмиралтейство, с его магазинами и разными мастерскими, построено с заведения порта, при входе в гавань, на низменности берега. Киленбанк с магазинами помещен в другой бухте. Корабли, фрегаты и прочие суда расположены на якорях подле берега, в который врыты в месте палов также якоря для закрепления швартовов. Все суда содержатся чисто и со всевозможною бережливостью. В некоторых местах по бухте, где стояли швартованные корабли и прочие военные суда, уравнивался берег для построения магазинов и удобного положения на нем корабельных вещей. Против многих судов такие пристани уже окончены и на них сложены артиллерия и запасный рангоут, а в магазинах помещены все припасы и такелаж. Казармы для служителей построены на высотах берегов против гавани и против каждого корабля; они каменные, покрытые черепицею, а иные землею; некоторые же достраиваются и все вообще весьма сухи и чисты… Пороховых погребов не имеется, но порох удобно хранится в прибрежных пещерах, нарочно вырытых большей частью в Инкермане. Каменная двухэтажная госпиталь на триста человек построена на высоте берега в южной бухте против города и содержится в лучшем порядке; при ней имеется казарма для госпитальной прислуги…» Карцев отметил в своем донесении, что «строение казарм, корабельных магазинов и отделка берегов производились корабельными служителями без всякой платы от казны и только с небольшим употреблением казенных материалов». Беспристрастный доклад Карцева явился лучшей оценкой деятельности Ушакова. Каждый человек, хотя бы самый равнодушный, самый придирчивый, не мог не удивляться этой деятельности и этому «разжалованному» городу. Адмиралтейство и портовые постройки составляли центр Севастополя по берегам Южной и Корабельной бухт. Вверх по склону от моря поднимались широкие улицы, застроенные офицерскими домами, а выше лепились домики матросов. Кроме тех, кто служил в эскадре, здесь селились рыбаки и мастеровой люд из беглых крестьян или отпущенных солдат. Они занимались корабельным делом, плетением сетей, слесарной и шорной работой. Кроме потёмкинских «невест» появились и новые хозяйки – выкупленные у помещиков жены севастопольских слобожан. Какая-нибудь рязанская или тамбовская с целым выводком ребят терпеливо тащилась на возах с чумаками или пешая и в конце концов находила своего севастопольского новосела, делалась морячкой, а дети ее становились потомственными севастопольцами. Ушаков радовался, если кто-либо из мастеровых находил себе подругу, и в этих случаях оказывал помощь из собственных средств. Так вырастали Артиллерийская и Корабельная слободки. Ушаков любил бродить по Севастополю, появлялся и в матросских слободах, в балке, где сооружались беседки и качели для народных гуляний, в «Голландии» у больших сараев, где хранился корабельный лес. Он был очень доволен, что пустынные земли близ «Голландии» занял предприимчивый арнаут Бардаки, и теперь его семейство занималось здесь садоводством. Это придавало Севастополю вид города с предместьями, окружало его зеленью, делало приятным для глаз прибывающих с моря. В одной из лощин, названной Ушаковой балкой, как-то сам собой, вместо дикой рощи, явился тенистый сад для общего гулянья. Был в Севастополе и клуб, в котором, как рассказывает Павел Сумароков, «куда ни оглянешься, к кому не подойдешь, всё это моряки». Как только умер Потёмкин и адмирал Мордвинов, давний противник Севастополя, получил власть на Черном море, начались злоключения Ушакова, а с ним вместе и его любимого города. Ушаков, подлинный начальник Черноморского флота, поступил в подчинение Мордвинову. От Ушакова была отнята всякая самостоятельность, так что даже производство в чины офицеров Севастопольской эскадры предоставлялось Мордвинову. Мордвинов не одобрял особых забот Ушакова о Севастополе потому, что, как уже было сказано, не одобрял самого начинания. Он был уверен, что жизнь неизбежно обречет Ахтиар на положение ничтожного портового городка, и почитал своим долгом препятствовать его росту или, во всяком случае, установившемуся порядку строительства этого порта. Ему казалось недопустимым превращение корабельных команд в команды рабочих и даже лесорубов: всё это расшатывало военную дисциплину и мешало военной выучке. Мордвинов считал, что Ушаков покровительствует беззаконию. У Мордвинова было особое отношение к адмиралу, которого Потёмкин в свое время предпочел ему – Мордвинову. Этого он не мог простить Ушакову. Не мог простить он и того, что во время войны Ушаков сделал всё, чего он, Мордвинов, не сделал. Поэтому подвергал он сомнению даже самые подвиги Ушакова. Ему неприятен был этот коренастый, неловкий с виду человек с богатырскими плечами и девичьим румянцем. Что такое был Ушаков, откуда он взялся? В качестве начальника Мордвинов искал случая придраться к Ушакову, и случай не замедлил представиться. Выяснилось, что Ушаков без ведома Мордвинова взял для ремонта эскадры кое-какие материалы из херсонских складов. Ушаков доказывал что «не возьми он этих материалов своевременно, старые корабли могли погибнуть». Мордвинов объяснений Ушакова не принимал и считал его поступки противозаконными. Начальствующий адмирал давал понять севастопольскому адмиралу, что прежняя, домашняя распорядительность его по флоту не может быть терпима. Придирки Мордвинова были особо оскорбительны потому, что и починка кораблей, и новые здания в городе стоили казне ничтожно мало. По заведенному в этом удивительном городе обычаю и безмолвному уговору всякий севастополец трудился на пользу города, независимо от того, платили ему какие-либо гроши или не платили. Мордвинов всего этого не хотел знать, имея собственные понятия о дисциплине и порядке. Отныне учредил он строгую отчетность в делах, которая и должна была установить этот хороший порядок. На самом деле строгая отчетность, заведенная Мордвиновым, служила препятствием к быстрым распоряжениям и самостоятельным действиям, привычным для Ушакова. По всякому поводу Ушаков теперь должен был испрашивать разрешения. Правда, военная слава Ушакова была так велика, что делала его неуязвимым, во всяком случае, сместить его было нелегко. В 1798 году он был назначен командовать русско-турецким флотом в ионической кампании. С воцарением Александра I Ушакова отозвали на Балтийский флот. Черноморская эскадра и Севастополь лишились многолетнего своего устроителя. Севастополь осиротел. Но и оставленный без попечительного хозяина, Севастополь продолжал жить и расти.Ф.Ф. Ушаков – Павлу I
В комитете «О устроении»
1801 год декабря 4 дня установленный по высочайшему соизволению комитет о устроении Новороссийской губернии открыл первое свое собрание.Дневные записки комитета
4 декабря 1801 года в кабинете адмирала Николая Семеновича Мордвинова, в его собственном доме на Театральной площади в Петербурге, заседали члены вновь утвержденного комитета. Нам бы очень хотелось описать кабинет Мордвинова, но в нашем распоряжении нет ничего, кроме самого краешка на портрете Доу. Адмирал сидит, облокотившись на стол, крытый зеленым сукном. Над головой адмирала угол тяжелой золоченой рамы. Ноги адмирала укрыты пледом. Можно предположить на этом основании, что у адмирала был холодный, деловой кабинет, в том пуританском строгом стиле, который, по свидетельству современников, нравился этому русскому вельможе. Окна кабинета были высокие, большие, как во всех петербургских барских домах того времени, и, конечно, выходили на улицу. Следовательно, заседающие при некотором рассеянии (если оно было) могли видеть, как останавливались у Большого театра[60] крытые сани и как из них выпархивали разноцветные салопы, шляпки, шали. Заседающих было шестеро, и мы можем приблизительно описать и людей, и начало заседания. Маленький, подстриженный бобриком сановник то и дело опускал свой нос дятла к широкому листу царского повеления и скрипучим голосом читал, как бы выдавливая слово за словом: «…препоручает генералу от инфантерии князю Зубову (поклон в сторону уже не юного красавчика) и генерал-прокурору Беклешеву (движение в сторону круглоголового генерала с бычьей шеей), адмиралу Мордвинову (поклон почтительный сановнику в черном, с волнами седеющих волос, обрамляющих лицо умное и благостное), действительному тайному советнику графу Кочубею (особенное движение в сторону графа, немного поблекшего, надменного, но обладающего любезной улыбкой) и тайному советнику Габлицу (дружеский кивок в сторону приятнейшего и серьезнейшего Карла Ивановича) рассмотрение всего, что до устроения Новороссийской губернии касаться будет, по местному ее положению, по видам торговли и по особенным ее отношениям к пользам государственным, с постановлением наилучшего управления, сходного с состоянием сего края, причем в случае нужды дозволено приглашать в комитет для надлежащих объяснений управляющего Новороссийской губернии генерала-от-кавалерии Михельсона, для производства письменных по сему предмету дел повелено быть экспедитору государственного совета Оленину (последнее прочитано той скороговоркой, которая употребительна, когда скромный человек называет свое имя)…уповательно, что столь благоприятный край России, буде в нем водворится справедливое и скорое судопроизводство, свобода по торговле и полная безопасность в собственности, должен, конечно, ожидать в непродолжительном времени населения, соразмерного пространству своих земель». Начало «устроения» ознаменовалось торжественными речами, и в них, несомненно, лились потоки пожеланий и обещаний во имя народного блага, «свободы и безопасности», было сказано несколько слов «о самом ужасном деспотизме» и о тех усилиях, которые надо употребить, чтобы разобраться во «всём том беспорядке, расстройстве, полном хаосе»[61], который породили последние годы царствования Павла I. Первые заседания комитета были торжественными, широковещательными. Говорилось о темном прошлом и о светлом будущем, о заботах императора, о решительных мерах против всяческой неправды, лихоимства и беззакония. На первых заседаниях было высказано много горьких истин и уже намечались разногласия. Мордвинов не мог примириться с непременным желанием Беклешева сохранять и утверждать, тогда как, по мнению Мордвинова, следовало перестраивать и созидать. Платон Зубов был очень смешон в непременном желании выказать себя передовым человеком, деятелем новой эры. В то время носился он с идеей запрещения помещикам иметь дворовых. Всех дворовых должно было выкупить государство. Идея эта в совете была оспорена, показалась ущемлением дворянских прав, и теперь Зубов считал себя более решительным реформатором, чем все остальные, и особенно Мордвинов. Значение Зубова в комитете было ничтожно. Его почтили назначением потому, что он мог знать кое-что о землях, которыми ранее управлял. Генерал-прокурор Беклешев был отчасти свадебным генералом. Его вводили во всевозможные комитеты как человека, славившегося своей прямотой и преданностью трону. Габлиц был взят из уважения к науке, равно как и классик Оленин, секретарствовавший, впрочем, по обязанности чиновника Государственного совета. Судя по тому, что дела комитета сразу же вошли в надлежащую форму и все острые углы были сглажены с самого начала, всем руководил незаменимый в этом смысле Кочубей. Как-то само по себе сделалось, что Кочубей явился главой комитета; между тем, Мордвинов был лицом наиболее интересующимся и заинтересованным. Еще наследником Александр знал о записке Кочубея, докладывавшей царю о печальном состоянии Новороссии. Кочубей тогда же (в 1797 году) мог показать эту записку Александру, так как в это время между ними уже была та «беспредельная дружба»[62], которая сохранилась на много лет. После переворота 11 марта Кочубей оказался в числе самых приближенных к трону. Он вошел в негласный комитет и, как самый осторожный из либеральной четверки, пользовался особым доверием царя. Пушкин назвал Кочубея «ничтожным человеком» и недоумевал о причинах его блистательной карьеры. В своем дневнике он привел суждение о Кочубее: «Это был ум в высшей степени примирительный». «Дело в том, – добавляет Пушкин, – что он был человек хорошо воспитанный». Действительно, Кочубей получил прекрасное образование и шлифовку за границей. Прилепляясь к передовым мыслям и ведя дружбу с передовыми людьми, Кочубей был снисходителен к идеям и людям самых противоположных направлений. Выводы и решения, которые он предлагал, всегда отличались округлостью, и все стороны казались удовлетворенными. Так оставался он невредим и нужен при любых обстоятельствах. О нем отзывались как о человеке надменном и очень любезном. Возможно, что это было лишь подражание царю, характер и дух которого Кочубей изучил и понял в совершенстве. Предки оставили Кочубею, владельцу знаменитой Диканьки, наследство более романтическое, чем существенное. Вот почему таврические земли, которые принадлежали жене Кочубея, были для него не безделицей. Кроме поместных доходов, на Юге были и другие: соляные промыслы, шерстобойная фабрика. Кочубей не гнушался темными дельцами, устремившимися на Юг, но отношения его с ними были скрыты, респектабельность – безупречна, и принято было считать, что лишь благородные побуждения государственного мужа руководили Кочубеем, когда он докладывал о Новороссии. Крыму было посвящено особое заседание негласного комитета в июне 1801 года. Тогда и явилась мысль создать особый комитет «О устроении». По этому поводу, как и по многим другим, негласный комитет советовался с адмиралом Мордвиновым, который начал пользоваться неограниченным доверием царя. В то время он уже был начальником морского ведомства, играл значительную роль в Сенате. Там его «золотые голоса»[63] раздавались неизменно: он ратовал за права и законность. Незыблемость законов и прав была его коньком. Его рассуждения на эти темы отличались высокой осведомленностью, несомненно, большей, чем в делах мореходства. Мордвинов был вольнодумец, но его политические требования не шли далее свобод высшему дворянству. Что касается крепостного права, то отмену его он считал неблагоразумной. Девизом адмирала была «постепенность при длительном изучении». Право выкупа без земли считал он достаточной мерой для облегчения участи крестьян. «Такой мирный переход от зависимого состояния к свободному никакому другому сословию (т. е. надо понимать, помещикам) не навлечет неприятностей и потерей», – говорил адмирал. Умеренность Мордвинова вполне отвечала настроениям царя, уже успевшего раскаяться в необдуманных обещаниях. Горячность, с которой Мордвинов относился к делам в Новороссии, заставляла злоречивых говорить о личных выгодах адмирала. Действительно, земли его на Юге были столь обширны, что составляли главный его доход. Он приобрел их за время службы на Черном море и, может быть, потому особенно дорожил ими. В Перекопском и Днепровском уездах ему принадлежало 106 000 десятин. Бахчисарайские и феодосийские земли составляли 10 000, а мелитопольские занимали не меньше 6000. Земли Байдарской долины (15 000 десятин) могли быть наиболее доходными, если бы не тяжба адмирала с прежними арендаторами этих земель. Жалобы его в суд, Сенат и царю начались с 1796 года[64]. Теперь, в 1801 году, адмирал, несомненно, надеялся уладить и свои байдарские неприятности. Неприятности, впрочем, не ограничивались байдарской тяжбой. Мордвинову и другим землевладельцам приходилось вести нескончаемую борьбу с крепостными, которые почему-то именно в Тавриде не хотели работать на помещика и бежали. Взаимное подстрекательство к побегам вольных поселян из беглых и крепостных, поселенных помещиками, приводило к тому, что некому было обрабатывать дворянские земли. Дух «вольности» не искоренился мерами Зубова и Михельсона, и адмирал считал, что эти меры следовало усилить. Он писал: «По случаю бунтующих по другим губерниям; воспоследовали строгие указы, и меры деятельнейшие и неукоснительные везде приняты были, между тем как в Крыму безобразия эти и по сей день продолжаются»[65]. Адмирал ждал теперь «начала законной деятельности» в Крыму, т. е. настаивал на том, чтобы закон оградил землевладельца от «произвола» земледельцев. Если вспомнить, что о бегстве крепостных с ее земель рассказывала Пушкину Загряжская, то будет ясно, что этот вопрос был немаловажным и для ее зятя Кочубея. Тем самым и царь теперь не иначе представлял себе благосостояние Новороссии, как если только «водворится ‹…› полная безопасность в собственности». Но те, кто обрабатывал земли Крыма, не имели собственности и, следовательно, не имели нужды в ее охранении. В лучшем случае у этих людей были ничтожные хибарки на казенных землях, а права на эти строения – очень шатки. Нет, речь шла не об этих правах, а об охране прав помещичьих, что и явилось едва ли не главной заботой комитета «О устроении», так как именно по этому поводу была немедленно выделена особая комиссия «для разбора споров по землям и для определения повинностей на Крымском полуострове». На первом заседании комитета была объявлена воля Александра I к делению Новороссии на три губернии с главными городами: Николаев, Херсон и Симферополь. Императорский указ гласил: «Таврическую губернию должно составить из прежних семи уездов, положенных при Таврической области: Симферопольского, Феодосийского, Перекопского, Евпаторийского, Днепровского, Мелитопольского и Фанагорийского». Затем комитет торжественно отменил порто-франко на полуострове, «учрежденный в рассуждении усилившихся в Европе смутных происшествий». Александр считал, что «сии обстоятельства ныне миновали, по настоящему положению Европы» и что можно «образовать сию часть согласно с выгодами российской торговли». Утвердив всё то, что надо было утвердить, комитет начал было обсуждать вопросы к «устроению», и секретарю Оленину поручили составить и предложить «таблицу о предметах следующих к рассуждению», причем решено было обратить внимание прежде всего на Тавриду. Таблица была составлена, обсуждена и утверждена. Предметов было немало «по части гражданской и духовной, по части государственного хозяйства, по части коммерческой и иностранной, по части военной». Комитет должен был рассуждать: о морской военной силе, о числе судов, о военных гаванях и строении кораблей, о сухопутных войсках и о защищении берегов и границ, о населении Тавриды, о числе и качестве земли, о лесах, о промыслах и фабриках, о насаждении винограда, шелковицы и маслины, о сообщении водою и твердым путем, о почтах, о соли, о вольной продаже и покупке земель и, наконец, о воспитании народном и сохранении древностей. Все члены комитета были полны решимости устроить, наконец, этот полуостров и прилегающие степи. Они были озабочены лесами, промыслами, населением и вольной продажей земель, но в первую очередь населением. Члены комитета принялись изучать и рассуждать по всем этим предметам.Под камнем сим лежит граф Виктор Кочубей.Что в жизни доброго он сделал для людей,Не знаю, чорт меня убей.Эпиграмма, приведенная в дневнике А.С. Пушкина
О населении. Комитет затребовал списки всех городов, сёл и деревень. Ученый Габлиц, который исколесил полуостров еще в 1784 году по распоряжению Потёмкина, теперь докладывает эти списки, делая маленькие примечания о горных, прибрежных и степных селениях, имеющих замысловатые названия вроде Биюк-Янкой, Шурю, Узунджа, Маркур, Коккозы. С особыми примечаниями и даже некоторым чувством ученый упоминает русские селения: Зую (72 двора – 186 душ), Мазанки (54 двора – 145 душ), Тавель, Султановку, слободы Петрову, Баланову и Барабанову. Эти селения рождались на глазах Габлица, и он помнил жалкие землянки, «потёмкинских баб» и тощего вола среди необозримого степного пространства. Впрочем, до всего этого комитету нет никакого дела. Комитет обращает внимание на цифры, и они оказываются ужасными: население Тавриды (считая и материковую часть) едва достигает ста тысяч. Габлиц замечает, что можно бы прибавить еще столько же, если взять в расчет «бродяг», людей, не имеющих крыши. Но вопрос о бродягах не может рассматриваться в комитете. Бродяг отправляют на съезжую… Бродяг посылают в сибирские рудники. Бродяг возвращают их хозяевам. Говорить об этом неприятно, потому что члены комитета отлично знают, откуда взялись эти бродяги. Меж ними могут быть и собственные люди членов комитета, числящиеся в бегах, «втикачи», как говорят на родине графа Кочубея. Все члены комитета знают, что бродяги появляются непрестанно, хотя и приняты заградительные меры и применяются наказания. У самого Кочубея в таврических имениях неблагополучно: люди бегут и становятся бродягами. Но трагедия в том, что в Тавриде нет надежных землепашцев и рабочих. «К обработанию всей земли недостает орателей», – пишет об этом мудрый судья, посланный в Тавриду для расследования тяжбенных дел. Для членов комитета неясно, почему именно в Тавриде, на этой маленькой, обозримой земле крепостной труд безнадежно не удается. Все винят Потёмкина. Мертваго, зять Оленина, которого Оленин хочет устроить на таврическое губернаторство, порицает «намерение населять Крым русскими людьми». Он премудро заявляет, что Потёмкин делал ошибку за ошибкой, отпустив греков на север Новороссии и заменив их ленивыми татарами, а потом содействуя уходу татар в Турцию, а главное, исхлопотав этот манифест, «коим прощаются беглецы». Манифест потерял силу еще при Екатерине, но люди верили и продолжают верить в него. Всё это дворянин Мертваго излагает в «Описании Тавриды», представленном в комитет. По его мнению, только военные поселения помогут разрешить вопрос. Южный берег должен быть военным поселением. То же самое думает и генерал-майор Годлевский: «Заселить Крым ландмилицкими полками», – предлагает он. Людей советует набирать в Молдавии и Валахии и… из бегущих мужиков. Беглые и бродяги составляют какой-то роковой круг, из которого не могут выбраться почтенные устроители, несмот-ря на свою высокую осведомленность в крестьянском вопросе.
О том, какой город пригоднее для коммерческого порта. Купцы первой гильдии Шулем Бобович, Юсуф Давидович и Арон Мовшевич Гласный, отцы города Гёзлев, услышав об открытии коммерческого порта в Крыму, написали в комитет ходатайство. Они утверждали (за всеми своими подписями и ссылаясь на почтенность своих занятий и капиталов), что Феодосия – город совершенно ничтожный, непригодный к торговле, так как в противоположность Евпатории не имеет спокойной гавани, и суда в нем «подвержены частым и сильным, с востока стремящимся ветрам и борам». Кроме того, это город без воды и почти без домов, так как нельзя считать домами эти азиатские сараи числом не более двухсот. А Евпатория! Что за город Евпатория, боже мой! Более тысячи домов и великое множество разного названия строений городских и частных. А жителей! Их не менее шести тысяч. А суда! Их ежегодно приходит не менее двухсот, и они «редко противную погоду себе встречают». И сколько на этих судах приходит иностранцев, так трудно сосчитать – а уж не менее трех тысяч человек, большею частью из Константинополя (который «по прямой линии от Евпатории находится»). Корабельщики, матросы, купцы и прочего звания люди! А купцы из Астрахани, которые ежегодно являются с мягкой рухлядью и затем отправляются в Мекку на поклонение! А купцы нахичеванские и имеретинские! Все они устремляются в Евпаторию, потому что это лучший на Черном море коммерческий порт. А погода… Боже мой, какая погода! Уж если солнце начнет палить, так палит до того, что человек не знает, куда деваться. Но сухость и «лечительность» Евпатории – замечательные. Отцы города просят обратить внимание на то, что и в последние шесть лет, когда в Крыму наблюдалось некоторое затишье в устроении, евпаторийцы выстроили триста шестьдесят пять лавок, двести двадцать пять магазинов для ссыпки пшеницы, сто пятьдесят жилых домов и «30 каменных с магазейнами». Что касается доходов, то будьте покойны: пятьсот тысяч оборот – это еще маленькая цифра, совсем ничтожная цифра. Комитет рассматривает и петицию жителей Феодосии и по этому поводу рассуждает длительно.
Относительно притязаний татар. 3 февраля 1802 года в комитете была читана просьба от мелкого чина Чернова (таврического губернского секретаря) по доверенности, ему данной от тамошних дворян и чиновников, относительно притязаний татар на жалованные и купленные первыми (т. е. дворянами) земли. Предмет этот был весьма труден для рассуждения, хотя существо его было совсем не такое сложное. Русским помещикам в Крыму достались земли, принадлежавшие мурзам и беям, которые бежали в Турцию и были виновны во всяких кознях и изменах. Кроме этих поместий, была роздана и часть земель султанских и ханских. Разумеется, все эти земли обрабатывали простые крестьяне-арендаторы. Они платили огромную подать всем этим мурзам, беям, хану и султану – натурой и трудом. Русское правительство не только не посягнуло на свободу земледельцев-татар, но и уменьшило подать почти вдвое. Между тем, татары были недовольны и не хотели работать на новых помещиков. Для того чтобы понять поведение татар, комитету следовало заглянуть в историю. Дело в том, что татары-крестьяне со своими мурзами и беями были в сложных феодальных отношениях. Отношения эти устраивали татар, несмотря на поборы и повинности. И земледелец, и землевладелец вместе совершали те грабительские военные набеги, которые и составляли главную суть жизни Крымского ханства (недаром хан Менглы-Гирей говорил: «Наш народ войной живет»). Мурза и бей были не только хозяевами земли. Они были военачальниками и если и брали себе львиную долю добычи, то кое-что всё-таки перепадало на долю простых воинов. Самой привлекательной добычей были пленники, и они доставались не только военачальникам. Пленники исполняли повинности, тяжко трудясь на арендатора-воина и помещика-военачальника. Конечно, не у всех крестьян были такие рабы, но у большинства была надежда добыть их. Теперь всё изменилось, и татарин-воин сделался только земледельцем, обязанным платить землевладельцу. И татары всеми правдами и неправдами хотели избавиться от своего хозяина и стать собственниками той земли, на которой жили. Это было тем более возможно, что никакого указа и законоположения по поводу татар, живущих на помещичьих землях, не было, а всё ограничивалось слухами и обещаниями. И хотя по русскому подданству, принятому татарами в 1783 году, они уравнивались в правах и обязанностях с русскими людьми, земельные дела требовали особого узаконения, так как татары оставались свободными крестьянами, тогда как русские – крепостными. Но узаконения не последовало, а последовала неразбериха, которая и досталась в наследство комитету «О устроении».
О приведении коммерции в цветущее состояние. Калужский купец Коробов внес в комитет пространное предложение (в письменном виде) о том, как привести в кратчайший срок коммерцию Крыма в цветущее состояние. Соль и вино должны были составить славу этой коммерции. Требовались откупа, оборотные капиталы, дороги и торговый флот. Требовался торговый порт в Севастополе, и купцы и промышленники просили государственной помощи. Кроме предложений Коробова, сыпались в комитет письма от купцов Вятки, Новгорода, Владимира, Архангельска, от промышленников Урала и Сибири, от владельцев винных лавок и заводов, от волжских рыбопромышленников и от множества разнообразного люда. Предлагали разработку нефти у Керчи, железных руд на отрогах Яйлы, «мелу, треполю, вохры, горного мыла особенно по дороге от Карасубазара к Акмечети и синего купороса». Казалось, купечество и промышленники решили совершить нашествие на Тавриду, и от комитета зависело, пустить эти полчища или задержать. Когда в XVII веке подобная «армия» искателей наживы хлынула за Урал, не существовало никаких заграждений и была полная воля для предпринимателей. Там расчет был на собственную выносливость, смелость, оборотливость и уменье брать, что лежало втуне. И русскому поместному боярству не приходило в голову вмешиваться в сибирские предприятия, состязаться с купечеством на этих суровых таежных землях. Не то с Тавридой. Ее земли принадлежат вельможам, придворным, барам. Нужно их соизволение, для того чтобы заняться коммерцией на этой земле. Нужна сама земля. Купцы, промышленники, скотоводы и отдельные лица предлагают комитету рассмотреть этот вопрос. Дворяне (мелкота), со своей стороны, тоже ходатайствуют и даже выражают прямое порицание вельможному землеустройству Тавриды. В руках «устроителей» находится рассуждение статского советника Павла Сумарокова, в 1803 году напечатанное, где выражено это порицание. Статский советник и дворянин Сумароков видит главную причину запустения в том, что земли Тавриды «розданы боярам тысячами десятин ‹…› вместо небольших участков полезным поселянам». Генерал-майор Годлевский прямо заявляет комитету, что для устройства коммерции и промышленности в Крыму необходимо закрепить купеческое сословие в Тавриде раздачей земли «всякому по 40 десятин в потомственное владение». По-видимому, по мнению этих дворян (несомненно, мелкопоместных), 150 000 десятин, принадлежащих, например, Мордвинову, могли бы с большей пользой послужить четырем тысячам мелких собственников-предпринимателей. При этом одни предлагают в качестве мелких землевладельцев русских купцов, другие – иностранцев.
Об иностранцах. Пустующие земли составляют главную заботу комитета. Кто должен владеть этими землями? У комитета есть по этому предмету весьма устойчивое мнение, но комитет – учреждение общественное, «демократическое», и он рассматривает мнение всех сословий. То есть всех сословий, кроме одного, не имеющего голоса. Как мы видели, купцы, промышленники, военные чины, разночинцы послали в комитет свои пожелания, просьбы и мнения. Их мнения лежат пачками в комитете, и Оленин докладывает их как полагается, с выбором. Комитет проявляет особый интерес к мнениям иностранцев: они пространны, красноречивы и кажутся комитету наиболее жизненными. Французский дворянин Рувье присылает мнение на двадцати девяти страницах, а Мекензи (должно быть, родственник покойного адмирала) на тридцати девяти. В сущности, эти мнения сводятся к тому же, что и мнение русских, т. е. к желанию иметь земли. Но здесь перед комитетом развертывается целая панорама усовершенствований и устроений, которые ожидают Тавриду в том случае, если земли будут даны Рувье, Мекензи и другим иностранцам. Члены комитета как бы уже едут по прекрасно устроенным дорогам, ведущим от овцеводческой фермы к суконной фабрике, от фабрики – к великолепному винограднику с французскими лозами, оттуда спускаются они в прохладные подвалы, где пьют французские вина, душистые и согревающие. Члены комитета находятся как бы под сенью огромных шелковиц, и шелковичные коконы уже окутывают их своими мягкими шелками. Журчащие источники, леса, поставляющие отборнейшую древесину для изящной мебели, луга с травами для парфюмерии, мраморы для облицовки дворцов – вот что такое Таврида в умелом изображении коммерции советника Рувье. Мнение Рувье «о естественных выгодах Таврического полуострова» снабжается обширными критическими замечаниями Габлица. Дело, как мы видим, поставлено в комитете научно, и всё ведет к беспристрастным решениям.
О лесах, или Нечто мечтательное. Лес и вода – вот о чем толкует безымянный автор описания Тавриды в 1804 году. Краткое это сообщение находится в недрах архива Оленина и присоединено к бумагам комитета «О устроении». Главная мысль ученого (по-видимому, географа и ботаника) сводится к необходимости ветрозащитных и водохранящих лесов по степным границам полуострова. Он обращает особое внимание на материковую часть Тавриды, на земли, идущие «по берегу Черного моря до косы Тендра, в древности Ахиллесовым ристалищем называемой». Здесь и далее от Азовского моря к Молочным Водам – «земля черная ‹…› в низменных местах произрастает густая трава и хлеб порядочный родится… Признаки бывшего леса ясно тут показываются. Во всякой яме, где застаивается вода, порастает большею частью [66], весьма мало дуба и менее того сосны. Жители ‹…› имеющие сии места во владении, истребляют зарождающийся лес». Автор описания имел в виду котловинки, или «саги», среди песков этого края, которые сохраняют влагу и потому служат убежищем для лесных семян, несомых водами Днепра. Если скот не объест молодняк в самом начале роста, через несколько лет в такой яме уже шумит листва. Странным кажется появление здесь белого ствола березы и мягких северных трав. Автор описания, наблюдавший такой лесок, или «гай», как его именуют местные жители, был внезапно поражен естественным выводом о будущем этих пустынных земель. Разве не в силах человек изменить облик этого края? «Мне кажется, – робко приступает ученый к своим доказательствам, – если бы сеять в сих местах лес и беречь его от истребления, то, выращенный до совершенства, останавливал бы ветры, сильно дующие, и,распространяя влагу, доставил бы нам благодарность от потомства». Члены комитета без всякого интереса к «благодарности потомства», о которой говорит автор, отложили проект как «нечто мечтательное». В самом деле, какой смысл имели эти леса для Зубова, Мордвинова и Кочубея, владеющих сотнями тысяч десятин в Днепровском уезде? Ведь на их землях кормятся десятки тысяч тонкорунных испанских мериносов. Овцы и без того страдают от недостатка сочных трав, и их лучшим прибежищем являются эти самые балки, которые ученый мечтатель задумал сделать лесными заповедниками. Комитет (все члены его считают себя опытными хозяевами) приходит к мысли, что уж если сеять в степях, то, конечно, не осину, ель и березу, а какие-нибудь кормовые травы. Но ведь это дело землевладельцев, кто будет посягать на их свободную волю? А чудаковатый ученый, которому поручили сделать к описанию выводы о желательном населении степной Тавриды, написал: «Кажется, сама природа говорит, что земли сии должны принадлежать всем скотоводцам, не наделяя никому дачи».
Наконец, о решениях комитета. В пресловутой задаче о трудовом населении Тавриды не только не было решения, но самая задача как бы и вовсе не ставилась. Поборники законности и порядка не могли начать с того, чтобы нарушить закон и порядок. Нельзя было гласно или негласно утвердить за полуостровом права, которые имела, скажем, Канада во времена торговли Соединенных Штатов черными рабами. На такие поступки способно было только потёмкинское безрассудство. Члены комитета считали себя государственными деятелями в противоположность тем, кто самочинствовал в свое время на окраинах России. Несомненно, они были уверены, что вопрос о трудовом населении Тавриды решится согласно с большими решениями, принятыми Александром. Тем более что почти все члены комитета содействовали этим решениям. Мордвинов мог ждать для Тавриды прекрасных результатов от своего проекта, утвержденного в середине декабря 1801 года. Ведь по этому проекту все вольные люди (в том числе крестьяне) могли покупать земли. Что стоило теперь какому-нибудь отпущенному или выкупившемуся мужичку купить землю в Тавриде? Впрочем, тут можно было бы ожидать, что Мордвинов, желая таких результатов проекта, внесет в комитет предложение о льготах для мужичков-помещиков. Но увы… никаких сведений о таком предложении нет. По нашим наблюдениям, были в комитете дела, которые рассматривались, как говорится, для проформы. По ним решение предопределялось независимо от всех писем, обращений и петиций, какие поступали в комитет. Так было с выбором коммерческого порта. Заранее решено было в пользу Феодосии. Решил ли это царь, или в данном случае Адмиралтейская коллегия, которую возглавлял Мордвинов, рассуждения комитета не имели смысла. О просьбе губернского секретаря Чернова относительно притязаний татар в комитетских делах имеется следующее заключение: «Комитет по выслушании оного (т. е. приехавшего в Петербург губернского секретаря) заключил, что все сии неустройства происходили, во-первых, от неправильной с начала раздачи земель; второе: от не определенной законами обязанности татар, живущих на помещичьих землях; третье: от перемены бывшего в Тавриде правления – вследствие чего господа члены положили рассмотреть еще в подробности все сии обстоятельства». Члены положили непременно «прислать удобные средства к прекращению помянутых устройств». Единственным «удобным средством» явилось откладывание этих дел до рассмотрения в мельчайших подробностях. Для этого по представлению комитета была создана особая комиссия, которая выехала в 1802 году в Крым. Комиссия, в свою очередь, уверяла, что для подробного рассмотрения этих дел ей надо, по крайней мере, четырнадцать лет!.. Вопрос о коммерции в Тавриде был разделен в комитете как бы на две части: теоретическую и практическую. С теоретической частью всё обстояло очень хорошо. Комитет приветствовал, одобрял, вводил новые предложения, изучал и предлагал впредь изучать недра крымских гор, качество лесов, возможности товарооборота и т. п. С практической частью было сложнее. То есть нельзя сказать, что со стороны членов не было заинтересованности. Напротив. Ведь шерсть знаменитых мериносов, которых развел Кочубей, лес, который рубил Мордвинов, и великолепные фрукты, которые он выращивал, требовали сбыта. Коммерция, одна коммерция могла дать полнокровную жизнь этим лежащим втуне огромным землям. Но всё осложнялось именно этими землями. Купцы и промышленники хотели быть и землевладельцами. Они просили имений. И здесь комитет не только не склонен был содействовать, но скорее наоборот. Речь шла об основном принципе, который, если и не обсуждался в комитете, то составлял нечто незыблемое для его членов. Земли не следовало дробить. Класс землевладельцев должен быть представлен образованными вельможами, владеющими немалыми пространствами. Отечественная промышленность должна развиваться на основе крупных поместий. Таков был символ веры членов комитета. Но в комитете «О устроении» не ставились такие большие политические вопросы. Их обсуждали в Государственном совете, в Сенате. Известны мнения Мордвинова по этому поводу. И мы судим по делам. В результате работы комитета в Тавриде возникли новые огромные поместья, и пустующие земли были розданы отнюдь не разночинной мелкоте. Недаром почтенный автор «Досугов крымского судьи» писал, что «при осмотрительном царствовании справедливого Александра дворянин не смешается с купцом». Насколько прочно утвердился этот порядок, можно судить по тому, что Воронцов, в 20-е годы устраивавший южный берег, просил своего управляющего скупать земли у людей, не принадлежащих к «хорошим фамилиям». Воронцов заботился не только об округлении своих земель, но и о расширении усадеб своих южнобережных соседей: Нарышкиных, Потоцких и других. Вместе с тем необходимо было поощрение коммерции. По-видимому, поощрение видели всё в том же законе от 12 декабря 1801 года (проект Мордвинова). Закон допускал, чтобы землю покупали и разночинцы, и даже вольные крестьяне (попробуй, дескать, купи). Продажных земель в Тавриде, впрочем, было мало, притом крупные владельцы поглощали мелких, и пока не было никакой опасности превратить Тавриду в «демократическую» губернию. Но еще Потёмкин начал затрудняться в раздаче крымских земель русским вельможам. Это было совсем не так просто, потому что земли надобно было заселять, т. е. перегонять крепостных из северных губерний. В результате Потёмкин начал раздавать земли кому попало, кто только хвалился, что земля у него не будет пустовать. В александровское время Потёмкина ругали за это. Находили странным, что он не хотел отдавать земли иностранцам и пренебрег французскими эмигрантами, которые были в столь печальном положении. Как это ни удивительно, плач о французских дворянах, согнанных с наследственных земель, начался в «якобинские дни»[67] царствования императора Александра I. В книге Сумарокова, напечатанной в 1803 году «по высочайшему повелению», выражено удивление, почему «двор наш» (т. е. правительство) до сих пор не воспользовался «потрясением Франить в Тавриде гонимых французов и других европейцев, пострадавших от революции. По мнению Сумарокова, иностранцы эти потекут толпами и «пустят луч животворения Тавриде». Комитет собрал довольно много мнений русских дворян о том, что иностранцы будут наиболее «полезными поселянами» Тавриды. Идея эта сопровождалась поминанием Потёмкина, который, дескать, не понял пользы государственной и упрямо возился со всяким русским сбродом. Так примерно изъяснялся дворянин Дмитрий Борисович Мертваго[68], которого комитет предназначал на пост губернатора таврического. Идея эмигрантских поселений была, по-видимому, одобрена комитетом, и ко времени, когда, наконец, пора было выносить скрижали комитетских решений, гонимые французы «потекли» в Тавриду. Правда, Сумароков и Мертваго имели в виду скромных дворянчиков, которые, получив таврические усадьбы, начнут заниматься своими маленькими хозяйствами. Комитет сумел сочетать аристократический принцип с идеей эмигрантских поселений. В Тавриде получили солидные имения люди весьма «хороших фамилий»: герцог Ришелье, граф де Лафер, граф Рошешуар и другие. Уже в 1805 году граф Ришелье стал генерал-губернатором всего Новороссийского края и как бы возглавлял аристократическую колонию, а Черноморский флот вскоре затем был отдан под начало маркиза Траверсе. Ришелье был в особо дружественных отношениях с Кочубеем, и едва ли не Кочубей предложил царю назначить его в «устрояемую» Новороссию. Никто не заметил или не смел сказать, что комитет «О устроении», просуществовав восемь лет[69], ровно ничего не сделал. Комитет не обременил царя никакими трудностями и держал его в утешительной уверенности, что всё идет на лад. Царь был доволен комитетом и устроителями. Он доказал это, назначив главного «устроителя», Кочубея, министром внутренних дел и, следовательно, поручив ему устроение не одной только Новороссии. И действительно, кто бы, кроме него, или, вернее, без него, мог примирить столько непримиримых вещей и создать комитету славу нелицеприятного судилища? Кто бы мог, кроме него, создать видимость деятельности и напряжения при бездеятельности и откладывании?
Занятия крымского судьи
Главная цель представлений моих исполнена утверждением для тамошних помещиков права собственности, которое решениями по прежним правилам совершенно поколебалось.Ябеды, сутяжничество и земельные неустройства заставили Александра I издать указ о комиссии «для разбора споров по землям и для определения повинностей в Крымском полуострове». Этот указ был издан 19 мая 1802 года, хотя уже с конца 1801 года существовал, казалось бы, для этого дела особый комитет «О устроении Новороссии». Комитеты и комиссии были слабостью императора. Они уже самим существованием своим представляли нечто гражданственное, общественное, обещающее улучшение и реформы. Но комиссии вовсе не обязаны были спешить и должны были всесторонне, тщательно изучать порученное им дело. Тем самым дело пока откладывалось… Итак, был издан указ, и чинам комиссии было предложено выехать в Крым без проволочки. Состав комиссии был отменный: в подборе его царь проявил большую тонкость. Комиссию возглавил известный своим мистицизмом сенатор Лопухин. Он славился желанием устанавливать христианскую справедливость. Он стыдился слова «холоп», но заявлял Александру, что «вторжение неприятеля было бы менее гибельно, чем ограничение помещичьей власти». Несомненно, что император был уверен в Лопухине, когда посылал его для установления справедливости в Крыму. С ним отправлены были именитые и чиновные четыре члена: обер-прокурор Ланской, действительный статский советник Туманский, обер-секретарь Крейтер и статский советник Сумароков, назначенный на должность председателя судебной палаты. Павел Иванович Сумароков ничем не прославился как чиновник; напротив того, у него были неприятности. Но, подобно своему тёзке Чичикову, он считал себя пострадавшим за правду и даже представил в Сенат мнение «о мерах к истреблению лихоимства». Это мнение, может быть, и явилось главной причиной того, что в комиссию был назначен именно Павел Иванович. Таврический губернатор Мертваго в «Записках» сообщал, что всем чинам комиссии «дано большое жалованье и столовые деньги» и что будто бы это расположило всех членов к лени и благодушию, а что некоторые «предались пьянству и чванству». Между тем, сенатор Лопухин (а вслед за ним и все члены комиссии) объявил себя защитником угнетенных, и толпы людей начали осаждать присутственные места, и в том числе суд, где председательское место занял Павел Иванович. Павел Иванович действовал без спешки, как полагается солидному чиновнику. Незачем закладывать карету – мы не в Петербурге. Черешневая трубка и покойное кресло сменили беспокойные столичные разъезды. И то сказать, с превеликим самолюбием Павла Ивановича легко ли было таскаться в департамент, угождая начальству, которое, не имея преимуществ Павла Ивановича, имело все привилегии только потому, что принадлежало не к пятому классу чиновников, а к четвертому или третьему. Главное различие, впрочем, было не в этом, а в том, что у него, Павла Ивановича, не было поместий со множеством крепостных душ, а у иных прочих – были. Случались, правда, и приятные часы за карточным столиком или у биллиарда в Английском клубе, но и там надо было помнить о чинах, чтобы, боже упаси, не задеть Ивана Ивановича и не поссориться с Петром Семеновичем. Опасность такая возникала частенько, потому что, надо правду сказать, Павел Иванович был-таки задирист, напоминая своего дядюшку, бессмертного поэта Александра Петровича. Ведь Павел Иванович был тоже поэт (по крайней мере, в душе), а главное – всегда стоял за справедливость. Это прежде всего. С характером Павла Ивановича, строптивым и независимым, трудно было жить в столичном чиновном мире. Можно думать, что и департамент, в котором служил он, счел возможным обходиться без столь беспокойной особы и не слишком огорчился его отъездом. Здесь, в Крыму, было совсем другое. Здесь Павлу Ивановичу всюду сопутствовали почести. С утра мурзы и дворяне наполняли его гостиную, заискивая в знакомстве. Дворяне наперебой звали его в свои поместья к сбору винограда, на охоту, для ознакомления с краем. Мурзы прижимали руки к груди, кланялись судье, как божеству, и всеми способами спешили сделать ему приятное. Тот нес с собою кувшин старинной татарской чеканки, этот просил принять прекрасно изготовленного бекмесу[70], или шелковистую смушку, выделанную из шкурки утробного ягненка. Можно ли было не принять эти изъявления чистосердечного дружелюбия, согласного с обычаями народа? Впрочем, Павел Иванович дает им всем понять, что заискивания их неуместны, что закон суров, а он «судья не по форме, а по чести, лицо безвластное, слуга своих сограждан и отголосок правосудия». Они это должны помнить и понимать. Облачившись в сюртук, Павел Иванович отправляется в легонькой приятной коляске к своему присутствию. Там, за красным сукном, творя правосудие, «которое вводило его в союз с монархом и вручало ему посредничество между ним и его народом», Павел Иванович проникался значительностью своей роли. В судебной палате, среди множества мелких тяжебных и других дел, были такие, которые доставляли судье истинное удовольствие своими именами и анекдотическим содержанием. Вдова некоего голштинца Бентана жаловалась на покойного Потёмкина, отнявшего у нее дом в Феодосии. Другая вдова некоего Деринга-Дальке требовала возмещения убытков, принесенных ей ханом Шагин-Гиреем. Этот хан поручил строить монетный двор Дерингу-Дальке и исчез, не расплатившись. Еще интереснее было дело графини де Бальмен, которая хотела получить огромную сумму денег, обещанную ее мужу этим же злополучным ханом за усмирение татар. Сенатор Лопухин обратил внимание Сумарокова на дело, где можно было проявить гуманность и твердость правил. Это было запутанное дело поселян Мухина, Гласова и Джантемир-мурзы. Двое мастеровых, совершенные бедняки, Мухин и Гласов явились жертвами загадочного казнокрадства. Их заставили взять на себя вину какого-то крупного чина, до которого никак не могло добраться правосудие. Запуганные поселенцы показывали на суде то, что было им предписано: что будто бы это они, Гласов и Мухин, украли казну и передали ее своему соучастнику мурзе Джантемиру. Мурза был тоже взят под стражу, а преступников пытали и истязали. Дело дошло до столичного суда и наконец разъяснилось. Мастеровые были оправданы. Это было довольно громкое дело, доставившее Лопухину особую славу. Часть славы перепала и на долю Сумарокова. Итак, Павел Иванович занят делами. Но по здешнему климату неблагоразумно было бы засиживаться в четырех стенах. В предобеденную жаркую пору хорошо заглянуть в еще прохладную бузню, чтобы посидеть там в тени, выкурить трубку и отведать напитков, неведомых в Петербурге. Павел Иванович в это время любил пересечь старый Ак-Мечетский базар и насладиться видом золотистого винограда, янтарной, покрытой пушком сливы, румяных яблок и лилового, атласом отливающего сладкого луку. Всё это горами лежало на арбах и в огромных корзинах, издавая приятнейший аромат, дразня аппетит и вызывая размышления о богатствах земли, которая отчасти была вверена попечению члена Государственной комиссии Павла Ивановича Сумарокова. На пути судью снова встречают изъявления почтительности. Кузнец-татарин распевает песню, перемежая извилистую ее мелодию мерными ударами молота. При виде судьи он замолкает. Спорщики перестают спорить, торговцы низко ему кланяются, мелкие чиновники со стыдливостью укрывают корзинки с ничтожной покупкой, а мурзы, убивающие время за шашками, кофеем и трубками, встают с мест, чтобы приветствовать судью. Судья благосклонно всем кивает, будучи ко всем равно расположен. Он спешит домой, чтобы записать в большую тетрадку чувства, его переполняющие, сообщить будущему читателю, что «Симферополь кажет ему новые красы и что сердце его мирно, чувства спокойны и не обращены мыслью к веселящейся столице». К обеду судья возвращается в свое поместье. Да, именно так можно назвать этот огромный сад меж двух холмов, в лощине на берегу Салгира. Вдали перед усадьбой высятся желто-серые глыбы, похожие на крепостную стену. Они напоминают судье о былых властителях Тавриды, и это дает обильную пищу для его рассуждений. Там был дворец калги, наместника хана. Тополи, посаженные, вероятно, еще до рождения Крым-Гирея, окружают усадьбу. В саду своем судья может прогуливаться и отдыхать – лучи солнца до него не доберутся. Он может дремать под сенью могучей чинары или огромного ореха. А если придет ему охота полакомиться, то «нет ни единого прохода из комнат ли на двор, из кухни ли в людскую, где бы какой-нибудь плодовитый сук не напоминал уклониться и взять свою предосторожность». А виноградные беседки и трельяжи, где огромные налитые соком гроздья прямо-таки изнемогают от собственной тяжести! Приятное жилище, приятность видов, открывающихся взору судьи во время его частых путешествий по Крыму, вдохновляют его как поэта. Он предается мечтам и предает мечты толстой тетради, которую через год издаст под названием «Досуги крымского судьи». В нее вносит он прекрасные рассуждения о преимуществах сельской простоты перед суетностью столиц. Не кажется ли читателю, что Таврида есть «рай земной» – лучше всех других мест для тех, кто оставил шумный свет и пожелал отдаться трудам и утехам невинного сердца? Но «не всё разгуливать по лугам, усеянным цветами, не всё укрываться под тению древесной густоты!..» Дел много, и занятия в комиссии требуют внимания судьи. Тут обнаруживаются картины не совсем идиллические. Дела, лежащие в суде целыми пачками, разнообразны. Здесь и бесконечные тяжбы помещиков с татарами, и жалобы татар на притеснения помещиков, и требования помещиков разных губерний о возврате бежавших от них в пределы Крыма крепостных людей, всевозможные доносы и подметные письма. Ежедневно в комиссию поступают прошения из теперешних уездов об отведении земель переселенцам. Прошения эти и жалобы направляются в комиссию по мере того, как земли, вначале розданные людям известным, но к владениям своим безразличным, переходят в руки новых помещиков или торгашей, которые обнаруживают на этих землях целые переселенческие деревни и хутора. Каково этим новоселам, тяжким трудом отвоевавшим у лесных зарослей и скал каждый клочок пахотной земли, теперь уходить на новые земли, еще более трудные и такие же зыбкие в смысле владения? Иногда выселения кончаются настоящими бунтами, и новые помещики, водворившиеся на переселенческом пепелище, подвергаются пожарам и разграблениям. Но чаще люди запивают с отчаяния, идут бродяжничать или становятся батраками. Комиссия, учрежденная для разбора споров по землям и для определения повинностей на Крымском полуострове, стоит на страже законов и устанавливает тот порядок, который (по мнению всех членов) необходим после потёмкинского беспорядка. Законный порядок, учрежденный комиссией, не только не решает вопроса о судьбах земли, но и безмерно отягчает и без того трудную жизнь переселенцев. Теперь никто из них не верит в завтрашний день, руки у людей опускаются, и то, что было раньше по силам, становится невмоготу. Многие помещики вновь возбуждают дело о возврате своих беглых. Комиссия неизменно присуждает их к возвращению, считая, что Крым не должен оставаться гнездом «вольницы», беглых, провинившихся, отступников веры. Нельзя позволить, чтобы помещичьи люди продолжали смотреть на Крым как на убежище от кары своего господина. Судья Павел Иванович Сумароков вовсе не из тех, кто хотел бы покровительствовать кнуту и плети. Помещик, по мнению Павла Ивановича, должен быть отцом своих крестьян… но нельзя же и попустительствовать. Вот и адмирал Николай Семенович Мордвинов – тех же мыслей. Хороший, честный мужичок не побежит неведомо куда, не бросит землю отцов своих. Раз беглый – значит, бродяга, проходимец. В книге своей «Досуги» судья написал решительно: «Все пришельцы крымские состоят из побродяг, беглецов, людей распутных и зараженных пьянством, которые, не имея порядочной над собой кровли, черпают свои недуги из закупоренных бочек». Вот сейчас, изволите ли видеть, лежат в судебной палате дела. Какие-то отставные солдаты учинили в городе Бахчисарае сопротивление власти, о чем видно из донесения пристава Спиранде, оскорбленного этими солдатами. А дело крымского помещика Нотары? Ведь здесь бунт, целое восстание дворовых его людей! И разве посмели бы они явиться со своими жалобами на помещика в какую-нибудь витебскую или новгородскую судебные палаты? Или дело этой постыдной девки Екатерины Уткиной, которая бежала от своей барыни, да еще вздумала повеситься. Легко ли с этими людьми! Нет, уж что говорить, они не похожи на пастушков и пастушек из идиллий Феокрита, счастливых одной прелестью природы, их окружающей. Одним из самых настойчивых и запутанных дел была долголетняя тяжба адмирала Мордвинова с татарами Байдарской долины. Тяжбы Мордвинова тянулись бесконечно. Но, несмотря на всю настойчивость Мордвинова и расположение судей, нельзя было вынести решения в его пользу. Решения суда были уклончивы. Судья Сумароков не надеялся покончить с делами Мордвинова, но как член комиссии по землеустроительным делам должен был высказать свое мнение и принял, само собой разумеется, сторону помещика. Он побывал в адмиральских имениях и сокрушенно отметил в своей книге: «Господин адмирал Мордвинов, купя Байдары от наследника князя Потёмкина, встретил при самом вступлении своем во владение споры на его право от обитателей, которые, уничтожа все доходы, оставляют ему только титул обладателя славного поместья». Он сокрушался об участи владельца долины, наш праведный судья. Еще бы! Ведь татары собирали хворост в этих лесах, занимающих больше 7000 десятин, и возделывали клочки земли, которые принадлежали адмиралу. Между тем, адмирал обогревал весь Севастополь и очень был озабочен, чтобы дрова из его байдарских лесов доставлялись вовремя. Разве не должны были это делать байдарские крестьяне? По мнению судьи, справедливость требовала взыскать штрафы со всех этих жителей Уркусты, Скели, Варнутки и других деревень Байдарской долины. После этого следовало посадить их на оброк. Но даже Сенат, стоявший на страже интересов русского помещика, не мог удовлетворить Мордвинова. За адмиралом были закреплены байдарские земли, но установить оброк для крестьян, не принадлежащих помещику, Сенат не мог. Мордвинов продолжал жаловаться и обвинял крымскую комиссию в пристрастном разбирательстве. Это было чрезвычайно обидно для Павла Ивановича, который относился с таким уважением к адмиралу. Такую же неразрешимую, хотя и не столь значительную земельную тяжбу вел академик Паллас. Он хотел добиться, чтобы его имение близ Шули было утверждено за ним в окончательную, полную собственность, в то время как являлись всё новые и новые претенденты, и екатерининская дарственная оказывалась вовсе недействительной. Паллас отстаивал свои земли с решительностью и настойчивостью. Против него были многие соседи, небольшие помещики, захватившие земли с целью перепродажи и разных темных делишек. Один из таких помещиков, некий майор Чернышёв, испортил много крови академику. Майор Чернышёв был человеком в своем роде примечательным и заставил о себе говорить весь Крым. Он считал себя подлинным хозяином этой земли, потому что был участником Крымской войны и получил ранение. Явившись в плодородную Ай-Тодорскую долину, майор выбрал несколько участков с хорошими садами и объявил их своими. Не только татары, но даже капитан-исправник, судьи и сам председатель не могли выбить майора из занятых им позиций. Он возводил вокруг «своих» земель нечто вроде крепостей и действовал оружием против неприятеля. Нельзя сказать, что он довольствовался малым. Прикинувшись другом татар, майор охотно давал им деньги, дарил им старые пистолеты и порох, который уже нельзя было употреблять, уводил у одних и передавал другим скот. В порядке возмещения долгов отбирал он у этих людей лучшие их участки, сады, луга и объявлял их своими. Неведомыми никому способами составлял он купчие крепости и говорил о каких-то царских указах, которые будто бы у него хранились. К несчастью академика Палласа, земли его в Шулях, пожалованные ему императрицей, примыкали к землям майора Чернышёва (т. е. к участкам, которые успел он захватить). Майор уверял, ссылаясь на таинственный указ, что Шули принадлежат ему и что «десятина», которую собирает Паллас, незаконна. Четырнадцать лет Паллас находился в осаде. Шули были со всех сторон блокированы неприятелем, и всюду происходили стычки. Майор был всегда настороже. Чуть свет являлся он на участках почтенного академика в полной боевой готовности и отбивал с успехом возы сена, дрова, а иногда и снедь, которую везли академику из окрестных сёл. Он запрещал порубки в лесах Палласа и останавливал пахарей, бороздящих его землю. Когда его вызывали в суд, он сказывался больным. Вслед за этим он писал на Палласа пасквильные доносы. Главным козырем майора была спорность земель, подаренных Екатериной Палласу. Часть этих земель действительно принадлежала татарам (а не майору Чернышёву), но майор надеялся отбить их для себя. Комиссия долго разбирала это дело, но земли так и остались спорными. Отчаявшись в дарственных землях, Паллас купил себе недалеко от Симферополя леваду и сад близ селения Калмукары; здесь надеялся он доживать свои дни в трудах и тишине. Однако не успел он поселиться в новой усадьбе, как явился к судье Сумарокову с низкими поклонами ехиднейший Садык-Кадий-эфенди и заявил, что левада близ Калмукары принадлежала его прадедам и была присвоена и неправильно продана Палласу надворным советником Гохфельдом. Тут и всё общество калмукарское заявило права свои на эту землю. Лопухин писал царю, докладывая о крымских делах: «Главная цель представлений моих исполнена утверждением для тамошних помещиков права собственности, которое решениями по прежним правилам совершенно поколебалось». По-видимому, Лопухин запутался в противоречиях, им же самим укореняемых, и принялся отказываться от своих обязанностей. Несоответствия меж прелестями «эдема» и населяющими его грешниками, видимо, так огорчали судью, что и он стал непрерывно писать прошения в презираемую им столицу о дозволении «явиться по особым обстоятельствам». Наконец ему позволили вернуться, и судья покинул «волшебный край» для сурового «царства Борея».Записки И.В. Лопухина
Открытие южного берега
В конце XVIII века, когда русские люди явились на побережье, оно уже было диким, запущенным, малолюдным. Таким видел его Кутузов, когда уничтожал турецкий десант в Алуште, таким видели его герои защиты Ялты 1776 года. После манифеста 1783 года, когда началось устройство Крыма, находившегося в самом жалком состоянии по части хозяйства и путей сообщения, устройство южного побережья явилось одной из сложнейших задач. Переселение христиан в Новороссию, оказавшееся верным средством хозяйственного обессиливания ханства, окончательно опустошило южный берег. После 1776 года татары заняли христианские южнобережные селения, надеясь на готовенькое. Но поначалу они не знали даже, как взяться за эту плодоносную, но трудную землю. Они стали сеять на ней свое просо и гонять стада в горы. За короткий срок они загубили много садов, потому что не умели хранить горные воды. Еще в первую четверть XIX века своеобразное арнаутское землевладение, учрежденное Потёмкиным, продолжало существовать на побережье. В 10-е – 20-е годы начальником греческого батальона был пелопоннесский грек полковник Ревелиотис. Этот Ревелиотис жил в Балаклаве, где его маленький домик был наполнен многочисленной семьей. Его жена и дети оказывали услуги приезжим, и путешественники приходили в восторг от патриархальности нравов, когда сам Ревелиотис, по древнегреческому обычаю, закладывал в огонь целого козленка. В доме Ревелиотиса не было видно следов особой знатности или богатства. Вместе с тем, он был владельцем многочисленных земель в Форосе, Мухалатке, Кикенеизе, Симеизе. Ему принадлежали Ореанда, Ливадия и бо́льшая часть Алупки. Ревелиотис не успевал обрабатывать свои громадные владения, но, несомненно, он получал с них немалый доход. Греческая колония ширила свои владения и даже близ Ялты затевала постройку какого-то города. Автор «Путешествия по Тавриде» Муравьёв-Апостол пишет: «Поднявшись на гору над мысом (Никитским), я бы проехал без всякого внимания одно любопытное место, если бы проводник не сказал мне, что тут будет город Софиополь. Пышное название. Впрочем, кто может предугадать судьбы его: и Карфаген так же начинался, с тою только разницею, что при заложении оного было более деятельности, нежели здесь, где бревен двадцать, праздно лежащие до сих пор, показывают одно только намерение соорудить сей город». Но постепенно и вся «греческая колония» распалась. Нельзя считать, что открытие южного берега произошло во времена Потёмкина; хотя начала и были положены, край оставался пустынным и диким. Главная причина этой дикости была в бездорожии. В Алушту спускалась с Чатырдагского перевала дорога, по которой трудно было проехать телеге или коляске. Лучшая дорога соединяла Карасубазар с селением Ускут (меж Алуштой и Судаком). Лучшие земли южного берега обходились узкой береговой тропой, идущей от Алушты до Кикенеиза. Оттуда, от лименских скал, тропа поднималась наверх, к скалистым отрогам Яйлы. Про эту дорогу Павел Сумароков, один из первых русских путешественников на южном берегу, писал, что она «не шире полуаршина, так что ноги коня едва на ней помещаются. Споткнешься ли, закружится ли у тебя голова, потянет ли тебя лошадь сзади – и гроб тебе готов при чернеющемся дне». Хотя описание это и страдает преувеличениями, однако тропа по Шайтан-Мердвеню не принадлежит к удобным и безопасным, особенно в плохую погоду. Другой путешественник, Муравьёв-Апостол, писал о трудном объезде симеизских скал: «Выше всякого описания ужасен угол каменной горы, который объезжается у самого моря. Скала на скале заграждают путь, страшные их обломки висят над головой и на каждом шагу грозят страннику участью титанов». Пушкин в том же (1820) году, переправляясь с южного берега в Симферополь, шел по Шайтан-Мердвенской перевальной тропе, «держась за хвост лошади». Таковы были пути сообщения. Меж тем, южный берег начинал оживать. Дюк Ришелье в 1808 году построил дом в Гурзуфе[71], где получил прекрасную землю у самого берега моря. С любезностью французского аристократа он сделал эту легкую, изящную дачу местом увеселений, наподобие Трианона. Мария Антоновна Нарышкина, любовница царя, была его первой гостьей. Этого оказалось достаточно для петербургского «света»: южный берег начал входить в моду. Вслед за генерал-губернатором начал строиться и губернатор Тавриды. Бороздин строился в Кучук-Ламбате, и чиновники его канцелярии разместили свои скромные усадебки вокруг, в почтительном отдалении от барского дома. Затем барские имения стали возникать вкруг Алупки, и Воронцов завершил устройство вельможного южного берега. Но, хотя вельможный быт от Артека до Фороса составил некоторую эпоху в истории русского Крыма, не помещикам-пионерам принадлежит честь открытия южного берега. Датой открытия следует считать 1812 год, когда скромный ученый ботаник и первые русские садоводы начали расчищать дикие заросли и каменный хаос Никитского мыса для государственного сада. В 1815 году Никитский сад уже мог соревноваться с лучшими садами мира. Казалось бы, для учреждения казенного ботанического сада проще всего было продолжить парковые посадки потёмкинского времени. Но земли, отведенные для этих парков, переходили из рук в руки. Владелец был не один, а казна не считала нужным производить затраты на приобретение этих земель. Так, для ботанического сада был отведен Никитский бурун[72] – земли дикие, скалистые, тяжелая глина, непролазный сорняк и лес. Усадьбы Ришелье и Бороздина были расположены к востоку от Ялты, меж нею и Алуштой. Вот почему там и закладывался садоводческий центр, хотя было бы разумнее создать его в юго-западной части, наиболее защищенной от ветров. Ланжерон, сменивший Ришелье, кажется, за всё время пребывания на посту генерал-губернатора Новороссии не побывал на берегах полуострова. Назначенный на его место Воронцов, напротив того, имел особый интерес к полуострову, месту, так сказать, экзотическому, где мог он проявить свой талант устроителя и блеснуть своим богатством, наследованным от Потёмкина (через жену, внучатую племянницу светлейшего). Не так уж много изменений произошло в Тавриде со времени комитета «О устроении», и когда Воронцов в мае 1823 года приступил к своим обязанностям генерал-губернатора Новороссии, перед ним были почти те же «предметы рассуждения». Но потому ли, что жизнь неотступно требовала дел, а не рассуждений, или потому, что по безмерному славолюбию своему Воронцов стремился увековечить себя монументальным созданием, теперь были намечены некоторые сдвиги. В их числе было окончательное открытие южного берега, достигнутое в кратчайшие сроки. Вскоре после своего назначения Воронцов устроил увеселительную поездку морем из Одессы в Гурзуф, где приобрел имение и дачу Ришелье. «Свита», его сопровождавшая (несколько знатных особ, несколько чиновников, несколько знатных дам и один посредственный поэт), вслед за «милордом» пришла в неописуемое восхищение от побережья. Воронцов предполагал сделать из южного берега роскошную резиденцию русской знати, подобную той, что создавалась вокруг Ниццы для аристократов и богачей Западной Европы. Он начал с постройки перевальной дороги, открывшей доступ на южное побережье. Пока строилась дорога, Воронцов скупал красивейшие места на побережье для своих дач и замков. Пример Воронцова вдохновил Шуваловых, Потоцких, Нарышкиных и Голицыных, которые захотели быть соседями Воронцова по его южнобережным имениям. Каждый из помещиков изощрялся в затеях архитектуры и садоводства. Было достаточно пятнадцати лет, чтобы побережье превратилось в «блистательную дачу». Поместья окружили старую Ялту, которая вскоре превратилась из жалкого селения о двенадцати татарских хижинах в уездный городок и центр вельможных поместий на берегу. Аристократическая мания Воронцова утвердила в 20-е и 40-е годы на побережье землевладение высшего дворян. Дачи, дворцы, парки и аллеи производили впечатление богатства и благоденствия, но земли, окружавшие эти усадьбы, в большинстве своем оставались в диком состоянии. Нарышкины и Голицыны не нуждались в доходах, они нуждались в развлечениях и окружали себя красотами. Недаром даже такой поборник дворянских интересов, как Сумароков, и тот сетовал на огромные неустроенные поместья в Крыму и утверждал, что в руках мелких землевладельцев эти земли подверглись бы обработке и уходу. Муравьёв, путешествовавший по южному берегу в 1820 году, писал о «вообразительных» усадьбах, «принадлежащих помещикам, которые, заняв место, не заботятся о том, чтобы рука трудолюбия образовала оное в пользу их и общества: это пустоши, еще ожидавшие возделывания от виноградаря или садовника». Но помещик средней руки или мелкопоместный не мог переселиться на южнобережные земли, так как не имел крестьян для их обработки. Таков был заколдованный круг крепостничества. Барство оставило после себя на южном берегу усадьбы, послужившие вехами для современных курортов, винодельческих хозяйств и парков. Архитектура и планировка этих барских имений не безлика. Зубцы башен и каменное кружево деталей, окна-витражи, глубокие ниши, грандиозные стены и сторожевые львы, экзотические альгамбры, киоски в турецком стиле и «терема» в русском духе, замысловатые сплетения дорожек, «хаосы», пруды, осененные плакучими ивами, могильные плиты над любимыми собачками – всё это составляет характер, рисует быт. Возмущаясь нелепыми прихотями барского быта, мы должны отдать дань восхищения мастерам зодчества и тому, что было создано руками простого русского человека. Он высек из камня эти замки, стены, арки, врезался в скалы и создал южнобережную дорогу, делая доступными места, спокон веков девственные. Он вскопал тяжелую землю, покрытую колючими кустарниками и мелколесьем, заваленную каменными глыбами, и насадил здесь первые виноградники. Древние рощи он украсил роскошными аллеями и цветниками, а новые подвалы впервые наполнил душистым вином.Никитский бурун
Сад будет иметь целью полное по возможности собрание всех без изъятия в здешнем климате расти могущих и в каком-либо роде хозяйства полезных, или только для украшения служащих деревьев, кустов и трав, для познания различных видов по наружным их признакам и по образу хождения за ними.Весной 1807 года в Алуште появился светлоглазый и подвижный человек. У него был особый, решительный излом бровей и губ. Вихор над крутым лбом усиливал впечатление решительности и упорства. Молчаливый и застенчивый, он отнюдь не являлся разочарованным мечтателем, какие были в моде среди молодежи высшего круга. Да он и не принадлежал к этому кругу. Христиан Стевен, таково было его имя, родился в Финляндии, учился в Петербурге и служил на юге России. Он был врач по образованию, агроном по роду деятельности и ботаник по призванию. Ботанике он отдавал всё свободное время, которого было у него мало, потому что он занимал должность помощника инспектора сельского хозяйства юга России. По своему положению и чину он мог рассчитывать на прием в «хороших домах» губернии. Крымские помещики-новоселы желали видеть Стевена и требовали его советов. Стевен от визитов отказывался, советы подавать избегал, однако в нескольких садах сделал собственноручно прививки, каким-то новым, ему только известным способом. Стевен любил одинокие прогулки. Видели, как взбирался он по осыпям Демерджи и часами бродил по лесу, разглядывая листья, стебли, подкапывая корни маленькой острой лопаткой, которую всегда имел при себе. Этот странный человек потребовал себе лошадей и проводников для путешествия на запад к Ялте и Севастополю, предупреждая, что станет подолгу задерживаться в пути и попутчиков иметь не хотел бы. В то время горная тропа вдоль южного берега была извилиста и узка до того, что опытные лошадки едва по ней пробирались, а путники неизменно испытывали страх, путешествуя «через стремнины, ущелья и пропасти». Но Стевен сел на маленькую свою лошадку и пустился в путь с видом человека привычного и действительно во всю дорогу ни разу не выказал страху и даже удивления. Красота и разнообразие полуденного берега, может быть, и заставили трепетать сердце этого северянина, но прежде всего они убеждали его в полезности предпринятого путешествия. Вначале лошади шли берегом так близко к воде, что, казалось, волны вот-вот достигнут путников. В глубине долины долго еще был виден Чатырдаг. Затем голые береговые утесы Кастеля загородили широкую перспективу. Здесь, близ Биюк-Ламбата, Стевен впервые увидел сложные сланцевые складки, которые свидетельствовали о движении моря. Лошади поднимались вверх и тут же спускались на дно пропастей, с трудом пробираясь среди каменного хаоса. Известняки и диориты громадными глыбами преграждали дорогу. В расселинах скал торчали пучки серой узорчатой травы, подобной молочаю, белая резуха и камнеломка. Стебли трав этих были очень крепки. Стевен с удивлением видел, что узкие каменные долинки увлажнены родниковой водой, и там, где она протекает, буйно растут кустарники и деревца низкорослого дуба и бересклета. Стевен нашел здесь прекрасные образцы лютиков и осоки. Серый, весь в трещинах и бурых подпалинах, мыс Плака, выдвинутый в море, при объезде казался бесконечным. Наконец перед глазами явились темный, склоненный к морю Аю-Даг и полукружие Партенитского залива. Сады и рощи водообильной открытой долины подходили к самому морю, и береговая тропа затенена была сенью тутовых деревьев и смоковниц. Красно-бурый утес, замыкающий Партенит с востока, напоминал подножие Парфенона, и было странно видеть этот утес ничем не увенчанным. Едва различимые сакли лепились по уступам. Перед ними не было ничего, кроме гранатовых кустов, которые позднее цветут таким алым цветом. Развалины византийской базилики заросли травами, среди которых Стевен нашел обыкновенный клеверок и душистые листья мяты. За Партенитом тропа начала подниматься вверх, в обход Аю-Дага. Она погрузилась в чащу карликовых дубов, ясеней и кленов. Среди них было много очень старых деревьев с приземистыми стволами и густолиственной кроной. Кое-где в скалах росли сосны. Это были реликты со светлыми и мягкими иглами. Свидетели веков, деревья эти достойны были особого внимания. Две причудливые глыбы, словнообработанные резцом средневекового мастера, торчали на поверхности моря, обозначая Гурзуф. За перевалом прибрежных гурзуфских холмов начинался скалистый можжевеловый лес, перемежаемый терпентиновыми рощами. Старые можжевельники и кевовые, или терпентиновые, деревья насчитывали сотни лет жизни. Терпентинник с узловатым, разветвленным у комеля стволом рос могучими семьями, осененный весенней листвой. Была пора буйного цветения, и на лужайках, под многовековыми стволами, у скал сияли маленькие солнцецветы, пестрели орхидеи, шалфей и звездчатый рагадиолус. Травы здесь были низки, и потому цветение их казалось особенно ярким, ковровым. Под копыта лошадей ложились легкие вьюнки и шаровидные головки клевера. Стевен обратил внимание на почву – тропа была краснокирпичного цвета: песчаник или глина? За можжевеловым лесом начиналась роща, которая походила скорее на древний заглохший сад. Здесь попадались деревья в три обхвата: шелковичные и ореховые. Дикие буйные лозы виноградника вились вокруг гранатов и фиг и стелились по земле. Всё кругом было дико и вместе с тем свидетельствовало о давней садовой культуре. Стевен внимательно осмотрел прекрасные ее образцы. Он взял всё, что было нужно, в свой гербарий. Спустившись, тропа пошла вдоль разрушенных изгородей, в тени громадных ореховых дерев и томящих сладким запахом своих цветов акаций. Всюду были следы разрушенного жилья. Одичавшие лозы обвивали руины. Там, где журчала выбивающаяся из-под земли вода, росли плакучие ивы. Среди руин были остатки храма или часовни. Немного выше, в пределах Айян, виднелась расписная стена другой византийской церкви. Тропа, идущая далее на запад, огибала лесистый мыс ниже новеньких татарских домов, которые, оставив в тылу своем сады и руины, лепились над оврагом. Ниже всё было дико, и каменные глыбы, тесня друг друга, спускались в глубокий овраг. Их покрывали уже знакомые Стевену цепкие породы дерев, оплетенные лианами плюща и ломоноса. Еще ниже каменный и лесной хаос Никитского буруна подступал к морской глади, омывающей этот дикий темный берег. Проводники сказали, что здесь невдалеке находится священное дерево, которому столько лет, сколько лет этой земле. Они не могли указать места, и Стевен поднимался в разных направлениях по обрыву густыми зарослями, пока не вышел на утоптанную людьми площадку, где стоял тысячелетний патриарх. Это был необычайный представитель терпентиновых. От его грандиозного, как бы окаменелого ствола отходили не ветви, а деревья. Должно быть, оно было молоденьким деревцом в то время, когда князь Владимир совершал свой поход в Тавриду. Но в нем не было ничего старческого, и его молодая листва блестела на солнце так же, как в дни далекой юности. Стевен не мог и вообразить, что вскоре судьба его надолго будет связана с необычайным этим деревом, с этим диким, лесистым буруном под селением Никита. Стевен жил тогда в Симферополе, в тихом домике на берегу Салгира, в тех плодообильных, благоустроенных пределах, где незадолго до того разгуливал судья Павел Сумароков. Стевен находил долину Салгира особенно благоприятной для опытного сада и своего живого гербария. Им посвящал он всё свободное от разъездов по губернии время. Когда накапливалось множество различных вопросов, связанных с определением растений и наблюдениями за их сложной жизнью, Стевен отправлялся в Калмукару к Петру Семеновичу Палласу. Этот беспокойный ученый сидел среди своих редких книг, коллекций и гравюр, дописывая очередную страницу одного из многочисленных и многолистных сочинений. Как всегда, Паллас требовал прежде всего следуемой ему дани. Со свойственной ему грубоватой жадностью он выжимал из скромного Стевена цифры, названия, наблюдения до тех пор, пока Стевен не иссякал. Не слишком стесняясь, Паллас во всё время разговора ловко работал своим гусиным пером на маленьких листиках, которые затем аккуратно закладывал в какую-то особую тетрадь. Она делалась толще и толще по мере того, как Христиан Стевен совершенно опустошался. После этой операции Стевену еще предстояло выслушать множество жалоб на окрестных татар, на судебную палату, на жену и дочь. Стевен терпеливо ждал. Лишь под конец свидания решался он ввернуть свои вопросы, ради которых ехал сюда, давал себя опустошать и выслушивал жалобы. И Паллас милостиво разрешал все недоумения, разражаясь каскадом сведений и всесторонне комментируя всякую мелочь. Высказывал он и драгоценнейшие для Стевена суждения о флоре полуострова, о необходимости создать опытный ботанический и фруктовый сад. Паллас был того мнения, что сад этот должен быть расположен на южном склоне Яйлы. Стевен возражал ему. Он считал более сообразным устройство садов в долине Салгира. Ведь юг почти отрезан от центра своим бездорожьем, – там будет нелегко создать ботанический сад. Нелегко, с этим был согласен и Паллас. В конце 1811 года генерал-губернатор Новороссии Рилье призвал Стевена для нового назначения. Именно ему (Стевен этого не ожидал) было поручено разведение сада, мысль о котором созрела еще во времена Потёмкина. Мнение Палласа торжествовало – земли отводились на южном склоне. Пока еще не было точно определено место, так как о нем шли переговоры с Петербургом и требовалось высочайшее соизволение. Ришелье сказал Стевену, что, по-видимому, будут отведены земли, прилегающие к Гурзуфу. Это оказались земли ниже селения Никита. Христиан Стевен был назначен директором учреждаемого экономо-ботанического казенного сада на южном берегу Тавриды. Генерал-губернатор указал Стевену цель, которою он должен был руководствоваться. Цель созидаемого сада – поощрить разведение фруктовых, масличных и прочих плантаций и садов в Крыму. Сад будет питомником лучших и плодороднейших деревьев, а также красивейших кустарников, трав и цветов. Он удовлетворит потребности окрестных помещиков, которые ныне с большой охотой покупают земли, лежащие у моря. Согласно с этими требованиями, Стевен разработал по-дробный план. Он построил его настолько искусно, что нельзя было усмотреть в нем чего-либо, противоречащего указанным задачам. Между тем, Стевен мечтал о научном ботаническом саде, а не о питомнике для таврических помещиков. В плане своем он писал, что «таврический Казенный сад троякую цель иметь будет», и на первое место ставил «полное по возможности собрание всех без изъятия в здешнем климате расти могущих и в каком-либо роде хозяйства полезных или только для украшения служащих дерев, кустов и трав для познания всех различных видов по наружным их признакам и по образу хождения за ними». Затем имел он в виду и устройство семенных школ, и разведение плантаций «таковых растений, которые одним теплым климатам свойственны, для получения от оных доходов и поощрения тем жителей Тавриды». Разумеется, никто из местных помещиков-садоводов не нуждался в посеве на своих землях таких растений, как трава молочай, пырей, полынь или ракитник. Разведение в саду всех крымских растений «без изъятия» могло преследовать лишь высшие цели науки. Ведь никто не знал, какие чудесные свойства могут быть заключены в этих бесполезных растениях! Как всякий настоящий ученый, Стевен был убежден, что лишь глубокие длительные изучения приносят пользу наивеличайшую. При этом считал он долгом своим неустанно и каждодневно содействовать всем видам земледелия и садоводства. Он любил живой труд на земле, посадки, прививки, возню с этими маленькими деревцами «в школах» и наблюдение за их самостоятельной жизнью в садах. Весной 1812 года, в те самые дни, когда наполеоновская армия готовилась выступить в поход на Москву, Христиан Стевен ехал по знакомой ему глухой тропе к селению Никита закладывать новый сад. Земли, отведенные Стевену, «простирались на версту вдоль берега моря и поднимались вверх по склону на 700–800 футов». В них было 375 десятин, но, по крайней мере, три четверти всей земли составляли скалы и непроходимые овраги. Нельзя было сказать, что недавний владелец, помещик Смирнов, потрудился над своим владением! Его управитель постарался сохранить земли в их первобытной дикости. Земля была спорная: в нее вклинивались тридцать два татарских участка, разбросанных как попало. Стевен не мог приступить к разбивке сада, прежде чем границы его не станут ясны. Татары упорствовали, не желая получать другие наделы, хотя своих земель не обрабатывали, пользуясь одними сенокосами. Они никак не желали взять в толк, что теперь больше нельзя им пускать в овраг своих коз, овец и лошадей и что за потравы сада они будут отвечать. Татарская деревня Никита была злым гением учреждаемого сада. Ее жители не только не хотели помочь Стевену, но видели в нем пришельца, который вторгся в их землю. Татарские домики, облепившие Никитский овраг, походили на волчью стаю, окружившую свою добычу. Человеку, который объявил себя хозяином этого оврага, надо было держаться крепко. Ни в коем случае ему нельзя было показать себя слабым и уступчивым. И новый хозяин держался крепко, чего бы это ему ни стоило. Он проявлял настойчивость и упорство, несоразмерные с тщедушным его видом. Он объяснялся со своими недоброжелателями на татарском языке, который изучил на Северном Кавказе. Татары стали бояться Стевена. Он всё знал и, несомненно, был колдуном. Так думали татары. Как не бояться было человека, который делал прививки грушевых черенков на айве и прививал айву к яблоням? Мулла говорил, что в этом греховном деле ему помогал сам шайтан. В конце концов, деревня Никита согласилась на требования Стевена. Она больше не посягала на земли, принадлежащие саду, перестала гонять скот в овраги и даже обещала дать людей для перекопки участков и сооружения изгороди. Стевен платил хорошо и давал людям кофе и муку. Но у него не было запасов и не хватало денег; всё держалось на волоске. Победа Стевена над жителями Никиты еще не решала дела. Нужны были запасы хлеба и мяса, инструменты, а главное – люди. Нужно было много рабочих, мастеров и хоть один садовник. Труднее всего было найти садовника. Никто не хотел ехать в такую глушь. Первый садовник, который согласился работать в Никите, заключил договор на пять лет и уехал немедленно по окончании этого срока, несмотря на невиданное по тому времени жалованье. Стевен пытался вербовать рабочих людей в Петровской слободе, Зуе, Султановке и других степных русских поселениях. Но люди были заняты своей землей. Стевен испрашивал разрешения купить людей у помещиков и поселить их вольно на близлежащих землях, обязав работать в саду. Какие-то «высшие» соображения начальства помешали Стевену осуществить этот план. После долгих переговоров губернатор обещал пригнать нескольких рабочих. Рабочие эти были партией арестованных. Оборванные и голодные, прибыли они в Никиту с севера и сразу же дали понять Стевену, что работа им не подходит. Они были голодны и смотрели тем особым ненавидящим жадным взором, каким смотрят очень изголодавшиеся люди на сытых. Стевен их накормил, и они немного притихли, но это не значило, что их можно было заставить работать. Их отправили в Никиту потому, что тюрьма была переполнена. Но они вовсе не намерены были здесь оставаться и не скрывали своего желания бежать, как только насытятся и отоспятся. Стевен должен был отвечать за каждого из этих людей. Он писал дюку Ришелье, что на работах осужденные «ни малейшей пользы не приносят». Во что бы то ни стало надо было от них избавиться. Впрочем, некоторые из присланных пытались приступить к работе, но она была им не под силу. Мускулы этих несчастных так же давно не знали упражнений, как их желудки сносной пищи. Большинство страдали от всевозможных болезней. Их трясла лихорадка. Стевену приходилось лечить без лекарств и откармливать своих рабочих, не имея никаких запасов продовольствия. При таких условиях нечего было и думать о планомерных работах в саду. Наконец Стевену удалось купить баркас. Эта старая утлая лодка казалась ему спасением. Вряд ли Робинзон в такой же мере радовался своему первому челну. Но баркас разбило бурей. Тем временем наступила зима с горными заносами и штормами. В эту пору южный берег оказывался вовсе отрезанным от губернии, а с рабочими становилось особенно трудно. Было от чего прийти в отчаяние и опустить руки. Но Стевен не мог отступать: раз опыт начат, нужно довести его до конца. Он писал своим друзьям о Никитском буруне, называя его «лагерем скорби», и продолжал начатое дело. Он не терял драгоценного для садовода осеннего времени и работал с маленьким отрядом местных людей: перекапывал землю, чистил участки от бурелома, пересаживал сосновый молодняк с яйлинских высот. Стоило многих усилий обзавестись крышей для жилья, библиотечки, гербария. Дом был поставлен на той самой площадке, где росло знаменитое дерево. Так хотелось Стевену. «Патриарх», казалось, был вдохновителем трудов, опорой его и советником. Может быть, он сообщал Стевену тайны вскормившей его почвы и рассказывал о тех прекрасных деревьях, которые некогда составляли его общество и исчезли с незапамятных времен. Почему бы им не быть здесь снова? Стевен пришел к заключению, что следует сделать большие посадки именно этих древнейших пород: кевовых и родственных им фисташек, сосны и можжевелового дерева, в местах влажных – «плачущей ивы» и маслины, обильно произраставшей на склонах во времена давно прошедшие. Некоторым никитским маслинам было не менее пятисот лет. Стевен спешил отделить от этих сильных, плодоносящих деревьев молодые побеги для маслиновых рощ. В 1813 году Стевен заложил «школу» в три тысячи маслин, через три года он увеличил ее до десяти тысяч. Стевен возлагал на маслины большие надежды. Он считал, что именно эта культура должна обогатить край, и предполагал сделать правильные посадки не только в южнобережных садах, но и по всему южному склону Яйлы. Для этого нужно было постепенно расчищать дикорастущие заросли и подготовлять почву. В опыте своем считал он первоочередным определение сорта старых деревьев, что давало возможность выбрать лучшие для разведения. В отчете 1816 года он писал: «По трехлетним наблюдениям нашим оказалось, что между старыми масляничными деревьями, насаженными на южном берегу прежними греческими и генуэзскими поселенцами, находятся некоторые сорта, весьма различные между собой величиной, образованием плодов и ростом дерев. Самым плодороднейшим оказался тот, у которого сучья висящие и плод сердцеобразный». На распаханных с величайшим трудом участках Стевен сеял лес, плодовые деревья и травы. Устраивая «экономический сад», парки, цветники, ему пришлось выдержать борьбу с фантастическими планами англичанина Гульда, который, не зная земли и не имея представления о крымской зиме, убедил в свое время Потёмкина в том, что померанцы и лимоны будут здесь произрастать не хуже, чем в Южной Италии. Не так-то легко было уверить дюка Ришелье и местных помещиков, что померанцы и лимоны будут вымерзать, а если и приживутся, то дадут плоды столь слабые, что они не оправдают громадных усилий, которые надобно затратить на эти чуждые таврической земле деревца. Вместо них Стевен советовал рассаживать маслину, смоковницу, грецкий орешник, шелковицу. Именно эти деревья должны явиться доходнейшими в садоводстве Крыма. В своем «экономическом саду» высадил Стевен огромное количество черенков этих избранных им деревьев, а также айвы, груш, яблок, хурмы, вишен и черешен. Он совершал чудеса прививок и скрещиваний, которые дали множество новых сортов. У источников, канавок, в местах затененных посадил Стевен кусты разносортной смородины, малины и крыжовника. Высаживал Стевен и овощи, те, которые были в диковину на русских рынках: цветную и брюссельскую капусту, артишоки и земляную грушу. Для пользы края нужны были «мануфактурные травы», и Стевен сеял дикую сою, земляной орех, ворсовальную шишку, мяту и пиретрум. Особое значение придавал он посеву лаванды, которой ныне славятся крымские поля. Он посеял семь сортов этой пряно-душистой травы. Еще овраг покрыт был дикими зарослями, среди которых кое-где чернели распаханные участки, а молодая поросль в «школах» уже покрылась мягкой хвоей и разноузорными листьями. Окрепнув в теплых, влажных питомниках, деревца пересаживались в грунт по двум террасам, построенным здесь самой природой, и очень быстро приобретали облик и повадку взрослых деревьев. Вырастали знаменитые рощи пробкового дуба, румяного земляничника, голубого пушистого кедра, падуба, широко раскидывающего легкую сеть своей мелкой листвы, и важных темных кипарисов. Неподалеку от «патриарха», на выступе, открытом морским ветрам, посадил Стевен лучший из выращенных в «школе» экземпляров гималайской сосны, быть может, самое великолепное из всех деревьев нынешнего сада. Стевен очень любил сосны. Может быть, они напоминали ему его детство, проведенное на севере. Он был уверен, что дикие скалистые уступы Никитского буруна хорошо примут калифорнийских, канадских, гималайских переселенцев. О своих работах Стевен делал подробнейшие сообщения генерал-губернатору дюку Ришелье. Он писал: «В течение зимы (1813–1814 года) были приготовлены участки земли к будущим насаждениям вырубкою дикорастущих бесполезных дерев и кустарников с глубоким перекапыванием земли. Потом посажены черенки масличных и других дерев и посеяны вновь полученные семена. Когда эти самонужнейшие работы были окончены, то обведена нижняя часть отделенного для школ пространства каменною стеною, и верхняя – прочным плетневым забором. Между тем, продолжалось обчищение маслин и других по саду рассеянных фруктовых дерев, коим отчасти уже и привиты некоторые лучшие сорта. В летнее время, когда нельзя уже земляной работы производить, люди были заняты деланием дорог, кошением сена и построением теплиц и других мелких строений. Осенью опять перекопано нарочитое место, на коем посеяно не менее прошлогоднего разных фруктовых и садовых дерев. Сверх того испахано несколько полей, кои засеяны семенами лесных дерев в большом количестве, а наипаче мохнатым дубом, приморским ясенем, восточною грабиною, цельтисом, терпентиновым деревом, красным можжевельником и приморскою сосною… Всегдашний недостаток в рабочих не позволил еще заниматься украшением сада, да и денег недоставало на покупку первоначально потребного количества луковиц, как и других кустов». Справившись с главными посадками парка, Стевен начал прокладывать дорожки, устраивать цветочные клумбы. Весной 1814 года здесь уже цвели крокусы и пармские фиалки, а позднее нарциссы, пионы и розы. На круглой обширной клумбе близ домика Стевена появились весенние алые тюльпаны, великолепные хрупкие канны, еще не ведавшие этой земли, и белые лилии. Леса, луга, цветники и парки всего мира оплодотворяли в эти годы юную, только что возделанную землю Никитского буруна. Садоводы, фермеры, лесники и ботаники разных наций посылали Стевену сосновые шишки, луковицы, жёлуди и всяческие семена, черенки и саженцы. Стевен собирал дань с владельцев садов и парков на юге и в центральной России. Щедрее всех снабжали Стевена Горенки, лучший по тем временам ботанический и плодовый сад подмосковного имения Разумовского. Стевен свободно черпал из семенных школ и питомников, зная, что вернет сторицею. Уже с 1815 года он так же свободно и щедро начал раздавать. В «Северной почте» появились маленькие сообщения Стевена. Все узнали о существовании ботанического сада в Тавриде. Поистине это был волшебный сад. Он возник на месте диких зарослей и теперь, на третий год своего существования, объявлял о восьмидесяти сортах яблок, сорока трех сортах груш, многих сортах мушмуллы, айвы, миндаля, волошских орехов, абрикосов, шелковиц, маслин и хурмы. Стевен заботился о славе своего сада, он хотел, чтобы питомцы из его «школ» стали известны повсюду. Он с радостью снабжал всех желающих черенками. Постепенно границы сада расширялись, питомцы Стевена являлись во всех уголках Тавриды. Стевену хотелось, чтобы его растения не только приносили пользу богачам – владельцам огромных поместий, но и радовали бедняков, обладателей ничтожных клочков земли. Скоро окрестные татары, русские новоселы, севастопольские моряки и мастеровой люд – обитатели городских предместий – стали паломничать в Никиту, и Стевен никому не отказывал. За время своего пребывания в саду он раздал свыше ста тысяч деревцев. Эта раздача молодых саженцев была не похожа на обычную в садоводствах. Тот, кто воспитал в своих «школах» молодняк, не так-то просто расставался с ним. Он хотел знать, в чьи руки попадет этот молодой отпрыск Никитского сада. Он узнавал, каков человек, который займется пересадкой, какова земля и т. п. С каждого бралась расписка в том, что деревца будут посажены по всем правилам, на требуемую глубину, с надлежащим расстоянием одно от другого. Особенно важно это было для молодых маслин. Здесь Стевен требовал, чтобы расстояние было никак не меньше трех аршин, а глубина ямки не меньше аршина. Такое обязательство, торжественно подписываемое новым обладателем молодняка, служило своего рода назиданием, уроком. Так Стевен учил полудиких своих соседей татар, неграмотных русских переселенцев и грамотных садоводов, которые, приехав из северных поместий, имели смутное понятие о южных растениях, крымской почве и климате. Стевен был педагог и умел не только делать сам, но и учить людей. Он создал при Никитском саде училище, куда помещики посылали крепостных мальчиков, иногда совсем малышей, в надежде лет через пятнадцать получить опытных садоводов, и Стевену было нелегко с этими малышами: ведь их надо было обучать грамоте, не говоря о секретах садоводческого ремесла. Однако из училища вышло немало прекрасных садовников, и даже сейчас еще в Никитском саду есть такие, у которых прадеды, деды и отцы воспитывались в училище, учрежденном Стевеном. В деле обучения Стевен был ужаснейший педант, как, впрочем, и во всем другом. И можно ли не быть педантом, имея дело с такими крошечными невесомыми предметами, как тычинки, соцветия, пестики, пыльца, семена? Но во все годы тяжелого, упорного садоводческого труда, хлопот хозяйственных, забот административных Стевен оставался прежде всего ученым ботаником. С грустью думал он о том, что главное, любимое дело приходится делать ему урывками, в свободное от хозяйственных занятий время. Но и в эти немногие часы успевал он сделать многое. Изучение южнобережной дикорастущей флоры вел Стевен и за пределами Никитского сада, и в своем «ботаническом партере». Теперь Стевен хорошо знал своеобразие растительного мира от Ласпи до Капсихора. Знал, что границей полыни надо считать Партенит, что земляничное дерево с его удивительной розовой корой не растет восточнее Кастеля и что излюбленным его местом являются скалы и обрывы, обращенные к морю. Знал, что лучшие экземпляры древовидного можжевельника находятся в Симеизе и Мартьяне близ Никиты, а древнейшие породы местных сосен надо искать западнее Судака; все эти наблюдения явились в результате многочисленных поездок и пешеходных путешествий Стевена. Он считал своей обязанностью обозревать вновь заводимые сады, по пути пополняя свой гербарий и делая ботанические записи. У Стевена были прекрасные гербарии. Каждое засушенное растение еще имело и свой акварельный портрет. Это нужно было, чтобы сохранить все оттенки цвета, пропадающие при самой тщательной и тонкой сушке. И всё-таки гербарий был кладбищем растений. Совсем другое дело – «ботанический партер» Стевена, его опытные посадки дикорастущих обитателей северного и южного склонов Яйлы, степи и побережья. Здесь Стевен сеял и сажал деревца и травы, взятые им в различных местах полуострова, и наблюдал, как буйно прорастали одни, как томились и глохли другие, сравнивал, перемещал, менял почвы, подсолнечность, высоту над уровнем моря. Но ему мало было сличения местных растений, он высевал и высаживал на той же самой почве семена, черенки, взятые из различных стран Европы, Азии, Америки. Особенно занимало его сличение крымских дикарей со средиземноморскими. Это давало ему возможность делать выводы о тех травах и деревьях, родиной которых был Крым. В «ботаническом партере» Стевен наблюдал живую жизнь растений, подсматривал тайны брака, болезней и смерти. Делая различные опыты, видел он превращения, которых не мог вообразить себе и сам Овидий, и обычную повседневную жизнь растений, в которой, казалось, нечего было и примечать. Однако эта повседневная жизнь была замечательна не для одного Стевена – о ней хотели знать все его друзья-ботаники. Письма Стевена наполнены ботаническими событиями, которые непосвященным могли бы показаться ничтожными. Работая как наблюдатель, садовник и даже землекоп (ему приходилось самому частенько браться за лопату), Стевен мог делать свои обобщения с той ясностью и уверенностью, которые даются хорошо проверенными опытами. Ничего не пропуская, он вел дневники наблюдений, которые впоследствии послужили основой для его книг и статей о флоре Крыма. Шли годы, и больше не существовало дикого оврага – на месте его разросся великолепный Никитский сад. В нем было несколько тысяч видов различных растений. Сад шел уступами и был увенчан на вершине холма круглым открытым «храмом» (беседкой в античном вкусе). Беседку поддерживали шесть колонн. На темном фоне зелени и серых скал она сияла своей белизной. От нее шли вниз прекрасно устроенные дорожки с лестницами и маленькими площадками для отдыха. Вдоль этих парадных дорожек стояли кадки с растениями, для которых крымская зима слишком сурова. Здесь были апельсиновые и лимонные деревья, олеандры и редкие кактусы. «Старики» – свидетели времен минувших – как бы служили вехами сада, возглавляли его. Восточная граница парка была означена плакучей вавилонской ивой, неизменно останавливавшей внимание путника. От нее шла аллея к центру, где и находилась парадная часть парка с куртинами, розарием и беседкой. Пятисотлетняя маслина возглавляла молодую масличную рощу. Выше, вокруг «патриарха», находились «школы, питомники, оранжереи». Здесь же появились теперь различные здания: библиотеки, гербарий, контора, где жили служащие и находилось училище садоводов. Стевен жил в маленьком домике, заваленном коллекциями. При нем были две комнаты для посетителей сих мест. Как свидетельствует Муравьёв, «утонченность в угощении не довольствуется здесь предложением путешественнику всего нужного к отдохновению, она желает дать и уму его приятное занятие: в одной из комнат стоит шкаф, наполненный книгами, разумеется, ботаническими, между ними – прекрасное издание Палласа “Путешествие на юг России”, все собранные здесь сокровища служат к удовольствию или удовлетворению любопытства гостей». Для «высокопоставленных особ», посещения которых становились всё чаще и чаще и пребывание долговременнее, строилась особая дача. Эти приезжающие стали за последнее время обременительны. Сад больше не был местом уединения. Торжественные приемы, которые устраивались здесь царю (Александр I дважды посетил сад), требовали всякий раз особой изобретательности, которая отвлекала Стевена от работы. Нужны были апартаменты, роскошные букеты, прогулки, особые фрукты к столу. Нужно было показывать всё «лицом», чего терпеть не мог Стевен. Сад не мог существовать только на те казенные средства, которые ему отпускались. Нужна была частная помощь, богатые меценаты, и все эти Румянцевы, Потоцкие, Кочубеи и другие жертвователи смотрели на сад как на свою собственность, распоряжаясь в оранжереях и требуя для себя дани в виде самых редких растений. Они отнимали у Стевена время, постоянно останавливаясь у него проездом в свои южнобережные имения, и он был для них не более как «чиновник, осведомленный в естествознании и ботанике». Воронцов, сменивший дюка Ришелье, видел в директоре вновь учрежденного Таврического сада лишь ревностного исполнителя всех «своих предположений, клонящихся к развитию в Крыму сельской промышленности и садоводства». Да, таким они хотели видеть Стевена – исполнителем их воли и даже капризов. Стевен устал и во многом был разочарован. Он надеялся, что «мануфактурные травы» и маслиновые рощи будут иметь распространение по всему полуострову. Но новые помещики предпочитали отдавать в аренду сенокосы и лесные участки и заботились только о красоте приморских своих парков. С земледельцами стало еще труднее, чем в те времена, когда Стевен впервые посетил Тавриду. Приток беглых почти прекратился, потому что были приняты особые меры. Кто же мог возделывать поля и насаждать маслину? Это была мечта явно неосуществимая. Стевен писал с горечью: «Хотя маслина и на сухой земле расти может, но требует прилежной обработки и много навоза, и сей минервин дар[73] только был для многолюдного города, каковы были Афины, благотворен». Так Стевену пришлось расстаться со многими своими замыслами. Они опережали время, они не устраивали власть имущих. Стевен был ботаником-мыслителем и практиком в высшем, лучшем смысле. Ведал ли он ботаническим садом, инспектировал ли шелководство или всё сельское хозяйство юга (такова была его должность в 40-е – 50-е годы), писал ли он свои труды по ботанике или вопросам агрономии, – мысль его была занята преобразованием природы на пользу человека. Дикорастущие и отбор из них наиполезнейших человеку в разных зонах полуострова – вот что преимущественно занимало Стевена. Дикие фисташки, терн, лесной орех, черешня, яблоня должны быть улучшены, освобождены из чащи и зарослей и в обновленном виде должны покрыть склоны яйл. Каперсы, полынь, шалфей, лаванда и еще многие дикие травы и кустарники должны быть высажены на благоприятные участки, чтобы служить человеку. Стевен думал не только о благословенном южном склоне Яйлы и водообильном северном, он думал о степях Тавриды, о новых степных селениях в Присивашье, о селениях по Салгиру, Зуе, Карасу. Как спасти молодые поля от страшных засух, испепеляющих злаки? Лес – вот единственная защита. Отбор для питомников, выращивающих этот лес, – вот великая задача. Но лесные посадки требовали воды. Без воды все опыты были бесполезны. Вода составляла ту главную задачу, которая разрешила бы всё остальное. И мысль ботаника Стевена направилась на поиски источника, который мог бы напоить новые леса. Стевен представлял в Министерство государственных имуществ план строительства Днепровского канала как единственного верного источника для орошения степей Крыма. Как подробно составлен был этот проект, долго ли, коротко ли работал над ним Стевен[74], один или в содружестве – мы не знаем. Известно лишь то, что на проект не было обращено внимание, так же как не было в свое время обращено внимание на «мечтательный» проект (1804 года) насаждения ветрозащитных и водохранящих лесов по степным границам полуострова. Стевен покинул Никитский сад в 1824 году, но числился директором до 1827 года, оставляя за собой общее руководство. Однако он не вмешивался в дела сада, которые вел садовод Гартвис, послушный во всем Воронцову. Гартвис занялся опытным виноградником потому, что это важно было для винодельных предприятий Воронцова. Работы в «школах» с хвойными, с лавандой и дикорастущими почти прекратились. Но и то, что уже удалось создать, было не так мало. Это были 400 десятин сада на месте диких зарослей Никитского буруна, тысячи саженцев, ежегодно из никитских «школ» по Крыму распространяемых, и почти пять тысяч видов различных растений, которые Стевен подробно изучил и описал в своей книге «Флора Тавриды».X. Стевен
От Артека до Фороса
Прежде чем сомкнулись ограды новых усадеб и южный берег стал уделом знати, сюда хлынули из всех губерний тысячные толпы русских мастеровых: крепостных и вольнонаемных. Они явились сюда со своим простым снаряжением и принялись тотчас за дело. Мы знаем имена архитекторов, планировщиков и нескольких садовников, которые проектировали лучшие дворцы и парки побережья, но мы не знаем ни одного имени из тех, чьими руками была перекопана эта тугая, упорная земля, проложены многочисленные тропы и дорожки, возведены прекрасные стены и выточены тончайшие орнаменты. Люди эти явились на дикий берег, исполняя волю своих бар, и создали то великолепие, которое дожило и до наших дней. В эти годы южный берег обрел живой голос. Отовсюду доносились глухие звуки взрывов, всюду дробили камень, ссыпали гальку, песок, рубили, пилили, строгали, приколачивали. Всюду слышна была плавная «окающая», «акающая», мягкая и крутая, северная и южная русская речь, и русская песня зазвучала над долинами, погруженными в вековое безмолвие. Татары, привыкшие делать свои дома из земли и плетенки, с удивлением и интересом смотрели на маленькие «заводики», возникшие по всему побережью, где гасили известь, делали кирпич и черепицу, приготовляли дранку и обтачивали гладкие каменные квадроны. До того времени, как началась постройка перевальной дороги, мастеровой народ являлся стайками, больше по наряду своих помещиков из разных губерний. Но с тех пор как начали строить дорогу и разные дорожные здания, с тех пор как пошли сооружать замки, каменные ограды и церкви, нельзя было обойтись кое-каким народишком, потребовались целые артели и большие умельцы. Большие умельцы и крепкие артели всюду на побережье были нарасхват, нигде сами не оседали, но мало-помалу пускали корень. Ютились в пещерах и землянках, кормились кое-чем и больше довольствовались краюхой. Один из нынешних мастеров-каменотесов, постоянный житель Алупки, рассказывает, что прадед его с котомкой пришел сюда из Болдина, нижегородского сельца, принадлежавшего Пушкину, и с тех пор и дед, и отец, и сам он продолжали прадедово ремесло. Таких потомственных мастеров, предки которых открывали южный берег, можно еще найти в Крыму. Постройка перевальной дороги была огромным событием в жизни молодой Тавриды. Воронцов добился утверждения сметы, пригласил инженеров и получил в свое распоряжение целую армию рабочих из солдат, дослуживающих срок, но рабочих рук не хватало. Брали всех, кто пожелает. Дорога прокладывалась не там, где проходила береговая тропа, а много выше, с головокружительным объездом Чатыр-дага, Кастеля и других скал побережья. От перевала она соединялась со старым трактом, идущим восточнее нынешнего. Проект новой дороги был сделан инженер-майором Славичем. Он и руководил всеми работами. О Славиче известно лишь то, что он обладал необыкновенной энергией и настойчивостью. Этот живой и деятельный человек непрерывно двигался по всему южному берегу и оттуда то и дело путешествовал в Симферополь, улаживая все дела. Назначенный Воронцовым первый казенный архитектор южного берега Крыма – Филипп Эльсон – проектировал и строил почтовые дорожные станции. Воронцовская дорога вызывала суеверный ужас у татар, привыкших к безмолвию этих гор. Целые дни были слышны взрывы, так как «одному пороху покорялись громады». Бывали случаи осыпей, которые убивали людей, но молоты, кувалды и ломы не переставали работать, и пядь за пядью русские люди врезались в камни, которые отныне должны были им служить. Дорогу высекали, укрепляли, где можно – обсаживали деревьями и плотным кустарником, ставили ограды и полосатые версты. Местами она спускалась к морю и шла значительно ниже, чем теперешнее шоссе из Симферополя в Севастополь. Она проходила через Гурзуф, Ай-Даниль, Никитский сад и Массандру, приблизительно там, где ныне проходит так называемая нижняя дорога. Петербургский чиновник Голомбиевский, явившийся в Тавриду с какими-то казначейскими ревизиями, был одним из первых, кто следовал по воронцовской дороге. Он писал в своем дневнике, «что эта дорога с удивительным искусством проведена между скалами и пропастями; ее можно сравнить только с дорогой, которую Наполеон так смело перебросил через вершины непроходимых гор Швейцарии». По мере того как прокладывалась дорога, строители уходили и являлись хозяева. Еще задолго до открытия дороги цены на южнобережные земли возросли необычайно. Богачи стремились округлять свои имения и настойчиво скупали все мелкие участки. Многие из прежних владельцев, земли которых вклинивались в имения магнатов, выжидали, набивая цену. Многие предприимчивые люди скупали земли лишь для того, чтобы выгоднее их перепродать. Лихорадка купли и продажи охватила и татар. Имущие предводительствовали и подбивали бедняков-арендаторов продавать участки и строения, которые им вовсе не принадлежали. Возникали целые процессы из-за какой-нибудь мельницы в Партените или верхнего сада в Массандре. Земельная лихорадка продолжалась на побережье около десяти лет. К середине 30-х годов страсти понемногу улеглись, и картина прояснилась. Лучшие земли южного берега оказались в руках русской сановной аристократии. Воронцов, которого в Крыму называли «королем побережья», хотел видеть вокруг себя как бы свиту усадеб, увенчанных пышными сооружениями. В «свите» должны были принять участие Нарышкины, Голицыны (несколько ветвей этой фамилии), Потоцкие, Завадовские, Румянцевы и другие столь же значительные имена, в число которых попали и Романовы, купившие Ореанду. Аристократической полосой, заповедником знати сделалось побережье от Артека до Фороса. «Король» был озабочен сооружением здания для своей резиденции. Он округлял свои земли от Гурзуфа до владений Мордвинова в Дерекое (предместье Ялты). Побережье было увенчано лишь двумя скромными дачами, построенными еще в начале века. Одна из них, Гурзуфская, теперь принадлежала Воронцову (с 1822 года). Бывший дом Ришелье называли «воздушным замком», так как весь он состоял из лестниц и галереек, продуваемых морскими ветрами. Воронцов велел снять бельведер, возвысить фронтон, отрыть подвальный этаж и изменить планировку, но «замок» не стал основательнее. Солнечный, открытый Гурзуф показался Воронцову недостаточно величественным. Он решил избрать местом усадьбы верхнюю Массандру (Марсанду). Расположенная меж прекрасной бухтой и Яйлинским хребтом, Массандра возвышалась над огромной долиной. К ней подходили дикие сосновые и можжевеловые леса, она ощетинилась ими, как бы отъединяясь от нижних холмов, уже возделанных человеческим трудом. Там наверху мог быть построен замок, башни которого, увитые облаками, недоступные, вызывали бы всеобщее удивление. Место, где Воронцов заложил дом, находилось среди реликвий прошлого, которые могли придать парку особый исторический интерес. Тысячелетние дубы осеняли хорошо сохранившуюся церковь с дорическим портиком. Алтарь ее был хранителем источника, дающего обильную воду. Выше были Яйлинские обвалы и влажные гроты, поросшие плющом. Парк должен был спускаться вниз к виноградникам и выделяться не только на светлом их фоне, но и на фоне дикого леса, со всех сторон обступающего Массандру. От винных подвалов наверх к усадьбе прокладывалась аллея, густо обсаженная кипарисами. Массандровский парк должен был превзойти Никитский сад разнообразием невиданных в этих краях пород. В Массандре была выстроена дачка, и близ нее выбиралось место, достойное замка. Воронцов, в противоположность Потёмкину, не имел особой склонности к античному строгому стилю в архитектуре. Для него южный берег Крыма был романтической дикой пустыней, куда он и другие вельможи явились «просветителями». Дикую, не устроенную человеческим трудом природу, по мнению Воронцова, должны были украсить здания в духе феодальных замков. Нужна была возвышенная готика, величественные стены, напоминающие Средневековье. Первым «замком» в таком духе был дом Анны Голицыной, в 1824 году водворенный среди кореизских скал. Лучи, падающие сквозь стрельчатые окна, полумрак, полутона, цветные витражи содействовали молитвенному экстазу, в который кореизская старуха желала погрузить этот суетный «свет». Голицына принадлежала к тому кругу светского общества, который был предан «божественным устремлениям». Анна Голицына была связана с проповедницей Крюднер, нашумевшей в Европе своими скандальными связями и мистическими экстазами. Крюднер была гонима и явилась в Крым, чтобы вместе с Голицыной основать миссионерскую колонию. «Старая чертовка»[75] Голицына в мужском наряде, всегда вооруженная нагайкой, носилась по горным тропам в поисках паствы. Она собиралась обратить в христианство окрестных татар и заодно подыскивала рабочих для своих виноградников (они оказались предоходнейшими). Духом готики были проникнуты «замки» верхней Ореанды (графа Витта, занимавшегося политическим сыском на юге), Гаспры (князя Голицына, министра внутренних дел, известного мракобеса), Мисхора (князя Нарышкина). Дом в Гаспре (законченный только в 1834 году) был наиболее солидным и стройным созданием крымской «готики». Этот замок был возведен по проекту Эльсона. Художники Крамер и Савари создавали гасприйский парк, сочетая дикую природу с экзотикой. В угоду вкусам хозяина им пришлось в гроте внутреннего дворика возвести «крест, из коего выбегала вода, чистая, как хрусталь, двумя струями». Здесь собирался беседовать с богом старый греховодник Голицын, и струи должны были «олицетворять чистоту его веры». Но над всеми башнями, шпилями и зубцами, соревнуясь с самими зубцами скал Яйлы, должен был возвышаться замок «короля побережья» Воронцова. Всё дело было в выборе места для этого величественного замка. Массандра имела преимущества перед Гурзуфом, но Алупка была местом еще более диким и хотя далеко отстоявшим от винодельческого хозяйства Воронцова, зато прекраснейшим на всем побережье. Не резонно ли было в Массандре оставить только ферму и усадьбу для посещений, а украшать и обстраивать Алупку? Даже странно, что Воронцов не сразу остановил свое внимание на Алупке. Алупке посвящено немало восторженных страниц, хорошо известных Воронцову, собиравшему книги о Крыме. Нет сомнения, что он читал ученую характеристику академика Палласа, который сообщал о долине Алупки как о самой теплой из всех южнобережных долин: «Потому что она одна открыта к югу и защищена от всех холодных ветров. Солнечные лучи собираются в нейи сохраняют свою теплоту в течение всего дня… Все растения востока могли бы расти здесь превосходно». Разъезжая по побережью, Воронцов каждый раз заглядывал в Алупку. Она была несравненна. Как крепость возвышалась над ней громада Ай-Петри. Деревня, прячась меж диких скал, амфитеатром спускалась к морю, близ которого расположились ее сады, не виданные нигде на побережье. Здесь росли гранаты, персики, лавры, кипарисы. В своих мемуарах Воронцов писал: «Поистине местность эта облагодетельствована природой. Это самая богатая из всех окрестных земель из-за чрезвычайного обилия источников, которые делают ее особенно благоприятной для всякого рода насаждений». Владимир Броневский, путешествовавший в 1815 году по южной Тавриде, в своем «Обозрении южного берега Тавриды» писал: «Желательно, чтобы вельможа, богач со вкусом, купил сии сады и здешнюю красоту – природу украсил и раскрыл искусством. Что бы можно сделать с таким местом, которое и в диком состоянии пленяет взор, очаровывает человека, услаждает вкус и обоняние…» Конечно, если существовал вельможа, который мог «украсить природу» Алупки, так это был Воронцов. Не ему ли предопределено было продолжать начинания Потёмкина? Так, по крайней мере, говорили все, имея в виду не столько генерал-губернаторскую должность Воронцова и его таланты, сколько миллионы, которые постепенно переходили к Воронцову от его тещи Браницкой, любимой племянницы Потёмкина. Эти-то миллионы и породили алупкинский замок. И замок начали возводить не прежде, чем миллионы окончательно оказались в руках Воронцова. В 1824 году Воронцов стал скупать земли. Он купил участки Ревелиотиса, Кондараки и других греков. Затем полковник Ревелиотис с помощью местного муфтия приобрел для Воронцова и земли татарской деревни. Сделавшись алупкинским землевладельцем, Воронцов выбрал место для закладки «небольшого дома, который должен был служить на время постройки другого, большого». В 1824 году в Алупке был заложен не замок, а вилла. В 1828 году Воронцов заказал проект алупкинского замка известному архитектору-археологу Эдуарду Блеру. Блер был связан в своем проекте замыслом самого Воронцова. Башни и зубцы «феодального замка» были предначертаны. Важно было решить пропорции, связь с окружающими скалами, подробности планировки. Замок должен издали казаться как бы стоящим у самых ай-петринских громад, в большом тенистом парке. Главная мысль Блера состояла в том, чтобы здание созидалось из того же камня, которым одета была Алупка, зеленеющая среди ай-петринских обвалов. Громадами этого камня завалили обширную террасу, избранную Блером для постройки. Десятки искусных мастеров-каменотесов принялись ломать его, обтачивать и полировать, складывая прекрасные серо-зеленые плиты. Проект Блера как нельзя лучше отвечал желаниям Воронцова. Уединенный и царящий над берегом дворец в Алупке должен был выразить особый «британский» аристократизм владельца. Северный фасад Блер спроектировал в духе замков Елизаветы английской с зубчатыми башнями и замкнутой линией крепостной стены, образующей двор. Даже стены служебных корпусов снабжены были зубцами и бойницами. Серо-зеленый гранит (диабаз) придал сооружениям строгий, несколько мрачный, но грандиозный характер. Стиль романтической готики XIX века отличался неожиданными контрастами, и Блер сделал фасад, обращенный к морю, похожим на маленькую Альгамбру. Легкие галереи и балконы были возглавлены пышным порталом, подобным входам в мавританский дворец или храм Древней Индии. От него шла широкая лестница, охраняемая двумя львами из белого мрамора, вывезенными из Италии. (Позднее лестница была продолжена уступами сада, идущими к морю, и на ней были поставлены еще четыре льва.) Одновременно с постройкой насаждался парк, неотделимый от самого здания. Парк Воронцова не был похож на обычные роскошные парки. Это было произведение подлинного искусства, и замысел его принадлежал художнику. Идея состояла в том, чтобы повторить окружающую природу, как можно осторожнее внося в нее поправки цивилизации. В верхней части своей парк был миниатюрным продолжением ай-петринского склона Яйлы, с его каменным хаосом и дикими лесными породами. Но дикие камни были сдвинуты так, чтобы образовать тенистый грот, пещеру, ущелье, крутой спуск с незаметно высеченной в нем удобной лестницей. Вольно бегущие меж камней ручьи легли в удобные русла и со звоном спускались с каменных стен, образуя маленькие водопады. Три небольших пруда как бы сами собой возникли в окоеме скал. Вода в них была темна и сохраняла прохладу в зной. Вместо дикой сосны меж камней росли теперь пинии, кедры, пихты; вместо дикого шиповника и ломоноса вились по стенам ползучие розы, глицинии, текомы и плющи. Колючую иглицу и держи-дерево заменили душистые лавры и упругие самшиты. По мере приближения к морю природа парка как бы смягчалась, образуя широкие, свободные складки террас, в восточной части – светлые зеленые поляны и пруды, а в западной – хвойные рощи и аллеи. Строить замок начали весной 1830 года. Этот год был памятным для Воронцова, и недаром люди утверждали, что на серых плитах замка видны были алые пятна. Еще бы! Сам Воронцов в своем дневнике 1830 года писал: «Я поехал в Крым, и тогда-то мы заложили первые камни нашего большого дома в Алупке. Я тогда получил печальное известие о большом бунте матросов и жителей Севастополя ‹…› и я немедленно отправился на место, где принял меры безопасности…» Несмотря на усилия Воронцова, в заповедник знати проникло множество незваных. Чиновники, купцы, предприниматели и авантюристы не гнушались клочками горных и береговых участков, с выгодой продаваемых татарами и арнаутами. Лишь бы втиснуться поближе к магнатам. Сколько служебных карьер! Сколько выгодных сделок! И какие связи! Среди жаждущих «прикоснуться» были и богатые откупщики, и купцы, и заводчики, и дворяне. Все эти люди, иногда, впрочем, совершенно необходимые и Воронцову, и другим вельможам, но не допускаемые ко «двору», селились в почтительном отдалении, где-нибудь близ Ялты, в районе Алушты или на запад от Алупки. Здесь и самый характер усадеб мог быть поскромнее. Такие же скромные усадебки-дачи строились на землях, отведенных Воронцовым чиновникам его канцелярии. Они образовали колонии в Магараче, меж Симеизом и Алупкой и в других местах. Эти землевладельцы – чиновники канцелярии Воронцова – украшали свои домики то готическим окном с витражиком, то башенкой, то колонками, поддерживающими невысокую крышу, или крышку, как выражались в то время. Те, кто побогаче, пустились на все лады отличаться друг перед другом замысловатостью своих строений, так что величественные и строгие замки вскоре расцветились самой забавной и нелепой пестротой этих сооружений. Анатолий Демидов так описывает в своей книге эту пестроту: «Попеременно вы видите то небольшой дворец в азиатском вкусе, которого окна закрыты сторами, трубы похожи на минареты, то красивый готический замок, то уютную дачку, вроде английских коттеджей, совершенно погруженную в море зелени и цветов, то легкое деревянное здание, с обширными галереями, покрытое лаком и блестящее как зеркало». Перед глазами путешественника мелькают:…Что богачеПолуденного брега? ОнМагически преображён,Стал весь – блистательною дачей!И.П. Бороздна
То величавые колонны,
То прихотливые фронтоны,
То портики и башен ряд,
То роскошь Азии – киоски,
То ярких флюгеров полоски,
То в окнах стёкла всех цветов…[76]
Воронцов управляет Крымом
Воронцов был назначен генерал-губернатором и наместником Бессарабии 7 мая 1823 года. Полномочия его при Александре I были огромны. Многие думали, что со смертью Александра карьера Воронцова будет в опасности, так как в верхах его считали либералом (конечно, в том умеренном духе, который не мешал карьере). Но Воронцов получил генерала от инфантерии за отличие по службе в дни, когда процесс декабристов еще не закончился и Николай был в особо подозрительном настроении. То, что Воронцов продолжал управлять Новороссией и после смерти Александра I, свидетельствовало о безукоризненной благонамеренности графа. Иначе новый царь не доверил бы ему полномочия столь значительные. Новороссийский край в то время состоял из трех обширных губерний (Херсонской, Екатеринославской и Таврической) и Бессарабской области. Крым был лишь маленькой частицей этого огромного и сложного хозяйства. Между тем, он составлял для России нечто большее, чем губерния или область. Крым был олицетворением черноморской политики Русского государства. Крым был сокровищницей южных природных богатств. Крым связывал Россию с миром античной древности, колыбелью европейской культуры. Казалось бы, всё содействовало процветанию Крыма, не в пример всем другим местам. Но чиновники канцелярии генерал-губернатора Воронцова и чиновники разных ведомств по Новороссии вели себя так же, как чиновники всех русских губерний в недобрые времена Николая I. Они строчили входящие и исходящие, накапливали горы кляуз и прошений, запутывали дела и брали взятки. Замысловатые их мошенничества, в которые замешивались и самые крупные особы, мог описать только Гоголь. В Новороссии для запутывания дел и взяток был больший простор, чем в других местах, потому что здесь всё созидалось, насаждалось и расселялось. Крым был в этом смысле особенно благодатен. В Крыму начальники канцелярий и крупные чиновники больше отсутствовали, чем находились в своих присутствиях. Роскошная отдохновительная жизнь магнатов была великим соблазном. Соблазн, кстати, требовал и денег. Малые соблазнялись примером своих начальников; они тоже хотели наслаждаться красотами. Может быть, именно потому их бесцеремонность и жадность потеряли меру. Восстание 1830 года, именовавшееся раньше «чумным бунтом» или даже «бабьим бунтом», произошло не в каком другом месте воронцовского наместничества, а именно в Крыму, в Севастополе, в 68 верстах от резиденции самого Воронцова, при содействии самых угодных ему чиновников (ведь для Крыма подбирались лучшие) разных званий и должностей: Столыпина, Херхулидзе, Локателли, Ланга, Верболозова, Шрамкова и других, имена которых неизвестны.Дела и проекты
Граф Воронцов ненасытен в тщеславии.Воронцов был методичен, тверд, утонченно и беспощадно вежлив. У него была выправка воина и размеренные движения чиновника. Его голос, оставаясь повелительным, «бывал отменно нежен». Его взор казался пристальным и проницательным, но как бы скользил поверх собеседника. Сухие поджатые губы умели складываться в приятнейшую улыбку, которая многих обезоруживала. Из Англии, где прошли его детство и юность (чем он безмерно гордился), вывез он свои понятия о праве и государстве (впрочем, удобно менявшиеся), а также и уменье заботиться о своем здоровье. В Петербурге, B Одессе, в Крыму и за границей он вставал, работал, ездил верхом и обедал в одни и те же часы. Даже любовные дела он укладывал в строгий регламент. Литератор Соллогуб удивлялся «вечно улыбающемуся самообладанию» Воронцова. Однажды, рассказывает Соллогуб, привели к Воронцову арестованного татарина: «Он весь трясся как в лихорадке, и посиневшие губы его так пересохли, что он едва мог произносить слова… “Что такое, любезный? Да успокойтесь… встаньте… Что такое? В чем дело?” – с своей неизменной улыбкой и протягивая ему руку, спросил Воронцов. Уверив арестованного, «что всё объяснится к лучшему для него», Воронцов обратился к другим просителям и другим делам. «Ваше сиятельство, что прикажете насчет этого татарина?» – спросил адъютант, который присутствовал при трогательной сцене. «А, этот татарин? Он очень вредный, судя по докладам, шпион… поступить с ним по обыкновению, повесить его…» – всё не переставая улыбаться, сказал Воронцов. Таков был граф Михаил Семенович Воронцов, и не так-то легко было его раскусить. Был он образованнейшим сыном века или шарлатаном? Обладал он государственным умом или самовлюбленностью удачливого чиновника? Многие стремились разгадать эту загадку, но из современников, быть может, один Пушкин понял Воронцова вполне. Пушкин представился Воронцову в одесском дворце, где Воронцов жил властительным герцогом, или «вице-королем». Его окружал двор, состоящий из чиновников, роскошных дам, негоциантов, помещиков и знатных иностранцев. Воронцов почтил Пушкина своей вечной улыбкой и беспощадной вежливостью. Он предоставил ему право быть «при дворе», не слишком допуская его к своей особе. «Что же касается Пушкина, то я говорю с ним не более 4-х слов в две недели, он боится меня, так как знает прекрасно, что при первых дурных слухах о нем я отправлю его отсюда и что тогда уже никто не пожелает взять его на свою обузу», – так писал Воронцов своему приятелю генералу Киселёву. Из письма мы узнаём, что Воронцов поручил Пушкина наблюдению полиции и своих чиновников и что с удовольствием «отослал бы его и лично был бы в восторге от этого», так как не любит манер поэта «и не такой уже поклонник его таланта». Несомненно, «меценат» Воронцов надеялся увидеть в Пушкине поэта, который в стихах выразит всё то, что здесь непрестанно превозносилось в прозе: как учен Воронцов, как мужественен Воронцов, как справедлив и тверд Воронцов и т. д. и т. п., о чем читатель может справиться, например, в книге Щербинина, секретаря канцелярии Воронцова. Пушкин написал несколько эпиграмм, которые были доложены Воронцову и уязвили его безмерно. Они задели его самолюбие столь сильно, что он забыл свою роль мецената и либерала и написал в Петербург откровенный политический донос на Пушкина. Поступок этот ознаменовал начало деятельности Воронцова на юге. «Я зажимаю нос, когда говорят крепостники и мракобесы», – любил повторять Воронцов. Между тем, все рассказывали об угодливом поздравлении, которое он принес императору при известии о казни Риего, вождя испанской революции. Воронцов боялся призрака революции. Именно этот призрак заставлял его быть столь настойчивым в вопросе о крестьянской реформе. В 1815 году он в числе других крупных чиновников и военных подписал адрес, поданный Александру I, об уничтожении крепостного права. За время своего генерал-губернаторства он видел силу народного гнева и неоднократно подавлял вспыхивавшие в усадьбах бунты. Киселёв, который в 30-е годы возглавлял комиссию по крестьянским делам и желал раскрепощения крестьян или, по крайней мере, «регуляризации крепостного права из страха», – в 50-е годы писал Воронцову: «Чем более я всматриваюсь, тем более страшусь восстания крестьян ‹…›го спокойствию России и существованию дворянства. Предупредить зло было бы, конечно, разумнее, чем дать ему развиваться и, сложа руки, ожидать его печальных последствий». Воронцов отвечал ему, что считает за честь разделить его взгляды. «Вы говорите почти всё, что я осмелился сказать в своем ответе. Вы сознаете, что мы стоим на вулкане… Вы совершенно правы; я разделяю этот страх и подобно вам желаю регулирования из страха, но также по чувству справедливости». Но не «чувство справедливости», а деловые соображения заставляли Воронцова желать крестьянской реформы. Будучи администратором и помещиком в местах новых поселений, Воронцов убедился в непригодности здесь крепостного труда. Переселенные из северных поместий крепостные неизбежно «развращались» на новых землях, где бок о бок с ними работали свободные земледельцы. Дух переселенных крестьян был явно неблагонадежен и заставлял многих помещиков опасаться за свои усадьбы и свою жизнь. У Башмакова в Мшатке крепостные подожгли дом в отсутствие хозяина. Крымские помещики искали у Воронцова управы на своих крепостных и старост. Какой-нибудь Матвей, крепостной человек Бороздиных, просил защиты от станового пристава из Карасана, который наказал его розгами. Управитель карасанский утверждал, что Матвей «напившись пьян, бушевал и разругал старосту», он считал, что наказание законно и дельно, и хотел распорядиться об отправке Матвея обратно в бороздинскую вотчину. Он объявлял, что «если кто из них еще вздумает бушевать, становой будет к их услугам». Воронцов в таких случаях произносил краткую увещевательную речь, которая могла свидетельствовать о его передовых взглядах, но при этом отлично понимал, что управитель и становой поступить иначе не могли. Сам он не стал бы держать управителя, который мирволит крестьянам. Но столкновения крымских помещиков и управителей с переселенными крепостными говорили о непригодности порядка, при котором работающие не заинтересованы в своей работе. Здесь, в Крыму, было особенно ясно, что все эти столяры, кучера и прочая крепостная челядь приносят много беспокойства, обходятся дорого и плохо приспосабливаются к особенностям крымского, и тем более южнобережного, хозяйства. Будучи свободными и нуждаясь в заработке, они, конечно, стали бы работать усерднее и учиться у знающих дело. Даже такой ретроград, как таврический губернатор Казначеев, говорил, что «наемные люди будут дешевле»: их не надо ни одевать, ни кормить. Содержание крепостного обходилось до двухсот пятидесяти рублей в год, а наемный рабочий не стоил и двухсот. Воронцов писал Киселёву, что необходимо «отделить совершенно дворовых от крепостных крестьян, записывать их особо и определить законом, что из дворовых можно делать крестьян, но никогда не делать из крестьян ни одного дворового… В самое короткое время наши помещики увидели бы, что они только выиграли бы от такого закона… Прислуга была бы лучше, и не только сами владельцы, но и страна сделалась бы богаче, потому что было бы больше рук для земледелия и промышленности и население распределилось бы сообразно общим интересам по качеству и количеству земли». Сам Воронцов, имея огромное количество крепостных в разных губерниях, не без выгоды для себя перевел их с барщины на оброк и пользовался только наемными рабочими и слугами. Однако в Крыму с наймом рабочих дело обстояло сложнее. Воронцов пытался разрешить крестьянский вопрос в наместничестве и не мог выйти из круга, заколдованного еще во времена комитета «О устроении». Ему пришлось применить беззаконные способы Потёмкина, для того чтобы иметь рабочих в своих поместьях. От всех остальных он требовал соблюдения законов. Устраивая землевладения (а не земледельцев и даже не землевладельцев, которым оставалось действовать по произволу), Воронцов вынужден был вмешаться в дела татарские. В 1825 году он критиковал «Проект положения для татар поселян Таврической губернии». В основном замечания сводились к тому, чтобы за татарами упрочились их привилегии, данные им еще в 1786 году: свобода перемещения, свободные условия труда на помещичьей земле и т. п. Но, поддерживая эти привилегии, Воронцов решительно противился исключительному праву татар на покупку земель, вклинивающихся в их разбросанные участки. Раскрывая свою мысль, Воронцов писал: «Я весьма далек от того, чтобы желать изгнания или принуждения переселения сего народа, но не могу не сказать ‹…› что правительство должно заботиться о водворении в Крыму людей промышленных и трудолюбивых и, следовательно, не должно заграждать им путь в приобретении у татар земель. Чересполосное владение, которое в сем случае одно только угрожает, при всех предохранительных мерах со стороны правительства не может быть устранено от участков садовых, рассеянных по нагорной части Крыма и до того раздробленных, что иногда не только один сад, но одно большое дерево имеет несколько владельцев из разных званий, разных селений и городов. И так оставить богатства сии единственно в руках татар для избежания чересполосного владения[78], по местному положению неизбежного, значит осудить Крым на вечное запустение». Нельзя было яснее выразить мысль о хозяйственной роли татар в Крыму. Воронцов отлично понимал, что вопрос о татарах в Крыму не только хозяйственный, но и политический. Он знал, что за внешним доброжелательством к русским кроются темные интриги турецких агентов и что духовенство и знать непрестанно будоражат татарский народ. Надо было ослабить это влияние. Вот почему Воронцов оспаривал пункт «Проекта», гласивший, что «сельская расправа не иначе может исполняться как посредством мулл и сельских старост» и что «заведование сельской полицией должно принадлежать помещику». Воронцов утверждал, что в Крыму «это будет источником злоупотреблений, так как мурзы самовластно управляют живущими у них татарами и притесняют их». Магометанский закон запрещает татарам жаловаться христианам, и поэтому татары оказываются как бы беззащитными. На самом деле, конечно, дело было не в тех несправедливостях, которые чинили мурзы, а в той власти, которую они имели и которой пользовались для своих политических интриг. Воронцов стремился уничтожить это влияние, предоставив власть русской администрации и русскому земству. При всём этом Воронцов считался покровителем магометан. Он достиг популярности у татар маленькими подачками. Стоило ему, например, принять сторону татарина в каком-нибудь земельном споре, как его чиновники кричали: «Воронцов – друг татарского народа», и молва об этом шла по Крыму. Разумеется, под народом надо было понимать имущих и влиятельных татар, а не голытьбу. Однажды Воронцов даже пошел против своего родственника генерала Раевского, чтобы отстоять земли одного муллы (хатиба). Правда, заметим в скобках, Воронцов недолюбливал этого своего родственника, друга Пушкина, и не хотел его водворения в Крыму. Хозяйственный Раевский, имея в своем владении Карасам[79] (в конце 30-х годов), округлял земли, как делали это все южнобережные помещики, как делал это и сам Воронцов. Округляя свое имение за счет партенитских земель, Раевский натолкнулся на старую мельницу, которая уже давно не работала и принадлежала партенитскому хатибу Мустафе-эфенди. Сговорились о цене, и Мустафа получил деньги. Но у старой, никому не нужной мельницы объявились новые хозяева. Мельница оказалась будто бы наследственным владением еще трех татар, которые написали жалобу на Раевского. Воронцов принял сторону хатиба. Раевский написал Воронцову: «Вы не имеете ни времени, ни возможности заменить суды, между тем, татары обращаются всегда к вам, а не к суду… Вы принимаете их сторону против русских владельцев, которых вы привлекли на южный берег… Между тем, ничто не может сравниться с нахальством и плутнями татар… Кучук-ламбатские, биюк-ламбатские и партенитские татары, продав почти все земли и израсходовав деньги, теперь не имеют ни лугов, ни лесов. Они безнаказанно крадут плетни и срубают фруктовые деревья на топливо. По ночам они разбирают каменные ограды моих виноградников, лугов и садов и выпускают туда лошадей и скот, рубят лучшие деревья в моих лесах на свои постройки, и я не могу удержать их с небольшой русской охраной. Наконец они продают мне свою землю, получают деньги, выдают расписки, а затем отрицают факт продажи и получения денег». Именно так поступили три партенитских татарина с этой мельницей. Один получил деньги, но объявились еще трое, которые не признали купчей и, подстрекаемые получившим деньги хозяином Мустафой, жаловались на Раевского, который уничтожил старую мельницу. Дело было ясное, но Воронцов не хотел защищать интересы Раевского, хотя хорошо знал, что с его стороны не может быть ни злоупотреблений, ни насилия над татарами. В ответ на письмо Раевского Воронцов сурово заметил, что не позволит вмешиваться в его распоряжения и не намерен брать уроки администрации у кого бы то ни было. Он не вступал в спор, считая свои методы не подлежащими обсуждению. Тактика Воронцова всегда и всюду была одинакова, но многих вводила в заблуждение. О нем надо было судить «по намерению», но намерения его нелегко было понять. Часто двойная игра приводила его к дурным результатам. Так было с татарским вопросом. Мурзы и муллы, которым покровительствовал Воронцов, богатели и не думали покидать места русских помещичьих поселений, что не помешало им во время Севастопольской обороны предаваться иностранцам, а после русских побед устремиться добровольно в Турцию, волоча за собой бедноту. Воронцов никогда не дерзал на проекты и замыслы, которые могли быть оспорены в верхах, встретить препятствие со стороны дворянства, высших чиновников, финансистов и т. п. В этом смысле он недалеко ушел от своих предшественников из комитета «О устроении» Новороссии и Крыма. Но у Воронцова был дар администратора и делового человека. Он добивался желаемого. Так, в 1824 году добился он утверждения крупной сметы на постройку перевальной дороги на южный берег Крыма. Воронцов получил в свое распоряжение целую армию рабочих из солдат, дослуживавших срок. Заслугой Воронцова было промышленное виноделие на южном берегу Крыма, предпринятое в 20-е годы. Виноградарством до того времени занимались лишь в долинах Альмы и Качи и восточного Крыма (Судакской, Козской, Отузской, Капсихорской, Кутлакской). Хотя ежегодно подвалы этих долин давали не менее четырехсот тысяч ведер вина, но вина эти не могли соревноваться с испанскими, рейнскими, французскими. Из выписки, сделанной секретарем, Воронцов узнал, что виноградари «без малейшего разбора кладут всякий виноград под одни тиски, примешивая к тому не только зеленый, кислый, гнилой, да и называемый Асму, который для вина совсем не пригоден. Они не имеют погребов и, вместо того чтоб их вина от долговременности удобрялись, не терпят оной и обыкновенно подвергаются порче. Они в винном царстве, за недостатком бочарей, нуждаются в бочках и переливают его в опорожненные от хлебных вин ‹…› продаваемое ими вино, начиная от полтины до полутора рублей ведро на месте, довольствует Новороссийск, Харьков, Николаев, Херсон и часть Малороссии. Итак, сия редкая отрасль находится в совершенном беспорядке». Воронцов не видел прямых способов заставить мелких виноделов перечисленных долин разбираться в сортах винограда, строить подвалы и лить вино в чистые бочки. Для того чтобы подобное виноделие перестало существовать, нужно было создать лучшее, правильное, оснащенное многовековым опытом виноделов Южной Европы. Таким виноделием решил заняться сам Воронцов. Он получил подробный отчет Никитского сада и потребовал еще от Стевена особых сведений о произрастании винограда в этих местах. Стевен сообщил, что опыты показали превосходство южнобережного винограда: он отличался особыми ароматическими и сахаристыми свойствами. Тем не менее Стевен не был сторонником виноградарства на южном берегу, считая, что старые, испытанные сорта восточного побережья надежнее для производства вин, что винодельческий центр следует оставить в Судаке, где и находилось училище для виноделов. Он думал, что следует насаждать здесь те из средиземноморских и исконно крымских растений, которые не могут быть разводимы в других местах: оливы, гранаты, инжир. Из доклада Воронцов понял, что Стевен смотрит на вещи глазами ученого и для него существует только одна целесообразность – та, которую устанавливает наука. Может быть, чистая наука и действительно требовала посадки всех этих деревьев, не растущих за пределами Фороса и Кучук-Узеня, но ведь это было делом длительных опытов и изучений. Воронцов досадовал, что Стевен, который мог сделать Ботанический сад своим опытным виноградником, казался не слишком в этом заинтересованным. Но тут всё уладилось к обоюдному удовольствию Стевена и Воронцова. Стевен просил освободить его от должности директора. Он ссылался на необходимость закончить свой ботанический труд, что было невозможно при ежедневных заботах в саду. Воронцов, понимая значение Стевена, предложил ему остаться директором для общего руководства (Воронцов подчеркнул, что именно для очень общего), имея в Никитском саду достойного помощника. Стевен согласился, и в лице капитана артиллерии фон Гартвиса, рекомендованного из прибалтийских губерний, был найден человек, который стал исполнять волю Воронцова. Гартвис, по свидетельству Стевена, не имел никаких ботанических познаний, и это устраивало Воронцова. Гартвис не рассуждал. Это не мешало ему, впрочем, быть большим любителем своего дела и добросовестнейшим служакой. «Смотритель» сада Гартвис вполне понял, чего требует от него Воронцов, и занялся преимущественно двумя отраслями: опытным виноградарством и разведением декоративных парковых растений. И то и другое было необходимо самому Воронцову. Он устраивал парк в своем имении и закладывал виноградники для будущего виноделия, которое могло принести ему огромные доходы. Воронцов распорядился расширить пределы Никитского сада. За садом закрепили урочище Магарач. Это было одно из тех старых греческих селений, от которого осталось одно название, несколько деревьев, свидетелей былого садоводства, да две-три жалкие лачужки, занятые случайным поселенцем, арнаутом или татарином. Гартвису пригнали рабочих из Бессарабии, и молдаване, знакомые с виноградарством, довольно быстро привели в порядок поля и сделали нужную перекопку. Лучший, скрытый от ветров участок был избран для рассадника, в нем высаживались лучшие лозы – из Италии, Франции, Испании. Так впервые были выращены знаменитые розовые и черные мускаты, которые потом создали славу таврического виноделия. Воронцов гордился этим рассадником и утверждал, что в нем «находятся как для пользы, так и для любопытства собранные более 600 сортов разного винограда». Магарач был казенным урочищем и принадлежал казенному Ботаническому саду. Он служил винодельческому хозяйству Воронцова и в то же время являлся первой школой русского виноделия. В 1828 году сюда перевели училище виноградарей и виноделов, влачившее до этого печальное существование в Судаке. Воронцов скупал земли для своих виноградников. К гурзуфским прибавил он большую часть земель ай-данильских. Холмы Ай-Даниля были созданы для лоз. Покрытые правильными рядами кустов (посаженных по новому, невиданному здесь образцу), эти холмы приобрели четкий рисунок линий, скрытых раньше лесной чащей. Дороги и тропинки сетью покрыли холмы Ай-Даниля. На самом высоком холме были посажены кипарисы, которые спускались к зданиям грубого серого камня. Это были первые подвалы. Воронцов велел строить их из местного камня и не белить. В 1828 году в Гурзуфе и Магараче уже кипела новая жизнь большого хозяйства. Петербургские, ярославские и прочие мастеровые, только что закончившие добротный огромный подвал и выложившие над воротами дату, теперь приступали к другим делам: делали бочки, тарпы, подготовляли прессы и бутылки для розлива. Воронцов хотел, чтобы Ай-Даниль производил и сладкие десертные вина, и столовые сухие и полусухие сорта. Для изготовления первого русского «шампанского» Воронцов вызвал из Шампани винодела Гаузера. Ай-данильский подвал Воронцова был первым, возведенным на южном берегу. Одновременно с ним заложили и казенный магарачский подвал, а затем и первый подвал Массандры. Холмы Массандры принадлежали Воронцову. Это «урочище» ничем не отличалось от пустынного Магарача и Ай-Даниля. Так же, как и там, здесь был лес, одичавшие сады, следы старого поселка и византийской церкви. Приморские склоны готовились для рассадки виноградных чубуков, а там, где оставались следы старых садов, проектировались парк и фруктовые насаждения. Внизу у берега и наверху у старой часовни начали возводить постройки. Внизу строился подвал еще обширнее ай-данильского. В нем устроили особую винотеку – хранилище для бутылок, будущих коллекций Воронцова. Ай-данильские и массандринские виноградники были сущим чудом. Они начали приносить доходы раньше, чем Воронцов успел окончательно и прочно обосноваться на южном берегу. Пример Воронцова немедленно вдохновил всех дельцов из числа помещиков южного побережья. Так, один из них, барон Бернгейм, владелец земель в Ай-Даниле, устроил образцовые виноградники силами религиозной паствы своей тещи – знаменитой Крюднер, мистической подруги Александра I. Труды паствы давали барону до десяти тысяч рублей дохода в год (в 1834 году). Большие и малые землевладельцы южного берега спешили устраивать виноградники, наскоро сооружать подвалы и давить вино новыми усовершенствованными способами. Осенью 1830 года на южном берегу произвели пятнадцать тысяч ведер вина, каждую новую осень цифра эта увеличивалась. В 1835 году южнобережные виноделы выпустили тридцать восемь тысяч ведер вина, которое не могло идти в сравнение с плохими винами Центрального и Ввосточного Крыма. Теперь «весь южный берег был засажен виноградными лозами и производил вина на миллионы рублей». Воронцов избрал Крым своей летней резиденцией и уделял ему много времени. Тот, кто бывал на южном берегу в 10-е и 20-е годы, теперь не узнавал этих мест. Перевальная дорога резко изменила облик полуострова. Судоходство явилось еще более важным средством оживления края. По ходатайству Воронцова были выданы казенные суммы для покупки судов, которые затем становились собственностью акционерного общества. Уже в конце 30-х годов к Ялтинскому, Севастопольскому и Феодосийскому портам стали ежедневно прибывать первые пароходы (пироскафы «Петр Великий», «Северная звезда» и другие). Пути сообщения изменили облик южного берега. Началась лихорадочная скупка земель, стремительное возведение замков, дач. Из пепла и руин возродилась Ялта, украсилась изящной новой колокольней и дачами, которые стремились походить на дворцы средиземноморских курортов, хотя и смахивали на барские усадебки, расположившиеся в уездном городке. Таврида обстраивалась. Симферополь стал заправским губернским городом со всеми полагающимися учреждениями. Были открыты первая «городовая больница», странноприимный дом и даже гимназия. Возникли богатое дачное предместье по Салгиру и городской сад. Приводились в порядок и обстраивались Феодосия, Керчь, Евпатория и Старый Крым. Особенно посчастливилось Керчи. Воронцов назначил градоначальником Керчи любителя древностей, бывшего адъютанта Ришелье – Ивана Александровича Стемпковского, который оказался не только ученым археологом, но и прекрасным хозяином. Он написал блестящий доклад о портовых возможностях Керчи и о современном печальном ее положении. В результате этого доклада городу была дана особая государственная субсидия в пятьдесят тысяч рублей ежегодно. Эти деньги выдавались керченским градоначальникам и много лет спустя после смерти Стемпковского, случившейся в 1832 году. Стемпковский починил, почистил и украсил Керчь. Просто удивительно, как много успел он за четыре года жизни в Керчи. При нем открыли уездное училище, заложили городской сад, начали строить новую пристань и учредили музей. В Севастополе в 1830 году было тридцать тысяч жителей: моряки, их семьи, мастеровые и рабочие. Когда стали строить доки, людей появилось еще больше. По мере того как ширились парадная набережная и прилегающие к ней линейно расположенные улицы, лачуги забирались выше и вскоре усы́пали все холмы. Разрослись слободки Корабельная и Артиллерийская, и жизнь этих слободок обособилась от городского центра, подобно тому как помещичья деревенька особится от великолепного барского дома. Природа на юге снисходительна к беднякам, и тем, которым решительно не на что было купить бревен и черепицы, она благородно предоставляла убежище в пещерах и нишах податливых известковых скал. Одна стена вместо четырех сильно облегчала усилия строителей. Скалы были хорошо защищены от холодных ветров. В конце концов эти слободки имели даже веселый вид: домики сверкали белизной, а виноград и вьющаяся фасоль прикрывали все грехи архитектуры. В слободках жили матросские жены, вдовы, яличники, рыбаки. Когда началось строительство доков, рабочие стали селиться в землянках по всему пути строящегося канала. Проект доков по тому времени был грандиозен, и утверждение его делало честь Воронцову. Речь шла о том, чтобы отвести речку Чурук-су (или Черную), или Инкерманку, как ее именовали, в новое русло. Для этой немноговодной речки (когда-то, впрочем, принимавшей на свои воды ладьи киевского князя Владимира) делали новое русло в подземных тоннелях. Русло, или канал рыли на протяжении 18 километров от селения Чоргунь. Дватоннеля длиною в 800 футов, тридцать восемь арок и два акведука были задуманы для этой постройки. Вода Чурук-су, тоннелями и через водопровод, должна была заполнять огромный бассейн. Проект наливных доков был утвержден, и рабочие приступили к его созданию. Взрывали белые известковые холмы и на их месте ставили мастерские. Вскоре исчезли холмы и скалы по всему пути проводимого канала: рабочие уносили землю мешками и засыпали низину в углублении Южной бухты. Они «разнесли эти горы горстями», как выражался очевидец. Между Корабельной и Южной бухтами была срыта часть горы до двадцати сажен высотой и заложены новое адмиралтейство и эллинг. Еще южнее строились другие два эллинга и казармы на шесть тысяч человек. Кроме того, запроектированы были каменные приморские батареи (Николаевская, Александровская, Константиновская, Михайловская и Павловская) и каменная стена от Карантинной бухты до Южной. Всё это было создано не слишком быстро, потому что чиновники не спешили утвердить сметы, задерживали материалы, делали немало препятствий в отпуске лошадей, а главное, хлеба для рабочих. Наливные доки и большинство зданий, предположенных по проекту, были закончены лишь в начале 50-х годов, т. е. к самому концу администрации Воронцова. Владетельный вельможа Воронцов хотел покровительствовать наукам и искусствам. Вокруг него толпились художники и граверы, изображавшие южнобережные владения и красивейшие места Крыма. Среди этих художников были Маурер, Вольф, Чернецов, Бассоли и Гросс. Все они оставляли Воронцову целые альбомы рисунков и акварелей, часть которых размножалась с помощью литографии. Воронцов поощрял их подарками и оплачивал их труд из своих денег, чтобы составить коллекции, которые было лестно показать в Петербурге и которые наглядно изображали роскошь преобразованных по его (так он думал) воле мест. Меценатству Воронцова обязаны мы замечательными собраниями гравюр, изображающих Крым 20-х и 30-х годов. Залы петербургского Эрмитажа украсились великолепными керамикой и скульптурой из херсонесских и боспорских находок. Вельможное тщеславие Воронцова было польщено археологическими трудами Ивана Стемпковского и славного Кёппена. Еще в 1823 году, во время пребывания Воронцова в Массандре, явился к нему этот чудаковатый Стемпковский со своими «мыслями». По правде говоря, Воронцов считал безнадежным человека, который имел возможность сделать блестящую карьеру и не сделал ее. В самом деле, Стемпковский был любимцем дюка Ришелье и в качестве адъютанта находился при нем неизменно. Дюк любил его, как родного сына, дарил ему дома и усадьбы и вводил этого бедного дворянчика в самые высшие сферы общества. На что же Стемпковский употреблял свои средства и связи? Смешно сказать, но на покупку каких-то монет, манускриптов, книг и установление знакомства с учеными археологами. Воронцову это казалось несерьезным, но он оставил у себя докладную записку Стемпковского, просмотрел ее и даже поощрил начатые раскопки на Боспоре. Затем, как всегда, думая не столько о самом деле, сколько о том, как это дело может прославить его имя, Воронцов пожертвовал на раскопки довольно крупную сумму и назначил Стемпковского керченским градоначальником в 1828 году. Во всё время пребывания на посту градоначальника Стемпковский заботился о раскопках. Он проводил под землей и в поисках памятников всё свое свободное время и добился многого. Воронцов очень удивлялся его полному бескорыстию и считал его величайшим чудаком. К счастью для науки, еще при жизни Стемпковского явился ему преемник, столь же горячий любитель археологии – Петр Иванович Кёппен. Кёппен был назначен на должность, ранее занимаемую Стевеном; он явился в Крым в качестве помощника главного инспектора шелководства, садоводства и виноделия, но по роду интересов своих был склонен к наукам гуманитарным, и особенно к археологии. Воронцов сделал благое дело, предоставив ему возможность заниматься крепостями, базиликами и другими памятниками древностей на побережье и в горном Крыму. В результате Кёппен создал свой «Крымский сборник», значение которого не утрачено в наши дни. Сборник и приложенные к нему прекрасные карты горного и южного Крыма в 1837 году уже лежали на столе Воронцова и составляли его гордость. Разве не он, Воронцов, с его деньгами помог Кёппену в изучении древностей? Такие люди, как Стемпковский, Чернецов, Кёппен, Славич, создали вокруг Воронцова ореол покровителя наук и художеств. Разве не он нашел этого Крюкова, который теперь делает чудеса из крымского природного мрамора? Мастерские его славятся и за пределами Крыма. Воронцов всегда стремился к славе и ждал ее. В годы военной службы он хотел славы самого храброго, самого требовательного, но и самого справедливого командира. Но хотя он был отменно храбр, а его солдаты имели сытый вид, доброй славы у Воронцова не было. Потом он ждал славы преобразователя Южной России. Казалось, он ее заслужил: все удивлялись перевальной дороге, роскошным дворцам, паркам, подвалам и мускатным винам, гравюрам и раскопкам. Но слышны были только трубы и фанфары Левшиных, Щербининых и прочих чиновников канцелярии Воронцова. Другие молчали. Впрочем, не все. В начале 40-х годов в Одессу прибыл ревизор А.П. Толстой, который сделал затем царю такое донесение о воронцовском режиме на юге: «Поборы, злоупотребления, беспорядки и преступления здесь так велики, что я недоумеваю о числе лиц замешанных. Злоупотребления эти продолжаются с лишком 17 лет[80], и если в Одессе всё делается в глазах генерал-губернатора, то что же должно быть в других губерниях». Вряд ли в словах Толстого была какая-нибудь напраслина.Из «Записок» декабриста С.Г. Волконского
Мятежные слободы
3 июня 1830 года в Севастополе были ниспровергнуты все власти города.Из донесения жандармского майора Локателли шефу жандармов графу А.Х. Бенкендорфу
Принять решительные меры!Воронцов гордился тем, что поборол чуму в Одессе, и теперь пресекал ее в самом зародыше в Севастополе. Всё дело было лишь в правильной новейшей английской методе: в обсыпании каким-то особым порошком, в холодных купаньях (да, да, лучший способ к оздоровлению, применяемый в Англии) и в особой изоляции. Нужны были меры предупредительные. В канцелярии Воронцова строчили приказы о «карантинном термине» и предлагали генералу Столыпину обратить особое внимание на Корабельную и Артиллерийскую слободы. Воронцов был хорошо осведомлен об этих слободах на основании лежавшей перед ним карты Севастополя и статистических записей, старательно переписанных Щербининым. К этому еще прибавлялись донесения доктора Ланга о подозрительных заболеваниях среди матросов и мастеровых. Материал был вполне достаточным, но Воронцов счел бы весьма неуместным, если бы из чистеньких статистических тетрадок вдруг бы высунулись старая панева тощей слобожанки, или слободская корова со сморщенным сухим выменем, или показались опухшие, струпьями покрытые ноги строителя доков. К чему бы это всё? Распоряжение о чумном карантине неприятно подействовало на севастопольского военного губернатора Столыпина. Генерал-лейтенант Николай Алексеевич Столыпин имел военные заслуги и считал, что ему не грех отдохнуть. Теперь, на пятидесятом году жизни, любил он покой и тишину. Севастополь, казалось, был подходящим местом для такого человека. При наличии деятельного Грейга и попечительного Воронцова можно было спокойно сидеть за чайным или ломберным столом. Можно было часами лежать на диване, созерцая морскую гладь и движение кораблей. И вдруг эти неприятные хлопоты. Впрочем, у генерала были хорошие помощники, искательный и быстрый в делах градоначальник Херхеулидзе и жандармский майор Локателли. Херхеулидзе был глуп, бесчестен и жесток, но незаменим угодливостью своей и уважением к начальству. Майор Локателли ничем не отличался от других майоров, носивших голубой мундир, хотя составил себе некоторое имя во время процесса декабристов. Начальство на него полагалось. Эти-то два чиновника и должны были начать в Севастополе борьбу с чумной заразой, согласно английской методе Воронцова. В основе методы были меры предупредительные.Граф М.С. Воронцов – адмиралу С.К. Грейгу
i
Была весна, и весеннее солнце вселяло надежду в слободских бедняков. Теплая, увлажненная земля огородов растила драгоценные овощи. Море предвещало хороший улов, а слободские коровы и козы досыта наедались травой на дальних ухожах, еще не пересохших и не вытоптанных. Херхеулидзе разом покончил со всеми надеждами. В один из первых майских дней 1828 года жители Корабельной и Артиллерийской слобод, проснувшись, оказались запертыми. У края Южной бухты, на хребте, у перевоза, стояли вооруженные отряды и на работу выпускали с особым осмотром. Пастуха, выгнавшего скотину, не пустили обратно в слободу, а женщин, пытавшихся выйти в поле, поймали и наказали розгами. Нельзя было проникнуть в город, чтобы отнести или взять стирку у господ офицеров. Нельзя было выйти на базар, чтобы продать несколько яиц и купить хлеба. Рыболовные снасти оказались в руках охраны. Женщины, бросив детей и дом, целые дни стояли у застав, добиваясь, чтобы их пустили на огороды. Они истошно кричали, требуя свою скотину, и ругали солдат. Охрану ставили из самых надежных, а слабонервных и жалостливых наказывали линьками. В слободах появились квартальные комиссары, которым были поручены провиантские дела. С первого же дня стало ясно, что людям грозит голод. Комиссары раздавали муку и прогорклую солонину. К лету в Корабельной слободе оказалось несколько больных. Как только обнаруживали больного – подозревали чуму. Врач Ланг и лекари Верболозов и Шрамков являлись ежедневно. Они ходили с охраной, и на них были маски и перчатки, делавшие их похожими на дьяволов. Почти всегда они были навеселе и позволяли себе безобразные шутки с женщинами. Первый случай чумы был обнаружен в Корабельной. Жирный пьяный Ланг добрался до хибарки старого матроса Кудрявцева, который лежал после сердечного припадка. Ланг посмотрел на него издали и кивнул. Ему было совершенно ясно. Вслед за тем явились дюжие молодцы, имевшие уже и в самом деле дьявольское обличье. Они были зашиты в кожаные костюмы, вымазанные дегтем, а капюшоны прикрывали их лица. Это были мортусы, прозванные в народе «колдунами», – их брали из уголовных, которым терять было нечего. Всегда они были пьяны и распевали зазорные песни. Люди в ужасе расступались при виде длинных палок с крючьями. По рассказу очевидца, «с воплями слились крик собачонки и визг поросенка, раздались тяжелые удары, под которыми и крик собачонки, и визг поросенка через минуту умолкли». К счастью для себя, старый матрос умер раньше, чем крючья мортусов стащили его с кровати и поволокли в карантинную яму. Зато они не пощадили старуху, молодку и двух малюток. Их поволокли в карантин потому, что они были носительницами заразы. Молодка сопротивлялась отчаянно, защищая детей. Ее привязали за голову и за ноги к водовозной бочке и волочили по улице Корабельной слободы вниз, к морю, разгоняя толпу, хранившую гробовое молчание. Хибарка горела – ее зажгли, чтобы «предотвратить заразу». С Павловского мыса, где располагался карантин, никто не возвращался. «Кроме мертвых тел, сюда в чумное отделение под вооруженной стражей приводились семейства, постигнутые злополучием через смерть кого-либо из их сочленов». Английский метод предупреждения чумы состоял в том, что подозреваемых обливали холодной водой по нескольку раз в день. Им не разрешали брать с собой одежду и выдавали лоскут полотна, которым покрывались они, ложась на дощатые нары в карантинных сараях. В дощатых сараях этих не было ни полов, ни окон, ни потолков, и холодный ветер гулял под жиденькой крышей. Микстура была одна для всех, страдали ли поносами, сердечными припадками или ревматизмом. Это был какой-то особый состав доктора Ланга, и восемьдесят человек отправились от нее на тот свет без всякого замедления. По мнению доктора Ланга, все больные были чумными или носителями чумы. Обливания и обсыпания мучительно едким порошком достигали цели, людей становилось всё меньше и меньше (но провиант выписывался и на мертвецов). В городе то и дело появлялась грязная телега, употреблявшаяся для ночного «золота» и дохлых собак. Теперь в нее клали всех слободских покойников и увозили на свалку за город, где вырыты были глубокие братские могилы в виде траншей. Эта же телега являлась и за теми несчастными, которые, прежде чем успокоиться, выдерживали карантинное «леченье». Доктор Ланг был не из тех, которые задумываются. Дела его шли прекрасно, и Столыпин поговаривал о том, что за усердие его ожидает награда. Вернувшись из зловещих своих обходов, он неизменно являлся в «хорошем обществе», т. е.главным образом за столом у губернатора. Самое удивительное было то, что никто из «хорошего общества» не боялся заразы. На Графской и в прилегающих улицах обстояло всё благополучно. Голод мучил лишь бедняков. Столы богачей и сановников были полны по-прежнему. В городе появились новенькие экипажи и расфуфыренные дамы, которых не было раньше видно. Провиантские чиновники раздобрели, расширились в плечах. У них появилась особая походка с торопливой развалкой. Еще бы… Не на них ли лежали все заботы о «карантинном термине»? Лекари Верболозов и Шрамков, как говорится, дорвались до малинки. Если кто-либо из слобожан нуждался в медицинском осмотре, так это были женщины. Молодых женщин Верболозов раздевал догола и творил всякие неблагопристойности, запугивая несчастных Павловским мысом. И Верболозов, и Шрамков с утра выходили на охоту и ловили молоденьких девчат, не гнушаясь, впрочем, и матерями семейств, если они были недурны собой. Мать троих детей Анна Кириллова, которая славилась своей красотой, была упрятана за строптивость в карантин. Там умерла она, как мученица, оплакивая своих малышей.
ii
Прошли лето, зима, еще лето и еще зима. Последняя в жизни севастопольских слобожан зима была сурова не по-черноморски. Матросы не могли доставить своим семьям даже воды. Работающие в доках не могли принести к своему очагу ни одной щепки. Охрана Корабельной по секретному распоряжению Воронцова была усилена. Дети стали совсем прозрачными. Те из них, которые могли еще двигаться, сползали к морю и питались медузами и горькой тиной, которая немножко пахла рыбой. Женщины от голода, горя и тоски по работе потеряли человеческий облик. Они становились всё злее и злее. Наконец, когда убили старуху Екатерину Щеглову, они совершенно озверели. Старуха вздумала было вцепиться в мортуса, пришедшего за ее сыном. Она так ошеломила его ударом ухвата, что «колдун» пошатнулся и хотел бежать. Но подоспевшие мортусы прикончили мать и увезли сына. Тогда на них накинулась толпа женщин. Они растерзали двух «колдунов» и избили камнями Ланга. Они выследили лекаря Шрамкова, поймали его при осмотре юной слобожанки и отвели душу, уничтожив этого страшного человека. Люди больше не хотели терпеть. Матрос 13-го мостового экипажа Григорий Полярный убил лейтенанта Делаграмматина и опалил выстрелом самого Столыпина, явившегося во главе отряда. Полярный был расстрелян у своего дома, а жена и дочь, которых защищал он от мортусов, избитые до полусмерти, были брошены в телегу и отправлены в карантин. Таврический губернатор Казначеев убеждал Столыпина «принять решительные меры», утверждая, что «замедление заразительнее и вреднее, чем чума» и что пора покончить с «гнездилищем бунтовщиков». Столыпин отдал распоряжение адъютанту Скальковскому: «Меньше говорить, а больше действовать. Отыскать мятежников и, буде таковыми окажутся мужчины, то передавать их военному суду, а если женщины, то наказать их сильно розгами в разных частях города для лучшего примера». Воронцов прислал приказ о выселении из Корабельной «особо сомнительных в особый лагерь». Слобожане не выдавали своих и встречали начальство и полицию, сгрудившись плотно на маленькой площади у церкви. Квартальный Юрьев, боясь, впрочем, подходить слишком близко, кричал: «Давайте своих зачинщиков и смутьянов!» Слобожане отвечали: «Мы не бунтовщики и зачинщиков между нами никаких нет и нам всё равно – умереть ли с голоду или от чего другого». Среди слобожан было много матросов. Они кричали Юрьеву: «Скоро ли откроют огонь? Мы только того и ожидаем, мы готовы!» В Артиллерийской слобожане вели себя так же, как в Корабельной. Шпионы рыскали по слободам, проникая в экипажи, мастерские и доки. Особенно отличился в этом деле мичман Макаров, который во всё время мятежа оставался тайно в самом «гнезде мятежников». Столыпин докладывал Воронцову: «Я не должен скрыть от Вашего сиятельства, что расположение умов частей морских экипажей, в Севастополе находящихся, весьма неблагонадежно, так как они не скрываясь говорят, в случае если бы начальство вознамеривалось действовать на мятежников силою оружия, то они выжидают только первого выстрела, чтобы идти к ним на помощь». Воронцов распорядился оцепить Корабельную двумя батальонами пехоты. Прервали всякое сообщение с городом – мастеровые и матросы не были допущены в мастерские и свои экипажи. Чтобы «усовестить бунтовщиков», пустили в ход духовенство. Сам Воронцов в мемуарах описывал это так: «Мятежники отправились в главную городскую церковь, где заставили священников под страхом смерти совершить благодарственный молебен по случаю истребления чумы и восстановления свободы сообщения». Протоиерей Софроний Гаврилов явился на площадь с крестом и евангелием. Люди пали на колени, плакали и жаловались, что уже два года лишены всего, едят затхлую муку, вещи все проели, всё, что было деревянной утвари, сожгли, а теперь принялись за двери и даже стропила. Софроний был именно тем «пастырем», какой нужен был начальству. Он возгласил о «жестоковыйности паствы», о непокорстве и «бесях», обуревающих народ. Люди перестали плакать, безмолвствуя в ответ на укоры. Тимофей Иванов, квартирмейстер 37-го флотского экипажа, человек атлетического сложения и самого кроткого нрава, сказал людям те слова утешения, которых ожидали они от Софрония. Он сказал: «Всё будет хорошо, мы должны доказать им, что чума – выдумка тех, кто заправляет лабазами. Мы не бунтуем, но мы не позволим больше мучить наших людей. Ни одной живой души больше не будет на Павловском мысу». Тимофей Иванов стал тем человеком, который должен был взять на себя защиту этих людей. Он сказал им, что хотя они не бунтари, а «добрая партия» и совсем не хотят проливать кровь, но они будут защищаться. Для этого нужны отряды, а оружие они достанут. В Корабельной собрали три отряда, в которых были и женщины. Многие из младших офицеров армии и флота тайно сговаривались со слобожанами и помогали им в обучении военному делу. Что касается матросов, то все экипажи выражали готовность помочь слобожанам и быть с ними в трудный момент. Со 2 июня Корабельная слобода превратилась в осажденную крепость. «Добрая партия» разработала план действий. Надо было начать с уничтожения тех, кого народ считал виновниками всех бедствий. Это были Столыпин с его ближайшими приспешниками, члены продовольственной комиссии, члены медицинского совета, флотский начальник и несколько офицеров, отличавшихся особой жестокостью в расправах с матросами и солдатами. Главной, по мнению «доброй партии», задачей было получение письменных свидетельств о том, что никакой чумы в Севастополе до сих пор не было и что она есть выдумка властей, желающих поживиться за счет народных бедствий. Решительный день наступил. О том, что решительным днем слобожан будет 3 июня, еще накануне узнали Херхеулидзе и адъютанты Столыпина. Шпионы доносили, что бунт должен начаться после «шабаша», т. е. в семь часов вечера, и что верные бунтовщикам люди уже сговорены во всех экипажах и в распоряжении бунтовщиков находятся несколько юнг, рассылаемых для связи. Столыпин велел гарнизону быть в боевой готовности, предполагая, что бунтовщики испугаются грозного вида войск. В Корабельную с утра был послан распорядительный адъютант Скальковский. Он вернулся успокоенный. Да, народ по-прежнему неспокоен, но кто? Бабы, которые плакали и просили его о заступничестве. Столыпин приказал Скальковскому остаться в слободе. Адъютант явился туда за полтора часа до начала мятежа. Народ показался ему притихшим: на улицах почти не было мужчин, а женщины изъявляли всяческую «наклонность исполнению воли начальства». В это время пять юнг – Алексей Соловьёв, Василий Нечаев, Иван Стукалов, Василий Захаров и Конон Вялов, – пробравшись по одному сквозь оцепление, уже обегали экипажи. Котельщики, плотники и флотские, услышав условленное о скором начале дела, говорили одно: «Хорошо, ступай». Успокоенное начальство не принимало спешных мер. Генерал Примо объезжал слободы и докладывал Столыпину, что «вполне уверен в спокойствии города». В шесть часов Столыпин по обыкновенному своему распорядку уселся за самовар в обществе избранных друзей: Ланга, Верболозова, чиновника особых поручений Семёнова и адъютанта Орлая. В переулке против адмиралтейства, рядом с которым находился дом Столыпина, под прикрытием сумерек собирался народ. Тут были все слобожане, которые могли еще передвигаться. Два отряда мастеровых 17-го и 18-го рабочих экипажей разместились во дворе адмиралтейства и около собора. «Хребет» был наблюдательным пунктом. С разных сторон на набережную стекались докеры, яличники, портовые грузчики и матросы. Те, у кого не было настоящего оружия, вооружились ломами, топорами, швайками и дубинами. Когда Мария Гриченкова и Аграфена Тютюлина, как условлено было, схватились за веревку соборной колокольни и ударили в набат, отовсюду раздались посвисты, и народ бросился к дому Столыпина. Губернатор находился в каком-то оцепенении: он продолжал сидеть за столом, пока не зазвенели стекла окон, не вспыхнули факелы и не раздались выстрелы. Гости, провозгласив, что «умрут с генералом», бросились наутек. Адъютант Орлай сделал вид, будто идет усмирять толпу. Толпа ворвалась и убила Столыпина, именем которого был расстрелян матрос Полярный. Слобожане считали его главным виновником карантинного долготерпения. Не он ли выдумал эту злосчастную чуму? Так пусть же получит по заслугам… Надо было еще покончить с Херхеулидзе, адъютантами Столыпина, а главное с медиками Верболозовым и Лангом. Их искали. – Мы похороним их так, как хоронили они наших людей, – говорили женщины. Труп Столыпина лежал на дворе в ожидании «чумной тележки». Люди бросились к провиантским складам и взломали их. Голодные вспарывали тугие мешки с мукой и сухарями, тут же насыщались и кормили своих детей. – Это наше, – говорили женщины, волоча мешки в слободы. – Квартальные припрятали наш хлеб и душили нас тухлятиной. Мы берем свое. С Павловского мыса, куда матросы прорвались сквозь оцепление, ползли, ковыляли, тащились на носилках полутрупы, иссохшие на карантинном режиме. Полковник Стулли, комендант карантина, был растерзан «чумными». Их встречали со слезами радости, как выходцев с того света. Никто не боялся заразы. Чума была побеждена, ее «выбили» из города. Колокола звонили, как на пасху. На площадь вели попов, протоиерея Гаврилова и разъевшегося на слободских требах Кузьменко. Их едва нашли. Народ кричал им: «Служите молебен, потом мы пойдем косить». Попы не говорили больше о «жестоковыйности» паствы и послушно возлагали на себя торжественное облачение. Глава народного совета Тимофей Иванов на площади «приводил к присяге» тех, кто объявлял в городе чуму. Это были контр-адмирал Скаловский, генерал-лейтенант Турчанинов, городской голова Носов, более мелкие чиновники и духовенство. Все они подписали отречение от чумы. Документ, который они подписывали, свидетельствовал, что чума была их собственной, злостной выдумкой. – В городе Севастополе нет чумы… и не было, – присовокупил протоиерей Софроний Гаврилов и вывел свою пастырскую подпись. Впоследствии на суде он утверждал, что к «подписанию сего» принудили его пытками и пристрастным допросом и что при этом он подвергся полному разграблению имущества. Всё это было чистейшей ложью. Народный совет, и в особенности Тимофей Иванов, не только строго следили за тем, чтобы не было разбоя и грабежа, но и не считали нужным держать под стражей тех, кто «отрекся от чумы». Контр-адмирала Скаловского, которого особенно не любили матросы, привели в штаб совета, т. е. в дом Иванова на Корабельной слободе, и содержали так свободно, что он бежал. Это вызвало негодование матросов и многих мастеровых. Матросы говорили: «Зачем мы за вас стоим? Не для того ли, чтобы вы мирволили нашим кровопийцам?..» Члены совета говорили: «На что нам держать этих начальников, мы не бунтуем, мы добиваемся правды». Тимофей Иванов больше других верил в то, что «добрая партия» добьется доброго решения: – Мы расправились с душегубцами, у нас есть расписки тех, которые придумали чуму, чтобы губить народ. Царь их не помилует. Мы взяли свой хлеб, который купцы и провиантские припрятали для себя. Что же еще?.. Тем не менее власти были ниспровергнуты. 3 июня 1830 года в городе Севастополе не существовало другого управления, кроме штаба, помещавшегося в Корабельной слободе. Штаб, или совет, состоял из семерки людей, самых уважаемых среди матросов и мастеровых. Они решали все дела Севастополя. Полиция, городское начальство, купцы и чины адмиралтейства бежали за пределы города. Солдаты, охранявшие слободы и карантин, присоединились к восставшим. Войско, оцепившее город под начальством генерал-майора Турчанинова, бездействовало, и народ понимал это бездействие как нежелание идти против севастопольцев. Солдаты оцепления волновались, офицеры пытались сохранить порядок и не могли ничего поделать с бегущими. Рабочие и матросы кричали солдатам: «Где ваши начальники? Если они для вас хорошие, мы их не тронем. Если плохие – мы их убьем. Давайте их сюда!» И они действительно уводили некоторых офицеров, среди которых были и такие, которые говорили, что они готовы служить народу. Казалось, восстание росло. На кораблях хозяйничали матросы. Народные отряды увеличивались с каждым часом. Среди перешедших на сторону севастопольцев были капитан Энгельгардт, поручик Дмитриев и другие офицеры. Кроме судовых орудий, были захвачены две исправные пушки. Матросы и многие мастеровые хотели идти немедленно на прорыв оцепления. Это было тем более необходимо, что кордон пропускал беглецов и шпионов. Но в штабе не было единогласия, и Тимофей Иванов, которого все уважали, твердил одно. Он считал дело сделанным. Собрание шумело и волновалось. Семерка настаивала на том, что сделать больше ничего нельзя, и уговаривала сдавать оружие. Спорили о двух пушках. Одни говорили, что их надо немедленно сдать генералу Турчанинову «под расписку», другие советовали этого не делать. Слесарь Фролов сказал: «Они будут стрелять в нас из этих пушек». Так и было.iii
5 июня, на рассвете, началась орудийная пальба. Стреляли для устрашения, холостыми, но под грохот орудий в город входили войска. С ними вместе в город вползли «гады», т. е. Херхеулидзе, майор Локателли со своей полицией, такие личности, как мичман Макаров, главный шпион и переметчик, и даже доктор Ланг. Только Верболозова не было видно, хотя ходили слухи, что он жив и собирается еще свести счеты с «чумной слободой». Воронцов был полон негодования. Вот она, благодарность этого народа, о здоровье которого он столько заботился! Мятеж должен быть подавлен немедленно, любой ценой. Особым царским указом Воронцову была дана вся полнота власти. Адмирал Грейг назначался военным губернатором на место Столыпина и должен был немедленно возвратиться из Николаева (где занимался он делами судостроения) в подначальный ему Севастополь и подавить мятеж любыми средствами. Впрочем, шпионские донесения говорили о разладе между мятежниками. Воронцов был осведомлен о том, что «добрая партия» надеется на добрый конец. Грейг должен был обещать этот «добрый конец». Адмирал Грейг обратился к севастопольцам с воззванием, в котором требовал полного повиновения, обещая помиловать всех, кроме убийц, и наказать всех должностных лиц, производивших злоупотребления. Как только семерка явилась «для переговоров» со своими «отречениями от чумы», она была арестована по распоряжению Воронцова. Вслед за семеркой арестовали почти всех участников мятежа. Сам Воронцов прибыл в Севастополь и, поселившись на Северной стороне, близ казематов, следил за ходом арестов и очищения Корабельной слободы от «злоумышленников», т. е., попросту говоря, от всех слободских жителей. Несмотря на многие доказательства отсутствия эпидемии в Севастополе, Воронцов утверждал обратное. Вспоминая в дневнике о своей неутомимой распорядительности, он отмечал, что «всё это (т. е. аресты, допросы, наказания) надо было делать с величайшей санитарной предосторожностью, ибо все городские кварталы были заражены, и один человек, вырвавшийся за пределы санитарной линии Северной стороны, мог распространить чуму в Крыму и в остальной части империи». Правда, этим «одним человеком» был он сам, то и дело ездивший из Севастополя в свои южнобережные имения. Но разве его могла коснуться чума? Были образованы две комиссии. Одна – следственная, «по изысканию причин бунта». Ей поручено было расследовать злоупотребления местных чиновников во время карантинного оцепления. Об этой комиссии председатель ее граф А.П. Толстой писал: «Воронцов, управлявший всеми действиями комиссии, употреблял все возможные средства, чтобы причины бунта остались сокровенными, или какие не подвергли бы опасности чиновников местного начальства». Пока эта непрерывно подкусываемая Воронцовым комиссия тянула свои опросы и расследования, другая, военно-судная комиссия стремительно разбирала дела арестованных. В первую очередь судили тех, кто в достопамятный вечер 3 июня ворвался в город и участвовал в убийстве Столыпина. Затем судили матросов, пришедших на помощь рабочему экипажу. Затем тех, чье участие в мятеже не было ничем подтверждено. Для таких устроена была жеребьевка: каждого десятого постановили «казнить смертью». Следствие происходило в казематах Северного укрепления и обычно состояло как бы из двух этапов. Подсудимому задавались вопросы, ответы на которые могли только запутать новых его товарищей, – на эти вопросы почти все арестованные отвечали уклончиво, иные вовсе молчали, не выдавая своих. Всякая попытка отвести от себя обвинение принималась следователем как запирательство. После некоторого перерыва арестованный являлся «преображенный» телом и духом. Обычно он был уже в таком вялом и как бы задумчивом состоянии, что не возражал против тех показаний, которые читал ему следователь. Всё шло «гладко», и если изредка кто-нибудь из подсудимых повышал голос или произносил нечто, по мнению следователей, к делу не относящееся, его быстро унимали. Труднее было с женщинами. Так, следствие долго не могло покончить с делом дочери судового слесаря Петра Максимова, которую обвиняли в убийстве лекаря Шрамкова. Как ни пытались следователи придать этому приличное единообразие, как ни воздействовали на девицу – дело поворачивалось как-то совсем не так, и даже получалось, что вместо Максимовой на скамье подсудимых должен бы сидеть кто-то другой. Конечно, следователи легко могли справиться с этой тщедушной девчонкой, если бы не запутывающий дело штабс-капитан Перекрестов, взявшийся ее защищать. Этот Перекрестов сам был арестован по подозрению в соучастии с бунтовщиками, но поскольку все допрашиваемые решительно утверждали непричастность Перекрестова, то он пока содержался в тюрьме под следствием. Запутывающие дело показания несчастной этой девицы Марфы Максимовой записаны были так: «Медицинские чиновники Шрамков и Зародный шесть раз раздевали меня донага под предлогом осмотра. Нагую присуждали раздвигать ноги, делали оскорбительные насмешки, били тросточками по голому телу, тыкая в груди…» Здесь следователи прервали подсудимую и предложили ей перейти к делу, т. е. сознаться и каяться, вместо того чтобы обвинять ученых людей. Сами судьи не очень хорошо знали, в чем обвиняется эта тихая, забитая девушка, но она принадлежала к «гнездилищу бунтовщиков», т. е. являлась жительницей Корабельной слободы, и этого было достаточно. Разве не был убит медицинский чиновник Шрамков у самой калитки слесаря Максимова? И разве не кричала эта девица, как исступленная: «Надо их всех убить за папашу!..» Марфа Максимова созналась, что действительно говорила такие слова, но никого не убивала и об убийстве лекаря Шрамкова будто бы даже не слыхала, так как находилась не дома, а у тех слобожан, к которым привел ее штабс-капитан Перекрестов. Соседки Максимовой свидетельствовали, что девчонка сама себя не помнила. Они утверждали, что судовой слесарь Петр Никитич Максимов болен не был и не был даже пьян, а проклятые «колдуны» (так называли в народе мортусов) застали его днем спящего по причине ночной работы и поволокли в карантин. Максимов от них отбивался, а они его били крючьями и волокли, связав веревкой. Дети Максимова, мал мала меньше, бежали за папашей, плакали и кидали в «колдунов» каменьями. Пуще всех кричала и рвалась старшенькая его дочь Марфа. Она кричала: «Отпустите папашу, отпустите папашу, возьмите лучше меня, это я больная». Ее взяли… Дело девицы Максимовой, обвиняемой в убийстве лекаря Шрамкова, переплелось с загадочным делом штабс-капитана Перекрестова. Штабс-капитан вырвал Максимову из рук лекарей Шрамкова и Зародного, и это дало повод искавшему причин связи штабс-капитана с бунтовщиками считать девицу Максимову любовницей штабс-капитана. Перекрестов предстал на суде без погон и шашки, но с лицом спокойным и даже веселым. – Нет, Марфа Максимова не была его любовницей. Не видят ли господа судьи, с кем имеют дело… Ведь девушка почти подросток, почти ребенок… Да, он, штабс-капитан Перекрестов, действительно проходил с отрядом солдат мимо лекарского дома и, услышав шум и возню, заглянул туда. Да, он отнял у этих мерзавцев (следователь призвал здесь Перекрестова к порядку) девицу Максимову и полуживую отнес в Корабельную слободку в знакомый дом. – Нет, не к Тимофею Иванову, а к яличнику Семенову. Он не посещал больше этот дом и девицу Максимову не видел до сегодняшней встречи на суде. – Да, он ее узнал, так как ее невозможно не узнать по особому детскому выражению лица. Да, он слышал об убийстве лекаря Шрамкова и не удивлялся этому убийству, а как бы его ожидал. Лекарь был ближайшим помощником Верболозова и Ланга по доставлению им «живого товара» (следователь снова призвал подсудимого к порядку). Да, он именно это хотел сказать. Шрамков и его начальство, под видом врачебного осмотра, проделывали свои грязные дела и лезли с гнусными предложениями ко всем молодым женщинам «чумной слободы». – Нет, он уверен, что Максимова не принимала участия в убийстве, и лекарь был убит случайно близ ее дома на выходе к Хребту. – Да, он думает, что убили Шрамкова женщины, какая-нибудь из тех, кого он мучил. Он не слыхал, чтобы в штабе Иванова упоминалось имя Марфы Максимовой, хотя о самом растерзанном мортусами слесаре слыхал. – Нет, он не слыхал об угрозах, которые произносила Максимова, а если произносила, то они остались одними словами по неопытности ее и болезненной слабости.Дела офицеров, передавшихся на сторону бунтовщиков, рассматривались особым составом комиссии, и приговоры были беспощадны. У Воронцова сложилось твердое убеждение, что главными виновниками бунта были офицеры. В памяти его явились другие мятежники – декабристы; он был уверен, что и здесь не обошлось без руководителей из дворян. Так думал венценосный, и Воронцов лишь разделял мнение обожаемого монарха. Те были повешены, томились в казематах и каторжных сибирских норах, но невидимые нити связывали их с этими. Воронцов в своем дневнике писал, что матросы начали бунтовать, «видя, что их мнения разделялись некоторыми их командирами, позволявшими себе публично осуждать санитарные меры и утверждать, вопреки здравому разуму, что настоящей чумы не было и что зараза была выдумкой докторов и карантинных чиновников». «Все моряки были против меня, кроме двух или трех адмиралов», – жаловался Воронцов, возмущаясь тем, что эти люди видели в нем палача. Дело штабс-капитана Перекрестова задерживалось не столько из-за отсутствия состава преступления, сколько по загадочным обстоятельствам. Полковые товарищи Перекрестова и солдаты показывали о штабс-капитане как об офицере, отличавшемся строгостью, хотя и справедливом. По их мнению, именно эта строгость и привела к тому, что Перекрестов арестовал отряд матросов, после чего Перекрестов и был приведен в штаб, т. е. дом Иванова. Но против Перекрестова были показания, правдивость которых он не отрицал. Это была дословная шпионская запись слов, сказанных ему боцманом Чадовым. Когда Перекрестова привели в штаб, его встретил этот боцман и сказал: «А, здравствуй, ваше благородие, и ты здесь. Ты не скоро от нас вырвешься», – а потом, взяв его за руку, прибавил тихо: «В городе теперь все за нас – скажи, что завтра начать?» Штабс-капитан Перекрестов не отрицал, что все эти слова были сказаны. Но он утверждал, что никаких предположений бунтовщиков не принял и содержался у мятежников лишь в качестве арестованного. – Откуда знал его боцман Чадов и почему именно к нему обратился он с таким предложением? Ведь ему предлагали не более и не менее как руководить ходом восстания… Штабс-капитану неоднократно в разной форме задавали один этот вопрос, и он на него не отвечал. Ему, как утверждал он, нечего было ответить на этот вопрос. Здесь была какая-то загадка, но следователи не считали нужным разгадывать ее и снисходить к штабс-капитану Перекрестову. Важен был не состав подлинного преступления, а тот дух строптивости и нежелания верить в непогрешимость начальственных распоряжений, который был замечен у Перекрестова. Было вынесено решение, по которому штабс-капитан с другими офицерами, участниками мятежа, лишался звания и присуждался к гражданской смерти, т. е. к каторге. Заседания военного суда происходили в мрачном башенном зале Северного укрепления. В окна видны были только покачивающиеся мачты кораблей. Председательствовал генерал Тимофеев, человек бравый или трусливый, в зависимости от настроений начальства. Присутствие Воронцова сковывало языки всего состава суда. Решения, казалось, были написаны на челе этого государственного мужа. Чтение показаний подсудимых и сентенция суда произносились одним и тем же голосом секретаря, в котором трудно было услышать признаки жизни. Сентенции суда были совершенно однообразны. Секретарь читал: «По указу его императорского величества в Севастопольской крепости для осуждения на основании полевого военного судопроизводства, обвиняющего в севастопольском бунте и прикосновении к оному людей, произведя суд по всем правилам ‹…› находит симферопольского мещанина Антона Мартынова и 39 флотского экипажа матроса I статьи Никифора Пилипенко виновными в соучастии в бунте, потому приговаривает помянутых преступников Мартынова и Пилипенку на основании полевого уложения для большой действующей армии № 39 – казнить смертью». Сентенции суда были делом совершенно секретным. Они никому не объявлялись, даже самому подсудимому. Он узнавал о решении своей участи, только когда его вывозили из стен каземата. Одним назначалась казнь смертью, другим – гражданская смерть с отправлением на каторгу, большинству виновных – шпицрутены и немногим «счастливцам» – тюремные сроки. Никто не мог обжаловать постановления суда, но царь «всемилостивейше» заменил «казнь смертью» – шпицрутенами сквозь строй в пятьсот человек. Только семерка из трехсот пятидесяти семи смертников была присуждена к повешению, но в истории не осталось сведений, остался ли в живых кто-либо из «помилованных». Военно-судная комиссия продолжала еще свою работу, а в городе уже происходила расправа. Воронцов распорядился, чтобы в трех концах города: у Корабельной слободы, у Артиллерийской бухты и у шлагбаума были расчищены площади, и казнь производилась бы в присутствии жителей мятежных слобод. 11 августа 1830 года полиция сгоняла севастопольцев на места казней. Казнены были семеро руководителей мятежа: Тимофей Иванов, Крайненко, Петр Щукин, Кондратий Шкуропелов, Федор Пискарёв, Матвей Соловьёв и Фролов. В этот же зловещий день люди увидели и тех слобожан, которых погнали сквозь строй в пятьсот человек, и обритых, гремящих кандалами, отправляемых на каторгу. Слободы были оцеплены. «Хребет беззакония» срыт до основания. В высочайшем рескрипте на имя Воронцова, полученном в Севастополе 6 августа 1830 года, было сказано: «Печальные события, совершившиеся в Севастополе, показывают необходимость привести наконец предположение, чтобы чины морского ведомства не имели в сем городе собственных домов, также принять и другие меры для истребления духа своеволия и непокорности, столь неожиданно оказавшегося на самом деле. Убедившись сим, я приказал адмиралу Грейгу всех женатых нижних чинов, находящихся в Севастополе, равно и имеющих там собственные дома, перевести в Херсон, а вам вместе с сим поручаю: женам их и всем прочим женщинам, живущим в так называемых слободах, выдать паспорта и выслать из Севастополя, куда кто пожелает, слободки же уничтожить совершенно…» В исполнение царского указа майор Локателли занимался очищением Севастополя от мятежной заразы. Теперь путь севастопольцев был страшнее дороги на Павловский мыс. Мастеровых и флотских гнали в Архангельск. Указ гласил: «Всех людей 17-го и 18-го рабочих экипажей, которые не признаны виновными по делу о возмущении, отправить вместе с офицерами в Архангельск. Равным образом отправить в Архангельск всех женатых нижних чинов флотских и других морских команд, находящихся в Севастополе… Жен их отправить в Архангельск особо с паспортами, не дозволяя следовать с мужьями, выдавши на дорогу до Архангельска по 10 рублей. Детей до 8 лет оставить при матерях, а старее в кантонисты, в распоряжение графа Витта».В добавление к этому указу все, невзирая на возраст, женщины Корабельной и Артиллерийской слобод должны были немедленно покинуть Севастополь, отправившись куда угодно за его пределы. Этим не выдавалось никаких пособий. Женщинам было сказано, что они могут поступать на работу в любом месте Таврической губернии, кроме Севастополя и Балаклавы. В то же время Воронцов запретил поселянам Таврической области брать к себе в дом на работу высланных из Севастополя. Очевидец изгнания женщин и детей пишет, что «невозможно без трепета вспомнить о сем плачевном событии, когда рыдание матерей в рубище и вопль полунагих детей и даже грудных младенцев, изгоняемых из хижин своих среди ужасной нищеты и изнурения, в ненастное осеннее время на явную гибель, раздирали горестно сердце человека…» Матросы, возвращавшиеся в Севастополь из плаваний, «с горестью увидели одни лишь опустошенные и разоренные свои хижины, не найдя в них ни жен, ни детей, осужденных к изгнанию… Теперь они влачат бесприютное существование».
iv
Такова была расправа, и Воронцов сыграл в ней роль зловещую. Был ли он только исполнителем высочайших рескриптов и монаршей воли? Отнюдь. Расправа, учиненная этим ревнителем законности и прав (основы «парламентских» идей Воронцова), была тем чудовищней, чем яснее для него открывалась неизбежность мятежа по материалам комиссии «изыскания причин». Да, случаи заболевания чумой были более чем сомнительны. «Чумные», освобожденные из карантина, оказались здоровыми или умирали от других болезней. Чума не коснулась никого из чиновников или флотских офицеров. Да, злоупотребления провиантских чиновников были налицо. Мука, которой кормили слобожан (ее сохранили в запечатанных банках), оказалась тухлой и прогорклой. Цены на провизию во время карантинного оцепления по проверке оказались раздутыми втрое. Комиссия состояла из большого и разнообразного состава следователей, приехавших с А.П. Толстым из Петербурга. Вместе с Толстым возглавлял комиссию адмирал Грейг. Воронцов считал Грейга преданным ему человеком. Однако сразу же после знаменитого обращения Грейга к севастопольцам и всего, что за этим последовало, отношения Воронцова и Грейга испортились. Адмирал написал Воронцову, что «предпочитает быть уволенным от должности, если не может выполнить своего обещания жителям». Одновременно с тем стали поступать материалы комиссии «по изысканию причин», весьма неприятно подействовавшие на Воронцова. Он написал царю, что видит «с душевным прискорбием, что состояние здоровья адмирала Грейга не позволяет ему здесь полезное присутствие», и рекомендует на его место (т. е. на место военного губернатора и вместе с тем возглавляющего комиссию «по изысканию причин») генерала Тимофеева, имеющего «в полной мере усердие, расторопность и благоразумную твердость, как нужны в теперешних обстоятельствах». Это лицемерное письмо довольно ясно сообщало царю о характере болезни адмирала Грейга. Он пытался быть справедливым. Грейг был убран, и на его место водворен генерал Тимофеев. Воронцов распустил комиссию и в письменном виде сообщил Грейгу, что поручает полицейскому, майору Локателли (он стал теперь правой рукой Воронцова) «исследовать о намерениях членов той комиссии». Грейг написал на полях этого документа: «И так ныне дело уже более не идет о действиях, а о намерениях». Некоторые члены комиссии были арестованы за «возбуждение жителей к принесению жалоб» и за то, что «входили в расспросы о положении жителей Корабельной слободки, представляя оное в превратном виде». Комиссия в новом составе была поручена генералу Тимофееву. Генерал сразу же объявил, что задача его состоит вовсе не в поисках истины, а в том, чтобы отвратить толки и заблуждения. Собственной своей персоной генерал побывал во всех домах обеих слобод и нашел, что одежды и запасов всюду было в излишестве. Действительно, дома эти занимали теперь довольно зажиточные мещане; что касается старых жителей, то их теперь не было и помину. Впрочем, среди высылаемых был произведен опрос с пристрастием, и многие отказались от прежних своих показаний. Даже банки с мукой генерал отметил как «неизвестно от кого и по какому случаю поступившие». Новая комиссия полностью опровергла показания и материалы комиссии Толстого. Заключение было то самое, которое требовалось Воронцову: «Буйные люди, не веря существованию в Севастополе заразной болезни, не от притеснений со стороны карантинного управления произвели мятеж, но единственно от неповиновения распоряжениям начальства и собственной упорности». Комитет министров, рассмотрев заключение новой комиссии и похоронив заключение старой, пришел к выводу, что «ни злоупотреблений по карантинной части, ни приписываемые морскому ведомству противозаконные действия не доказаны». Претензии жителей были признаны неосновательными. В мемуарах для потомства Воронцов оценил всю свою деятельность по усмирению севастопольского мятежа как самоотверженное служение родине. Расправу с мятежниками считал он гуманной. По его мнению, «все работы следствия производились с величайшим беспристрастием и, смею утверждать, с величайшей умеренностью». Император «всемилостивейшим» письмом изволил выразить благодарность Воронцову за распорядительность в «несчастном происшествии в Севастополе случившемся». Доктор Ланг был награжден. Полицейский чин Локателли был поощрен и награжден. Херхеулидзе пошел в гору. Все они восхваляли государственный ум и административный гений Воронцова. Большинство слободских домиков были уничтожены, набережную Корабельной бухты срочно принялись отделывать камнем и сооружать здесь каменные строения.Изучение полуострова
Было бы ошибкой считать Зуева и Палласа колумбами в изучении Крыма. Полуостров исследовали еще древние. Средневековье и Новое время дали множество сведений о нем, рассеянных в манускриптах и книгах. Но задача всестороннего изучения Крыма была поставлена впервые русской Академией наук в 70-е и 90-е годы XVIII века. Имена Зуева и Палласа знаменуют начало этих изучений. Василий Зуев в своих «Путешественных записках» (1782) провел как бы пунктирную линию географо-физического обозрения Крыма, не вдаваясь в подробности, что, впрочем, не умалило тщательности его наблюдений, новизны его описаний и своеобразия суждений. Маститый, многоученый Паллас имел совершенно другую манеру: уж если он что-либо изображал, то в полную силу, никаких недомолвок. Таким вышло его обширное описание полуострова в знаменитой книге «Путешествие по южным провинциям Русского государства». Это мощное сооружение сложено с помощью геологии, ботаники, зоологии, экономики, этнографии и археологии. По списку монументальных трудов Палласа видно, что ни в одной из этих наук не был он дилетантом. В противоположность Палласу обозреватель Крыма Павел Сумароков являлся именно дилетантом. Петербургский чиновник (из неуживчивых) Павел Иванович Сумароков дважды был посылаем в Крым. Целью его было не изучение Крыма, а наведение порядка в тяжбах и прочих кляузных делах. Результаты его деятельности были ничтожны, но зато он написал о Крыме две книги. Одна из них, менее известная, именуется «Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году», другая, более известная, – «Досуги крымского судьи, или Второе путешествие в Тавриду» (1803). «Досуги» дают много сведений о природе Крыма, о его богатствах, истории, археологии, а главное – о тех преобразованиях, которые совершались на глазах у Сумарокова. В книге много цифровых данных о количестве добываемой соли, вина, о погоде за все месяцы одного года, о количестве населения и проч., и проч. Сведения эти для нас драгоценны, но, однако, требуют проверки, так как автор скорее поэт, чем исследователь, и многое принимает на веру, многое преувеличивает и пишет для красного словца. «Досуги» написаны в духе сентиментальных путешествий конца XVIII века. В первой половине XIX века вместо широких физико-географических изучений появляются труды специальные, среди которых большое место занимают работы по археологии. Возникает особый интерес к древним памятникам земли и недр таврических. Иван Александрович Стемпковский явился начинателем археологических разысканий на Боспоре. Своими «Мыслями об изыскании древностей» он вдохновил целое поколение любителей древностей.Записка адъюнкта Зуева
Поверхность гор покрыта лесом, к строению судов годным, в котором водятся и дикие звери; долины изобилуют богатейшими паствами; по косогорам родится хлеб и вино в весьма достаточном количестве, однако горные жители не рачительнее тех по степи со стадами пасущихся, во всем сем счастья своего не полагают.7 мая 1781 года академик Лепёхин доложил конференции написанное им и академиком Палласом наставление адъюнкту Зуеву, который отправлялся в Крымскую экспедицию. Зуева посылали «для исследования натуральных вещей», но это вовсе не значило, что предметом его изучений будет одна природа. Лепёхин и Паллас представляли в Академии ту группу ученых, которая стремилась сочетать дело науки с важнейшими нуждами государства. Поездка на Крымский полуостров накануне его присоединения была делом большого политического значения. Потёмкин полагал необходимым скорейшее приведение в известность всех ресурсов Крыма, для чего посылал туда ученых, картографов, строителей, знатоков торгового и мореплавательного дела. Экспедиция Зуева, однако, не встретила поощрения со стороны большинства академиков. Многие считали подобные предприятия вздорными и не признавали «таковой нужды в физических экспедициях». Академик Румовский требовал взамен столь дорогостоящей поездки средств на астрономические наблюдения. Натуралист, академик Котельников, тоже находил, что полезнее было бы ставить задачи более ограниченные. Он и некоторые другие академики остались при своем мнении при обсуждении «наставления» и сметы на поездку, и, хотя экспедицию утвердили, было ясно, что ей будут чинить препятствия, и на живую помощь Академии рассчитывать Зуеву не приходится. «Наставление», написанное Палласом и Лепёхиным, явилось подробнейшим руководством. Задача Зуева состояла прежде всего в изучении природных богатств края и возможностей сельского хозяйства и промышленности. Зуеву предписывалось «в местах населенных входить в их род жизни, в приволье их угодьев или в недостаток оных, рассматривать их домашнее благоустройство или противное тому и замечать всё, что к поправлению их служить может». Академию интересовал и «образ торговли, обирание пошлин и роспись всем товарам, привозимым и отпускаемым». Кроме того, Зуев должен был привезти и гербарий, и рисунки, и планы городов крымских, и подробнейшие сведения о развалинах старых крепостей, церквей и других зданий. Экспедиция выехала из Петербурга 30 мая 1781 года. В помощь Зуеву был дан «переводчик элев»[81] Кирьяков, для рисования натуральных вещей и делания звериных и птичьих чучел – рисовальный ученик Степан Бородулин, а для стреляния самих зверей и птиц – стрелок Дмитрий Денисов. При всей важности экспедиции средства на нее отпущены были ничтожные. Адъюнкту Зуеву назначили ежегодно жалованье триста пятьдесят рублей. Выдавать его обещали за каждые три месяца вперед. Никаких дорожных и прогонных не полагалось, и все путевые расходы Зуев должен был черпать из этих скудных средств. Вскоре после отъезда Зуева собравшаяся академическая комиссия заявила директору Домашневу, что она не намерена впредь утверждать выдачу денег, так как экспедиция отправлена была вопреки ее мнению. Дело о выдаче жалованья адъюнкту Зуеву и сопровождающим его помощникам было направлено в Сенат для дальнейшего утверждения. А в это время экспедиция, истратившая всё, что ей было дано в Петербурге, терпела бедствия и унижения в пути. Василий Федорович Зуев был тихий, скромный человек, не имевший ни дворянского звания, ни состояния. Он был предан науке и привык отказывать себе во всем, живя более чем скудно. Он никогда не стал бы жаловаться на плохую постель и жалкую пищу, если бы вся экспедиция не очутилась в положении безвыходном. Не имея возможности двигаться дальше, Зуев, быть может, первый раз в жизни позволил себе слова укора и негодования. Он писал в Академию: «Поистине я не могу себе представить, как можно посылать человека так далеко и с такой целью и не дать ему все необходимые средства для наиболее точного исполнения его обязанности… Как могу я направиться в крымские степи, которые были главной целью моего отправления? Что можете вы ожидать от моих успехов и на что я могу надеяться от своего путешествия, если подобные условия будут существовать до конца моего пути? Измените, господа, насколько можете, судьбу бедного путешественника!» Но Академия не предприняла ничего, чтобы помочь экспедиции. Смета на жалованье Зуеву находилась в Сенате, а там не спешили. Зуев униженно просил займа и помощи у губернских и уездных властителей и нередко подвергался насмешкам и всевозможным унижениям. С экспедицией никто не считался, видя, как скудно она снабжена, и постоянно отказывали Зуеву в лошадях. Зуев пытался жаловаться губернскому начальству. Он жаловался харьковскому губернатору на грубое обхождение секунд-майора, от которого зависело дальнейшее следование экспедиции. Губернатор сказал: «Майор есть штаб-офицер, дворянин, здешний помещик, а ты кто?» Зуев пытался объяснить губернатору важность возложенного на него поручения и выговаривал ему свои обиды. Губернатор пришел в ярость. Он кричал: «Знаешь ли ты, кто я? Отведите его к наместнику». Зуева посадили на гауптвахту. После долгих издевательств и шуточек по адресу ученого мужа начальство, наконец, распорядилось отправить экспедицию дальше. В апреле 1782 года Зуев выехал, наконец, из Херсона в Крым. Путь был обычным – от Перекопских ворот до Ак-Мечети. Зуев увидел степной и горный Крым. Он наблюдал и делал записи в степных присивашских селениях и татарских кочевьях. Он исследовал долины Салгира, Чурук-су, Альмы и Качи, где были лучшие сады и виноградники горного Крыма, и леса северного склона Яйлы. Зуев начал свои «Путешественные записки» с общего описания полуострова и его природных богатств и отметил первобытную дикость степей, которые могли бы явиться житницей полуострова. Он писал: «Беспрестанное пасение множества скота, количеством вправду числу людей несоразмерного, и вождение его весь год по степи с места на место причиняет, что весною, осенью и летом в большую засуху после дождей не успевает трава из земли отпрыснуть, как скот ее или сорвет, или помнет ногами». В этом беспорядочном скотоводстве видел Зуев причину хозяйственной отсталости Крыма. «Если бы земля распределена была на уезды или на дачи, скот соразмеря довольству жителей ходил бы по местам ему определенным, прочее же пространство ровной степи занять пашнями, то можно было назвать Крым обетованным полуостровом, ибо нет никакой причины, которая бы хлебородию земли и богатству жителей препятствовала. Сие видно из самых тех пахотных мест, где и до ста татар один пашет и сеет, и собирает с избытком жатву как для себя, так и другим на продажу». В горном Крыму в долинах Качи, Бельбека, Альмы и других рек нашел Зуев жителей, которые были «нерачительнее тех, по степи с стадами пасущихся», в то время как их окружали богатства. Горы были покрыты лесом, «к строению судов годным». В недрах гор содержались руды. Дикие звери могли составить предмет охоты, а что касается долин, то здесь было всё, что нужно человеку: хлеб, плоды, вино «в весьма довольном количестве». Но так же как и в степи, не нашел Зуев в горных селениях ни рвения, ни трудолюбия. Здесь люди жили, как повелось, и не искали лучшего. Так же как и степняк, горный татарин думал, «что был бы лишь у него баран жирный и столько хлеба, сколько ему с сим бараном съесть надобно, так он и доволен», – так характеризовал Зуев хозяйство Крымского ханства. Обозревая крымские города, Зуев сообщал, что они «славны больше своим местоположением». Этим он хотел сказать, что в Крымском ханстве нет настоящего градостроительства и что города его по большей части славны в прошлом или могут иметь будущее. Василий Зуев обратил особое внимание на Ахтиарскую гавань, которую считал принадлежащей городу Инкерману. Зуев сообщал, что город этот замечателен «по причине Ахтиарской своей гавани, которая хотя не очень велика, только лучше ее желать не можно». Таким образом, Зуев был первым, кто подсказал строительство Севастополя. Не имея возможности подолгу засиживаться на местах, экспедиция побывала в главных городах полуострова, и Зуев каждому из них дал характеристику, отмечая состояние строений, ремёсла и т. п. Так узнаём мы из записок Зуева о большом каменном гостином дворе в Карасубазаре, а также о еженедельном торге лошадьми, буйволами, волами, верблюдами и прочим скотом. Кафу рисует Зуев молодой столицей ханства. Шагин-Гирей украшает и обстраивает ее в противовес старому Бахчисараю, городу, который показался тесным честолюбивому хану. Из описаний Зуева мы узнаем многие подробности о замыслах и характере последнего хана. Рассказу о нем Зуев предпосылает справку о государственном строе ханства и значении бахчисарайских властителей. Он пишет о том, что, несмотря на обширные владения, далеко выходящие за пределы полуострова, между Доном и Бугом и от Буга до устья Дуная, ханы не имели никакой самостоятельности и зависели от турецкого султана. «Сей мог татарского государя возводить на престол, низвергать, ссылать в ссылку, сажать в тюрьму и опять поставить в ханы, – пишет Зуев. – Ханов нет почти ни одного, который бы четыре или пять лет царствовал. Иные не были на ханстве и году». Не вникая в тайники политики, делавшей из Шагин-Гирея жалкую марионетку, Зуев пишет, что «нынешний хан, имея более склонность к европейским обычаям ‹…› хочет сделать во всем такой порядок, какой и в других европейских государствах наблюдается». Новые порядки прежде всего обозначились в Кафе, новой столице Крымского ханства, где хан «застроил дворец ‹…› учредил диван, или главный совет, который собирался по три дня в неделю, а четвертый у него во дворце… При всех мечетях в Кафе указал хан, чтоб обучали молодых людей европейским языкам, а наипаче российскому…» Сведения, которые дает Зуев в извлечении из своих «Путешественных записок», для того времени были ценны и новы. Обобщающим дополнением к этим запискам служит статья Зуева «О российской торговле по Черному морю», где он пишет о «благодетельном значении черноморских приобретений России после Кучук-Кайнарджийского мира. Эти приобретения портов на северном побережье и возможность свободного плавания послужат русским «подданным к их обогащению и устроению благосостояния даже позднейших российского рода потомков». Зуев подчеркивает, что Российской державой достигнута теперь главная задача: освобождение от иностранного торгового засилья. «Имея свободу одни плавать по Черному морю, можем мы располагать в сию сторону половиною всех тех произведений, выпускаемых из санкт-петербургского порта, за которыми к нам приезжают англичане, голландцы и французы, с тем, чтоб после вместо нас самих развозить их в немецкую землю и к Средиземному морю, и оные можем чинить с большею прибылью и большею способностью, нежели с каковою делают вышеописанные народы, объезжая вокруг целую Европу». Открывшиеся возможности торговли тем более значительны, что Турция ни в какой мере с Россией соревноваться не может. Зуев указывает, что в Турции «в таком многолюдном государстве ‹…› толикое множество людей живет в безделии, безремеслии и невежестве. Все их торги состоят в руках иностранных». Эти сведения, которые представил Зуев в Академию, были по тому времени немаловажны, тем более что к кратким записям прибавлялись и чертежи, и коллекции, и зарисовки. Однако в Академии составилось мнение о ничтожных результатах экспедиции адъюнкта Зуева. Мнение это было заранее предвзятым, и никакие усилия Зуева не могли его опровергнуть. Несмотря на обстоятельный доклад Конференции о поездке, несмотря на оригинальный очерк черноморской торговли, несмотря на семь тетрадей «Путешественных записок», княгиня Дашкова назвала экспедицию «смехотворной» и требовала, чтобы Конференция лишила Зуева научного звания. Конференция поддержала президента и не пожелала слушать Палласа, который вступился за Зуева. Тогда Паллас доложил об этом возмутительном деле Екатерине. Он представил заслуги Зуева в свете событий, только что совершившихся. Он доказывал, что экспедиция, казавшаяся академикам столь ничтожной, была необходима и материалы Зуева драгоценны для замышленных преобразований. Зуеву вернули ученое звание.«Путешественные записки Василья Зуева»
Путешествие академика Палласа
Как ни велика слава Палласа, она всё еще не может сравниться с его заслугами в науке.Паллас всю жизнь посвятил изучению России. Лучшие его труды посвящены Сибири и Крыму. Рыцарь науки, Паллас совершил много подвигов, завоевывая научные сведения у диких таежных и горных бездорожных пространств. Он уехал в Сибирскую экспедицию еще совсем молодым человеком (ему было всего двадцать семь лет), а через шесть лет вернулся стариком, страдающим болезнью глаз и цингой. Жена его – верная помощница и спутница во всех странствиях – погибла во время одного тяжелого перехода. Паллас горько ее оплакивал. Но ничто не могло сокрушить жизнерадостность неутомимого Палласа. Жизнь казалась ему исполненной соблазнов науки. Паллас утверждал, что «блаженство видеть природу в самом ее бытии и ей учиться» служило ему лучшею наградою за утраченные «юность и здоровье». Теперь ему хотелось видеть и изучать юг России. Ранней весной 1793 года Паллас отправился по маршруту, им самим выработанному. Целью его был Крымский полуостров, куда хотел он попасть через приволжские степи, Кавказ и Тамань. Его занимало сравнительное изучение почв, растительности и животного мира южных степей. Кроме того, предвидя знакомство с памятниками крымского Средневековья, Паллас хотел посмотреть на земли, столь долго остававшиеся центром Золотой Орды. Впрочем Паллас утверждал, что избирает окружный путь в Тавриду лишь в целях поправления здоровья. Он хотел полечиться на Минеральных водах. Паллас выехал из Петербурга совершенно больным, особенно мучили его болезнь глаз и ревматические боли. Между тем, он не отступал от намеченного плана и сделал в пути всё, что предполагал. Ничто не могло удержать его в коляске, если надо было произвести съемку местности, сделать обмер, взять пробу почвы, пополнить гербарий и т. п. Каролина Ивановна, вторая жена Палласа, первый раз сопровождала своего супруга в экспедицию и находилась в постоянной растерянности. Вероятно, она чувствовала себя очень плохо среди бесчисленных папок и ящиков с коллекциями и не знала, как примениться к странному и беспокойному своему супругу. Он стонал, жаловался на слабость, а между тем, не давал себе ни минуты покоя. Он утверждал, что резь в глазах мешает ему видеть самые близкие предметы, и видел всё вокруг по дороге, как будто у него была не одна пара глаз, а по крайней мере, еще две, самые зоркие. Выпуклые, ясные глаза Палласа буравили землю, проникали в водные глубины и молниеносно определяли всякое растение, плод, камень или насекомое. «Классы», «виды», «породы» и «категории», улавливаемые жадным взором Палласа, пугали добрейшую Каролину Ивановну. Породы, экспонаты, коллекции и гербарии казались ей несносной обузой, которая мешала Палласу предаться приятной и спокойной жизни, предназначенной ему по чину, званию, положению и достатку. В этом, должно быть, и коренилось начало несогласий, которые, в конце концов, заставили Палласа покинуть свою супругу. Впрочем, сейчас всё шло довольно благополучно, и Каролина Ивановна изо всех сил старалась сделать поездку удобной и приятной. На полуостров прибыли в последний день октября 1793 года и остановились в обширном доме Габлица, в то время вице-губернатора Тавриды. Так как погода в ноябре установилась теплая, Паллас, несмотря на усталость и болезнь, немедленно принялся за работу. Он принялся за сбор семян «для своих ботанических занятий на следующую весну», внимательно отмечал малейшие изменения в погоде, осенний и весенний перелеты птиц и первоцветения. Одновременно наблюдал он и новые ростки русского Крыма. Результатом этих первых наблюдений была книга «Краткое физическое и топографическое описание Таврической области», статья «О шелковичных растениях, произрастающих в Российском государстве» (1794) и начало знаменитого труда «Путешествие по южным провинциям Русского государства». В середине июня 1794 года, после многочисленных весенних поездок по всему полуострову, Паллас отправился в Петербург. Крым оживил Палласа, вернул ему силы и надежду на успешное завершение многочисленных трудов. Он решил вернуться в этот благодатный край, для того чтобы больше не покидать его. К своему восторженному отчету о полуострове он приложил прошение о наделении его там землей для усадьбы. Испрашиваемые участки были тут же поименованы. Екатерина, щедро раздававшая пустующие земли Крыма, выдала Палласу грамоты на владение богатыми усадьбами Чоргунской долины. Владения академика сосредоточивались в Мангупском кадылыке и состояли из селений Ай-Тодор, Шурю и Каракоба. Кроме того, Паллас получил виноградники в Судаке и купил усадьбу Салгирку близ Симферополя. Занимаясь устройством своих имений, Паллас не забывал о науке. Разъезды, закупки, тяжбы с татарами, не признававшими екатерининской дарственной грамоты, – всё давало пищу для наблюдений и опытов. Архивные данные рисуют нам Палласа-стяжателя, Палласа-прижимистого хозяина. Но список знаменитейших трудов Палласа, написанных во время пребывания его в Тавриде, заставляет забыть о жадном помещике и преклониться перед жаднейшим испытателем природы и глубоким исследователем. Впрочем, обратимся ко второму тому «Путешествия». В предисловии к этому труду Паллас пишет: «Второй том этого сочинения содержит полное описание Крымского полуострова. К нему приложены рисунки, в которых изображены самые интересные виды этой прекрасной страны. Я, правда, уже издал общие заметки о Крыме ‹…› но эти замечания не разрушают пользы общей картины, содержащей всё, что касается естествознания, торговли и политического положения этой страны, усовершенствований, к каким она способна, равно как выгодных изменений, принесенных ей русским владычеством». Читателя этой увлекательной книги поражают одновременность самых различных наблюдений, широта научного горизонта, педантическая тщательность характеристик и особая теплота, которую автор вносит в описание природы «любезного ему полуострова». О своей любви к Тавриде Паллас говорит в самом начале, вспоминая второй свой приезд: «Я не знаю зрелища более отрадного, как то, когда увидишь снова после долгого путешествия по голым и однообразным степям эти божьи горы и страну, где холмы и извилистые ручьи в долинах сменяются разнообразными лесками». Называя Палласа «первенствующим писателем о Крыме», Кёппен имел в виду не только научные открытия и обобщения, сделанные Палласом, но и литературные качества «Путешествия». Геолог, зоолог, ботаник, лингвист и историк, Паллас не перегрузил свое описание излишними учеными выкладками, предоставив читателю видеть землю полуострова такой, какой видел ее сам путешественник. Складки крымских гор оживают под пером Палласа, потому что расцвечены светлобегущими реками и ручьями, русла которых перед вами как на ладони. На фоне античных или средневековых руин вспыхивают пестрые орхидеи, солнцецветы, маки, и вы узнаёте о тайнах соцветий и нежном узоре пестиков одновременно с тем, как переноситесь в века Зенона, Скилура или Тохтамыша. Вот как описывает Паллас окрестности Севастополя, которые называет он «землей классической». «Последняя замечательность, о которой мне приходится упомянуть на Ираклийском полуострове, – это греческий монастырь св. Георгия. Первый раз я ехал в монастырь из Ахтиара через Херсонес, мимо хутора Ушакова. Весна вызывала к жизни ранние цветы, между которыми одним из первых был маленький птицемлечник[82], имеющий корень, который состоит из накрест нанизанных луковичек. Цветет всегда последняя луковка и образует новую, следующую луковку для будущего года; остальные луковки того же ряда (более старые) представляют только пустую шелуху. Монастырь св. Георгия лежит в плоском углублении южного, очень скалистого высокого берега Херсонеса, между вышеупомянутым мрачным мысом Айя-бурун и выступом скалистого Георгиева мыса. От верхнего скалистого уступа сказанного углубления берег спускается к морю целым рядом попеременных отлогостей и утесистых обрывов; на верхних отлогостях, или террасах устроены жилища, а на следующих ниже – виноградники; тут же растут местами деревья, между прочим, похожий на кипарис черный можжевельник. В вырезке берега, по которой идет спуск к монастырю, в известняке, подобном оалитовому (который, однако, весь состоит из мелких просовидных, спирально завитых раковин), заметны места, где выламывали большие камни, какие встречаются в древних сооружениях Херсонеса; постройки на хуторе Ушакова сделаны тоже из такого известняка». Таков метод Палласа. Между тем, комментируя «Путешествие», геолог, ботаник, археолог и историк могли бы создать целые диссертации. По-видимому, главным предметом изучений Палласа являлось строение крымских гор. В этой области уже немало сделал Габлиц, но Паллас произвел гораздо более подробные наблюдения и обобщил материал. Рассматривая горы, отделенные вековыми размывами (Тепе-Кермен), сложные складки южнобережных сланцев (близ Биюк-Ламбата), фигуры выветривания (на Демерджи и близ Бахчисарая), Паллас восстанавливал геологическую картину юрской, среднетретичной и других эпох существования Крыма. Он называл крымские горы «книгой, в которой естествоиспытатель весьма много найдет того, что может послужить к изъяснению состава нашего земного шара». Вслед за писателями древности (Плинием и другими) Паллас считал, что Крым был когда-то островом, и указывал на многие скалы, у которых такой вид, как будто их омывали морские волны. Вся земля крымская представлялась Палласу грудою рассевшихся слоев, южная сторона которых поднята выше моря какой-то грандиозною силой и представляет непрерывную цепь гор, простирающуюся более чем на 130 километров. Северная часть, понижаясь, постепенно переходит в равнинную степь. Внимательно изучив особенности отдельных горных пород, Паллас пришел к заключению, что земля крымская оседает под действием морских волн и размывающих ее источников. Яркий пример этого оседания Паллас видит в Кучук-Кое близ Кикинеиза. Огромные глыбы известкового камня в Алупке Паллас объясняет разрушением огромной скалы, подмытой ручьями. Указывая на оползни и обвалы в Кикинеизе или близ Куру-Узеня, Паллас предупреждает о возможных бедствиях в других селениях, расположенных у скал, которые подвержены тем же разрушительным силам. В глубокой связи с геологическими наблюдениями находятся наблюдения Палласа над почвами и растительностью. «Путешествие» дает первые подробные метеорологические сведения о Крыме, характеризуя годовые погоды степной части долин Альмы, Бельбека, Качи и южного побережья. Зуев и Габлиц, изучая растительный мир Крыма, отмечали в своих записях лишь наиболее характерное или своеобразное; Паллас избрал другой путь. Какой-нибудь цветок ромашки, клевера или куст шиповника не остается в пренебрежении у Палласа, хотя и принадлежит к средней и даже северной полосам России. Тщательно разглядывает он особенности этих растений на крымской земле и делает свои неспешные, ясные и точные выводы. Триста растений, описанных в «Путешествии», являются началом описания крымской флоры, хотя в предисловии сказано, что вопросы растительного и животного мира Крыма будут разработаны автором в особых трудах. Паллас неоднократно оговаривается в своей книге, что археологические наблюдения он делает как любитель и что ему не хватает многих познаний для заключений и выводов. Однако археологические замечания Палласа ценны уже тем, что они осторожны, не навязчивы и сопровождаются подробными описаниями памятников, из которых многих уже не существует. Сведения о них тем самым драгоценны. Следуя за Палласом в его «Путешествии», мы видим крепостные ворота с изображением тамги Чингисхана. Осматривая остатки стен, Паллас приходит к выводу, что они выстроены турками на месте древнегреческого Тафроса. В предместьях Бахчисарая Азисе, Эски-Юрте и Ашламе мы видим остатки великолепных загородных дворцов и остатки мавзолеев, блиставших голубой мозаикой и мраморами. В Старом Крыму видим еще довольно хорошо сохранившийся древний дворец ханов, построенный на берегу речки Сюрень-су, протекающей в южной части города. В описаниях начала XIX века мы уже не находим круглых и четырехугольных башен укрепления, охватывающего пространство от Инкермана до Балаклавы. Мы представляем эти грандиозные стены так, как они описаны у Палласа, сложенные из плотно пригнанных друг к другу квадеров, скрепленных деревянными брусьями на глине. Такие же, ныне исчезнувшие, стены и башни небольшой крепости (15 сажен длины) видел Паллас у мыса Айя меж Балаклавой и Георгиевским монастырем. Здесь, за этими стенами, предполагал Паллас существование храма Дианы, с которым был связан столь популярный в литературе миф об Ифигении в Тавриде. Над Казачьей бухтой видел Паллас большую сторожевую башню Херсонесского укрепления, а в Ахтиаре – плиты, вынутые из стен древнего города, с барельефами и монограммами. Древний четырехарочный каменный мост через речку Черную был окончательно разрушен в начале XIX века – свидетельство о нем Палласа рисует нам высокую технику античного Херсонеса. По руинам, которые еще существовали в 90-е годы XVIII века, Паллас устанавливает границы и рисунок укреплений Гераклейского полуострова. Он замечает следы поздней турецкой кладки генуэзских укреплений, лежавшей, в свою очередь, на остатках византийских и древнегреческих стен. Так, в книге Палласа впервые установлена преемственность архитектурной культуры в Тавриде. Паллас описывает памятники раннего и позднего Средневековья, возбуждая интерес к этой эпохе, оказавшейся для современных историков более темной, чем времена античные. С другой стороны, Паллас сомневается в повсеместном по Крыму расселении греков, высказывая предположение о культуре скифских городов-укреплений. Знаменитые стены Чембало (Балаклавы) считает он возведенными на месте скифского Палакиона. Не имея точного суждения о местном таврическом населении, Паллас как бы ходит вокруг этого вопроса, обращая внимание на своеобразие культуры так называемых пещерных городов (Инкерман, Черкес-Кермен и др.). Идея исконно готского (т. е. будто бы германского) Мангупа опровергается выводами Палласа. Он тщательно обследует вековые наслоения архитектуры Мангупа и заключает, что в «эпоху позднего Средневековья крепость была убежищем теснимых с побережья генуэзцев». Дикий, трудно достижимый южный берег был подробно обследован Палласом, и в «Путешествие» вошли описания средневековых руин, которые венчали почти все южнобережные мысы и скалы. Паллас указал на остатки византийских монастырей в Ай-Тодоре, Аутке, Ай-Васи, меж Массандрой и Магарачем и на Аю-Даге, в Суаке (близ Перчем-Кая и между вершинами горы Голой). Палласу обязана современная археология и сведениями о многочисленных византийских базиликах по всему побережью и в близлежащем предгорье. «Путешествие» изобилует множеством исторических замечаний, как бы брошенных Палласом вскользь. Одной из таких исторических заметок, имеющих несомненную ценность, является заметка о старокрымской резиденции православного архиерея. По сведениям Палласа, архиерей жил до 1600 года в «древнем дворце ханов». Затем для его пребывания был приобретен другой дом. По-видимому, пребывание архиерея оговаривалось особым соглашением с Бахчисараем, и выбор Старого Крыма как резиденции – свидетельство о наличии православного населения в восточных районах Крыма. Паллас в предисловии к «Путешествию» устанавливает свою точку зрения на русский Крым. Он говорит о «выгодных изменениях, принесенных этой стране русским владычеством». Наблюдая быт и нравы татар, он не устает отмечать их косность и отсталость. По мнению Палласа, почти все отрасли хозяйства Крыма, от виноградарства до соляного промысла, нуждаются в усовершенствованиях, которые, несомненно, внесут русские хозяева. Останавливаясь на этих способах усовершенствования, Паллас тем самым рисует яркую картину нового цветущего Крыма, к построению которого он считает призванным и себя в числе других поселенцев. Тем с большей горечью указывает он на небрежение, в котором находились многие добрые начинания благодаря особому капризу императора Павла I. (Ненавистник Екатерины и Потёмкина, Павел стремился к отмене всех нововведений в южных областях.) Паллас описывает запустение Симферополя, где сносят здания, уничтожают фундаменты, откуда высылают новых поселенцев и где даже памятники славы находятся в полном уничижении. Так, знаменитые батареи, построенные Суворовым, «одно имя которого громче всяких восхвалений, всяких громких титулов», находит Паллас заброшенными и размытыми дождями. Но Паллас уверен в будущем этой страны. Никакая мелочь не укрывается от его зоркого глаза. Он вникает во всё, переплетая науку с жизнью, рассказывая читателю обо всех драгоценностях, которые содержат недра и поверхность земли, именуемой Тавридой.Н.А. Северцев
«Мысли относительно изыскания древностей»
Ничто не может быть утешительнее для ума просвещенных людей… как стараться спасти от совершенного забвения существующие еще в отечестве нашем остатки образованности народов столь отдаленной древности.Нумизмат Кари собрал большое количество пантикопейских монет и медалей. Их надписи и полустертый рисунок дали ему возможность внести много нового в историю Боспорского царства. Однако то, что составляло цель его жизни, однажды было превращено в ничто. После смерти Кари (1755) брат его, аптекарь, сделал из пантикопейских и других древних монет сплав, а из сплава – аптекарскую ступку. Так исчезли доказательства разысканий ученого археолога. Наивный аптекарь не знал цены древним монетам, но среди аптекарей и людей самых разнообразных профессий находились и такие, которые очень хорошо знали, что из древних монет можно составить богатство. Кладоискатели проникли в Крым вслед за русскими войсками, освободившими эту землю от турецких гарнизонов. По описанию путешественников, по слухам, «верхним чутьем» кладоискатели находили места, где земля была прослоена древностями, как пирог начинкой. На развалинах Херсонеса и Боспорского царства кладоискатели работали без малейшего риска. Конечно, не всегда «клад» состоял из монет; большею частью выкапывались обломки архитектуры, скульптуры, домашней утвари и предметов культа. Попадались и целые статуэтки, пифосы, амфоры и драгоценности. Всё это имело сбыт и исчезало в частных коллекциях – русских и заграничных. Чем больше кладоискатели перекапывали эту драгоценную землю, тем глубже зарывали они науку, потому что после них ученый археолог уже не мог сделать настоящих открытий. Конечно, среди «кладоискателей» были любители не только легкой наживы, но и археологии. Эти люди производили раскопки, не щадя сил и скудных своих средств, и составляли ученые коллекции. Но и любители археологии делали науке небольшую услугу. Они руководились одним чувством восхищения перед древностями и не умели ни производить раскопки, ни определять найденное. Муравьёв в «Путешествии по Тавриде» писал: «Повторяю, что надобно быть здесь настоящему археологу и нумизмату, который бы систематически занимался своим делом, знал бы, где он роется, и не только что отрывает, но еще и в каком положении одна к другой находилися вещи, найденные им в земле… В доказательство я скажу, что незадолго перед моим сюда приездом отрыта была могила, в которой нашли урну с пеплом, а вокруг ее вплоть установленные амфоры с разною буквою на каждой. Я нимало в том не сомневаюсь, что порядок букв сих представлял какую-нибудь надпись… Если бы, вынимая амфоры из земли, замечен был порядок, в котором они стояли, то вероятно, что из сего бы вышла какая-нибудь надпись. Вместо того амфоры, без вниманья к буквам вынутые, перемешанные и отосланные не знаю куда, подобны теперь этим стихам Сивиллы, которые ветер разметал по Кумской гроте». Прав или неправ был Муравьёв, в данном случае неясно, но замечание его характеризует отсутствие системы, мысли и знаний в раскопках, которые производились в конце 10-х и начале 20-х годов в Крыму. Здесь он имел в виду одного человека, который взял на себя смелость руководить этими рас-копками в Керчи и ее окрестностях. Это был Павел Дебрюкс, француз, который в дни революции сражался за короля, затем эмигрировал в Россию, был назначен начальником керченской таможни, а потом начальником соляных озер. Имея много свободного времени, Дебрюкс увлекся археологией. Щедрый «Русский биографический словарь» именует Дебрюкса ученым археологом и приписывает ему «пролитие яркого света на неизвестную доселе древнюю географию Киммерийского Боспора». При этом выясняется, что никаких ученых трудов Дебрюкс после себя не оставил, хотя и подносил свои записки великому князю Михаилу Павловичу. Александр I, восхищенный бескорыстным служением Дебрюкса, повелел считать все пантикопейские находки собственностью Дебрюкса, и в доме его создали музей. Менее высокопоставленные лица восхищались деятельностью Дебрюкса умереннее. Историк Михайловский-Данилевский писал в 1819 году: «Вечером я приехал в Керчь, сию оконечность Европы… Я немедленно познакомился с служившим по соляной части французским эмигрантом, Брюксом, которыйслыл за антиквария и несколько лет открывал гробы древних греков и скифов. Что человек сей не учен, то доказывает самое короткое с ним свиданье; он по-латыни не знает, об успехах, сделанных в филологии в новейшие времена, и не слыхал, и даже по-французски говорит дурно, мало учился, тридцати лет вступил в военную службу во Франции и потом сочинил книжку под заглавием “О легкой кавалерии”. Всякий видит, что переход от легкой конницы до глубокой древности немного труден». Пушкин написал об археологической деятельности Дебрюкса кратко: «Ему недостает ни денег, ни знаний». Раскопки Дебрюкса и других любителей в большой степени послужили поводом к докладной записке, поданной русским археологом И.А. Стемпковским генерал-губернатору Воронцову. Раскрытые могильники, из которых исчезало всё ценное, части памятников, разрозненных рукой невежественного любителя, и все другие следы любительского перекапывания Херсонеса и Боспора заставили тихого скромного Стемпковского выступить с горячим воззванием к правительству. В записке, которая носит название «Мысли относительно изыскания древностей в Новороссийском крае», Стемпковский пишет о необходимости принять срочные меры к охране и изучению памятников древности во всей Новороссии и в Крыму. Стемпковский считает такую работу совершенно непосильной для одного человека, хотя бы крупного ученого. Настоящую пользу науке может принести только работа целого ученого общества. О создании этого общества и хлопочет Стемпковский. «Многие частные люди занимались отдельно изысканьями древностей по берегам Черного моря, – пишет он. – Иные, описывая и извещая ученых о найденных ими предметах ‹…› через то оказали наукам истинную услугу, ибо многие описанные Палласом, Векселем и другими памятники ныне уже не существуют в тех местах, где ими были видены. Другие же, собирая медали, вазы и иные вещи, единственно из любопытства и не зная настоящей цены оных, не только не принесли никакой пользы, но причинили, может быть, много вреда, ибо нет сомнения, что разные предметы древности, ежегодно вывозимые из Крыма и в числе коих, вероятно, находятся некоторые весьма важные для истории, скрываются в безвестности по разным частным собраниям и, может быть, навсегда будут потеряны для науки или, если и сделаются впоследствии известными, то потеряют уже половину цены своей для потомства, потому что никто не будет знать, в каких местах они были найдены». Только ученое общество может оградить научные открытия от невежд, случайностей и гибели. Стемпковский пишет: «Положим, что археологическими изысканьями занимались бы отдельно только такие люди, коим не чужды таинства науки: и тогда усилия сих людей, не имея общего плана и общей цели, не могли бы никогда иметь и тех успехов, каковые в состоянии достигнуть многие, действуя соединенными силами». Стемпковский перечисляет всё то, чем будет заниматься археологическое общество. Прежде всего, оно должно «употребить все способы к собиранию новых памятников для хранения оных в учреждениях музеев, предпринимая под надзором членов изыскания в развалинах и гробницах; стараться при том о поддержании от совершенного разрушения остатков тех древних зданий, кои еще заметны». Общество должно исследовать и собрать все исторические и географические известия у древних писателей о поселениях Понта Эвксинского. Оно должно привести в известность всё, что собрано и исследовано различными учеными и путешественниками. Таковы мысли Стемпковского. Докладная записка была подана Воронцову в 1823 году. Воронцов направил ее в Петербург, по-видимому, уже при Николае I, со своим одобрительным суждением, но она долго лежала без движения и напечатана была лишь в виде брошюры в 1827 году. Быть может, «Мысли» Стемпковского не понравились, потому что записка попала, как говорится, не под хорошую руку. В 1825–1826 годах царю было не до общества и самое понятие «общество» вызывало у него неприятные чувства. Научное общество археологов было создано только в 1839 году, через семь лет после смерти Стемпковского. Но самому вдохновителю его удалось сделать первые шаги в тех планомерных изысканиях, которые он считал столь неотложными. Иван Александрович Стемпковский не был любителем древностей. Он был настоящим ученым. Заинтересовавшись археологией во время поездок своих по Новороссии в качестве адъютанта дюка Ришелье, Стемпковский занялся наукой со страстью и тщательностью. Еще в 1812 году он написал о некоторых античных находках в Новороссии. Статья его вошла в качестве XXIII главы в первую часть «Опыта истории Новороссии» Кастельно. Статья представляла собой описание монет, найденных в Ольвии и других местах. Это были первые опыты Стемпковского. Вскоре он уехал за границу и воспользовался пребыванием там для того, чтобы приобрести недостающие ему познания. Четыре года просидел Стемпковский в Париже над манускриптами, книгами и коллекциями знаменитой Академии надписей и литературы, членом-корреспондентом которой стал он впоследствии. Рауль Рошетт, один из крупнейших археологов, был руководителем Стемпковского. Боспорское царство было предметом главных его изучений. В Академии он сделал подробнейшее описание хранившихся в Париже монет и надписей, связанных с Понтом Эвксинским. Выписки из древних авторов дополняли этот труд. С таким багажом вернулся он в Россию. Ришелье, получив пост министра во Франции, пожелал оставить добрую память у своих приближенных. Он подарил Стемпковскому свой «замок» в Гурзуфе, предполагая, по-видимому, что его бывший адъютант заживет помещиком. Но у Стемпковского не было средств для такой жизни, не было и вкуса к ней. Он любил труд, и работа казалась ему возможной лишь близ пантикопейских раскопок. Отклонив все выгодные и соблазнительные предложения, он поселился в Керчи. В те времена поселиться в Керчи значило закопаться в глушь. Только что учрежденный порт пока еще привлекал мало кораблей, и большинство их шло мимо, в Таганрогскую гавань. Около ста пятидесяти домиков составляли две улицы. Одна из них являлась базаром, так как вся состояла из маленьких лавчонок, позади которых жили хозяева. Всюду сушилась или коптилась рыба и валялись «порфирные обломки» колонн и статуй. Но для Стемпковского не было места лучшего на земле, чем этот захудалый городок, расположенный меж двух морей. «Керчь, заменившая древнюю Пантикопею, есть главнейший пункт на европейском берегу пролива, к коему должно обратиться внимание археолога… Здесь цитадель, прославленная смертью Митридата великого», – писал Стемпковский. Как археолог-историк, Стемпковский прежде всего пытался нарисовать себе границы различных периодов Боспорского царства. Он обратил внимание на остатки древних валов и определил, что они разновременны по своему сооружению. Керчь окружали три вала. Один из них ограничивал северный угол Боспора и был, по мнению Стемпковского, «межой милисийцев». Второй вал являлся границей Боспорского царства первой эпохи его существования. «Второй вал существует в 27 верстах от Керчи к западу и простирается на всю ширину Керченского полуострова от Азовского моря до Черного, не достигая последнего. Он примыкает к соляному озеру Атал-Алчину, которое в древние времена было морем-заливом». Третий вал Стемпковский отмечает вблизи селения Шибана. Линия его идет от Арабата к горам, которые прикрывают с запада Феодосию. Этот третий вал, по мнению Стемпковского, был учрежден «Левконом I, царем Боспорским, присоединившим Феодосию к своему царству». Стемпковский считал необходимым «определить с достоверностью направление сих линий и сделать местные изыскания по всему протяжению оных». По мнению Стемпковского, настоящий ученый-археолог не может приступить к раскопкам, не осмыслив исторической карты местности. Прежде чем производить раскопки в Херсонесе и Пантикапее, надо установить точные границы города. Стемпковский оспаривал утверждение Габлица, который полагал, что всё пространство от Севастополя до Балаклавы «было занимаемо Херсонесом». Габлиц принял межи полей и садов окрестностей Херсонеса за улицы города. Он представлял его в размерах Древнего Рима. Стемпковский думал, что это было неверно и вело к ошибкам при археологических изысканиях. В первый период своих работ в Крыму Стемпковский выяснял местоположение древнего Херсонеса и делился своими соображениями с учеными всего мира. Сведения Стемпковского по географии и истории Херсонеса и Боспора Киммерийского были напечатаны в парижском журнале «Филология», издаваемом Академией надписей и литературы. Курганы близ Керчи вызывали особый интерес Стемпковского. Он писал: «Не должно было бы оставить без внимания многочисленные, огромные курганы по северным берегам Азовского моря рассеянные». Он отмечает руины древних зданий в окрестностях Керчи: следы башен древнего Мирмекиона в Змеином городке, «остатки замка на горе Опуке и, наконец, древнее здание из огромных нерегулярных камней, без цемента сложенное, известное под именем Золотого кургана». Планы и профили всех остатков древних зданий – вот с чего необходимо было начать. Следы стен и башен города еще видны были, «но скоро, может быть, совершенно будут изглажены. По новым предположениям относительно Керчи, где недавно учрежден порт, назначено уничтожить тамошнюю небольшую крепость». Ведь самому Стемпковскому, в качестве градоначальника Керчи (в начале 1828 года он получил это назначение), придется сносить эти башни, если они мешают рождению нового города. Нужно было спешить со съемками этих планов. Нужно было спасти «недра классической земли» от хищников-кладоискателей. Стемпковский добился запрещения случайных раскопок и начал собирать у частных лиц (не жалея собственных средств) монеты, скульптуру и всё, что могло быть ценно для будущего музея. В 1825 и 1826 годах ему удалось открыть такие музеи в Керчи и Феодосии. Все боспорские находки, связанные со Средневековьем, Стемпковский сосредоточил в Феодосии. Этот город он считал потерянным для изучения античности, но он был живым свидетелем генуэзских поселений. Музей для Стемпковского не был мертвой коллекцией. Музеи надеялся он превратить в базы для археологических исследований. Создание музея давало возможность Стемпковскому сделать пересмотр всем боспорским находкам, распределить их согласно эпохам, соединить разрозненное и произвести исследования и описания. Описания Стемпковского были написаны в виде коротеньких статей, которые печатались одна за другой в газете «Одесский вестник». Он считал это очень полезным: люди, которые за утренним завтраком просматривали последние политические новости и одесские сплетни, узнавали о Митридате III, о династиях Спартокидов, Рискупоридов, Тивериев Юлиев и о других властителях Боспорского царства, монеты с изображением которых изучал Стемпковский. Археология как наука начинала занимать читающую русскую публику. Раскопки перестали быть таинственным испытанием «фортуны». Во всё время пребывания Стемпковского в Керчи, особенно же после того как стал он градоначальником, велись планомерные раскопки, которые уже не были любительскими и никому не давали доходов. Согласно плану своему, начал Стемпковский исследование керченских курганов. Первый из них, Куль-Обский курган, дал богатейшие результаты. Знаменитая Куль-Обская ваза познакомила науку с характером и обликом скифов, древнейшего населения полуострова. С этой находкой связано имя Стемпковского. Раскопки и исследования только начинались, а слабые силы Стемпковского иссякали. Административные заботы о Керчи, которым посвящал он немало времени, окончательно подкосили его здоровье. Он умер сорока трех лет, в разгар своих научных замыслов и трудов. Его похоронили на Митридатовой горе.И.А. Стемпковский
Воображенью край священный
Еще во времена путей «из варяг в греки» народ русский нес из сурожских земель в земли северные весть о тихом синем море, о грозном, бурливом черном море, о славном полуострове и его чудесах. Не там ли, в тридесятом царстве, во владениях Черномора, в райских садах горело перо жар-птицы, рос аленький цветочек и зрело золотое яблоко?Земной Элизий
Поистине Крым есть частичка рая.П.И. Сумароков
Лазурь небес и тень…А.С. Пушкин
i
Тот, кто читал сатиру Батюшкова «Видение на берегах Леты», помнит Бибруса, утонувшего бесславно в этой реке забвения. Но оказалось, что Батюшков был чрезмерно суров своим приговором многочисленным творениям капитана Боброва, «шишковиста» и «словеноросса». Одно его произведение было очень снисходительно оценено Жуковским и не без удовольствия и пользы прочитано Пушкиным. Жуковский говаривал: «В этом хаосе встречаются блестки». Речь шла о «Тавриде, или Летнем дне в Херсонесе», лирико-эпическом песнотворении, сочиненном капитаном Семеном Бобровым. Читателю надо запастись терпением, чтобы добраться до последней песни поэмы, не запутавшись в нагромождениях красот, в тяжеловыспренних стихах и невозможных дорогах, по которым ведет поэт своего читателя (маршруты капитана Боброва по Тавриде поистине удивительны: с Чатырдага спускается он прямо в «Ялтовскую долину», оттуда видит «Парфенитский мыс», т. е. Аю-Даг, и далее в том же роде). Однако терпеливый читатель получит удовольствие от некоторых живописных описаний, которые Жуковский назвал «блестками». Одной из «блесток» является живописное сравнение нашествия «моголов» (татар) с извергшейся лавой. Под огненным потоком лавы – всё застыло, всё умерло. Бледная магометанская луна осеняла несколько столетий оцепеневшую Тавриду. «Турецкие янычары» покрыли «тенью бунчуков и долы и хребты сии». Но вот явились русские, и Таврида пробуждается от мертвящего сна:Прекрасный! – славный полуостров!
С какой ты славою восстал
Теперь из утренних сумраков?
Где жирные бразды, согреты
Созвездием благопоспешным…
То шелковицы, наклоненны
От полных кровоточных гроздов,
То с желто-цветными плодами
Изящны сливы, сочны груши
И красноцветные гранаты,
‹…›
То тучны лозы винограда
С багроточивыми кистями.
Там рыбы ханские, пеструшки,
При свете звезд или луны
Выставливают в быстром ходе
Из зыби черно-пеги бедра,
Или султански рыбы тучны,
Которых вес в роскошном Риме
Равняясь с весом серебра,
Пурпуровой блистают кожей
Сквозь чешую свою прозрачну…
ii
Семен Бобров пытался соединить в своей «Тавриде» описания славных дел с идиллическими картинками. Но ему не хватало чувства меры. Павел Сумароков «не краснея признавал перо свое слабым к начертанию чудесных здесь красот природы». О полуострове рассказывали сказки. Его цветущие долины именовались темпейскими, его ключи сравнивались с кастальскими. Карамзин писал о Тавриде как об Аркадии счастливой, «где на тучных паствах рассыпаются стада бесчисленные; где свирели и нежные песни веселых пастырей, простота нравов, миролюбие и общее добродушие жителей напоминают воображению счастливые берега Ладона». Словом, полуостров был признан русской Элладой и ждал своего Феокрита. Поэт явился в 1815 году, но не с идиллическими сценами из жизни пастухов, а с маленькой элегией. Это был Константин Батюшков. В своих элегиях воспевал он и страну Оссиана, и авзонийские берега, и снега Финляндии, и походы, но, как это ни странно, его называли не иначе как певцом Тавриды за маленькую элегию в тридцать восемь строк. Вот простое ее содержание: поэт призывает свою милую уединиться с ним от суетного света «под небом сладостным полуденной страны». Там ярко светит солнце. Там ясени шумят над лугами. Там студеные струи кипят под землей и веселые табуны стремятся к источникам. Там говор птиц, древес и вод.Там, там нас хижина простая ожидает,
Домашний ключ, цветы и сельский огород…
Друг милый, ангел мой! сокроемся туда,
Где волны кроткие Тавриду омывают,
И Фебовы лучи с любовью озаряют
Им древней Греции священные места.
iii
У Пушкина была замечательная память. Она сохранила ему не туманные воспоминания, подобные мимо бегущим облакам, а ясные, отчетливые черты того, что хотелось ему запомнить. Так, осенью 1823 года, когда работал он над строфами, изображающими резкий, демонический характер Онегина, пришло ему на память мрачное видение, которое тут же набросал он между строф. Пушкин нарисовал черную скалу в виде ворот, стоящих на светлой поверхности, немного ниже – мрачную фигуру беса, сокрытого во тьме, а вокруг него – пляшущих мелких бесенят и ведьму на помеле. Всё это было бы совершенно фантастично, если бы черная скала в виде ворот не была точнейшим до мельчайших подробностей изображением Шайтан-Капу[84], или так называемых Карадагских ворот, которые увидел Пушкин днем 18 августа 1820 года с брига «Мингрелия» по пути в Гурзуф. Любопытное это место. Здесь крутые черно-ржавые бока Черной горы, когда-то огнедышащего вулкана, омываются зеленоватой влагой моря. Это целый вулканический мир. Склоны берегового хребта, впрочем, не очень высокие, образуют у моря отвесные обрывы, дикие ущелья, глубокие колодцы, пики скал и осыпи. Всюду висящие камни, зияющие отверстия. Здесь нет растительности, только местами отдельные деревца уцепились своими корнями за голые, выжженные солнцем откосы. Всё мертво в этом царстве застывшей лавы. Карадагские ворота, иначе называемые Чертовыми, темной тенью стоят на светлой глади моря. А вверху, поодаль отовсюду громоздится «чертовщина»: скала Шайтан, Чертов палец и Чертов камень, свод которого поддерживают столбы, искусно выточенные ветром. Еще с давних, дотатарских, времен рыбаки, забрасывающие сети близ темных Карадагских скал, знали эти глубокие колодцы, пещеры и таинственные ворота. Мир застывших туфов и лавы казался им адской преисподней. Как и во всех других местах полуострова, недавние татарские названия были не больше как переводом старых, греческих. Рассказчиками всей этой «чертовщины», несомненно, являлись рыбаки и моряки, ходившие вдоль побережья на своих лодках и кораблях. Пушкин увидел Черную гору и Черные ворота с корабля, идущего не очень далеко от берега. Он увидел их при свете яркого солнца и запомнил их причудливый рисунок с торчащим к небу острием. Он не только запомнил этот рисунок, но ворота остались в его памяти как место, с которым связаны легенды о дьявольском убежище и всякой «чертовщине». Береговые складки гор от Феодосии до Алушты с моря довольно однообразны. Вероятно, Пушкин с равнодушием смотрел на эти близко плывущие мимо него горы и лишь Карадагские ворота остановили его внимание. Он был ослеплен солнцем, синевой, пространством. Он наслаждался зноем, который томил его спутников. Весь день была штилевая погода, и бриг всё время лавировал по безмятежной глади. Но вот подул предвечерний ветер, и «Мингрелия», надув паруса, уже легко и стремительно двинулась на запад. Проснувшись на рассвете, увидел Пушкин с брига «картину пленительную: разноцветные горы сияли ‹…› и кругом это синее чистое небо, и светлое море, и блеск, и воздух полуденный». Гурзуфские отроги Яйлы мягко спускаются к морю, и от западного мыса с его мелкими осыпями берег развернут широкой, свободной дугой. С востока залив замкнут крутой, в желто-бурых подпалинах скалой, которая увенчана руинами крепости. Под нею – хаос камней. Близ нее скалы, составляющие оконечность крутого мыса. Здесь еще с незапамятных времен у каменного спуска была стоянка лодок. Большие суда останавливались поодаль. Сюда 18 августа на рассвете и прибыл бриг «Мингрелия», предоставленный генералу Раевскому. Отсюда впервые увидел Пушкин блистательный, залитый солнцем Гурзуф. Вправо виднелся «огромный Аю-Даг, гора, разлегшаяся в море». Деревня спускалась к подножию восточной скалы, занимая отлогий склон. Издали, с моря, плоские кровли татарских хижин показались Пушкину «ульями, прилепленными к горам, – тополи, стройные, как зеленые колонны, возвышались между их рядами». Лиственные леса, ниспадая с Яйлы, окружали Гурзуф. Среди яркой зелени, кое-где тронутой желтизной и румянцем, у склона сиял своей белизной «воздушный дворец» Ришелье. Он стоял почти на самом берегу, чуть приподнятый над заливом. Дюк никогда не жил в нем и предоставлял свой «дворец» в распоряжение приезжающих. Теперь занял его генерал Раевский. Там предстояло поселиться и Пушкину[85]. Издали этот светлый дом с легкими галерейками веселил его взор. У решетчатой, в турецком вкусе калитки мелькнуло белое платье… Пушкин был встречен женой генерала и его старшими дочерьми с тем простым радушием, которое дало ему почувствовать, что он не лишний, что ему рады и что его уже считают как бы членом семьи. Он писал брату: «Счастливейшие минуты жизни моей провел я посреди семейства почтенного Раевского. Я не видел в нем героя, славу русского войска, я в нем любил человека с ясным умом, с простой прекрасной душою, снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина… Человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого… Все его дочери – прелесть. Старшая – женщина необыкновенная». Всё здесь в Гурзуфе располагало к влюбленности. И, быть может, самая большая влюбленность Пушкина относилась к самой Тавриде, пленившей его своим «синим, чистым небом и светлым морем», несравненной своей гармонией света и тени, открытых горизонтов и причудливого рисунка гор. «Всё живо там, всё там очей отрада», – писал Пушкин, переделывая начатые было стихи: «Всё нежит взор», «Всё манит взор», «Всё нежит ум». В стихах и прозе не уставал повторять он о «сладостной тени», о «тихих берегах», о мирном, теплом, светлом, ясном. По черновым наброскам и известным стихотворениям, посвященным «полуденному краю», мы можем проследить места гурзуфских прогулок Пушкина, увидеть то, что радовало его глаз. Пушкин вставал на заре. Как впечатление раннего гурзуфского утра, родилось первое лирическое создание «в духе древних» – «Нереида»:Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду,
На утренней заре я видел Нереиду.
Сокрытый меж дерев, едва я смел дохнуть:
Над ясной влагою полубогиня грудь
Младую, белую как лебедь, воздымала
И пену из власов струею выжимала.
Янтарь висит на лозах винограда…
Висит янтарь, ночных пиров отрада…
Я помню твой восход, знакомое светило,
Над мирною страной, где всё для сердца мило,
Где стройны тополы в долинах вознеслись,
Где дремлет нежный мирт и темный кипарис,
И сладостно шумят полуденные волны.
Там некогда в горах, сердечной думы полный,
Над морем я влачил задумчивую лень,
Когда на хижины сходила ночи тень –
И дева юная во мгле тебя искала
И именем своим подругам называла.
Кто видел край, где роскошью природы
Оживлены дубравы и луга,
Где весело шумят и блещут воды
И мирные ласкают берега,
Где на холмы под лавровые своды
Не смеют лечь угрюмые снега?
Так, если удаляться можно
Оттоль, где вечный свет горит,
Где счастье вечно, непреложно,
Мой дух к Юрзуфу прилетит,
Туда, где…
Счастливый край, где блещут воды,
Лаская пышные брега,
И светлой роскошью природы
Озарены холмы, луга,
Где скал нахмуренные своды…
Ты вновь со мною, наслажденье;
В душе утихло мрачных дум
Однообразное волненье!
Воскресли чувства, ясен ум.
Какой-то негой неизвестной,
Какой-то грустью полон я;
Одушевленные поля,
Холмы Тавриды, край прелестный,
Я снова посещаю вас,
Пью жадно воздух сладострастья,
Как будто слышу близкий глас
Давно затерянного счастья…
…луна в сиянии восходит;
Там воздух напоен вечерней теплотой;
Там море движется роскошной пеленой
Под голубыми небесами…
Но Рок мне бросил взоры гнева
И вдаль занес…
Как часто по брегам Тавриды
Она меня во мгле ночной
Водила слушать шум морской,
Немолчный шепот Нереиды,
Глубокий вечный хор валов,
Хвалебный гимн отцу миров!
О сон чудесный!
О пламя чистое любви!
Там, там – где тень, где шум древесный,
Где сладко-звонкие струи…
Он зрит поэту край священный…
Сияло всё…
Странствия в прошлое
Волшебный край! ВоспоминаньяСвященной тенью облеглиСей отдаленный край земли…А.С. Пушкин
Не приморскими видами я любовался: перебирал мысленно многое, что слыхал и видел.А.С. Грибоедов
i
Пушкин сам признался, что во время пребывания своего в Крыму он не был особенно внимателен к «воспоминаниям историческим». Казалось, он даже хотел подчеркнуть это свое равнодушие к тому, что составляло главный интерес путешественников, являвшихся в Тавриду. В примечаниях к «Бахчисарайскому фонтану», не без умысла, поместил он «Отрывок из письма», где сообщал о том, что древнейшие памятники не произвели на него никакого впечатления. О пребывании своем в Керчи он писал: «Я тотчас отправился на так названную Митридатову гробницу (развалины какой-то башни); там сорвал цветок для памяти и на другой день потерял без сожаления. Развалины Пантикапеи не сильнее подействовали на мое воображение. Я видел следы улиц, полузаросший ров, старые кирпичи и только». Впрочем, был исторический памятник в Крыму, который привлек внимание Пушкина. В черновиках стихотворения «Желание»[86] мы находим строки, которые посвящены так называемой генуэзской крепости[87] в Гурзуфе:
Как я любил над блещущим заливом
Развалины, венчанные плющом,
Они стоят в забвеньи горделивом…
Развалины, поникшие челом…[88]
Старик Сатурн в полете молчаливом
Снедает их…[89]
Близ ветхих стен, один над падшей урной,
Увижу ль я сквозь темные леса
И своды скал, и моря блеск лазурный,
И ясные, как радость, небеса.
Когда луна сияет над заливом,
Пойду бродить на берегу морском
И созерцать в паденьи горделивом
Развалины, поникшие челом.
В развалинах унылый бродит гений
И ждет поэт минутных вдохновений.
ii
В 1825 году, через пять лет после Пушкина, Крым посетил другой поэт, автор незадолго до того нашумевшей комедии «Горе от ума» Александр Сергеевич Грибоедов. Целью Грибоедова было обозрение природы и памятников Тавриды. Собираясь в путь, он прочел несколько книг, которые могли ему дать понятие об истории края. В пути он не расставался с книгой Палласа, служившей для него лучшим справочником и путеводителем. Выбирая маршруты, он отчасти следовал за этим неутомимым ученым. Паллас приучал к пониманию связи природы и истории, его суждения об археологии были столь же значительны, как изыскания географические. Осмотр полуострова Грибоедов начал от Перекопского рва. Из Симферополя отправился он вверх по Салгиру, исследовал склоны и вершины Чатырдага, Демерджи, осмотрел Алушту и ее окрестности и объехал весь южный берег. Особое внимание уделил он севастопольским бухтам, Херсонесу и Инкерману. Он не боялся отчаянных тропок и нехоженых путей и поэтому видел места, редко посещаемые, – так, в различных направлениях пересек он долины Бельбека, Качи, Альмы, видел каралезские дебри, Черкес-Кермен и Татар-Кой. Он закончил свой первый осмотр Бахчисараем, Чуфут-Кале и пещерным городом Тепе-Кермен, который посетил дважды. Вернувшись в Симферополь, Грибоедов отправился на восточное побережье через Карасубазар и Эльбузлы. Знаменитая Афинейская долина и судакские скалы являлись главной целью его второго маршрута. Отсюда он поехал в Феодосию через Козы и Отузы. Крымское путешествие закончилось Таманью – он должен был возвращаться на место своей службы, в Тифлис. Хорошо зная Кавказ, Грибоедов сравнивал с ним Тавриду и отнюдь не был разочарован. Он писал своему другу Бегичеву: «…здесь природа против Кавказа вся представляет словно в сокращении ‹…› душа не обмирает при виде бездонных пропастей… Зато прелесть моря и иных долин: Качи, Бельбека, Касикли-Узеня[93] и проч. ни с чем сравнить не можно». Грибоедов любил внезапность впечатлений и предпочитал места, еще «не открытые» путешественниками. Так, Байдарская долина не произвела на него сильного впечатления, потому что была «слишком прославлена». Он путешествовал не так, как обычно ездили люди его круга. С ним не было обильной поклажи. Он не хотел иметь спутников и выбирал самые отчаянные тропы, по которым двигался на местной лошадке, налегке, в сопровождении неизменного слуги своего Александра Грибова и одного проводника. Он поднимался по диким склонам Чатырдага, «растирая ногами душистые травы». Добравшись до вершин, он оставался среди пастухов, которые угощали его бараниной из закопченного котла и делились с ним каймаком. «Низменная даль была подернута непроницаемою завесою», в разрыве плывущих по небу туч виднелось синее небо. «Увитый облаками», Грибоедов лежал, положив под голову седло, и прислушивался к печальным звукам волынки и блеянию овец. Наутро с зубцов Чатырдага он видел почти весь полуостров. С одной стороны начинался «стремительный спуск к югу, пологий к северу, обрыв к Альме, дебри… С другой – …Севастополь, Бахчисарай, Саблы, белые меловые горы, правее – Салгир, Ак-Мечеть, еще далее Козлов и море, между всем этим… Справа Зуя, Карасубазар ‹…› задняя, пологая часть восточной Яйлы, часть Азовского моря голубою полосою окружает с востока степь и дол до Перекопа. Слева западная часть задней Яйлы, Св. Нос к Балаклаве чернеется. Оборотясь назад – море, даль непомерная, с запада спускается к нему Яйла, из-за ней Кастель, прямо Алушта, к востоку берег изгибом до Судака, выдавшегося далеко в море… За Судаком Карадаг и проч.». Так топографически точно записывает Грибоедов свои «Путевые впечатления». Записи очень коротки, но достаточно полны. Всё путешествие умещается менее чем на двадцати страницах. Иногда прибегает Грибоедов к сокращениям, неполной фразе, маленьким чертежам или рисункам, заменяющим слово. Но кое-где сухие описания и перечни перемежаются в записях живописными мазками, которые должны дать представление о красках этой земли, о синеве моря и многоцветности гор. Иногда Грибоедов считает нужным показать общий колорит, он отмечает особо какую-нибудь «розовую полосу над мрачными облаками, игру вечернего солнца», яркую светотень где-нибудь в Иосафатовой долине, «в то время как погружается она в сумерки, и над ее тенями природа разбивает шатер, и он светозарен от заходящего солнца». В быстрых легких переходах от описания к описанию, в коротких, резких характеристиках и суждениях автор «Горя от ума» остается верным своей художественной манере. Главным интересом Грибоедова в его странствиях по Тавриде было «сближение своей жизни последнего пришельца с судьбою давно отошедших». Другими словами, он хотел видеть эту землю глазами историка и поэта. Он останавливался с величайшим интересом перед руинами античных храмов, генуэзскими надписями и памятниками «мунгальского владычества»[94]. Но древние Сурож и Корсунь заняли особое место в его обозрении. Здесь его воображению представились соотечественники, судьбы которых были связаны с Тавридой. Эти страницы отечественной истории были еще совсем темными и тем более увлекательными. Грибоедов выехал из Балаклавы и направился «кверху бухты», чтобы увидеть отсюда «как на ладони» Севастополь и весь Гераклиевский полуостров. Целью его, как и всех путешественников, был Херсонес, который, впрочем, именовал он не иначе как Корсунью. Описывая в путевой тетрадке открывшуюся здесь панораму, он отметил: «NB. Воспоминание о в[еликом] к[нязе] Владимире». Знаменитый Херсонес и великолепные бухты Ктенуса являлись «поистине землей классической». Воспоминания об античном мире, который сохранил здесь еще свои очертания – в виде остатка колонн, стен и мостовых арок, – вытесняли у путешественников мысли о временах более близких и событиях, для России знаменательных. Грибоедов был первым, кто вспомнил о пребывании под этими стенами славных русских дружин. Было начало июля, та самая пора, когда киевский князь Владимир начинал осаду Корсуни. Стояла жара, но склоны гор еще не успели поблекнуть, и трава была зелена, особенно у берегов речки Черной, поросшей у инкерманских высот темным густым камышом. Но в местах незатененных были выжженные солнцем пятна, желтевшие среди яркой травы. Море в заливах было особенно синим и тихим. Грибоедов стоял на высоте меж двумя бухтами – Песочной и Стрелецкой – и воображал на этом же месте стоящего князя Владимира. Отсюда было хорошо видно всё, что происходило в Корсуни и далее на склонах инкерманских холмов. Вблизи на «пологом возвышении к древнему Корсуню» видны были «древние фундаменты, круглые огромные камни и площади. Не здесь ли витийствовали херсонцы, живали на дачах и сюда сходились на совещания?» Было нечто необыкновенно волнующее в том, что он, Александр Сергеевич Грибоедов, видел сейчас те же горы и море, что и русский князь за тысячу лет до него. Им обоим – Грибоедову и князю – были видны за холмами Инкермана «верхи западной Яйлы, очерчивающей горизонт, как по обрезу» и Чатырдаг, который «левее и почти на одной черте с городом особится от всех, как облако». Оглянувшись назад, Грибоедов видел высокие насыпи, на которых стояли византийские здания. Здесь у разбитой стены Корсуни был холм, насыпанный русской дружиной. Заглянув в свои выписки из летописей, Грибоедов прочел повествование Нестора о том, как «Корсуяне подкопаше стену градскую крадяха сыпленную персть и ношаху себе в град, сыплюще посреди града и воины Владимировы присыпаху более». Судак-Солдайя – русский Сурож на восточном побережье – так же притягивал к себе Грибоедова, как стены древнего Корсуня. Грибоедов отправился в это паломничество один, отвязавшись от неизменного Александра Грибова, который мешал ему своей болтовней. «Кто хочет посещать прах и камни славных усопших, не должен брать живых с собою. Поспешная и громкая походка, равнодушные лица и пуще всего глупые ежедневные толки спутников часто не давали мне забыться», – писал Грибоедов. Он ожидал сильных впечатлений» от «сольдайских руин» и взошел к ним «мирно и почтительно». В то время еще была цела нижняя крепостная стена с остатками рва и обломками башен и часть верхней крепости с «замком»[95], увенчивающим пик отвесной скалы. Сюда-то и поднялся Грибоедов, «цепляясь по утесу, нависшему круто в море». Отсюда открывался широкий горизонт – узорчатая линия восточных береговых мысов, черные утесы, заслоняющие западный берег, прекрасная Судакская долина и лесистый склон горы Перчем. Но Грибоедов, стоя здесь, «не приморскими видами любовался, а перебирал мысленно многое, что слыхал и видел». Здесь, в этих стенах и за пределами их, в пространной долине «усел город». А было время – сюда «стекались купцы и странники из всех частей света». Иные из них здесь оседали, обзаводясь землями и суденышками. Жизнь Сурожа была шумна, пестра, своеобычна. Город рос и богател, увы, «чтобы наконец он был взят на щит рассвирепевшим неприятелем[96], и груды камней одни бы свидетельствовали о прежней величавой его жизни». Грибоедов воображал Сурож таким, каков он был в XIII веке: городом многих наций. Его волновали русские корни в Тавриде, древние связи, исконное тяготение русского народа к берегам Черного моря.Примечания
Очерки книги «Таврида» основаны на документальном материале, главным образом книжном (публикации документов, статьи, монографии, биографии, мемуары и художественные произведения). Обобщающих исследовательских трудов по истории русского Крыма XVIII – начала XIX века не существует. Имеются лишь исследования по отдельным вопросам. В этом смысле наиболее изученной является история войны за Крым и наименее изученной – история администрирования и хозяйственных предприятий. Очерки, связанные с этими вопросами, потребовали особых разысканий и основаны частично на архивных данных. Таковы очерки: «Хочешь зе́мли?», «Свадьбы», «Леди Кревен любопытствует», «Занятия крымского судьи». Очерк «В комитете “О устроении”» целиком построен на рукописном материале.Общая литература
История СССР. Т. 1. М., 1939. Гл. Х – XII. История Дипломатии. Т. 1, 1941. Гл. 4. Очерки истории СССР. М.-Л.: Изд-во Ак. наук СССР, 1955. Т. 1. С. 193–205, 400–406, 802–813, 830–838, 858–886. Т. 2. С. 210–236, 287–292, 442–454. Т. 3. С. 154–158; 350–368, 480–481. Т. 4. С. 476–480, 518–541. Т. 5. С. 435–459, 624. Греков Б.Д. Киевская Русь. М., 1949. Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и ее падение. М.-Л.: Изд-во Ак. Наук СССР, 1950. Новосельский А.А. Борьба Московского государства с татарами в первой половине XVII века. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1948. Смирнов Н.А. Россия и Турция в XVI–XVII вв. Т. 1–2. М.: Изд-во МГУ, 1946. История России с древнейших времен, соч. С.М. Соловьёва. СПб., 1896–1897. Т. 25–29 (кн. 5–6). История Екатерины второй. Соч. А.Г. Брикнера. Часть первая. Внешняя политика. СПб., 1885. Щербатов М.М. О повреждении нравов в России. СПб., 1906.Последние дни крымского ханства
Очерки данного цикла написаны на основе следующих материалов: В.Д. Смирнов. Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты до начала XVIII в., СПб., 1887 и примыкающая к этому исследованию работа этого же автора – Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты в XVIII в. до присоединения его к России (Зап. Одесск. О-ва Ист. и Древн., т. 15). Эти труды являются по существу историей крымских ханов, а не исследованием истории Крымского юрта. В.Д. Смирнов основывает свой труд на первоисточниках татарских и турецких, но редко и мало прибегает к документации тех стран, с которыми Крымское ханство находилось в сношениях; «Дела Крымские» с 1760–1774 гг., напечатанные в сборниках Русск. истор. о-ва, в Зап. Одесск. О-ва Ист. и Древн., 1895, 18 и обильно цитируемые в труде С.С. Соловьёва – История России с древнейших времен, кн. 6, т. 26–29, а также различные донесения и реляции Румянцева и Потёмкина. Большое количество различных подробностей имеется в мемуарной литературе.Обозрение полуострова
Очерк написан на основании книг русских и иностранных путешественников конца XVIII века; В. Зуева (см. цикл «Изучения полуострова»); Жильбера Ромма – Путешествие в Крым в 1786 г. Изд-во Лен. Гос. Университета, Ленинград, 1941; Клеемана – Путешествие 1768, 1769, 1770 гг., СПб., 1783; Кревен – Путешествие в Крым и Константинополь, М., 1795. Memoires du baron de Tott, 1–3, 1786; Peyssonel. Traite sur le commerce de la Mer Noire, Paris, 1787, 2; de Сastènau. Essai sur lhistoire ancienne et moderne de la Nouvelle Aussie, 2, 1820; Frederic le Grand. Histoire de la guerre de sept ans (Oeuvres, v. 5).Крым-Гирей, дэли-хан
Материалом для очерка послужила указанная выше мемуарная иностранная литература, характеризующая Крым-Гирея и его отношения с Францией и Пруссией. Кроме того, автор пользовался работой В.Д. Смирнова и руководящими в отношении крымско-татарской военщины указанными трудами советских историков. Некоторые сведения об отношениях Фридриха II и Крым-Гирея взяты из работы Теодора Мундта (в переводе В. Остермана) – Крым-Гирей, союзник Фридриха Великого (Изв. Тавр. Учен. Арх. Ком., № 43) и Донесения резидента Никифорова о низложении Крым-Гирея (Зап. Одесск. О-ва Ист. и Древн., т. 1).Трофей фельдмаршала Румянцева
Материалом для очерка послужила следующая литература: Архив военно-походной канцелярии графа П.А. Румянцева, ч. 1, 1767–1769; Чт. в О-ве ист. и древн. росс, при Моск. ун-те, 1865, кн. 1, отд. 2; С. Дементьев. Возмущение татар. Зап. Одесск. О-ва Ист. и Древн., т. 8; Переписка фельдмаршала Румянцева-Задунайского. Русск. Арх., 1879, № 10; Материалы для истории первой Турецкой войны. Сб. воен. – истор. материалов. Изд. под ред. Н. Дубровина, вып. 3; Архив военно-полевой канцелярии графа Румянцева-Задунайского, ч. 3, 1774–1777, СПб., 1893; Письма, рапорты и высоч. рескрипты к графу П.А. Румянцеву-Задунайскому 1777–1778 гг. Чт. в О-ве ист. и древн. росс, при Моск. ун-те, 1876, кн. 1, отд. 2; Политическая переписка Екатерины II, ч. 7, 1772–1773, Сб. Русск. истор. об-ва, т. 118, Спб., 1901, 31; А. Петров, Война России с Турцией, т. 4 и 5, СПб., 1866–1874; П. Сакович. Исторический обзор деятельности гр. Румянцева-Задунайского и его сотрудников (1775–1780). Русская беседа, 1858, кн. 2–4 (раздел науки); Н.Д. Чечулин. Внешняя политика России в начале царствования Екатерины II, СПб., 1896; А. Петрушевский. Генералиссимус Суворов, т. 1, 1884; М.И. Кутузов. Документы, т. 1, М., 1910; Ресми-Ахмед-эфенди. Сок достопримечательного, в Собр. соч. Сенковского, т. 6, СПб., 1859; Н. Поликарпов. Справка о деле при Ялте 13 июля 1774 г. Журн. Русск. воен. – историч. об-ва, 1910, кн. 1, отд. 2.Конец давней истории
Литературой для очерка послужили следующие работы и публикации; Историческая записка А.А. Безбородки «Картина или краткие известия о Российских с татарами войнах и делах», 1776, в кн. Н. Григорович. Канцлер князь А.А. Безбородко в связи с событиями его времени, т. 1, СПб., 1879; «Рассуждение одного российского патриота о бывших с татарами делах и войнах и о способах, служащих к прекращению оных навсегда» и записка Потёмкина на ту же тему, находящиеся в Изв. Тавр. Учен. Арх. Ком., № 56; Рескрипты Потёмкину о необходимости присоединить к России Крым, Сб. Русск. истор. о-ва, т. 27, СПб., 1880; Четыре грамоты Екатерины II крымскому хану Шагин-Гирею. Зап. Одесск. О-ва Ист. и Древн., т. 7; Манифест о принятии полуострова Крымского, острова Тамани и всей Кубанской стороны под Росс, державу. Изв. Тавр. Учен. Арх. Ком., № 42; Присоединение Крыма к России, рескрипты, письма, реляции и донесения, т. 4, 1781–1782. СПб., 1889; М.И. Семевский. Кн. Григ. Ал. Потёмкин-Таврический. «Русская Старина», 12–14; А.Г. Брикнер. Потёмкин. СПб., 1891; А.Н. Самойлов. Жизнь и деятельность ген. фельдмарш. кн. Григ. Ал. Потёмкина. Русск. Арх., 1867. Автор пользовался характеристиками Потёмкина в обильной мемуарной литературе как русской, так и иностранной. Характеристика последнего хана дана по следующим исследованиям и материалам: С.М. Соловьёв. История России с древнейших времен, кн. 6, т. 26–29 (цитаты из переписки Шагин-Гирея взяты из труда Соловьева, ссылающегося каждый раз на источники); В. Смирнов. Крымское ханство (см. выше); Ф.Ф. Лашков. Шагин-Гирей, последний крымский хан. Киев, 1884; Журн. гр. Панина. Чт. Общ. Ист. и Древн., 1871, кн. 4; А. Косецкий. Последние годы последнего крымского хана Шагин-Гирея, Воронеж, 1915; С. Шапшал. О двух грамотах турецкого султана Абдул-Хамида. Изв. Тавр. Учен. Арх. Ком., № 49; Рабби-Азарья. События, случившиеся в Крыму в царствование Шагин-Гирея-хана, 1777 г. Временник Моск. о-ва ист. и древн. Росс., 1856, кн. 24; Записки А.Т. Болотова. Прилож. к «Русской Старине», 1873, ч. 4, 22–29; Лорд Мальмсбюри (Гаррис) о России в царствование Екатерины II. Русск. Арх., 1874, кн. 2; Портрет Шагин-Гирея. Иллюстрированная газета. Спб., 1865, Т. 15, № 18.Потёмкинские деревни
Для очерков данного цикла были привлечены: рукопись Мейера «Краткое описание Херсона Таврического с описанием тамошних растений», 1784 г., хранящаяся в рукописном отделении Гос. Публ. Библ. имени Салтыкова-Щедрина, F-XVII, 46, рукописные карты, экспликации, планы и архитектурные альбомы, хранящиеся там же, F-XIII, № 6. Основным материалом для очерков, посвященных началу Потёмкинской администрации в Тавриде, служили распорядительные ордера Потёмкина. Ордера эти в части, которая находилась в Крымском областном архиве отделения ЦГАУ в фонде № 26 Архива канц. тавр, губернатора, – опубликованы (не совсем полно) в Изв. Тавр. Учен. Арх. Ком., 1897, № 3–4; 1889, № 6–7; 1900, № 8–10; 1901, № 11–12 и в Зап. Одесск. О-ва Ист. и Древн., 1881, т. 12, отд. 2; там же, 1889, т. 15, отд. 2. Ордера Потёмкина дают основные сведения и о переселенцах-крестьянах. Кроме того, сведения эти имеются в следующих книгах и статьях: А. Боде. Заселение Таврической губернии вольными поселянами в архиве графов Мордвиновых, т. 10, СПб., 1903; Исторический очерк заселения Таврической губернии, в Сборнике статистических сведений по Таврической губ., т. 4, 1889.Его Таврида
Очерк написан на основе следующих материалов: Писем В. Гульда к Потёмкину о богатствах крымской природы (от 20 июля 1785 г.) в Крымск. области, отделе ЦГАУ в фонде Арх. Тавр, губ., св. 53, № 1582; Списка деревень Крыма, жители которых отказались от присяги русскому правительству. Там же, Арх. Тавр. губ. правл., св. 41, № 1206 и писем Екатерины к Александру I и Потёмкину в Сб. Имп. Русск. Ист. О-ва, XXVII; писем В.В. Каховского). С. Попову в Зап. Одесск. О-ва Ист. и Древн., т. 10; книг Л.И. Сумарокова: Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1789 году и Досуги Крымского судьи, ч. 1–2, Спб., 1803.Рождение славного города
Очерк написан на основе следующих исследований и публикаций: В.Ф. Головачев. История Севастополя как русского порта. СПб., 1872; З. Аркас. Начало учреждения Российского флота на Черном море и действия его с 1778 г. по 1798 г., Зап. Одесск. О-ва, т. 4; Екатерина II. Рескрипт кн. Г.А. Потёмкину о суммах, ассигнованных на строение Черноморского флота в Сб. Имп. Русск. Ист. О-ва, Спб., 1880, т. 27; Г.А. Потёмкин, бар. О.А. Игельстром и В.С. Попов С.Л. Лошкареву о приобретении Севастополя. Русск. Арх., 1884, № 3, а также «Морской Сборник», в различных номерах публиковавший материалы о возникновении порта Севастополя (Записки Д.Н. Сенявина и др.). Из архивных материалов были привлечены: Записки кн. Потёмкина о флоте. Крымское области, отделение ЦГАУ, Арх. Тавр. губ. правл. (св. 37, № 1074) и рукописные карты конца XVIII в., хранящиеся в Гос. Публ. Библ. им. Салтыкова-Щедрина, F-XIII, № 6 (карта № 1404 и др.).«Хочешь зе́мли?»
Заглавие очерка является цитатой из «Разговоров Н.К. Загряжской» Пушкина (в Крымском отделении ЦГАУ, Арх. Канц. тавр. губернатора, ф. 26, св. 2, № 25 находится документ, свидетельствующий «об отводе из казенных земель дач с садом действительного кавалера Загряжского супруге Наталье Кирилловне»). Очерк написан по следующим материалам и исследованиям: Ф.Ф. Лашков. О землевладении в Крыму до и после присоединения к России в Трудах VI Археологического съезда в Одессе, т. 1, Одесса, 1886, 15; Исторический очерк крымско-татарского землевладения. Симферополь, 1897; Секретный ордер от 11 августа 1775 г. генералу Муромцеву в Изв. Тавр. Арх. Ком., № 7; Описание нескольких дач, назначенных в отводы разным особам в Изв. Тавр. Учен. Арх. Ком., № 19; Д. Мертваго. Автобиографические записки (1760–1824), М., 1867; П.И. Сумароков. Досуги Крымского судьи, 1803 г. «Морской Сборник», 1863. ч. 14, № 2; О прошениях депутатов Таврической области в Изв. Тавр. Учен. Арх., Ком., № 2; архив графов Мордвиновых, т. 7–8, 1903. Ориентировке в распределении земель между новыми помещиками помогли рукописные планы межевания, хранящиеся в рукописном отделе Гос. Публ. Библ. им. Салтыкова-Щедрина, F-XIII, № 6 (планы: 95, 97, 100, 102, 104, 124 и другие).«О способах встретения императрицы» Заглавием очерка является цитата из распорядительного ордера Потёмкина. Очерк написан на основе следующих документов: Писем и докладных записок В.С. Попова к Г.А. Потёмкину 1783–1790 гг. (в Крымском отделении ЦГАУ, Арх. Канц. Тавр, губерн. правл., св. 54, № 1614); Плана дворянских должностей во время шествия ее величества. Чтен. Моск. о-ва ист. и древн., 2; а также тех документов, которые были опубликованы в работе А.Г. Брикнера Путешествие Екатерины II в Крым. «Исторический вестник», 1885, т. 21, июль, август, сентябрь.
Свадьбы Документальным материалом для рассказа послужили ордера Г.А. Потёмкина правителю Таврической области Каховскому и его донесения, опубликованные в издании Зап. Одесск. О-ва Ист. и Древн., т. 10 и 12.
По новому тракту
Цикл написан по мемуарным сведениям и публикациям документов о путешествии Екатерины в Южную Россию (см. далее).Леди Кревен любопытствует В основе очерка – книга «Путешествие в Крым и Константинополь в 1786 году миледи Кревен». М., 1795 (в переводе с французского Д. Рунича). Кроме того, для раскрытия загадок этой книги, состоящей из писем к неизвестному и содержащей весьма специальные сведения о Крыме, были привлечены следующие справочники и книги, мемуары и исследования иностранных авторов: Letters to the Margrave of Anspach, London, 1814. Memoirs of Margravine of Anspach, formerly Lady Craven, written by herself, London, 1825 (есть французский и немецкий переводы). Mémoires d̓ Hippolyte Clairon et réflexions sur la déclamation théatrale. Paris, 1799.
«Путь на пользу» Заглавие очерка, посвященного путешествию Екатерины II, взято из списка проектов надписей к медали, учрежденной в честь путешествия Екатерины II в Крым в 1787 году, Сб. Ист. О-ва, 27. Материалами для данного очерка служили: Путешествие Екатерины II, маршрут путешествия с 9 мая по 22 июля. Крымское областное отделение ЦГАУ в Арх. Тавр. губ. правл., св. 35, № 958; Заметки кн. Потёмкина касательно путешествия Екатерины II в Крым (там же, св. 53, № 1551), данные «О путешествии Екатерины II в Южную Россию», там же, в Арх. Тавр. губ. правл., св. 56, К» 1667: письма Екатерины II к Гримму и Александру I в Сб. Ист. О-ва, 23 и 27; письма к П.Д. Еропкину в сочинениях Екатерины II. Изд-во Смирдина, т. 3; письма Иосифа II к фельдмаршалу гр. Ласси в Русск. Арх., 1880, кн. 1; Arneth. Joseph II und Katharine von Russland (Вена, 1869), мемуары Сегюра, де Линя (см. выше); А.В. Храповицкий. Памятные записки. СПб., 1874; Журнал путешествия Екатерины II в Зап. Одесск. О-ва Ист. и Древн., т. 3; А.Г. Брикнер. Путешествие Екатерины II в Крым. «Исторический вестник», 1885 (июль – сентябрь); Г.Б. Есипов. Путешествие императрицы Екатерины II в Южную Россию в 1787 г. в журнале «Киевская Старина», 1891, сентябрь – февраль; Отрывки из записок севастопольского старожила. «Морской Сборник», 1852, ч. 3, № 1; М.М. Щербатов. Оправдание моих мыслей и часто с излишней смелостью изглаголанных слов в Библиографических Записках, 1859, № 12.
Амазонская рота была составлена по приказу Потёмкина премьер-майору Балаклавского полка Чапови. Рота состояла из жен и дочерей балаклавских греков в числе 100 человек. О встрече «шествия» амазонской ротой см. Изв. Тавр. Арх. Ком., № 7. С. 85.
Великолепие и вместе с тем классическая строгость всех сооружений, которые Потёмкин осуществил к приезду Екатерины на юг, и декоративное оформление самого шествия заставляют предполагать участие в проектировании самых лучших архитекторов, какие могли быть привлечены. Известно, что среди них были Клод Геруа, Гульд (садовник-планировщик) и, как предполагают, И.Е. Старов. Старов занимался проектированием южных сооружений, живя в Петербурге. (Дворец Потёмкина в Екатеринославле 1786–1787 гг.). По всей вероятности в 1785–1786 годах Старов проектировал и крымские дворцы Екатерины и Потёмкина, а также делал общий проект оформления «шествия», отличавшегося единством всех сооружений. Особый интерес представляет вопрос о строителе дворца Потёмкина в Карасубазаре, архитектура которого вызывала восхищение видевших его в 1787 году (письма Иосифа II к Ласси, мемуары Сегюра). Проектирование этого дворца могло быть поручено только крупному мастеру, скорее всего, Старову.
АБДУЛ-ГАМИД ОБЪЯВЛЯЕТ ВОЙНУ
Материалом для данного цикла очерков, представляющих собой беглое обозрение событий войны 1787–1791 гг., послужили следующие документы и исследования: Письма Г.А. Потёмкина-Таврическою к разным лицам. Зал. Одесск. О-ва Ист. и Древн., т. 8. С. 191–209; Ф.Ф. Лашков. Материалы для истории второй Турецкой войны 1787–1791 гг. (по документам, хранящимся в Арх. Канц. тавр губернатора). Изв. Тавр. Учен. Арх. Ком., № 9, Ms 10 (с. 89–106), № 12 (с. 75–81); Ф.Ф. Дашков. Охрана Крыма во вторую турецкую войну 1787–1791 гг. (по архивным данным). Изв. Тавр. Учен. Арх;. Ком., 8, (с. 52–87); В.В. Каховский. Письма правителя Таврической области В.В. Каховского правителю канцелярии В.С. Попову для доклада Г.А. Потёмкину с 1787 по 1791 гг. Зап. Одесск. О-ва Ист. и Древн., т. 10. С. 235–361; Крымско-турецкие дела 80-х годов XVIII столетия. Зап. Одесск. О-ва Ист. и Древн., т. 17. С. 155–162. А.Г. Брикнер. Разрыв России с Турцией с 1787 г. Жури. Мин. Нар. Проев., 1783, ч. 7. С. 148–170; А.Н. Петров. Вторая турецкая война в царствование Екатерины II, 1787–1791, т. 1–2. СПб., 1880; Соч. Державина, т. 1, СПб., 1864. С. 383–419.
Гибель фрегата «Крым»
Очерк написан по вышеуказанным материалам и тем сведениям, которые сообщены в книге В.Ф. Головачёва «История Севастополя». СПб., 1872. С. 113–118.Кинбурнское дело
Очерк является кратким изложением событий, данных в книге А. Петрушевского «Генералиссимус Суворов», т. 1, Спб., 1900 (главы 7–8), и материалам в сборнике: Суворов. Документы, т. 2, Воениздат, М., 1951. Реляции и рапорты Суворова Потёмкину о Кинбурнском деле. С. 326–343.На корабле «Святой Павел»
Очерк написан на основе извлечений из следующих публикаций и исследований: Р. К. Скаловский. Жизнь адмирала Ф.Ф. Ушакова, 1856; Ф.Ф. Ушаков. Документы, т. 1, Воениздат, М., 1852; В.Ф. Головачев. История Севастополя. СПб., 1872. С. 125–191; П.Д. Толстой. Состояние народа турецкого в части характеристики турецкого флота (1703–1706). Изв. Тавр. Учен. Арх. Ком., 51. С. 89–130.Еще о Суворове
Очерк, бегло рисующий основные события войны (в конечном счете решившие судьбу Крыма), написан по тем же материалам, что и «Кинбурнское дело». Привлекались также: А.Г. Брикнер. Потемки». Спб., 1891, гл. 7 и 8; Записки А.М. Тургенева в «Русской Старине», 1887, т. 1.Светлейший уходит из жизни Очерк написан по материалам, указанным выше.
УСТРОИТЕЛИ И РАЗОРИТЕЛИ
Очерки данного цикла были написаны на основе следующей литературы: Материалы Комитета «О устроении Новороссии Крыма», хранящиеся в Рук. отд. Гос. Публ. Библ. им. Салтыкова-Щедрина. Архив Оленина, № 446–449, № 801 и F-IV, 481 и XVII, 46; Записки И.В. Лопухина. С предисловием Искандера. Лондон, 1860; Автобиографические записки Д.Б. Мертваго 1760–1824 (о Крымской комиссии, посланной в Крым. С. 182–187).
Жив Севастополь Очерк написан по материалам в книгах Скаловского и Головачева (см. выше), с привлечением мемуарных данных из Записок севастопольца. Русский Архив, 1867, № 12.
В комитете «О устроении» Очерк написан по неопубликованным материалам, связанном с созданием комитета (см. выше), а также по мемуарным данным: Пушкин. Дневник 1833–1835. М.–П., 1923; Ф.Ф. Вигель. Записки, т. 1 и 2; Записки И.В. Лопухина (см. выше); Путешествие в Крым и Константинополь в 1786 г. миледи Кревен.
Занятия Крымского судьи Очерк написан на основе следующих материалов: архивные документы, указанные выше, а также хранящиеся в Крымск. областном отделении ЦГАУ в Арх. Канц. тавр, губернатора, фонд 26; Архив графов Мордвиновых, т. 2, СПб., 1901, т. 7, СПб., 1903; П.И. Сумароков. Досуги Крымского судьи; Н.С. Мордвинов. Письма. Изв. Тавр. Учен. Арх. Ком., № 51; А.И. Маркевич. Академик П.С. Паллас. Его жизнь, пребывание в Крыму и ученые труды. Изв. Тавр. Учен. Арх. Ком., № 47; А. Солнцев. П.С. Паллас. Изд. «Древняя и новая Россия», т. 1, 1876; И.В. Лопухин. Записки (см. выше); Д. Мертваго. Автобиографические записки (см. выше).
Открытие южного берега
Материалом цикла служили преимущественно мемуарные данные о Крыме 20-х–30-х годов XIX века (Архивы Мордвиновых, Воронцовых и Раевских дали наибольшее количество сведений) и книги: И.М. Муравьёв-Апостол. Путешествие в Тавриду, 1823; П.И. Сумароков. Досуги Крымского судьи, 1803, ч. 1–2; В.X. Кондараки. Универсальное описание Крыма, т. 1–4; П.И. Кёппен. Крымский сборник, 1837.Никитский бурун В основу очерка легли следующие документы, исследования и статьи: Е.В. Вульф. Материалы для истории Никитского ботанического сада в Изв. Тавр. Учен. Арх. Ком., № 54–56; письма X. Стевена к маршалу Биберштейну 1800–1826 гг. в Вестнике Русской флоры, т. 3, вып. 1; X. Стевен. Краткое описание Никитского сада Таврической губернии, 1824; X. Стевен. О садовых произрастаниях в Крыму, 1833; Е.В. Вульф. Христиан Стевен как ботаник, в Зап. Крымск. О-ва естествоиспытателей и любителей природы, т. 3, 1913; О. Малеева. Никитский сад при Стевене, Ялта, 1931. Различные справки по вопросам истории плодоводства и садовой культуры в связи с деятельностью Стевена автор черпал из «Записок Никитского сада», издававшихся с 1890 года, справки о растениях южного берега Крыма – из трудов Е.В. Вульфа. «Флора Крыма», т. 1–2, 1927–1947 гг. Деревья и кустарники арборетума Никитского ботанического сада им. В.М. Молотова (вып. 1–4, т. 22 «Трудов Гос. Никитского Ботанич. Сада им. В.М. Молотова» под ред. проф. Е.В. Вульфа, В.В. Малеева и С.С. Станкова). Кроме того, были привлечены сведения о Никитском саде в Путевых записках А.С. Грибоедова. Соч., изд. Акад. наук, 1917, т. 3, в Путешествии по Тавриде Муравьева-Апостола. СПб., 1923 (см. выше). В описании дикорастущей флоры автор пользовался художественной и в то же время научной книжкой С.С. Станкова «Прогулки по южному берегу Крыма». Нижний Новгород, 1929. Несколько подробностей биографического характера были даны автору правнучкой Стевена Галиной Васильевной Стевен. О том, что Стевен разрабатывал проект Днепровского канала для орошения Северного Крыма, известно лишь из упоминания об этом проекте в рукописи профессора Н.Н. Клепинина «Исторический обзор орошения Северного Крыма», см. Н.В. Зарубаева. Великие преобразования на юге Украины и в Северном Крыму. Лениздат, 1952. С. 17.
От Артека до Фороса Очерк ваписан на основании следующих документов: Архива Воронцовых, т. 37; А. Бертье-Делагарда. Прошлое Кореиза. Изв. Тавр. Учен. Ком., № 56; А. Демидова. Путешествие в Южную Россию и Крым. М., 1853; И.Н. Бороздны. Поэтические очерки Украины и Крыма, М., 1837; С.Д. Ширяева. Помещичья колонизация и русские усадьбы в Крыму в конце XVIII и первой половине XIX века. «Крым», 1927, № 2 (4), вып. 2; его же: Усадебная архитектура Крыма в 1820–1840 гг.; там же, 1928, № 2 (8), вып. 2 него же: Алупка. Дворец и парки. Симф., 1927; С. Юрьевича. Дорожные письма 1837 г. в «Русском Архиве», 1887, 2; А.А. Голомбиевского. Дневник поездки по России в 1841 году; В.А. Рыбацкого. Пятидесятилетие Ялты. 1837–1887. Ялта, 1887; К.К. Эшлимана. Воспоминания. Русский Архив, 1913, № 3; П.И. Ковалевского. Ялта. СПб., 1898.
Воронцов управляет крымом
Очерки данного цикла написаны на основе следующей литературы: М.П. Щербинин. Биография ген. – фельдмаршала кн. Мих. Сем. Воронцова, СПб., 1859; С. Авалиани. Граф. М.С. Воронцов и крестьянский вопрос. Зап. Одесск. О-ва Ист. и Древн., т. 10; С.Г. Волконский. Записки. СПб., 1902; Письма Н. Тургенева. Декабрист Н.И. Тургенев. Письма 1811–1821. Изд-во Ак. наук, 1936; Письма М.С. Воронцова к П.Д. Киселеву. Граф Киселев и его время. СПб., 1882, т. 2; В.А. Соллогуб. Воспоминания. Academia, 1931; Очерк заслуг, сделанных наукам М.С. Воронцовым. Зап. Одесск. О-ва Ист. и Древн., т. 4; письма и дневниковые записи в архиве Воронцовых, т. 19 и 35; сведения о Кёппене в кн. Юбилей П.И. Кёппена, СПб., 1860 и в Зап. Одесск. О-ва Ист. и Древн., т. 6, сведения о Стемпковском в Зап. Одесск. О-ва Ист. и Древн., т. 3, 5, 14; переписка М.С. Воронцова с президентом Академии художеств А.Н. Олениным по поводу археологических исследований в Крыму. Зап. Одесск. О-ва Ист. и Древн., т. 15. Просмотрены также номера газеты «Одесский вестник» за 30-е годы XIX века.Дела и проекты Библиографию см. выше.
Мятежные слободы Очерк о Севастопольском восстании 1830 года написан на основании материалов, опубликованных в следующих книгах и статьях: А. Полканов. Севастопольское восстание 1830 года по архивным материалам. Гизкрым, 1936 (некоторые из документов, опубликованных или цитированных в этой книге, проверены по рукописям, хранящимся в Историч. архиве ЦГАУ и в Военно-Морском архиве); А. Асламбегов. Адмирал Грейг. СПб., 1873; Ф. Хартахай: Женский бунт в Севастополе. «Современник», 1861, № 10. Н. Закревский. На берегу в Севастополе 1830 г. «Морской сборник», 1861, № 4, отд. 3; С. Гаврилов. О чумном возмущении в Севастополе 1830 года. «Русский Архив», 1867, № 11; Письмо адмирала А.С. Грейга графу Остен-Сакену 17 июля 1830 года. Сб. старинных бумаг, хранящихся в музее Щукина, ч. 9, М., 1901.
Изучение полуострова
Цикл посвящен исследователям Крыма, явившимся в канун и в первое пятидесятилетие после присоединения. Основным материалом для очерков явились труды этих ученых в их общей описательной части.Записка адъюнкта Зуева Очерк написан на основании следующих материалов: «Путешественные записки Василья Зуева» в Месяцеслове истории и географии на 1783 год; М. Сухомлинов. История Российской Академии. СПб., 1874; А. Н. Шебунин. Русское Черноморье 70–80-х гг. XVIII в. Академия наук. Труды института истории науки и техники, сер. 1, вып. 8.
Путешествие академика Палласа Очерк основан на работах академика П.С. Палласа: Bemerkungen auf einer Reise in die süldlichen Statthalterschaften des tiussischen Reichs in den Jahren 1793 und 1794 и «Краткое физическое и топографическое описание Таврической области», СПб., 1795. Биографические данные о Палласе взяты из работы А.И. Маркевича: Академик П.С. Паллас. Его жизнь, пребывание в Крыму и ученые труды. Изв. Тавр. Учен. Арх. Ком., № 47.
«Мысли относительно изыскания древностей» Очерк написан на основании докладной записки И.А. Стемпковского: «Мысли относительно изыскания древностей в Новороссийском крае». СПб., 1827. («Мысли» были отпечатаны в ничтожном количестве экземпляров и составляют библиографическую редкость Гос. Публ. Библ. им. Салтыкова-Щедрина). «Мысли» написаны в результате многих лет трудов Стемпковского по археологии и нумизматике Боспора и Херсонеса. Десятки работ его были напечатаны отдельными изданиями и в журналах.
«Воображенью край священный»
Название цикла очерков взято из романа Пушкина «Евгений Онегин». (Отрывки из путешествия Онегина. В черновой редакции: «Он зрит поэту край священный».) Очерки «Земной Элизий» и «Странствия в прошлое» (с. 436 и 452) посвящены осмыслению Крыма в творчестве поэтов конца XVII – 10-х – 30-х годов XIX века. Произведения этих поэтов и послужили материалом для очерков. Отдельные строки печатаются по черновикам Пушкина (Пушкинский фонд. Рук. отд. Ин-та Русской литературы Акад. наук СССР). Интерес Грибоедова к истории Крыма отразился в его «Путевых записках». Эти записки и дали основной материал для очерка, причем потребовалась предварительная расшифровка загадочных названий, которыми изобилует печатный текст (Хурсис – вместо Хуреиз или Кореиз, Бешмы – вместо Бешуй и т. п.)[97].
За Пушкиным по Крыму
Тамань[98]
Вечер 13 августа – до полудня 15 августа
Кончилась бесконечная степь, джунгли шуршащих камышей, сквозь которые шла дорога, клики вспугнутых птиц, посвисты казачьего конвоя. Кончался Кавказ. «Черноморский казак, услышав звон колокольчика, закричал спросонья диким голосом: “Кто идет?”»[99] В девятом часу вечера въехали на полуостров Тамань экипажи генерала Раевского и остановились на мосту у крепости, пока о прибытии его высокопревосходительства не было доложено коменданту Каламаре. Генерала и его спутников поместили в крепости. Пушкин впервые в жизни увидел море. «Берег обрывом спускался к морю почти у самых стен ее, и внизу с беспрерывным ропотом плескались темно-синие волны. Луна тихо смотрела на беспокойную, но покорную ей стихию», и можно было различить «два корабля, которых черные снасти, подобно паутине, неподвижно рисовались на бледной черте небосклона»[100]. Пушкин прибыл на полуостров Тамань в тот же вечерний час и в ту же предосеннюю пору, что и Печорин, которого Лермонтов отправил туда в 30-е годы. Так же светила луна и такими же были казачьи лачуги на берегу. На рассвете и Пушкин, и Печорин увидели тот же дикий берег с прибрежным каменным хаосом и сквозь дымку тумана – изгиб полуострова на западе и линию гор, изящно изогнутую, «дальний берег Крыма, который тянется лиловой полосой»[101]. Пушкин писал брату: «С полуострова Таманя, древнего Тмутараканского княжества открылись мне берега Крыма». В день приезда Пушкина на берегу «пролива Киммерийского ‹…› разбивались пенистые волны, несомые противным ветром ‹…› час от часу буря сильнее поднималась»[102]. На следующий день волны всё еще шумели в проливе и ветер был супротивный, о переправе нечего было и думать. Море утихло лишь к утру 15 августа, и только около полудня Пушкин с Раевским отправился к Крымским берегам. Более двух суток провел Пушкин на Тамани, глядя на близкие (16 верст) и вместе с тем отъединенные берега Тавриды. Надо думать, что время проходило у него приблизительно так же, как у всех путешественников его времени. Как и все, Пушкин бродил по холмам, поросшим гелиотропом, чабрецом и полынью, как все вдыхал смесь пряных, смолистых и йодистых запахов, как все осматривал храм, будто бы построенный Мстиславом после победы над Косогским князем Редедею в 1022 году, и знаменитый Тмутараканский камень, предавался еще неизведанному наслаждению, купанью в море. Все, посещавшие Тамань в те времена непременно совершали прогулку верст за пять на «хребет горы» или вернее холмов, откуда открывается вид на весь Босфорский пролив. Крымский берег с Керчью и Еникале, а «по сторонам светятся Азовское и Черное моря ‹…› и наконец для усовершенствования картины мелькает подернутая туманом цепь Кавказских гор»[103]. Тмутараканский камень, перевернувший представление о древнем Тмутараканском уделе, в XI веке на Тамани находившемся, неизбежно привлекал внимание. Посмотреть на него спешил каждый прибывший на полуостров. Нет сомнения, что видел Тмутараканский камень и Пушкин. Найденный среди развалин турецкой крепости в 1792 году, в 1795-м камень был с берега перенесен в ограду Таманской церкви Покрова Богородицы, а в 1803-м для лучшей сохранности внесен в церковь. Церковь стояла в центре городка на холме, окруженная тенистым садом, который сам по себе был приманчив в жаркую пору. Размеры церкви позволили, не мешая благолепию в притворах, у стен устроить нечто вроде музея, куда сложили некоторые из драгоценных находок: беломраморного языческого льва, две капители и наконец целое сооружение, воздвигнутое для прославленного камня князя Глеба с надписью: «в лето 6576 (1068) индикта 6, Глеб, князь мерил море по леду от Тмутаракани до Керчева 18054 сажен». Гераков пишет, что над сим камнем лежал другой – с надписью греческой, в которой мог он разобрать лишь слово «Воспор», т. е. Боспор. На камне этом с обеих сторон изображены были фигуры человеческие в туниках, с поднятыми руками, держащими венки. «Святость этих изображений» показалась Геракову сомнительной. Две византийские колонны и еще какие-то классические обломки довершали сооружение. Камень Тмутараканский вдохновил таманских «гидов» на то, чтобы и самую церковь показывать как памятник русской древности. «Тот ли самый храм стоит и поныне, который выстроен Мстиславом, послепобеды над Косогским князем Редедею 1022 года, не могу утвердить», – пишет Гераков. Из этого «скромного» заключения видно, что церковь в Тамани показывали именно как возведенную в начале XI века. По-видимому, Мстислав, «герой тогдашнего времени», и возбудил воображение Пушкина именно в Тамани. В эпилоге к «Кавказскому пленнику», писанному вчерне едва ли не через несколько месяцев после того, Пушкин, перечисляя волнующие его сюжеты, упомянул «Мстислава древний поединок», сделав к этому стиху примечание: «Мстислав, сын Св. Владимира, прозванный Удалым удельный князь Тмутаракана (остров Тамань). Он воевал с косогами (по всей вероятности нынешними черкесами) и в единоборстве одолел князя их Редедю». Позднее (в 1822 году) Пушкин действительно пытался осуществить замысел о Мстиславе Удалом, но, кажется, ограничился лишь наброском плана (по крайней мере, только он дошел до нас). Если верить Сумарокову, в 1802 году земля Тамани была еще «усеяна следами древних жилищ ‹…› и между заросших бугров, ‹…› в густоте крапивы» белели обломки мрамора с эллинскими надписями. Однако в 1820-м Тамань уже не была такой россыпью драгоценностей. Кое-какие из памятников нашли свое место в музеях, другие были расхищены как любителями археологии, так и любителями готовых плит для построек. Соха и борона тоже сделали свое дело, и вместо развалин загадочных городов Боспорского царства, Таматархии (Тмутаракани), Пушкин увидел нивы и огороды, опоясывавшие многолюдный казачий курень, сам курень, охранявший побережье, и горсточку скучающих русских чиновников и военных, в свою очередь охранявших курень – дабы чего не вышло. «Когда-нибудь прочту тебе мои замечания на черноморских и донских казаков», – писал Пушкин брату 24 сентября 1820 года под живым впечатлением поездки по местам казачьих куреней в сопровождении лихо гарцующих казаков, «вечно готовых драться, в вечной предосторожности». «Замечания» на казаков, следовательно, уже существовали как некий набросок или запись в сентябре 1820 года. Вероятно, это были наблюдения, которые Пушкин записывал, путешествуя по Кубанским степям, в Екатеринодаре и наконец в Тамани. Во время остановки в Екатеринодаре Пушкин мог кое-какие сведения о черноморцах получить непосредственно от атамана их Григория Кондратьевича Матвеева, который взял на себя заботы о генерале Раевском и его спутниках. Он и полковой есаул Никита Яковлевич Долинский могли поведать Пушкину многие подробности о жизни черноморцев. Что касается самой идеи превращения запорожской вольницы в службу, охраняющую Причерноморье, здесь лучшим рассказчиком мог быть сам генерал Раевский, служивший при Потёмкине и хорошо знавший обо всех его южных предприятиях. В те времена казаки запорожские были уже вынуждены покинуть Сечь, но еще нигде не были расселены. В 1792 году, указывает Сумароков, «рассеянные до того по уничтожении Запорожской Сечи казаки ‹…› стали обладателями здешней страны»[104] и получили название Черноморских. Они получили право на земли по реке Кубани и Таманский полуостров. Всё, что производила земля, что давали реки, озера и Черное море, составляло доход черноморцев, т. е. войсковой кассы. Повинность черноморского войска состояла в том, чтобы «выставлять в поход определенное число людей в исправном вооружении и оберегать границу кордонами». Каждый казак, отслужив год-два, оставался свободным «при своем доходе», т. е. уже не получая ничего из войсковых сумм и живя каждый, как сможет. Екатеринодар был столицей черноморцев, где находилась их войсковая канцелярия, где атаман жил уже не общей со всем товариществом жизнью, а как высокое начальство, находясь вместе с тем под контролем начальства высшего, петербургского. Атаманы войсковые и кошевые, хотя и избирались так же, как в запорожские времена, из числа казаков, однако не без особого давления властей, желающих видеть в них людей законопослушных и тихих. Именно таким и был, например, упомянутый Гераковым атаман Матвеев. Подноготная Черноморской вольницы, которую власти одной рукой наказывали, а другою вынуждены были покрывать, дабы не оголить земель и удержать вражеские набеги, была Пушкину, несомненно, известна из уст Раевского. Генерал Раевский служил у Потёмкина именно в ту пору, когда светлейший князь распоряжался расселением запорожцев по Кубани у берегов Крыма. Так или иначе, Пушкин получил какие-то интересующие его сведения для своей «Записки» о казаках помимо общих впечатлений. Казачья удаль восхищала не одного Пушкина. Ею развлекались все проезжающие, и особый интерес вызывали бывшие запорожские казаки, черноморы, в 1792 году поселенные на Кубани. Гераков, чьи записки являются для нас весьма ценным источником, пишет о них: «Черноморцы весьма ловки, молодцы ‹…› душа веселится, смотря на них; один другого молодцеватее, ‹…› одеты в синем, рукава за плечами, выбриты, у некоторых казаков еще есть чуприны». Гераков пытается даже дать очерк войсковому устройству и укладу жизни черноморских казаков «с женским полом в Черномории 70 000 ‹…› что у них 21 полк, в каждом 550 человек»[105], что молодые казаки, дети, наизусть знают все походы отцов, т. е. не забывают о былой славе Запорожской Сечи, что они потому легко приучаются «строгому повиновению начальников», что «начальники, быв прежде сами простыми казаками, на опыте дознали, как должно управлять подчиненными». Геракову черноморцы представлялись образцом добродетели. («Верны женам своим ‹…› в постные дни вина не пьют, свято чтят своих родителей»). Жили черноморцы, по представлениям Геракова, идиллически, так же, как те из них (кошевые, атаманы, хорунжие), у кого квартировали важные проезжие, в том числе сам Гераков: владели широким двором, богатым полем, табунами лошадей и стадами волов, коров, овец и свиней. На самом деле казаки были в большинстве «голь перекатная», хозяйничали у них бабы, а сами разве что могли похвалиться шириной шаровар и отнятой у горцев саблей или кинжалом. Конечно, и Пушкина на пути в Тамань и в самой Тамани веселили яркие запаски казачек и опрятные хаты, крытые очеретом, и чуприны, и «оселедцы», и оружие, которым каждый казак так дорожил, развешанное по стенам любовнее чем образа и рушники. Забавным для Пушкина могло показаться зрелище Паланки («присутственного места»), расположенного в обширной хате, при входе в которую были воткнуты пики и около стоял дюжий казак в полном вооружении, а оттуда то и дело выбегали мальчишки в необъятных штанах, с обритыми головами – «чиновники» Паланки. Но не эта внешняя красочная сторона, не экзотика пленила воображение Пушкина, не о ней писал он в своих «Замечаниях на черноморских и донских казаков». О чем же? Можно с уверенностью сказать, что поразил и пленил его дух вольности, которым пахнуло на него сразу же, как увидел он и лихую скачку, и чуприны, и полный собственного достоинства облик и уклад казачий. И именно потому, что речь шла о духе, а не внешних проявлениях, не стал он описывать брату этих сильнейших впечатлений. «Теперь тебе не скажу об них ни слова». Тамань в этом отношении была особенно интересна. Она представляла собой не только один из куреней «Черноморской Сечи», о ней шла особая слава: это было место, куда стекались беглые из множества мест крепостнической Российской империи. Недаром Александру I пришлось издать особый указ, в связи с делами, которые творились на полуострове. Царь писал: «Многие доходили жалобы, что на Тамани приемлются и скрываются беглые со всех мест стекающиеся и что посылаются оттоль нередко казаки подговаривать людей к ним переселяться»[106]. Несколько причин объясняли тягу беглых именно к Тамани. Главной являлась негласная защита беглых от требующих их возврата помещиков во имя заселения и обработки земель Новороссии и Крыма, где особенно не хватало рабочих рук. Уклад Черноморского коша, имевшего на Тамани свой курень, позволял беглым любой губернии войти в казачий крут, который сам собой освобождал от крепостной зависимости ценой дозорной службы. На Тамани ли заводил беглый свое хозяйство, или переправлялся через пролив и оседал в Крыму, он был вольным казаком под защитой кошевого атамана и числился бывшим запорожцем, если даже и говорил на каком-нибудь вологодском или псковском диалекте. Таманский курень имел особую привлекательность для беглых, ищущих защиты «Черноморской Сечи» (так беглые именовали Черноморский кош). Сюда, на Тамань, пути со всех сторон были открыты, а землепашцы и воины в особой цене.Керчь
Вечер 15 августа, утро 16 августа
Море утихло, к утру 15 августа подул тихий, береговой ветер с мелкой зыбью. Попутного ветра всё-таки не было, и генерал Раевский утром переправиться не решился: по-видимому, он и его спутники отбыли из Тамани около полудня, т. к. вечером (в восемь часов) Гераков уже виделся с ними в Керчи. При благоприятном ветре парусные суда пересекали пролив за два с половиной часа, а при «самомалейшем», какой был в этот день, потребовалось на переправу восемь часов. «Несносный штиль досаждал», – пишет Гераков, называя море «страшной жидкостью» и сознавшись при этом, что ему два раза было дурно, хотя и служил он прежде во флоте. Переправа через залив совершалась на канонерской одномачтовой лодке, именуемой лансон. На нее, как на плот, грузились экипажи с пассажирами, верховые лошади и т. п. Пушкин коротко написал об этой переправе: «Из Азии перехали в Европу на корабле».Пушкин увидел Керчь с ее подковообразной бухтой еще с корабля; город поднимался к горному хребту, к вершине, именующейся горой Митридата. Земля боспорская, подобно фанагорийской, была серо-розовая, голая, с кое-где зеленеющими куполами деревьев. В гавани стояли несколько галиотов и перевернутое для починки «огромное военное судно». Начальник флотилии и несколько морских офицеров приветствовали генерала Раевского, на причале для переправы через пролив, с виду походившем на рыболовецкую пристань. Всюду на берегу лежали и висели сети, пахло рыбой и смолой. Автор «Путешествия по Тавриде в 1820 году» И.М. Муравьёв-Апостол с пафосом пишет, что «корабельная пристань, некогда оживленная торговлею ионийцев или шумом оружия стекавшихся сюда данников и союзников Митридатовых, стоит теперь пустая; и столица некогда блестящая царей Воспорских превращена в жилище немногих бедных промышленников и лавочников… Две небольшие башни означают место, где были ворота городские при генуэзцах. От них длинная, бедная улица ведет в настоящую крепость». Здесь Муравьёв несколько принижает Керчь 1820 года. По данным Геракова, видимо полученным от «отцов города», в Керчи, было в то время «около четырех тысяч жителей», обитающих в домиках, разбросанных по отрогам Митридата. Крепостные башни были на самом берегу, остатки старых стен вели к северному выходу из города. Генералу Раевскому, по-видимому, так же как в Тамани, отвели помещение в доме коменданта крепости, т. е. в доме, который был на самом берегу. Здесь путники провели ночь и на другой день не позднее десяти часов утра отправились лошадьми в Феодосию. Таким образом, у Пушкина на осмотр боспорских памятников было не больше двух часов вечерних 15 августа и раннее утро 16 августа, если не считать Золотого кургана, который был на пути в Феодосию. Ко времени приезда Пушкина, в Керчи-Пантикапее, так же как и в Тамани-Фанагории, уже не валялись на поверхности мраморные античные львы, надгробные стелы и статуи, как это было во времена известного крымского судьи П. Сумарокова, который щедро описал всю эту роскошь в своих «Досугах», бесценном источнике разнообразных исторических, археологических и этнографических сведений. Но Стемпковский, лучший из русских нумизматов и археологов того времени, первый, кто серьезно занялся Боспором в начале 1820-х годов, свидетельствовал, что «следы стен и башен сего города еще видны, но скоро, может быть, совершенно будут изглажены»[107]. Берег пролива еще хранил развалины древних сооружений. Среди «остатков зданий отдаленнейших веков», которые путешественник 1820-х годов не мог не увидеть, Стемпковский упоминает «башни древнего Мирмикиона в так называемом Змеином городке; остатки замка на горе Опуке и, наконец, древнее здание из огромных нерегулярных камней, без цемента сложенное, известное под именем Золотого кургана». Главной задачей изучения древностей Стемпковский считал точное «достоверное определение и зарисовку древних валов, означающих разновременные границы владычества боспорян». Эти валы и каменный склеп Золотого кургана видел и Пушкин. «Ряды камней, ров, почти сравнившийся с землею – вот всё, что осталось от города Пантикапеи. Нет сомнения, что много драгоценного скрывается под землею, насыпанной веками», – пишет Пушкин.
Стемпковский в своей ученой записке отметил, что Керчь являлась «цитаделью, прославившейся смертью Митридата Великого»[108]. Даже в глазах археолога легенда о трагической смерти пантикапейского властителя придавала особый интерес античным руинам. Тем естественнее, что именно эта легенда волновала воображение Пушкина. Две легенды были своего рода грифом Тавриды – история великой дружбы Ореста (Атрида) и Пилада, миф связанный с храмом Дианы близ Херсонеса (Севастополя) и трагическая развязка истории боспорского деспота Митридата:
Боспорский царь Митридат VI (Евпатар) вошел в историю не только как могущественный деспот одного из сильнейших эллинистических государств, не только как полководец, отражавший римские легионы; он вошел в историю своими трагическим концом, знаменовавшим полное поражение извне и изнутри. Самоубийство Митридата было тем трагичнее, чем более сильным и цельным был характер этого человека, одержимого ненавистью к Риму – поработителю эллинского мира. После поражения 66 года до н. э. властитель великолепного Пантикапея еще пытался противиться легионам Помпея, но получил удар в спину – на Боспоре вспыхнуло восстание, которое возглавил его сын Фарнак. Видя крушение всех своих надежд и замыслов, Митридат отравился, но яд не подействовал на него, и он, заставив воина держать перед собой меч, закололся. Легендарные версии самоубийства Митридата разнообразны и стали достоянием поэзии. Для Пушкина смерть Митридата была сюжетом не столько историческим, сколько поэтическим. В поэзию нового времени он был введен Расином, и Пушкин, разумеется, хорошо знал его трагедию «Митридат» (1673), действие которой происходит «в Нимфее, порту Боспора Киммерийского, в Херсонесе Таврическом». Пушкин ждал от Боспора Киммерийского впечатлений сильных, связанных с представлением о величии царства Митридата. «Здесь увижу я развалины Митридатова гроба, здесь увижу я следы Пантикапеи, – думал я, – на ближайшей горе посреди кладбища увидел я груду камней, утесов, грубо высеченных – заметил несколько ступеней, дело рук человеческих. Гроб ли это, древнее ли основание башни – не знаю»[110]. Пушкин в нетерпении «тотчас» по прибытии в Керчь «отправился на так названную Митридатову гробницу» и разочарованно увидел вместо гробницы «развалины какой-то башни». Это место, которое Пушкин так стремился увидеть, не только было бесформенным, но, показывая его, керчане не сговорились именовать ли эти руины гробницей или троном Митридата. Гераков, например, пишет так: «Мы (т. е. Гераков и начальник керченской флотилии, капитан Патиниоти) всходили на гору и видели то место, где, как говорят, Митридат Понтийский государь сиживал ‹…› но какой ученый и преученый уверит меня, что это был точно трон Митридата? Чем докажет, что сей царь, на чистом воздухе восседал под облаками, давал расправу и готовился на брань?»[111] Столь же скептическим является описание этого места у Муравьёва-Апостола, который нашел, что «имя Кресел Митридатовых» присвоено развалинам огромных цоколей пантикапейского акрополя (как предполагает Муравьёв) «без всякой другой причины, кроме той, что непременно хотелось найти здесь какой-нибудь памятник знаменитейшего из царей Боспорских»[112]. Однако впечатление могло бы оказаться менее неприглядным, если бы Пушкину были эти развалины показаны как остатки акрополя, если бы с ним был проводник, который мог обратить его внимание на соотношение «Акрополиса, верхнего города или крепости, о которой упоминает Страбон» и нижнего, прибрежного, т. е. самой Керчи, которую Муравьёв метко сравнит с Подолом в Киеве.
Вопрос о лице, показывавшем Керчь генералу Раевскому и его спутникам, остается неясным. Гидом Геракова был капитан Патиниоти, по-видимому, отнюдь не знаток, а лишь любитель и отчасти скептик. Гидом Муравьёва, явившегося в Керчь через несколько месяцев после Пушкина, был Дебрюкс, показывавший керченские древности и историку Михайловскому-Данилевскому (в 1819 году). Именно Дебрюксу, как пишет Муравьёв, власти предоставили «исключительное право раскопок». Именно о нем Пушкин сказал: «Какой-то француз прислан из Петербурга для разысканий – но ему недостает ни денег, ни сведений». Это суждение Пушкина воспринимают как повторение чужих слов. Тем самым предполагается, что Пушкин Дебрюкса не видал и не Дебрюкс водил его по классическим руинам. Если это так, то, скорее всего, Пушкин передал мнение о Дебрюксе, слышанное от генерала Раевского. Ему-то Дебрюкс, несомненно, был представлен, а если кто и показывал генералу древности, то это был, конечно, Дебрюкс, чиновник, получивший особые полномочия для археологических работ (при этом Дебрюкс принадлежал к «отцам города», жил солидно в собственном доме и никак не мог быть в этом смысле обойден). Но не исключено и то, что этот француз, личность не очень интересная (почему и не запомнилась фамилия), сопутствовал Пушкину так же как Раевским при восхождении на Митридат и в других местах, и что Пушкин слышал сам его жалобы на отсутствие средств для раскопок и его пояснения, свидетельствующие об отсутствии знаний. Дебрюкс навсегда остался бы для всех «каким-то французом», если бы волею судеб он не был первым, кому довелось заняться раскопками драгоценной боспорской земли.
Мнение о Дебрюксе Муравьёва-Апостола, явившегося в Керчь с желанием осмотреть детально ее раскопки и памятники, – не расходится и с тем, что говорит Данилевский, и с кратким суждением Пушкина. Несмотря на всю благодарность к Дебрюксу, в доме которого жил, «имея в вежливом хозяине проводника, с которым обходил все места, заслуживающие примечания», Муравьёв не мог не сказать несколько горьких слов о том, что Дебрюкс только портит дело и что «надобно быть здесь настоящему археологу и нумисмату, который бы систематически занимался своим делом, знал бы, где он роется и не только, что отрывает, но еще и в каком положении одна к другой находилися вещи найденные им в земле»[113]. Муравьёв, а вслед за ним Стемпковский в своих «Мыслях», приводят примеры непоправимых потерь, которые принесла деятельность Дебрюкса, много накопавшего, но еще больше по незнанию уничтожившего. Следы этих беспорядочных раскопок, результатов которых не было видно в Керчи, разрушали иллюзорные представления о Боспорском царстве, с которыми являлись в Керчь просвещенные путешественники. Жалкая болтовня доморощенных гидов, грязь, пыль, толчея мелкой торговли, неопрятные лачуги и угодливые чиновники – вот впечатление о Керчи, какое Пушкин мог получить за несколько часов своего пребывания. Ни развалины Пантикапеи, ни «Митридатова гробница» не произвели на Пушкина ожидаемого действия: «Воображение мое спало, хоть бы одно чувство, нет – я сорвал цветок для памяти – и на другой день потерял его без всякого сожаления»[114].
От Керчи до Феодосии
Утро – вторая половина дня 16 августа
Дорога из Керчи в Феодосию (почти совпадающая с нынешей шоссейной) идет по степи, пересекая Керченский полу-остров, древнее Боспорское царство. «За несколько верст остановились мы на Золотом холме»[115], – пишет Пушкин, а Михайловский-Данилевский в своем дневнике пишет о «Золотой горе, на вершине которой находится род кургана из больших камней сделанного; предание приписывает построение оного Циклопам, и Пизаний, упоминая об нем, объявляет, что никто не запомнит времени его построения»[116]. Стемпковский именует Золотой курган «древним зданием, из огромных нерегулярных камней без цемента сложенным», и отмечает, что раскопки в Золотом кургане «доставили бы науке много любопытных и новых сведений». Наиболее подробное описание Золотого кургана дано Сумароковым. Он пишет о том, что курган стоял «посреди двух долин, на гряде установленной почти в прямую черту иными низшими его курганами ‹…› все же оные протягиваются верст на 10. “Золотой курган” складен из камней, имеет в высоту сажен до 6, окружности 280 шагов, наружность его обличена ярусами больших тесаных и не обделанных камней, сверху его выведен свод, покрытый землею, а вокруг оного еще оказываются несколько малых обрушившихся сводов… А внутренность (кургана) ничего иного не являла кроме слоев прилаженных камней и одного вделанного между ими толстого дубового бруса, который весь сгнил». Сумароков делает заключений, что возвышавшийся над другими курган был гробницей царской, а остальные курганы «суть также могилы именитых людей». В 1820 году, по-видимому, курган был уже настолько разрушен, что внутренний осмотр его стал невозможен, а внешний вид был настолько бесформенным, что у Пушкина не осталось от него никаких впечатлений. Более или менее ясными и представимыми были только ров и вал. Стемпковский пишет о том, что Керчь окружают несколько валов, означающих разновременные границы Боспорского царства: «первый из таковых валов виден близ упомянутого выше Золотого кургана, в четырех верстах от Керчи. Он простирается от Азовского моря к проливу и ограничивает северный угол Боспора… Тут была, вероятно, первая межа Милисийцев, когда они, поселясь в Пантикапее, старались защитить сей город и окрестную страну от нападения скифов»[117]. Именно этот вал или, вернее, остатки вала и ров видел и запомнил Пушкин: «Ряды камней, ров, почти сравнившийся с землею, – вот всё, что осталось от города Пантикапеи». Пушкин с Раевским, остановившись на четвертой версте по пути из Керчи в Феодосию, вышли из экипажей и прошли к линии курганов около полуверсты. Эта прогулка и осмотр заняли лишний час, который надо прибавить к девяти-десяти часам, необходимым для проезда в Феодосию. Обычными остановками на этом пути были деревни Султановка и Аргин. На этих почтовых станциях шла смена или подкорм лошадей, здесь у смотрителя можно было передохнуть и подкрепиться. И русская Султановка (одна из первых деревень, появившихся еще в дни Потёмкина, довольно большая, хлебопашеская), и татарское селение Аргин отнюдь не были оазисами среди иссохшей степи. Ни сада, ни огорода – хаты и сакли из желтого пористого плитняка, дымящиеся очаги среди поля и кое-где «сиротствующая» ветла. Лишь загадочные курганы и остатки древних строений оживляли боспорскую степь, да табуны лошадей напоминали о недавней еще, воинственной удали ногайцев. Зоркий глаз Пушкина, однако, мог приметить своеобразную прелесть этой равнины, ее лилово-розовую, изжелта-серую расцветку. Лиловели низины белесых соляных озер, кое-где вдали поблескивающих, лиловел в эту пору цветущий шалфей и мелькали перед глазами кружевные узоры сиреневого кермека. Эти удивительные, никогда не ложившиеся на палитру художника тона, особенно явственны перед закатом, и Пушкин мог видеть их, уже приближаясь к Феодосии. В селений Парнач путешественники обнаружили, что пересекали полуостров по высокому плоскогорью, а теперь им предстоял спуск на большой полуостров. Отсюда был виден силуэт Карадага. На подъезде к Феодосии уже поблескивала темная синь моря. У Сарыголя дорога, не спускаясь к морю, шла в виду его, выше, – там, где и ныне проходит Керченское шоссе. Пушкин прибыл в Феодосию в предсумеречное время, не ранее шести-семи часов пополудни. За две версты до города дорога пошла ближе к морю. «Самый въезд в Феодосию при спуске с горки около Броневского сада останавливает самого беспечного путешественника», – пишет некий Бурдунов в «Украинском журнале» 1824 года[118]. Из этого замечания можно заключить, что именно здесь, у дома Броневского, впервые открывался вид на Феодосийскую бухту и город вдали. Отсюда увидел Пушкин изящный береговой изгиб и розовый песчаный окоем с несколькими башнями генуэзской кладки.Феодосия
Вечер 16 августа – утро 18 августа
Дом Броневского стоял у самого почтового тракта довольно высоко над морем, к которому спускались обширный сад и виноградник[119]. Этот сад и его хозяин, Семен Михайлович Броневский, запечатлелись в памяти Пушкина. Всё здесь было незаурядно, ново, вызывало уважение. Рассказывая брату о поездке в цитированном уже письме, Пушкин пишет: «Из Керча приехали мы в Кефу, остановились у Броневского, человека почтенного по непорочной службе и по бедности. Теперь он под судом – и, подобно Старику Виргилия, разводит сад на берегу моря, не далеко от города. Виноград и миндаль составляют его доход. Он не умный человек, но имеет большие сведения о Крыме, стороне важной и запущенной». Гераков, посетивший Броневского на другой день по приезде Пушкина, в своих записках отмечает те же свойства Броневского. «Он живет как пустынник, и – руками своими возделывая сад свой – кормится; отличный человек! Я его давно знаю: преисполненный познаний и великий знаток на многих языках писать: ныне нашел его огорченным – не ведаю причины, но жаль человека с дарованиями, с обширными сведениями по всем частям»[120]. Броневский (1764–1830) принадлежал к поколению, пережившему трех царей и возлагавшему большие надежды на реформы, обещанные в начале XIX века. Он был оценен Сперанским, посвятил себя изучению восточных языков, служил на Кавказе и в Министерстве иностранных дел по Азиатскому департаменту. Затем в 1810 году принял назначение градоначальником Феодосии и отдал этому городу много сил. Если сравнивать описание Феодосии, сделанное в 1801 году Сумароковым с тем, каким застал город Муравьёв в 1820-м, то станет очевидна работа, проделанная Броневским. В 1801 году Кафа, или Кефа являла собой «повсюду разрушения, падения, бугры из остатков оснований». Сумароков пишет о «сотне лачужек, расставленных посреди печальных развалин», о бедности и праздности населения, о небрежении к памятникам истории. Муравьёв с удивлением отметил несоответствие своего впечатления с тем, что писали о Феодосии прежние путешественники. Он застал «опрятные, прямые улицы, обширную, чистую площадь, набережную, устроенную для прогулки»[121]. Гераков пишет, что в 1820 году жителей в Феодосии уже числилось четыре тысячи. Однако и Муравьёв и Гераков говорят, что большого оживления в городе заметно не было. Феодосийский порт так и не стал коммерческим, как об этом хлопотали еще в начале века. Тем самым городу была предуказана жизнь уездного центра, и задачей Броневского было приведение его в тот благообразный порядок, которому надлежало быть в городе, объединяющем хлебопашцев и садоводов. Броневский, по-видимому, положил много сил и средств на осушение болотной топи. В этом отношении драгоценным является свидетельство уже цитированного «Украинского журнала»[122]. «С одной стороны (т. е. со стороны Сарыголя) по морскому берегу примыкались к городу обширные, топкие болота, но старанием здешних жителей и великими издержками и трудами статского советника Броневского, бывшего Феодосийского градоначальника, оные высушены и обращены в годную сенокосную и пахотную землю, а прекраснейший фруктовый и виноградный сад, разведенный упомянутым Броневским, также и другие фруктовые и виноградные сады, разведенные жителями в самом городе и колонистами в горах, доказывают, что земля, казавшаяся дикою и бесплодною, способна к плодородию и награждению трудов». В этих трудах и издержках градоначальника Броневского – разгадка тех неприятностей, которые кончились отставкой его и судом. Мемуаристы пишут, что в 1816 году Броневский был отстранен от должности «без вины и без копейки пенсиона ‹…› по проискам греческой партии»[123]. Под «греческой партией» Вигель разумеет коммерсантов и мелких торговцев-греков, хлынувших в Феодосию в конце XVIII – начале XIX века, и неприязненно настроенных в отношении русских переселенцев, на которых ориентировался Броневский в своих садоводческих проектах. Желая устранить неудобного для них градоначальника, греческие коммерсанты, видимо, нашли какие-то не по форме составленные денежные отчеты Броневского и раздули дело. Возможно, что в доносах на Броневского сыграла роль и другая сторона его деятельности: его стремление всюду, где возможно, облегчить участь крепостных и защитить их от произвола помещичьей расправы. Любопытно, что именно в годы пребывания Броневского на посту градоначальника было подано в управу несколько жалоб на притеснения, терпимые крепостными. В отношении не очень удобных для начальства (даже либерального) взглядов Броневского и назойливости в высказывании их интересна запись многоученого Муравьёва. В «Путешествии» фигурирует некий проводник, водивший Муравьёва по Феодосии, в котором нетрудно узнать Броневского. Муравьёв рассказывает, как, проходя по базарной площади, он «воображал себе картину, которую эта площадь представляла за пятьдесят лет тому назад». Здесь проводник ему напомнил, что Кучук-Стамбул, как турки называли Феодосию, «снабдевал живым товаром Сераль и гаремы». Муравьёв на это заметил: «Слава Богу, что такой промысел навеки истребился…» «Да, – ответил ему проводник, – если бы это повсюду было так, но что пользы в том, когда в одном уголке земли истребился такой посрамительный для человечества торг, тогда как миллионы еще на поверхности шара осуждены носить тяжкие оковы невольничества…» «Вы разумеете негров?» – спросил его Муравьёв. «Да, – сказал он, – негров. У древних также было невольничество, но они, будучи откровеннее нас, называли невольника невольником; напротив того, некоторые из новейших политических филантропов, трубя о правах человечества и провозглашая себя защитниками получеловеков, обитателей Сенегалии, дозволяют держать илотов на берегах Ганга и везде, где только найдется легко получаемая добыча»[124]. Разумеется, эта «легко получаемая добыча» была ничем иным, как правом на наследование крепостных крестьян. Муравьёв здесь с раздражением замечает, что его проводник «из тех, кои имеют способность видеть вещи с темной их стороны», и радуется встрече с каким-то англичанином, прерывающей неприятное для него красноречие Броневского (жестокая ирония судьбы: именно за то, о чем толковал неумеренный Броневский, погибли через шесть лет сыновья Муравьёва – декабристы Сергей, Ипполит и Матвей). Нет сомнения, что нечто подобное Броневский говорил, беседуя с Раевским и Пушкиным, и именно такие убеждения придали в глазах автора «Деревни» особую привлекательность этому садовнику, напоминающему о стихах Вергилия:Счастливы те, кто вещей познать сумели основы,
Те, кто всяческий страх и Рок, непреклонный к моленьям,
Смело повергли к ногам, и жадного шум Ахеронта.
Но осчастливлен и тот, кому сельские боги знакомы.
(«Георгики», II 490–494, пер. С. Шервинского)
В доме Броневского, в беседах с ним, или вернее, присутствуя при его беседах с генералом Раевским, Пушкин понял ценность живой, плодоносящей земли Крымского полуострова, его лесов, скал, гаваней. Перед глазами его явился не книжный, классический, а живой Крым в его целостности и разнообразии. И Пушкин отметит заинтересовавшие его в разнообразных рассказах Броневского «большие сведения об Крыме, стороне важной и запущенной». Переселенцы составляли главную задачу устройства южных земель. Потёмкин не долго задумывался – он дал администрации негласное право укрывать беглых крепостных и сделал из Крыма нечто вроде Канады времен войны американского Севера и Юга. Никто после Потёмкина не отваживался на такое самоуправство, подрывавшее основы помещичьего хозяйствования, и заселение Крыма долго являлось труднейшей задачей, без которой нельзя было решить остальные. Первые распоряжения Александра были характерны своей двойственностью и неясностью. С одной стороны, предполагался масштаб и темп устроительных работ, такой же как при Екатерине, с другой – всё было предоставлено устроительному комитету и его комиссиям, которые много и долго говорили, обсуждали, рассматривали и решительно осуждали противозаконные Потёмкинские методы. Броневский был одним из тех, кто должен был создавать в Крыму то идеальное городское и садоводческое устройство, которое было намечено комитетом 1801 года. Он взялся за это с жаром и интересом, раздражил начальствующих лиц, не устроил тех, кому градоначальник нужен был в качестве ширмы и ходатая по темным коммерческим делам и спекуляциям. Не трудно представить себе, какие картины рисовал Броневский, рассказывая, жалуясь, показывая плоды своих рук. Так Пушкин узнавал о недавнем прошлом Крыма, о его настоящем, о заложенных в эту прекрасную землю возможностях.
Единственный день, который Пушкин провел в Феодосии, был, скорее всего, нестерпимо жарким. Вероятно, Пушкин, так же как Гераков, «бросался в Черное море», чтобы «несколько прохладиться». Остальное время проводил он под сенью виноградных лоз (в то время виноград поднимали на беседки, а кустовую посадку не применяли) или фруктовых деревьев. Город увидел Пушкин только 18 августа утром, когда все отправились к пристанищу, чтобы сесть на бриг и плыть на запад, в Гурзуф. Всё тот же Бурдунов в «Украинском журнале» так описал Феодосию пушкинского времени: «Вид городу Феодосии прекраснейший ‹…› какую бы кто не избрал точку зрения для рассматривания ‹…› везде найдет множество предметов богатых и разнообразных ‹…› с моря огромнейший, удвояющийся морем амфитеатр со всеми перспективами улиц, со всеми антресолями, портиками, галереями двухэтажных красивых домов, кофеен, ханов (постоялых дворов) – мало-помалу возвышающийся уступами по скату гор и оканчивающихся зеленым венцом[126] ‹…› с гор раскинутый на приятной долине пестрый город ‹…› таможенная и карантинная пристани, окруженные лесом мачт с флагами разных наций ‹…› садовые рощицы ‹…› и обросшие мхом угрюмые, древние башни ‹…› множество бань с круглыми куполами, в коих вделанные стеклянные полушария подобно бесчисленным солнцам блестят от отражения солнечных лучей»[127]. Пристань, с которой отправился в путь Пушкин, была и тогда, как теперь, в стороне, противоположной дому Броневского, в западной части бухты. По дороге Пушкин «с разных точек зрения», т. к. экипажная дорога шла то выше набережной, то на уровне ее, видел город. Характерно, что запомнился он Пушкину под именем Кефы. Минареты полумесяцем, круглые купола турецких бань и глухие стены внутренних двориков придавали Феодосии восточный облик, несмотря на новую планировку чистых улиц, примыкающих к набережной, множество новых домиков и присутственные места русского уездного города.
В море
Утро 18 августа – рассвет 19 августа
Генералу Раевскому был предоставлен военный парусный бриг. В Черноморской флотилии их было два: «Андромеда» и «Мингрелия». Ветра не было, и бриг двигался легким береговым бризом, держась берега, огибая бухты и пути ему было не менее 150 километров. Пушкин пишет, что в Гурзуф он прибыл на рассвете, – из этого можно заключить, что из Феодосии отплыли накануне утром, не позднее семи часов утра[128]. 18 августа бриг шел вдоль берегов восточного Крыма: обогнул мыс Кыит-Атлама[129], Карадаг и к Судакским скалам подошел уже в сумерки.У нас есть свидетельство самого Пушкина, что судно шло очень близко к берегу, а что он, Пушкин, следил за извилистой линией берега чрезвычайно внимательно. Сохранился рисунок Пушкина, изображающий так называемые Золотые ворота Карадага. Этот рисунок сделан в октябре 1823 года близ наброска XLVI строфы первой главы Евгения Онегина:
Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей;
Кто чувствовал, того тревожит
Призрак невозвратимых дней…
Погасло дневное светило;
На море синее вечерний пал туман,
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Я вижу берег отдаленный,
Земли полуденной волшебные края;
С волненьем и тоской туда стремлюся я…
Прекрасны вы, брега Тавриды,
Когда вас видишь с корабля
При свете утренней Киприды,
Как вас впервой увидел я;
Вы мне предстали в блеске брачном:
На небе синем и прозрачном
Сияли груды ваших гор,
Долин, деревьев, сел узор
Разостлан был передо мною…
Гурзуф
19 августа – 4 сентября
На рассвете 19 августа Пушкин увидел с корабля «картину пленительную: разноцветные горы сияли ‹…› и кругом это синее чистое небо и светлое море, и блеск, и воздух полуденный». Две скалы прорезают морскую гладь почти на середине гурзуфского залива. Ими и замыкающим залив с востока «огромным Аю-Дагом, горой, разлегшейся в море», означен Гурзуф. От артековского берега гурзуфский отделен крутою скалой, увенчанной руинами средневековой крепости. Под нею – хаос камней. Здесь еще с незапамятных времен был причал. Но большие суда останавливались на рейде. Деревня спускалась к восточному подножию скалы, занимая отлогий склон и лепясь выше к местам древней Гурзувиты, к холму, именовавшемуся Болгатур. Издали, с моря плоские кровли татарских хижин показались Пушкину «ульями, прилепленными к горам, тополи, стройные, как зеленые колонны, возвышались между ними». Лиственный лес, ниспадая с Яйлы, окаймлял Гурзуф с северо-запада. Среди просветленной утренним солнцем зелени у склона холмистой гряды, чуть поднятый над берегом моря сиял белый дом с галерейками, «воздушный дворец», ожидавший путешественников.«Замок Ришелье»
Итак, рано утром 19 августа 1820 года бриг «Мингрелия» (или «Меркурий») остановился на рейде, спустили шлюпки, Раевские и Пушкин были доставлены на берег к замку в каком-то необыкновенном вкусе, к дому герцога Ришелье, которому принадлежал весь Гурзуф. Дом не был похож на обычные усадебные. Высокая галерея с фасада и боков и восемь окон на тыльной стороне делали его легким и прозрачным, поистине воздушным. Свет и блеск моря заполняли его, тем более что тогда садс береговой стороны был совсем юный, а изгородь низенькая, вдоль берега сложенная из камня и украшенная ажурными воротцами в турецком вкусе. Хотя архитектура этого дома принадлежала какому-нибудь зодчему-немцу, из числа строивших в ту пору в Крыму, работал он, конечно, в согласии со вкусами хозяина, само имя которого обязывало к великолепию. Владелец Гурзуфа был потомком (по боковой линии) знаменитого кардинала Ришелье и внуком небезызвестного своими похождениями и пороками маршала Людовика XV. Как бы назло предкам, этот Ришелье был или хотел слыть пуританином, скромником, стремился удалиться «под сень струй» и именно для этого избрал Гурзуф – но происхождение и судьба предназначили ему жизнь бурную. Революция заставила этого аристократа, офицера драгунского полка королевы и камергера Людовика XVI, прибегнуть к покровительству Екатерины II, а заслуги в русской армий при взятии Измаила, открыли ему путь к высоким должностям. В 1803–1814 годах он пребывает в должности генерал-губернатора Новороссии и Крыма. Особым покровительством Ришелье пользовались крымские татары. По сравнению с русскими крепостными, работавшими на помещичьих землях, они имели множество привилегий, и, усилиями генерал-губернатора, вскоре превратились из кочевников-ногайцев в усердных земледельцев. «Воздушный замок» был памятником своеобразных вкусов и замыслов герцога, желавшего, кажется, прослыть среди татар тем же, чем был испанец «Ласказ, между дикими американцами». Этому служила и архитектура дома, подобно хижинам татар с их воздушными галереями напоминавшего соты улья и призванного, по-видимому, изображать центральную саклю-замок. Но Ласказовская идиллия не осуществилась, и дом был пуст, служа почтенным путешественникам тем, что ныне именуется летней дачей. Внутри «замок» был не слишком удобен для жилья. В подвальной части – службы, над ними «четыре небольших комнаты, по две на каждом конце, в которых столько окон и дверей, что нет места, где кровать поставить. В этом состоит всё помещение, кроме большого кабинета, над галереею, под чердаком, в который надобно с трудом пролезть по узкой лестнице»[131]. Видимо, в этом-то «кабинете над галереею, под чердаком» и поместились Пушкин со своим приятелем Николаем Раевским. Что касается остальных, то им оставалось, как видно, занять эти четыре комнаты: генералу с супругой, четырем дочерям и всем домочадцам. Столовой и гостиной могла служить галерея. В наши дни облик «воздушного замка» имеет мало общего с тем, что видел Пушкин. Парк Ришелье, сильно разросшийся с пушкинских времен (теперь с галереи уже не разглядишь берега), в советское время был поделен между санаториями Министерства обороны и Четвертого управления ЦК КПСС. Дом Ришелье оказался во второй части, и доступ к нему намертво перекрыли, так что прилети дух поэта к милому ему Гурзуфу, он был бы, пожалуй, отловлен бдительными охранниками. Какое-то время существовал даже проект уничтожения дома Ришелье и возведения на его месте водолечебницы для работников ЦК КПСС. Потребовались немалые усилия литературной общественности, чтобы воспрепятствовать этому грандиозному замыслу.Раевские
Ко времени приезда в Гурзуф Пушкин, видимо, стал вполне своим человеком в семье Раевских, и в мужской, и в женской ее половине. Впрочем, что касается женской половины, то в пути с генералом была лишь детская ее часть: погодки-подростки Мария и София. Девицы Раевские, семнадцатилетняя Елена и двадцатитрехлетняя Екатерина находились в Гурзуфе с матерью своей Софьей Алексеевной. Но и они были знакомы Пушкину по Петербургу. Там у Раевских мог бывать он запросто, в обществе друзей и людей, его ценивших: Карамзина, Жуковского, братьев Тургеневых. Но здесь, в Гурзуфе он впервые окунулся в особый мирок большой семьи, где царит взаимное понимание, где связывают тысячи мелочей: обыденных и событийных, печальных и веселых, где недостатки каждого сглаживаются достоинствами, а уважение к главе семьи не позволяет распускаться. Но для семьи Раевских характерно было и другое, не менее важное и очень редкое качество: уважение главы семьи к каждому из домочадцев. В Николае Николаевиче Раевском-старшем, совсем не было уничтожающего других величия, он не терпел прописных истин и в высшей степени обладал чувством юмора. Может быть, эти черты и привлекли особенно к нему Пушкина: они были те самые, которые он уважал более всего в умном человеке. Раевский посмеивался над тем, что из него сделали римлянина, что про него сказали, что он в бою под Дашковой «принес на жертву детей своих». Он говорил это, смеясь, поэту Батюшкову. «Но помилуйте, – возразил тот, – не вы ли, взяв за руку детей ваших и знамя, пошли на мост, повторяя: вперед, ребята! Я и дети мои откроем вам путь ко славе… – Я так никогда не говорю витиевато, ты сам знаешь. Правда я был впереди. Солдаты пятились, я ободрял их ‹…› по левую сторону всех перебило и переранило, на мне остановилась картечь. Но детей моих не было в эту минуту. Младший сын собирал в лесу ягоды (он был тогда, сущий ребенок, и пуля прострелила ему панталоны) – вот и всё тут». Батюшков добавляет: «Раевский очень умен и удивительно искренен, даже до ребячества ‹…› он вовсе не учен, но что знает, то знает»[132]. Может быть, именно это «что знает, то знает» определяло больше всего Раевского. Он знал, как вести солдат на бой, знал и то, каким нужно быть с людьми, – с чужими и с домашними. То, чего он хотел от них, было просто и действительно важно. Так, сыну своему Николаю, который пошел по пути службы военной, отец желал передать свой боевой и хозяйственный опыт. Он говорил ему: «презирай опасность, но не подвергай себя оной из щегольства ‹…› наблюдай экономию в полку, чем более ты ее сделаешь, тем более будешь в состоянии помочь офицерам». Он добивался от Николая того же гуманного и строгого, четкого поведения с людьми, каким обладал сам: «будь ласков и учтив с подчиненными, но не фамильярен и не делай никогда им конфиденции» (т. е. не откровенничай). Эти важные, деловые назидания, впрочем, были нечасты, к месту, а в быту он больше помалкивал, видя недостатки детей, и только шутя умолял иногда «не сидеть, развалившись на диване» перед сестрами и родителями или «не есть много, когда жарко ‹…› и не пить во время жары до охлаждения». Он не одолевал детей своими советами, в отличие от многих любящих отцов, был сдержан, прост и ненавязчив. Вероятно столь же прост и ненавязчив был Раевский с попавшим под его опеку Пушкиным. Самый облик этого человека не мог не нравиться Пушкину. Лицо воина, суровое и спокойное. Выдержка во всём. Привычки укоренившиеся: вечная трубка («он курил очень много по обыкновению» – писал Батюшков). Суровость и нежность в равной мере были присущи ему. Судя по портретам, дочери Раевских унаследовали, от матери своей Софьи Алексеевны тополиную стройность стана, лебединые шеи и огненный взор (у Марии Николаевны). Раевская была несколько старше мужа и обладала натурой совсем противоположной. Она была не умна и не добра, а от знаменитого деда своего Ломоносова унаследовала разве только крутой нрав, впрочем, укрощавшийся любовью к супругу. Ей была присуща, однако, любезная, ласковая светскость. А.П. Керн пишет, что в ранние годы свои была представлена Софьи Алексеевне и «она сейчас приняла меня под свое покровительство, приголубила»[133]. Вероятно, она была мила и внимательна к Пушкину, но характерно, что, вспоминая всю семью Раевских, о Софьи Алексеевне не сказал он ни слова. Раевский называл своих детей русскими, ласковыми именами и писал им русские письма (очевидно и говорил с ними по-русски, вопреки укоренившемуся в высшем дворянском обществе обычае говорить и писать по-французски). Старшая дочь его была Катенька, или как писали тогда «Катинька». Отец очень любил ее и уважал. Именно ей отсылал он свои путевые записки, драгоценные для нас пространные письма с Кавказа перед приездом в Гурзуф. Наблюдения и характеристики этих писем могли произвести впечатление только на того, кто много думал, читал, понимал Россию. Екатерину Николаевну Раевскую в декабристских кругах именовали Марфой-Посадницей. Но остро-наблюдательный Пушкин увидел в гордом властолюбии Екатерины Николаевны скорее характер Марины Мнишек, чем знаменитой защитницы новгородских свобод. Так или иначе, Пушкин брату написал о дочерях Раевского, что все они «прелесть, старшая – женщина необыкновенная». «Катинька» была не только неуемная читательница (даже на портрете – с книгой), но и мечтательница. «Собою преизрядна», как говаривал Пушкин, она была «полна грации и привлекательности». Николай Николаевич-младший, именовавшийся Нико-лушкой, хотя и усвоил себе стиль разочарованного и пренебрегающего условностями, был «славный малый», умен и хорошо образован. В бою, в опасности он совершенно походил на отца: «Высокий, стройный ‹…› и с шашкою через плечо, стоял он серьезно перед рядами войск ‹…› в фигуре его была какая-то гордость и отвага»[134]. Под картечью неприятеля он и вовсе принимал облик старого Раевского «прехладнокровно курил трубку и пускал спокойно дымок». Подобно отцу, Николай Николаевич-младший много читал и поэзию понимал и любил, не подчиняясь моде, а критикуя и разыс-кивая. В пору, нами описываемую, его увлечением были Байрон и Шенье, к которым приохотил он и Пушкина. Подобно отцу, любил он ботанику и садоводство, что мешало ему стать скучающим верхоглядом и делало для него интересным всякое путешествие. Но в обыденной жизни, в противоположность отцу, Николушка любил пошуметь, покричать, «был самолюбив до крайности»[135], разговаривал поучительно и свысока. Эти его качества огорчали отца, он говорил ему: «Ты умен, но ты пока не совершил еще ничего больше любого дурака, и неизвестно совершишь ли ‹…› не оскорбляй и не унижай никого, даже дураков»[136]. Кажется, на почве обидного для окружающих равнодушно-цинического стиля, усвоенного Николушкой (вид байронизма), происходили маленькие обиды и стычки семейные, без которых, впрочем, ни одна семья не обходится. Сестры, и в особенности мать, на него сердились, когда сидел он перед ними «развалясь на диване ‹…› с поднявшимися панталонами». Всё это не мешало Раевскому-младшему быть отличным сыном и братом, чего не хватало Александру Николаевичу («Алексе», как именовал своего старшего Раевский). Аленушкой звал Раевский свою среднюю дочь Елену Николаевну, слабогрудую, элегическую голубоглазую деву, по описаниям судя, похожую на героинь шотландского барда Оссиана, с легкой поступью, нежными ланитами и голосом, подобным звучанию арфы. Елена Николаевна обладала характером легким и, несмотря на элегическую внешность и болезненность, любила веселую болтовню и танцы. Должно быть, никто в семье Раевских в эту пору не считал Машеньку – эту чересчур вытянувшуюся смуглолицую девушку-подростка – существом высшего порядка, по сравнению с братьями и сестрами. И кто бы в 1820 году мог вообразить, что, умирая, Раевский-отец укажет на портрет «Машиньки» и скажет: «Вот – самая удивительная женщина, которую я знал». Однако была уже и тогда в этой почти некрасивой девочке с «пронизывающими, полными огня глазами» какая-то сила, нечто останавливающее внимание. Недаром Пушкин «с нее писал свою черкешенку» в «Кавказском пленнике». Поэт Туманский говорил о ней, что она «дурна собой, но очень привлекательна остротою и нежностью обращения»[137]. «Сонюшка», самая младшая, была скорее маминой дочкой, чем любимицей отца. Никто, кажется, о ней ничего в мемуарах не сказал, зато сама она впоследствии горделиво заявляла: «Я – Раевская сердцем и умом». Но, судя по жестокому ее себялюбию и раздражавшей всех страсти учить и проповедовать, «сердце и ум» у нее были не те, что отличали Раевских и, наверное, это было заметно даже в годы, когда носила она еще полудлинные юбочки и была просто букой, а то и ябедой. Впрочем, и она в своем роде была «прелесть» («все его дочери прелесть»), хотя бы своим контрастом с сестрами. Наверное, первое утро и день Пушкина в Гурзуфе были похожи на утро и день Денисова, приехавшего из армии вместе с Николаем Ростовым в его семью, как описал это Толстой в «Войне и мире». Здесь в тесноте «замка» еще легче было кому-то кого-то разбудить, над кем-то посмеяться, выкинуть какую-нибудь забавную девичью, или мальчишескую шутку, и здесь-то уже всё непременно располагало к влюбленности. С Машенькой у Пушкина еще в дороге, видимо, установились какие-то свои особенные, шуточные отношения, и теперь был у нее шуточный (а может быть, немного и всерьез) повод ревновать к старшим сестрам, на которых нельзя было не заглядеться, с которыми (с Екатериной) повелись еще и умные разговоры о Байроне, о легендах Крыма, о том о сем. В лицейские дни в Царском селе, а потом и в Петербурге, связь Пушкина с Раевскими держалась лишь на его дружбе с Николаем. Для Раевских он был одним из приятелей Николая, а потом уж, – со времени появления «Руслана и Людмилы» – знаменитым молодым человеком, и Раевские, «фамилия примечательная по редкой любезности и по оригинальности ума»[138], его принимали в положенные для приема гостей дни. В пути, и особенно здесь, в Гурзуфе, было другое. Здесь Пушкин вошел в семью, и завязались отношения с каждым из ее членов. В «Table-talk», в заметках о Потёмкине, в различных записях о 1812 годе – всюду ощутимы следы разговоров с генералом Раевским. Связь с Николаем укрепилась каждодневной близостью, общими впечатлениями, юношескими интимными признаниями. Посвящение «Кавказского пленника» лучше всего выразило эту близость. Что касается сестер Раевских, то здесь не стоит и пытаться раскрыть эти отношения, сочиняя романы. Пути чувств поэта неисповедимы, и, пожалуй, нет ничего бесцельнее, чем дотошно выискивать доказательства любовных страданий и радостей, испытанных Пушкиным от встречи с Марией, Екатериной и Еленой… По мере того как аргументы в пользу «утаенной любви» к Марии, Екатерине или Елене, будут нарастать в литературоведческих комментариях, неуклонно будет разрушаться самый облик Пушкина и сложное сплетение истинных, реальных чувств и поэтических воплощений.Прогулки, или День в Гурзуфе
«Я расположил мою жизнь следующим образом: встаю в 5 часов, иду купаться, возвратясь через час пью кофий, читаю, гуляю, обедаю в 1-м часу, опять читаю, гуляю, купаюсь, в 7-м пьем чай, опять гуляем и ложимся спать» – таким было расписание у генерала Раевского на Горячих водах[139], которому, очевидно, подчинялись и все, кто с ним путешествовал. Вероятно, день в Гурзуфе мало чем от этого порядка отличался. Весьма возможно, что утренние купанья генерал совершал не в одиночку, а в обществе сына и Пушкина. Пушкин любил утро. Он вставал рано. Судя по гравюрам того времени, на огромном гурзуфском пляже не было никаких купален или мостков для купанья, а естественным прикрытием служили оливковая роща и кустарники по самому берегу, отгороженные от берега плотным плетнем. Из-за этого прикрытия, раздеваясь, по-видимому, в самой роще, и выходили на берег купальщики и купальщицы. Возможно, что Николай Раевский и Пушкин купались с лодок. Шлюпки, принадлежавшие «замку», стояли в западной части залива, где начинался хаос камней. Именно там, в некотором отдалении от дома, надо думать, и купались мужчины. В то время как дамам была предоставлена песчаная отмель у самого парка, под прикрытием «священного леса» олив. Кофе, чтения и прогулки (по расписанию Раевского) вряд ли были общими для всей семьи. Молодым людям подавали кофе на их чердак, а в прогулках принимали участие лишь мужчины. Впрочем, генерал непременно после кофе читал «журналы» (т. е. газеты). Николай Раевский слыл ленивцем и не стремился к прогулкам по жаре, тем более что перенес недавно, в пути, тяжелую лихорадку. Таким образом, дневные прогулки Пушкина были, скорее всего, одинокими. Где же бывал в Гурзуфе Пушкин? Пойдем за ним, вслед его стихам, запечатлевшим Гурзуф. Он шел по дороге из «замка» вдоль берега, по теперешней набережной и на пути его при подъеме в селение был фонтан, который нарисовал позднее художник Чернецов (на этом же месте он и сейчас, но уже утратил свою живописность). Фонтан в то время примыкал к «замковому» парку, над ним нависали ветви парковых деревьев. Сложенный из белых плит крымского мрамора, он бил сильной, кристальной струей, несущейся с горных вершин. В нише находилась арабская надпись, гласившая: «Путник, остановись и пей из этого источника». К стене прикреплен был ковш, никогда не уносившийся:Сей белокаменный фонтан,
Стихов узором испещренный,
Сооружен и изваян
Железный ковшик
цепью прикрепленный
Кто б ни был ты: пастух,
Рыбак иль странник утомленный,
Приди и пей.
…Старик Сатурн в полете молчаливом
Снедает их невидимым огнем,
И волны бьют вкруг валов обгорелых,
Вкруг ветхих стен и башен опустелых.
Столпы гробов обвитые плющом…
В развалинах, один над павшей урной…
Близ ветхих стен, один над дряхлой урной… –
В горах, дорогою прибрежной,
Привычный конь его бежит,
И зеленеющая влага
Пред ним и блещет и шумит
Вокруг утесов Аю-Дага…
Земля и море
Никому ни в слове, ни в цвете не удалось изобразить крымскую землю и море с такой силой и вместе с тем сдержанностью, как Пушкину. С предельным лаконизмом он передал зримость, ощутимость земли Крымского полуострова. Он не задавался целью передать оттенки цветов, он воссоздавал лишь ощущение отчетливой светотени (море и прибрежные скалы, море и лес) и то общее, что поглощает все оттенки: сияние, блеск, ясность. Для наглядности припомним эпитеты, выражения, которыми Пушкин пользуется в крымских элегиях («Таврида», «Кто видел край, где роскошью природы…», «Нереида» и другие вещи, связанные с «милым полуднем»): «златой Феб», «блеск лазурный», «лазурь и блеск», «луна сияет», «синея блещут волны», «янтарь и яхонт винограда», «шелковицы рдяный плод», «в сиянии молчаливом» и т. п., и с другой стороны «темные леса», «чернеющие своды», «скал громады», «темный кипарис». Если говорить о радостных цветах, то «лазурь», «синь», «яхонт», «янтарь», «рдяный» составляют ту светлую, но чуть-чуть тронутую осенью палитру, которая столь характерна для конца августа на южном побережье. Пушкин был жизнелюбцем. Жизнь радовала его во всех проявлениях. Он «купался в море и объедался виноградом ‹…› привязался чувством, похожим на дружество» к молодому кипарису. «Моря шум и говор водопада, шепот речки тихоструйной», «звонкие струи» составляли радостную гурзуфскую симфонию, которой наслаждался Пушкин. Но главным источником наслаждения для глаз, слуха и осязания было море. На краткий, счастливый срок пребывания в Гурзуфе, море перестало быть для Пушкина «угрюмым океаном», «игралищем судеб». Оно «нежило», «лелеяло», «лобзало». Оно сияло своей лазурью. Оно пело «немолчный гимн творцу миров». В дни пребывания Пушкина в Гурзуфе море было тихим и, видимо, случались лишь береговые бризы и небольшие, быстро проходящие волнения, какие часто бывают в эту пору. И Пушкин запечатлел эту идиллическую гармонию в стихотворении «Земля и море» (вольное переложение идиллии греческого поэта Мосха II века до н. э.):Когда по синеве морей
Зефир скользит и тихо веет
В ветрила гордых кораблей
И челны на волнах лелеет;
Забот и дум слагая груз,
Тогда ленюсь я веселее –
И забываю песни муз:
Мне моря сладкий шум милее.
Когда же волны по брегам
Ревут, кипят и пеной плещут,
И гром гремит по небесам,
И молнии во мраке блещут, –
Я удаляюсь от морей
В гостеприимные дубровы;
Земля мне кажется верней…
Где сладостно шумят полуденные волны.
Гурзуфские элегии
Тема «утаенной» любви Пушкина связывается с Гурзуфом, с Раевскими, и мало-помалу она заслонила собой всё, что составляло главную сущность гурзуфских[142] элегий Пушкина. Была гипотеза о влюбленности поэта в Елену Раевскую, возникшая в качестве комментария к элегии «Увы! зачем она блистает…», печальной элегии, на рукописи которой есть помета: «Юрзуф 1820». Сейчас пушкинисты склоняются к тому, что эта элегия связана скорее с Екатериной, так как именно она была больна в 1820 году (из-за нее Раевские и поехали на южный берег) и блистала «минутной, нежной красотой». Версия Екатерины, подтверждаемая прямыми мемуарными свидетельствами, возникла давно, и безотносительно к данному стихотворению, но была отставлена в связи с предположениями о влюбленности в Марию Раевскую, основанными, главным образом, на ее собственном рассказе о своих ножках, которыми любовался Пушкин. Догадка о том, что Пушкину в Гурзуфе «случилось ‹…› быть влюблену без памяти»[143] в Екатерину Раевскую нашла затем новые подтверждения[144] и, кажется, является наиболее обоснованной, что, впрочем, совсем не исключает и влюбленности в Марию. Она сама пишет, что Пушкин, «как поэт считал себя обязанным быть влюбленным во всех хорошеньких женщин и молодых девушек, с которыми встречался»[145], а поскольку непосредственно за этой фразой следует рассказ о том, как она «бегала за волною», то ясно, что она не отрицает влюбленности в нее Пушкина. Из знаменитых строф первой главы «Евгения Онегина» (XXX–XXXIV) очевидно, что ножки, которыми любовался поэт на морском берегу, и ножки, для которых держал он «счастливое стремя», – принадлежали разным женщинам. Можно предположить, что в этих строфах Пушкин вспоминает обеих сестер Раевских – и Марию, и Екатерину. Еще важнее свидетельство современников о том, что Мария Раевская – «идеал пушкинской Черкешенки», причем поэт Туманский писал об этом в 1824 году своей сестре, ссылаясь на «собственное выражение поэта»[146]. Факт этот, пожалуй, интереснее всего тем, насколько Пушкин угадал эту замечательную женщину, душевный огонь и мужество которой привели ее сквозь снега и жестокие этапы Сибири к ногам каторжанина-декабриста Волконского. Но в «Кавказском пленнике», гурзуфском создании Пушкина, Черкешенка-Мария противостоит «гордой деве», таинственной любви пленника. Элегическая героиня поэзии Пушкина – не она. И, может быть, самым верных и драгоценным заключением по этому своеобразному следствию об утаенной любви Пушкина являются слова самой Марии Раевской (Волконской): «В сущности, он обожал лишь свою Музу и поэтизировал всё, что видел»[147]. Да и Пушкин в «Евгении Онегине» сказал, по существу, то же самое:Замечу кстати, все поэты –
Любви мечтательной друзья.
«Это колыбель моего Онегина»
Незадолго до смерти, 10 ноября 1836 года, Пушкин писал Николаю Борисовичу Голицыну, жившему в имении Артек[149], о Гурзуфе:Que je vous envie vorte beau climat de Crimée: vorte lettre a reveillé en moi bien des souvenirs de tout genre. C’est le berceau de mon «Онегин», et vous avez sûrement reconnu certains personnages[150].Пушкин, как видим, не только отмечает, что замысел «Евгения Онегина» родился в Гурзуфе, но и то, что с Гурзуфом связаны и некоторые из героев этого произведения, знакомые Голицыну. Эти слова нельзя понимать иначе, как намек на Раевских. Разумеется, речь не идет о портретном сходстве, а лишь о прототипах и скорее всего о женских, т. е., о замысле романа, где сестры-героини представляют собой полную противоположность друг другу. Как известно, многие из женщин пушкинского окружения отождествлялись с Татьяной. Татьяной именовал Раевский Елизавету Ксаверьевну Воронцову в письме к Пушкину из имения Браницких (родственных Раевским). Татьяну видели в одной из обитательниц Тригорского – словом, здесь целая галерея «идеалов» Татьяны, и рассмотрения черт каждого из предполагаемых прототипов не может дать ничего положительного потому, что Пушкин, конечно же, не писал портретов. Однако нечто в женском облике и русском характере было уловлено в общении с живым идеалом. И в этом смысле старшие Раевские, скорее всего Екатерина, могла послужить поэту прообразом. Для доказательства этого не стоит приводить строфы, где говорится о страсти Татьяны к чтению или описывается, как Татьяна ищет на небе свою звезду, подобно героине элегии «Редеет облаков…», нет смысла вспоминать и о том, что Екатерина Николаевна славилась умением себя держать, и что «тихой и ясной» душой обладала, подобно Татьяне, элегическая красавица из стихотворения «Увы! зачем она блистает…». Все эти параллели ничего не доказывают, так как они составляют идеал русской дворянской девушки, созданный самим Пушкиным. Еще в меньшей мере можно отождествлять Марию Раевскую с Ольгой Лариной. В одной из последних строф «Евгения Онегина» воспоминание о гурзуфских берегах, какими поэт увидел их впервые:
Вы мне предстали в блеске брачном:
На небе синем и прозрачном
Сияли груды ваших гор,
Долин, деревьев, сел узор
Разостлан был передо мною.
А там, меж хижинок татар…
Какой во мне проснулся жар!
Какой волшебною тоскою
Стеснялась пламенная грудь!
По тропам и «средним» дорогам
Время свободы истекало, и Пушкину пора было явиться к месту службы-ссылки, в Кишинев. Отец и сын Раевские тоже спешили к своим делам. Однако возвратный путь был задуман так, чтобы повидать южный берег и, посетив места легендарные, попасть в Симферополь. Это было трудное путешествие верхами (а кое-где и пешком), непосильное для женской половины семьи Раевских. Женщины немного задержались в Гурзуфе с тем, чтобы вскоре двинуться в Симферополь, где их должен был ожидать генерал, – вероятно морем до Алушты и экипажами через Шумы. Пушкину и его спутникам предстояло расстояние в 170 верст на Ялту, Алупку, Кикенеиз, к Мердвеньскому перевалу, по Байдарской долине к монастырю св. Георгия – на Бахчисарай и Симферополь. На «Топографической карте полуострова Крыма», составленной в 1816 году по распоряжению генерального штаба, обозначены не только дороги почтовые, «средние, имеющие те же удобства», и «малые, или проселочные», но и горные тропы. О них в «Изъяснении» составителя карты генерала Мухина сказано, что они проходят «через хребет гор и на южной стороне оных, по которым проезжают только верьхами на привычных тамошних лошадях», что по ним «жители потребные для себя тягости возят на вьюках», что «сии дороги весьма узки, пролегают по самым высоким крутизнам и глубочайшим ущельям», и что «по оным проходить можно по одному человеку в ряд». В 1820 году еще не было не только почтовой и «средней», но и «малой», проселочной дороги, соединявшей южнобережные селения между собой и с северным степным Крымом. Проселочные дороги были лишь между Алуштой и Симферополем (по течению Салгира); Севастополем и Бахчисараем – Симферополем; Ускутом (селение к востоку от Алушты) и Карасубазаром – Феодосией и Симферополем. Существовал еще путь из Бахчисарая в Евпаторию. Это были магистрали ханского времени, кое-где удлиненные и подремонтированные к 1787 году (прибытию Екатерины). В селения, не стоявшие на этих магистралях, попадали лишь по конским тропам (все они означены на карте Мухина). В своем «Путешествии» Муравьёв описывает караван всадников и вьюков, с которыми он пробирался из Кучук-Ламбата в Гурзуф. Это была «неразрывная цепь, как змея вьющаяся по излучинам гор». «Если бы переезд мой не был так мал, – пишет Муравьёв, – я бы измучал лошадь мою, потому что беспрестанно, то уезжал к хвосту каравана, то далеко от него вперед, дабы наглядеться на эту движущуюся картину, которую нельзя видеть ни в каких горах в Европе, как только на Крымских». Караван генерала Раевского состоял приблизительно из десяти-пятнадцати лошадей (считая вьючных и всадников охраны, проводников-татар и прислугу). Это была цепочка покороче муравьёвской, но так же змеившаяся по узеньким тропам среди скал и лесной чащи. Тропа в Ялту шла из деревни (с так называемого Болгатура) берегом, позади дома Ришелье вверх, приблизительно совпадая с теперешней дорогой гурзуфского совхоза, мимо Ай-Данильского хутора (выше Ай-Данильских винных подвалов), к деревне Никита. «Что шаг вперед, то дорога труднее, а виды живописнее», – писал Муравьёв о переходе из Гурзуфа в Ялту. Места эти вызывали удивление всех путешественников соединением дремучего леса и дичающих фруктовых садов с произрастаниями средиземноморскими. «Надобно иметь перо Бернардиново, – продолжает Муравьёв, – чтобы отважиться на описания величественной прелести сего леса, коего вековые деревья могут дать понятие о местах, где цвела и завяла юность Павла и Виргинии ‹…› деревья в три охвата; шелковичные, ореховые, гранатовые, фиговые и множество других родов: произведения роскошных небосклонов. Дикий виноград вьется около них и на ветвях чужих кладет тяжелые грозды свои, которых бы сам не в силах был сдержать». Удивлялся диковинам этого сада-леса и Грибоедов, побывавший здесь в 1824 году. Это, как впрочем и многие места по южному берегу, когда-то богатые садоводческие селения потомков херсонесских греков были покинуты и заброшены в начале 80-х годов XVIII века, когда греков по распоряжению Потёмкина переселили с полуострова в степное Приазовье. Вскоре, впрочем, Потёмкин вновь поселил на побережье греков-арнаутов, охранявших берег и фактически захвативших все прибрежные земли. Эти новоявленные помещики-греки вскоре стали продавать русским поселенцем и татарам крупные и мелкие участки. Большинство старых греческих деревень в самом начале XIX века заселили татары, ко времени путешествия Пушкина успевшие придать этим селениям облик магометанский (минареты, плоские крыши и т.п). Однако старая садоводческая культуры еще не была вполне освоена, и татары предпочитали сеять просо и гонять отары овец на Яйлу, – занятия для них более привычные, чем сложное садоводство и виноградарство. Русские власти пытались превратить дичающие сады в ботанические. Начало этому положил Потёмкин на своих алупкинских землях, остававшихся, впрочем, и позднее в частных руках. В 1811 году заложен был казенный ботанический сад ниже селения Никита. Пушкин Никитского сада, вероятно, не видел. Он ехал по тропе, которая подымалась выше, к верхней Массандре (или Марсанде, как она обозначена на карте Мухина). Чтобы посмотреть ботанические насаждения Христиана Стевена (известного ботаника, основателя сада), следовало спуститься, и затем вновь подниматься, требовалось время, которым располагал Муравьёв, заночевавший в домике Стевена, и не располагали Раевские и Пушкин. Тропа поднималась к массандринскому роднику у развалин монастыря св. Иоанна[152]. В начале XIX века еще сохранялись стены средневековой базилики (VIII–IX веков) и алтарь, были «приметны лики» стенной живописи. Судя по изображению 1814 года[153] руины были затем укрыты новой часовенкой с полукруглой оградой, в которой виден проем для родниковой воды, бегущей сверху. Здесь, у калитки часовни невозможно было путнику не остановиться и не припасть к ручью. Здесь, в тени вековых дубов царила прохлада. Дубы были очень стары, их узловатые корни корявыми лапами цеплялись за обочину тропы. Порядок, в котором стояли эти великаны, свидетельствовал, что здесь когда-то потрудились человеческие руки. Из Массандры тропа, постепенно обходя отроги Яйлы, спускалась в ущелье Уч-Кош к водопаду. Весной он был многоводен и шумен, но в пору путешествия Пушкина едва звенел. Струи родника неслись вниз к селению Ай-Василь, которое было, пожалуй, самым большим и богатым из тех, что видел Пушкин. Обильное водою селение утопало в садах, начинавшихся у самого водопада. Среди глинобитных саклей с плоскими крышами, кое-где виднелись домики крытые черепицей с галерейками и балкончиками византийского стиля. О том, что татары обосновались здесь недавно, свидетельствовали и стены мечети, явно принадлежавшие прежде греческой церкви. Из Ай-Василя тропа спускалась в Дерекой, предместье Ялты, занимавшей в ту эпоху лишь территорию нынешних морского вокзала, автостанции и старого базара. Ялта в 1820 году была береговой татарской деревушкой о двенадцати дворах, и тропа, идущая на запад, к ней не спускалась, а держалась высоты нынешнего шоссе на Аутку. Спуск вниз начинался вблизи того места, где позднее поселился Чехов. В те времена не Аутка была предместьем Ялты, а скорее наоборот: маленькая Ялта была хутором при больших селениях Аутке и Ай-Василе. В прошлом богатая судоверфь, Ялта в конце XV века превратилась в греческий, а с конца XVIII века татарский поселок, где жили лесорубы и плотники, снабжавшие берег незамысловатыми лодками. Аутка была греческой деревней: шумной, не слишком чистой, торгующей и работящей. Под висячими балконами, украшенными резьбой, в двух-трех домах шла торговля кожей, щербетом и сыром. Здесь подавали кофе и курили кальяны. Тропа шла из Аутки вниз, более или менее совпадая с так называемой нижней дорогой через Ливадию и тропой, получившей название «царской», и вела в Ореанду и Алупку. Места, которые видел Пушкин на пути, совершенно не походили на теперешние. Об этом удивительном несходстве мы можем судить по одному рисунку Карла Брюллова, имеющему подпись: «Пещера Трофонеева при Ливадии». С некоторыми неточностями, свойственными живописцам, здесь изображена Ливадия и еще недостроенный дворец графа Потоцкого, на месте которого (в 1911 году) был возведен царский ливадийский дворец. В начале 30-х годов (время эскиза Брюллова) здесь еще не было и помину тенистого парка, но окрестные холмы были усеяны жилыми домиками и развалинами древних сооружений. На эскизе отчетливо видны крепостные стены и множество башен. Значительнейшая из них с характерными зубцами, венчает самый высокий из холмов (отрогов Магаби-яйлы), мелкие, сужающиеся кверху – у поселка, разбросанного в небольшой долине у скал. Минарет и узкие башни свидетельствуют о том, что поселок турецкий, из тех, которые лепились к юстиниановским крепостным стенам, неся береговую охрану. Стены и башни, именуемые всюду в Крыму генуэзскими, вероятно строились еще при византийском императоре Юстиниане (VI век)[154], опоясавшем всё побережье Крыма, а затем достраивались и подновлялись итальянцами в XIII–XV веках и турками в XVI–XVIII веках. Несколько домиков, крытых черепицей, были совсем новенькими. В 1820 году еще не начинали строить дворец, но Пушкин видел башни и домики Ливадии. За Ливадией начиналась береговая кордонная тропа, совпадавшая с нынешней «царской». Леса вовремена Пушкина так же густо покрывали холмы Ореанды (на карте Мухина – «Урьянды»), но тогда лесные породы (дуб, граб) перемежались не с декоративными, парковыми, а с остатками фруктовых садов. «Отсюда спокойный путь идет прелестными местами, – пишет в своих “Досугах” Павел Сумароков, – и ты видишь на расстоянии верст 10 природный сад… Веселый лесок продолжается, как нарочно насажденными аллеями, сквозь соединенную густоту коих пронизает решетчатый свет, и где по опушке яблони, груши, черешня, шелковица выставляются к бесплатному лакомству проезжающих». Сумароков пишет, что Мисхор, Кореиз и Алупка «составляют почти одно селение и тут сросшиеся верхи деревьев грецкого ореха удивительной толстоты осеняют приятный, крытый путь». Алупке отдали дань восхищения все современники Пушкина, описывавшие южный берег Крыма. Именно она была местом отдыха большинства тогдашних путешественников. Все художники, желавшие запечатлеть величественные скалы Ай-Петри, на фоне их писали маленькую идиллическую саклю, служившую придорожной гостиницей. Такое изобретение украшает «Досуги крымского судьи» Павла Сумарокова. На гравюре – скалы и маленькая сакля, бочком приютившаяся среди огромных глыб диорита. Около сакли два молодых кипариса, те самые, которые были посажены в 1787 году в честь приезда Екатерины в Крым[155]. Во дворик въезжают три всадника, явно принадлежащие дворянскому сословию. Широкая галерея сакли гостеприимно открыта. Художник запечатлел момент прибытия путешественников. Такую же, но более обширную саклю селения Алупки мы видим на акварельном эскизе Мевиля, сделанном в 1816 году. На том же фоне скал изображен домик с плоской крышей и деревянными крепленьями по карнизу, с деревянными решетками в двух окнах. Прохладой веет от балконной ниши, открытых дверей узенького длинного сарая и виноградной беседки. Вот где истомленный жарой путешественник найдет отдых, будет сладко спать. Настежь открыта калитка увитой виноградом изгороди. Пышные свисающие гроздья образуют арку над входом. Тоненькая татарка в чадре, входит с кувшинами во дворик, по которому расхаживают петухи и куры. В селении Алупка было в то время около пятидесяти дворов, но путешественники останавливались на ночлег поближе к тропе, по которой наутро предстояло двигаться дальше. По-видимому, это была окраина селения, то место, где в 30-е годы начал строить свой дворец Воронцов. Здесь несколько домиков были разбросаны среди хаоса скал – это был естественный обвал камней, который впоследствии талантливый Блер, проектировавший дворец и парк Воронцова, превратил в парковую декорацию. Наиболее живописно расположенные сакли стали своего рода гостиницами, или – по-татарски – ханами. Именно в такой сакле, в той, что изобразил Мевиль, или в подобной ей, остановился в ночь на 5 сентября Пушкин. Вечером караван генерала Раевского был встречен обязательным он-баши (деревенским десятником), который и отвел господам лучшие помещения, устроил проводников и слуг, поручив усталых лошадей местным конюхам (с лошадьми-то уж умел обходиться каждый татарин). Раевских и Пушкина, так же как некогда Сумарокова, ввели «в опрятную с диваном и камином[156] комнату, которой стены убраны были шитыми платками[157] и восточными тканями» и приезжие «нежились тут по трудном переезде, толковали, сообщали, друг другу свои замечания». Муравьёв пишет, что «большую часть ночи провел в диком саду природы», что «не мог усидеть дома» и «наслаждался благорастворением воздуха и тишиною романтической пустыни, оглашенной одним только шумом падающих вод». Вряд ли Пушкин предавался столь романтическим ночным прогулкам, но, проснувшись, увидел он приблизительно то же, что и Муравьёв: «Дом, в котором мы ночевали, окружен диким садом, состоящим из дерев гранатовых, фиговых, оливковых, рябин, лавров, кипарисов. Из дерев сих наиболее удивили меня гранатовые и фиговые, каковых ростом и толщиною я нигде на видывал, ни даже в окрестностях Валенсии. Между садом сим и морем раскат берега, версты на две, покрыт обломками гор ‹…› между ими садовый и дикий виноград, плодовитые деревья и вода как хрусталь прозрачная, то ручьем журчит по покату, то водопадом, со скалы на скалу стремится к морю»[158].Утро 5 сентября – утро 6 сентября
От Алупки начиналась самая трудная часть пути к скалам Кикенеиза и вверх на Кучук-кой – Мухалатку-Мердвень, к перевалу Яйлы и вниз в Байдарскую долину. Выезжали обычно из Алупки на рассвете, внимательно осмотрев крепление вьюков и подковы маленьких бойких лошадок. Муравьёв в своем «Путешествии» так описывает начало этого пути: «Объехав мыс Куртуры[159] и поднявшись в гору версты четыре от ночлега, всё еще было изрядно до небольшого селения Симейса, но от него начинался ужаснейший спуск»[160]. Здесь Муравьёв что-то путает: от селения Симеис или Оимеиз, тропа шла вверх, а не вниз. Сердце его «трепетало от ужаса» при спуске к Симеизскому заливу из Алупки, а не из селения Симеиз. На этом спуске, по описанию Муравьёва, «скала на скале заграждают путь; страшные их обломки висят над головою и на каждом шагу грозят страннику участью титанов. Лошадь от страха останавливается, озирается, высматривает где бы вернее ступить, иногда, по некоторым размышлениям, не находя способа идти, слагает накрест передние ноги, садится на задние и таким образом, можно сказать, не спускается, а съезжает под гору»[161]. Муравьёв отмечает, что над морем, по-видимому, на скале Кошка в 1820 году еще были видны руины укреплений, еще одно звено юстиниановской крепостной цели. За селением Симеиз тропа идет сплошь через скалы, но довольно полого – к Лименам. Сумароков именовал путь между Симеизом и селением Лимены переулком, составленным из стоячих камней. Обычно к полудню путешественники прибывали в Кикенеиз, довольно изрядное селение, не меньшее чем Алупка. Здесь, как живописал Сумароков, «пристанище путнику было готово на потолке, или террасе, где перемешанное поверх того сплетение гранатовых сучьев с ореховыми, шелковичными и виноградными отраслями составляли прекрасную беседку»[162]. На крыше сакли Кикенеиза отдыхал и Муравьёв осенью 1820 года, следовавший по тому же пути. «На таком то терасе я сижу окруженный татарскими детьми, подносящими мне разных плодов на чистых оловянных тарелочках. Обрадованный впервые таким необыкновенным зрелищем приветливости, я, к большому удовольствию моих прислужников, плачу им за всё мне подносимое и если долго просижу, то конечно скорее истощится мой кошелек, нежели их усердие». Этот штришок несколько нарушает идиллическое описание, но он забавен, как черта, показывающая, что татары в 1820 году уже вполне усвоили способы выжимать деньги у любителей таврических красот. Отдых на крыше кикенеизской сакли и фрукты в качестве полдника представляли собой обязательную принадлежность маршрута. Нет сомнения, что и у Пушкина с Раевскими был привал на прохладной крыше кикенеизского домика, и фрукты, и расплата. За Кикенеизом следовал пологий подъем к селению Куч где путники непременно услышали о страшном подземном взрыве и обвале 1786 года. Тогда, согласно донесению местных властей, половина деревни была уничтожена, а речка обратила течение свое в другую сторону. За истекшее тридцатилетие, впрочем, всё приняло вид вполне благообразный и Пушкин увидел Кучук-кой, приютившийся «в беспрерывных садах», и веселые домики, мелькающие среди виноградных беседок. Но и в 1820 году виднелись еще следы бедствия, и можно было наблюдать высохшие деревья, торчащие меж глыб, под навалом которых была погребена часть селения. Здесь, за Кучук-коем начинался подъем на Яйлу. Тропа, минуя селение Мшатка, шлак Мердвеню, деревеньке, расположенной у самой лестницы, именуемой Шайтан-Мердвень (Чертова лестница). Сумароков называет эту лестницу, высеченную в скале, необыкновенным памятником древности, и сообщает, что «начинаясь от самого хребта горы, она извивается ступенями вокруг пропастей»[163]. Существует предположение, что ступени этой лестницы, сейчас почти незаметные, рассыпавшиеся, были высечены еще в античные времена. Во всяком случае, лестница поддерживалась вплоть до 30-х годов XIX века, а затем уже заброшенная, всё еще служила единственным лазом, соединяющим селения Байдарской долины с южным берегом (и поныне это кратчайший путь из Скели или Узунджи на Ялтинское шоссе). Муравьёв писал своему приятелю по поводу мердвеньской лестницы: «Ты не подумай, чтобы это название было дано по некоторому сходству с лестницею: нет, это в точном смысле лестница, витая, почти по отвесу проложенная в расщелине и ведущая от подошвы скалы до вершины». Действительно, если взглянуть на мердвеньский спуск с Яйлы – леденящее впечатление отвесной скалы. На самом же деле лестница некруто, спокойно вьется по расщелине, поросшей кустарником. Муравьёв через семнадцать лет после Сумарокова уже не спускался, а поднимался по лестнице, в книге своей заметив, что спуск верхами невозможен и вообще опасен, а подъем сравнительно прост. Пушкин, читая описание Муравьёва, нашел всё преувеличенным. Он писал, что «страшный переход его по скалам Кикенеиса не оставил ни малейшего следа в моей памяти»[164]. Перед подъемом все путники делали получасовой привал у самой Чертовой лестницы, проверяя седла и поклажу. «По горной лестнице взобрались мы пешком, держа за хвост татарских лошадей наших. Это забавляло меня чрезвычайно и казалось каким-то таинственным восточным обрядом», – пишет Пушкин[165]. Мердвеньская лестница, выходит на Яйлу и путешественник сразу попадает в смешанный лес. Здесь есть вода, и травы даже в осеннюю пору сохраняют свежесть. «Мы переехали горы, и первый предмет поразивший меня, была береза, северная береза. Сердце мое сжалось: я начал уж тосковать о милом полудне, хотя всё еще находился в Тавриде, всё еще видел и тополи и виноградные лозы»[166]. Яйлинская береза (сейчас в этих местах остались одни тополи, мелкорослые дубки и грабы), для Пушкина означала границу полюбившейся ему буйной, веселой флоры южного склона. Береза напомнила обо всём тяжелом, что было связано с русской действительностью. Она не вызвала у Пушкина патриотического умиления, так же как позднее у Гоголя, возвращавшегося из Италии: вероятно, потому, что оба они, – и Пушкин, и Гоголь – слишком любя Россию, мучились ее бескрайними бедами. Сомнительно, чтобы Раевские и Пушкин заночевали в деревне Мердвень, ближайшей к перевалу. Это была глухая лесная деревенька, вряд ли способная приютить и накормить важных путешественников. К тому же в Мердвень прибыли еще засветло (часа в четыре пополудни) и не было никакого резону останавливаться здесь на ночлег. У деревни Мердвень тропа разделялась на несколько дорожек, идущих в разные селения Байдарской долины. Одна шла на северо-запад к Календам, Сачтику, Байдарам (на карте Мухина – Байдар), другая – на северо-восток к селам Скеля и Узунджа. Нет сомнения, что была избрана первая тропа, кратчайший путь к Георгиевскому монастырю. Судя по мемуарам того времени, Байдары были местом ночлега всех направляющихся с южного берега в сторону Севастополя. До Календ тропа шла лесом и это был первый девственный дикий лес, который видел в Крыму Пушкин. Перерезанный руслами потоков, переплетенный лианами плюща, он состоял из огромных буков с их строгими серыми стволами и веселыми кронами, из островков покрытых лиловатой корой сосен и алых зарослей кизила. В селении Календы начиналась уже дорога, «средняя» как именует ее картограф Мухин, кстати, оговаривающий в своих «изъяснениях» к карте, что до Балаклавы по ней «кавалерии как проходить не удобно, так равно оная и действовать в тех местах не может». За Календами начиналась открытая Байдарская долина, прославленная в стихах и прозе. Сумароков так живописует ее: «В овальном окружении высоких гор, пространная долина, на которой различные виды обделаны природою в самом лучшем вкусе. Тут всё есть, что только к красоте послужить может: ковристый луг, извивающаяся по нем речка, рощицы, разбросанные кустарники, селения на косогорах, сады с пирамидальными тополями, частички нив и сенокосов». Тем не менее приходится признать правоту Муравьёва в том, что Байдарская долина «славою своею обязана не столько природе, как воображению посетителей ее». Муравьёву долина показалась скучной и пустынной. Хотя нельзя не отметить, что именно после субтропической флоры южного берега и яйлинских лесных дебрей, Байдарская долина радует глаз своим свободным пространством, мягкостью рельефов, светлой зеленью и общим каким-то голубоватым тоном, особенно явственным после утренних, быстро уходящих туманов. Долина вместе с лесным склоном когда-то принадлежали самому Григорию Потёмкину, пышно именовавшему ее Темпейской[167], а затем была продана адмиралу Мордвинову, тому самому, которому в 1827 году Пушкин посвятил возвышенное послание («Под хладом старости»). Все деревня Байдарской долины были данниками Мордвинова, его арендаторами и весьма возможно, что Пушкин слышал здесь о нашумевшей, тянувшейся с 1800 годов тяжбе татар с адмиралом (он требовал от них отбывания барщины). Мордвинов был одним из замечательнейших деятелей не столько екатерининского времени (как устроитель флота он оказался слабоват), сколько павловского и двух следующих царств. Он был поборником конституционной монархии английского образца, и популярность его у декабристов была столь значительной, что его намечали в правительство в случае переворота. При этом Мордвинов решительно не сходился с декабристами в части крестьянской реформы, считал необходимым сохранить «до времени» крепостное право и никак не мог примириться с теми свободами, которые Екатерина даровала крымским татарам. Разговоры о Мордвинове были тем неизбежнее, что селение Байдары по существу являлось его усадьбой. Там был небольшой барский дом, в котором, скорее всего, и ночевал Пушкин. Сам Мордвинов там бывал редко, и почтенные путешественники, вынужденные ночевать в Байдарах, останавливались в доме адмирала. Сумароков пишет, что ему и его спутникам в этом доме отвели «две небольшие комнаты», внеся в них огромные связки соломы для посетителей, и «приказчик господина Мордвинова, крепостной его малороссиянин» подавал им ужин, кофе и трубки. Муравьёв, по-видимому, жил в том же доме с достаточными удобствами, так как в письме его из Байдар сообщается о желании здесь отдохнуть, переждав дурную погоду. Очевидно, в том же мордвиновском доме, в упомянутых двух комнатах для гостей, остановился и Пушкин в ночь с 5 на 6 сентября. Это тем вероятнее, что генералу Раевскому всюду отводили лучшее помещение.Утро 6 сентября – утро 7 сентября
Самая трудная часть пути была позади. Из Байдар дорога, всё такая же «средняя», шла вдоль речки на север, сперва вверх, а затем почти полого до селений Варнутка и Мискомья (или Мускомья), которая, как это водилось в Крыму, делилась на две слободы: верхнюю и нижнюю, большую и малую («биюк» и «кучук»). Путь до Варнутки шел лесом: буки по склонам и падям, дубы на равнинах. Травы в эту пору шли по второму разу, и в воздухе пахло сеном, по-татарски наметанным в лохматые стога. Кучук-Мискомья, где обычно делали полдневный привал, была лесной деревенькой у входа в узкую долину. Дорога шла по каменистому ущелью, по обрушенным замшелым камням. Здесь снова был хаос камней, кривых сосен и причудливо изогнутых лиственных деревьев. Пересекая эту долину, дорога обходила холмы и приближалась к небольшому, но глубокому морскому заливу, окруженному скалами и можжевеловыми зарослями, которые как тогда, так и в наши дни напитывают воздух крепчайшим запахом смолы. Место это, в те времена названием не обозначенное, впоследствии именовалось Бати-Лиманом, т. е. Глубоким Заливом[168]. Дорога поднималась над заливом дугой и вид с нее был великолепный. Можно предполагать, что здесь путники, спешившись, спускались к морю, чтобы выкупаться. Далее путь пролегал высоко над морем в виду его, затем дорога ныряла в лесок на подъеме к Кадыкою и, не доходя до этого селения, впоследствии ставшего предместьем Балаклавы, снова спускалась – к закрытой части Балаклавского залива. Остановились ли Пушкин и Раевские на ночлег в Балаклаве, или спешили дотемна добраться в монастырь, но Пушкин, несомненно, видел и этот удивительный залив, подобный узкому бассейну, наполненному до краев, и казармы греческого батальона, устроенные здесь веленьем Потёмкина, и городок, разбросанный по низменной части берега, и крепостную стену с башнями со всех сторон, опоясывающую скалу, которая обращена к открытому морю. Кажется, уже в конце XVIII века кто-то из классиков отождествил пристань, в которую попал в своих странствиях Одиссей, с Балаклавским заливом:‹…› Денно и нощно шесть суток носясь по водам, на седьмые
В славную пристань вошли мы: ее образуют утесы,
Круто с обеих сторон подымаясь и сдвинувшись подле
Устья великими, друг против друга из темныя бездны
Моря торчащими камнями, вход и исход заграждая.
(Гомер «Одиссея», Х 80, 87–90, пер. В. Жуковского)
У капища богини-девы
Утро 7 сентября
Вечером 6 или ранним утром 7 сентября (если ночлег был в Балаклаве) Раевские и Пушкин продолжали свой путь через Кадыкой до так называемого Хутора по хорошей почтовой, а потом по «средней» проселочной дороге на юг, к мысу Фиолент. Путешественников, двигавшихся к морю по каменистому пустынному кряжу, уставших от камней бурой, выжженной к концу лета земли, потрясало неожиданное зрелище. Вдруг перед ними на горизонте возникал «позлащенный крест», и нужно было пройти еще около полуверсты, чтобы, по словам Муравьёва, «выйти из обмана и увериться, что это крест церковной главы Георгиевского монастыря, стоящего на уступе горы, к коему ведет спуск крутой и опасный на лошадях». Тропа продолжалась по довольно унылому полю, в конце которого виднелись казарменного вида строения во главе с небольшой церквушкой и высокой колокольней. Дорога подводила к самой колокольне и, пройдя сквозь нее, путники останавливались в изумлении. Они оказывались на площадке, которая балконом нависала над пропастью. Сумароков пишет об «открытом и господствующем над бездною деревянном переходе», спуске «к гонимым от Синопа, или Царя-града черным струям ‹…› к серебристому глазету ‹…› и отторженным от гряды гор чудовищным каменьям»[169], т. е. попросту о лестнице к морю и скалам. Эту лестницу с полусгнившими деревянными перилами отметил и Пушкин. Он писал: «Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили во мне сильное впечатление»[170]. Наиболее точно описывает Георгиевский монастырь знаменитый исследователь Крыма конца XVIII века академик Паллас, говорящий о греческом монастыре св. Георгия, лежащего в плоском углублении южного высокого берега Херсонеса, между мысом Айя-бурун и выступом скалистого Георгиева мыса. От верхнего уступа этого углубления берег, по словам Палласа, спускается к морю целым рядом террас и утесистых обрывов; на верхних террасах устроены жилища, на нижних – виноградники, кое-где растут и деревья, том числе и черный можжевельник. Скалы, у которых гнездилась обитель, имеют особенный цвет, не повторяющийся на побережье, они черно-красны, а море у скал сине-зеленое. По пологим сторонам монастырского кряжа шли ступени-площадки, крепленные каменной кладкой. Эти площадки позволяют задержать влагу и создают своеобразные сады-лестницы – диковину для глаз северянина. Такой сад был и при монастыре. Сумароков о нем писал: «Весь тот ужасающий отрез до берега, расстоянием на версту, покрыт по нисходящим ступеням фиговыми деревьями, дикими кедрами и виноградными кустами»[171]. Судя по гравюрам и картинам конца XVIII – первой трети XIX века, здесь были еще и тополи (на верхнем ярусе, где находились огороды и кельи монахов), а внизу у скал густые, лесные породы перемежались с кустами инжира и виноградными лозами. Весь монастырь составляли несколько келий в пещерах и меньше десятка домиков, в числе которых было двухэтажное здание трапезной и к стене прислоненный домик архиепископа. Опустевшие, полуобрушенные пещерные кельи свидетельствовали о том, что некогда число монахов было весьма велико. История монастыря, несомненно, здесь рассказывавшаяся, не могла не заинтересовать Пушкина. Ближайшие события были не менее любопытны, чем древние. Монастырь был греческий, православный, и в нем спасалось множество русских монахов. Когда русская администрация (Потёмкин) выселила южно-бережных греков на север в Приазовье, монастырь возмутился и не пожелал подчиниться петербургскому синоду. Архив, ценности, святыни были переданы константинопольскому патриарху, почти все монахи покинули обитель. Этот бунт привел к полному разорению всех зданий монастыря, причем гнев светлейшего сказался в том, что даже древнейшие памятники пошли на стройку казарм и помещичьих домов. К нескольким оставшимся на руинах монахам, с севера явились новые и кое-как пристроились на разоренном пепелище. Церковь была построена здесь уже в начале XIX века.Академик Паллас возмущался тем, что какие-то замечательные колонны были выкинуты из Георгиевского монастыря и разбиты. Одну, «нечаянно открытую» на монастырской земле беломраморную колонну видел в 1804 году и Сумароков. Видел он и старые кладбищенские плиты с именами монахов и датой конца XII века (такая греческая надпись приведена в «Досугах крымского судьи»). Всё это дает представление о размерах монастыря в период Киевской Руси. Легенды связали возникновение монастыря с Крещением Руси. История Тавриды подсказывала более раннюю дату, эпоху первых веков христианства, памятники которой сохранились на Ираклийском полуострове. Христианские базилики и монастыри побережья почти всегда были связаны с языческими храмами античности. В этом отношений место, где находился Георгиевский монастырь, особенно примечательно. Судя по находкам вокруг, Георгиевскому монастырю принадлежало всё побережье заливчика у мыса Фиолент. Но среди обломков Средневековья здесь, как и на всём побережье, обнаруживаются следы античной эпохи. Именно в восточной части залива Паллас обнаружил каменную кладку, принадлежащую временам языческим. Рассуждая об этих руинах, академик Паллас приходит к выводу, что здание это не могло быть крепостью из-за недостатка воды, а название находящегося вблизи мыса[172] и сведения, сообщаемые античным географом Страбоном, наводят его на мысль, что руины Георгиевского монастыря есть не что иное, как капище богини Дианы (Артемиды), где совершались человеческие жертвоприношения.
К чему холодные сомненья?
Я верю: здесь был грозный храм,
Где крови жаждущим богам
Дымились жертвоприношенья…
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена…
На пути в Бахчисарай
7–8 сентября
Ночевали они в Балаклаве, или их приютили монахи – так или иначе они могли посвятить этим местам лишь раннее утро 7 сентября. Возникал вопрос о том, по какой дороге ехал Пушкин из Георгиевского монастыря в Бахчисарай. На карте Мухина мы видим два пути: «среднюю», проселочную дорогу, т. е. хорошую верховую тропу, и почтовый тракт, пригодный для экипажей. Первая дорога пролегала через так называемый Хутор, Каменный мост и селение Черкес-Кермен (около 35 верст). Другая, экипажная, шла из Севастополя (43 версты) через Бельбек и Дуванкой. Хотя протяженность пути через Черкес-Кермен была меньшей, а чтобы попасть на Севастопольский тракт, нужно было еще добраться до Севастополя (11 верст от Георгиевского монастыря) – почтовая дорога давала преимущество во времени. Из Севастополя можно было ехать экипажами, а по хорошей дороге такая езда оказывалась быстрее, чем верховая по горной тропе (хотя бы эта тропа и именовалась «средней», проселочной дорогой). Не говоря уже об удобствах. Выбор экипажной дороги, вероятно, определился усталостью: как-никак генерал и его спутники уже третий день путешествовали верхом. К тому же Пушкин чувствовал себя плохо (видимо, у него был опять приступ лихорадки), и в Бахчисарай он приехал больным[173]. Желание взглянуть на Севастополь могло служить еще одним аргументом в пользу почтовой дороги. Правда, времени для осмотра не было, и взгляд на город мог быть лишь совсем беглым. Для нас Севастополь сейчас настолько оброс историческими воспоминаниями, что трудно представить, как можно не посвятить ему хотя бы несколько часов. Но в 1820 году Севастополь был интересен скорее самой своей молодостью (он возник всего тридцать восемь лет назад), своими бухтами и новым флотом, чем памятниками историческими. Античный и средневековый Херсонес как город-музей еще не существовал. На месте его был навал камней, огорчавший знатоков: Палласа, Муравьёва, Кёппена. Единственным обозримым историческим памятником были Инкерманские пещеры, руины монастыря эпохи первых христиан. Но туда надо было плыть катером к устью Узеня (реки Черной), и можно сказать с уверенностью, что Пушкин там не бывал. Добравшись из Георгиевского монастыря верхами до южной части города, Пушкин и Раевские, по-видимому, сели на катер (в ту эпоху – большая гребная лодка) и переправились через Северную бухту, откуда шла дорога на Бахчисарай. Муравьёв в своем «Путешествии» описывает этот «перевоз через большую гавань», на 14-весельном катере, после того как он прибыл в Севастополь экипажем из Симферополя. «Тут катер ожидал меня, и я поплыл», – повествует Муравьёв. Его доставили к пристани, «графскою названной» (в честь графа Войновича, одного из первых начальников Севастопольского порта). Если Муравьёву, лицу гораздо менее почтенному, чем генерал Раевский, был подан катер и отведен дом «на самом углу залива Артиллерийской бухты», то, несомненно, и генерал со своими спутниками был встречен так же, и ему были предоставлены и катер, и апартаменты для отдыха. Вероятно, и обед был подан не хуже чем Муравьёву, и Пушкин тоже отведал: «устерс, крабов, креветок, молов ‹…› кефали, сгомбрии[174] и морских игл»[175]. Переправой через залив и отдыхом в каком-нибудь из домов у «Графской пристани», вероятно, и ограничилось пребывание Пушкина в Севастополе. Он увидел, да и то мельком, лишь общий рисунок берега, причудливо изрезанного десятью бухтами и амфитеатр городка, рассыпанного по белесым холмам. Может быть, в памяти его запечатлелись белизна камня, белая пыль и синева морских заливов, и подобные пчелиным ульям слободские хижины, встроенные в пещеры. Насколько можно судить по истории Черноморского флота, Пушкин не мог быть поражен лесом мачт. Он увидел лишь несколько фрегатов, ботов, множество катеров, или попросту гребных лодок, флотских и рыбачьих. Глядя на Севастополь, обступивший заливы, и на сухую, поросшую полынью землю у Казачьей бухты, впору было вспомнить осаду византийского Херсонеса, которую учинил Киевский князь Владимир в конце X века. В экипажи сели не позднее полудня (иначе не могли бы оказаться в Симферополе утром 8 сентября, как о том свидетельствует запись Геракова). Укатанная дорога шла на север, к лесистым холмам селения Учкуй, по мосту через речку Бельбек, долина которой славилась своими садами и огородами еще во времена Крымского ханства. К следующему селению – Дуванкою – дорога обходила холмы, а за Дуванкоем довольно круто поднималась. «Селение прекрасное, – пишет о Дуванкое Муравьёв. – Тополи, минареты, чистенькие татарские домики, сады, окрашенные ручьями, искусственно проведенными для поливания виноградников»[176]. Путь от Бельбека к Каче и до самого Чурук-Су, мутной речонки в Бахчисарае, напоминал путешественнику уже не о «земле классической», но о ханском Крыме, о золотоордынском улусе, который с помощью Гиреев принес немало бедствий Русскому государству. Здесь то и дело появлялись минареты, тюрьбе (мавзолеи), чалмы и фески, венчавшие могильные столбики. Здесь в долине Качи были в то время еще видны основания и руины загородного дворца Гиреев и мечети магометанского монастыря. Когда-то (до конца XVII века) здесь был и посольский стан, где русские дипломаты месяцами, ожидали конца переговоров с ханом или калгой. Селение Азис, впоследствии ставшее предместьем Бахчисарая, окружало в то время еще не разрушенную мечеть, древнейшую в этих местах.Бахчисарай
7 сентября около шести часов пополудни – 8 сентября, раннее утро
Почтовая станция Бахчисарай находилась на пути из Севастополя в Симферополь, примерно там же, где и нынешняя автобусная. От нее, как и теперь, ответвлялась дорога в город, вполне удобная для экипажей. Каждый новичок, наслышанный об удивительном местоположении Бахчисарая, бывает разочарован пустынным и равнинным видом на Эски-Юрт и Азис, принимая их минареты и купола мечетей за бахчисарайские. Бахчисарай появляется перед глазами неожиданно за поворотом дороги, при спуске в узкую долину – проход в скалах, куда история поместила бывшую столицу Крымского ханства. Около шести часов вечера 7 сентября экипажи Раевских и Пушкина спустились в ущелье, над которым господствуют диковинные фигуры скал, осеняя его лилово-серой тенью. Улица, единственная в Бахчисарае, если не считать мелких проулочков, ползущих вверх, к скалам вела к Хан-Сараю, куда стремились приезжие и для осмотра, и для ночлега. До самого дворца тянулись лачуги, галерейки, торговые навесы (такие же можно было увидеть и в татарских деревнях), меж которыми высились, как бы стремясь к скалистому гребню, пирамидальные тополи, минареты и высокие трубы очагов, имеющие форму минаретов. В предсумеречное время, когда въезжал в Бахчисарай Пушкин, на улице было тихо и пустынно. Уже умолкла дневная музыка Бахчисарая, оглушительные звоны меди, глухие удары кузнечного молота. Не было никакой гульбы и ходьбы, обычной по вечерам в городах европейских: татарская молодежь, послушная старикам, не смела праздно шататься, женщины скрывались за глухими стенами домов, и лишь почтенные старики в чалмах и папахах сидели на циновках в маленьких открытых кофейнях, попыхивая трубками и попивая кофе. Проезжающим видны были под навесами горящий уголь очагов и проворные руки, орудующие медными кофейниками. Но ни розовая и желтая медь, ни чалмы, ни голоса муэдзинов, призывающих правоверных на молитву, не произвели, видимо, впечатления на Пушкина. Экзотика эта была уже не новой, знакомой по кавказским аулам, и память из всего увиденного в Бахчисарае отобрала нечто обобщенно характерное, затем проступившее в творчестве:…но не тем
В то время сердце полно было:
лихорадка меня мучила,
Бахчисарай – дворец садов. Из названия этого можно заключить, что, в сущности, Бахчисарай никогда не был городом в настоящем смысле, а лишь ханской резиденцией, вокруг которой расположились жилища всех, связанных службой дворцовой и военной. Бахчисарай, как город, и во времена ханов вызывал иронические замечания европейцев, чем, видимо, объясняется название «Эски-Париж», которое еще в довоенные годы можно было услышать от крымских старожилов. Хан-сарай представляет собой не один дворец, а соединение множества дворцовых построек: крепостных стен, башен, мечетей, гарема, покоев калги, знатнейших беев и высокочтимых улемов. Между всеми этими строениями и службами было множество лестниц, переходов, скрытых и явных, внутренних двориков-садов. Замок воинственных Гиреев, как все средневековые замки, был окружен глубоким рвом и имел подъемный мост, следы которого видны и сейчас. Сумароков в описании дворца краток. Он пишет: «Дворец есть собрание теремов, различных фасад и под различными крышками, которые, не имея снаружи ни правильностей, ни отличных украшений, являют собою веселое в Азиатском виде зданий»[177]. По ходу осмотра, видимо, общепринятому, Сумароков упоминает комнату, именуемую Диван, «где некогда величавый хан, поджавши ноги на парчовой подушке, или внимал ‹…› присланные к нему ферманы Султанские, или предписывал уставы трепещущей Тавриде, либо злоумышлениям своим против России полагал основания»[178]. Затем Сумароков говорит, что проходил через «многочисленные покои с позлащенными потолками, с великолепными седалищами, цветными узорчатыми окнами, египетскими рогожками, фонтанами и мраморными полами»[179], и, наконец, упоминает «харем» и «неотделенные от строений розовые садики с мраморными водометами и бассейнами»[180]. У Муравьёва описание более подробное, он пишет: «Я поведу тебя, мой друг, не из покоев, но так как должно от внешних ворот, в которые проезд с улицы, по мосту чрез узкую Грязную речку, Сурук-су». Он описывает и двор, и «граничащие с ним садовые террасы», и мечеть со службами по левой стороне, и всю правую сторону двора, застроенную дворцовыми, «смежными не одинаковой высоты, зданиями», и внутренний двор с железными воротами, ведущими в него, «в аравском вкусе украшенными». Он приводит и подписи на этих воротах. Одна из них: «Основать сии великолепные врата повелеть соизволил владетель двух морей и двух областей, Гаджи-Гирея сын Менглы-Гирей султан сына султана 953 года и мраморный помост перед входом наверх, и мраморные чаши фонтанов, и широкий коридор от левого угла противоположной входу стены, ведущей прямо в домовую ханскую божницу», и «комнату, где диван вокруг стен, до половины покоя, с мраморных посреди оного водометом ‹…› убежище прелестно прохладою в знойные часы, когда раскаляются от жару окружающие Бахчисарай горы», и ханский Диван, «где собирался Государственный Совет»[181]. Муравьёв дает и некоторое понятие о внутренней архитектурной отделке, показывая, впрочем, не большее чем у Сумарокова, понятие об «аравском вкусе» и подделках под него в конце XVIII – начале XIX века. Он пишет о том, что «главные залы освещены с трех сторон», что двери «неприметны между пиластрами аравского вкусу, между коими и шкафы так же неприметные», о потолках столярной работы с тоненькой вызолоченной решеткой, лежащей на таковом грунте, о лепных украшениях в виде «чаш с плодами, с цветами или деревьев с чучелами разных птиц», о рогожках из тростника «вместо ковров на полах кирпичных или каменных», об узорчатых стеклах в окнах, и глубокомысленно заявляет, что это «любимое украшение рыцарских замков, без сомнения занятое европейцами от восточных народов во время крестовых походов»[182]. После всех этих подробностей описание Муравьёва выводит путешествующего мысленно по дворцу – в конец двора, к террасам, где растут «плодоносные деревья, виноград на решетках» и где прозрачные источники «с уступа на другой» льются в каменные бассейны, а затем и на кладбище «Ханов, и Султанов владетельного дома Гиреев», где они «покоятся под белыми мраморными гробницами, осененными высокими тополями, ореховыми и шелковичными деревьями». Наконец, «прежде нежели оставить сию юдоль сна», Муравьёв отправляет своего читателя «на холм влево от верхней садовой террасы, на коей стоит красивое здание с круглым куполом: это мавзолей прекрасной грузинки, жены Хана Керим-Гирея»[183]. Раевские и Пушкин осматривали дворец в том же порядке, в каком показывали его Сумарокову и Муравьёву. Хотя Пушкин и пишет, что, увидев общее запустение дворца, он не хотел подробного осмотра и Николай Раевский повел его «почти насильно… по ветхой лестнице в развалины гарема и на ханское кладбище», тем не менее он видел весь дворец и довольно точно запечатлел этот осмотр в стихах поэмы:
Среди безмолвных переходов
Бродил я там, где, бич народов,
Татарин буйный пировал
И после ужасов набега
В роскошной лени утопал.
Еще поныне дышит нега
В пустых покоях и садах;
Играют воды, рдеют розы,
И вьются виноградны лозы,
И злато блещет на стенах.
Я видел ветхие решетки,
За коими, в своей весне,
Янтарны разбирая четки,
Вздыхали жены в тишине.
Я видел ханское кладбище,
Владык последнее жилище.
Сии надгробные столбы,
Венчанны мраморной чалмою…
В прохладе сладостной фонтанов
И стен, обрызганных кругом,
Поэт, бывало, тешил ханов
Стихов гремучим жемчугом.
На нити праздного веселья
Низал он хитрою рукой
Прозрачной лести ожерелья
И четки мудрости златой.
Любили Крым сыны Саади,
Порой восточный краснобай
Здесь развивал, свои тетради
И удивлял Бахчисарай…
Пушкин явился в Бахчисарай, вспоминая легенду, слышанную, по-видимому, еще в Петербурге «о странном памятнике влюбленного хана», о фонтане слез, который он воздвиг в память прекрасной пленницы своей Марии Потоцкой. Именно с этой легендой связан был для Пушкина Бахчисарай, так же как Керчь с мифами о Митридате, а Георгиевский монастырь с преданием о капище Артемиды. Комментируя «Отрывком из письма» свою крымскую поэму, Пушкин пишет: «Я прежде слыхал о странном памятнике влюбленного хана. К*** поэтически описывала мне его, называя, la fontaine des larmes»[188]. Легенда о Потоцкой была в то время весьма популярна. О ней же пишет и Муравьёв, скептически ее опровергая реально существующим в Бахчисарае мавзолеем, который хан Керим-Гирей возвел в память своей любимой супруги Дилары-Бикеч, якобы грузинки[189] по происхождению. Муравьёв сообщает о необыкновенной любви Крым-Гирея и о том, что «безотрадный Керим соорудил любезной памятник сей, дабы ежедневно входить в оный и утешаться слезами». «Странно, – продолжает Муравьёв, – что все здешние жители непременно хотят, чтобы эта красавица была не грузинка, а полячка, именно какая-то Потоцкая, будто бы похищенная Керим-Гиреем. Сколько я ни спорил с ними, сколько ни уверял их, что предание сие не имеет никакого исторического основания и что во второй половине XVIII века не так легко было татарам похищать полячек, все доводы мои остались бесполезными – они стоят в одном: красавица была Потоцкая»[190]. Рассуждение Муравьёва свидетельствует о том, что легенда, с которой Пушкин приехал в Бахчисарай, и которая легла в основу его поэмы 1822–1824 годов, была распространенной и упорно повторялась жителями Крыма. По-видимому, сам Муравьёв, узнавший о мавзолее прекрасной грузинки от своего гида-переводчика Ананьича, здесь же в Крыму от других лиц слышал легенду о пленнице-полячке. Вопреки мнению Муравьёва легенда эта имеет исторические корни. Так, турецкие историки сообщают о том, что крымский хан Фетх-Гирей (30-е годы XVII века) пригнал из одного своего похода дочь польского магната и что она, находясь в Бахчисарайском гареме, отказалась принять мусульманскую веру. Пленница эта не отличалась красотой и не зачахла в гареме – судьба ее была иной, чем у легендарной Марии Потоцкой. Однако исторический факт мог обрасти более увлекательными подробностями. Ничего антиисторического не было и в том, что героем легенды стал вместо Фетх-Гирея его потомок Крым-Гирей (60-е годы XVIII века). Напрасно Муравьёв таким авторитетным тоном пишет о том, что татары не могли в конце XVIII века похищать полячек, очень могли. В 1768 году Крым-Гирей буквально залил кровью польские земли и угнал большое количество и польских, и украинских пленников. Известно, что как раз из-за количества пленных, взятых каждым татарином, хан проиграл эту кампанию и вынужден был отступить. Поход вызвал особое возмущение именно у поляков, так как был предпринят – по уговору в Стамбуле – против Российской империи, якобы в защиту конфедератов. Тогда, как это обычно бывает, и всплыли в памяти многовековые обиды, нанесенные Польше Крымским ханством. Именно в эти и ближайшие годы могла распространиться легенда о некоей Потоцкой, когда-то взятой в плен татарами. Может быть, она распространялась семьей Потоцких (одна из ветвей этой фамилии принадлежала петербургскому «высшему свету») и стала популярной в дни присоединения Крыма к России и знаменитого «шествия» Екатерины в Тавриду. В том виде, в каком легенда была рассказана дамой К***, она, разумеется, имела характер изящно-светский. Однако это не значило, что в ней не было глубоко народного смысла, близкого украинским песням (думам), в которых рассказывается о полонянках, угнетаемых нехристями и т. п. Юная полька, противопоставленная свирепому хану, была ближе к народному образу, чем экзотическая любовница хана с турецким именем Дилара-Бикеч. Вот почему крымские жители и «стояли на своем», и доводы Муравьёва «остались бесполезными». Эту народную подоплеку легенды, на первый взгляд похожей на светский анекдот, почуял и Пушкин, чем и объясняется его равнодушие к историческим истинам, которые сообщает Муравьёв. В приложении к «Бахчисарайскому фонтану» Пушкин вежливо цитирует ученые рассуждения Муравьёва и здесь же, в «Отрывке из письма», замечает вежливо, что не вспомнил[191] о памятнике ханской любовницы (т. е. о мавзолее Дилары-Бикеч), «о котором говорит М.», а то бы непременно им воспользовался, когда писал поэму. По существу же, Пушкин и здесь оспорил «холодные сомненья» Муравьёва, как и в «Послании к Чаадаеву». В бахчисарайском дворце был другой памятник, пусть не подлинный, но выражающий тему легенды. Пушкин о нем написал так:
Опустошив огнем войны
Кавказу близкие страны
И села мирные России,
В Тавриду возвратился хан
И в память горестной Марии
Воздвигнул мраморный фонтан,
В углу дворца уединенный.
Над ним крестом осенена[192]
Магометанская луна
(Символ, конечно, дерзновенный,
Незнанья жалкая вина).
Есть надпись: едкими годами
Еще не сгладилась она.
За чуждыми ее чертами
Журчит во мраморе вода
И каплет хладными слезами,
Не умолкая никогда.
Так плачет мать во дни печали
О сыне, падшем на войне.
Младые девы в той стране
Преданье старины узнали,
И мрачный памятник оне
Фонтаном слез именовали.
Последние впечатления
Утро 8 сентября – 14–15 сентября
В Бахчисарай Пушкин и его спутники прибыли засветло 7 сентября и, следовательно, могли осмотреть дворец в тот же день, а может быть, и на рассвете 8 сентября. Ночлег в Бахчисарае всем приезжающим был обеспечен в одном из флигелей дворца, и вряд ли был смысл являться в Симферополь ночью. Выехав из Бахчисарая часов в шесть-семь утра, Пушкин и Раевские могли уже к десяти или одиннадцати быть в Симферополе. Гераков застал генерала у общих знакомых, где и остановился Раевский, около полудня. Почтовый тракт из Бахчисарая в Симферополь был прост. Он шел по старому, хорошо утрамбованному пути. Эта дорога соединяла ханскую политическую резиденцию с Акмечетью – резиденцией ханской семьи: в бахчисарайском дворце жил только хан и для услады его был гарем, ханские дети там не жили. От Бахчисарая до Симферополя (бывшего города Акмечеть) было не более 35 верст. Муравьёв назвал путь из Симферополя в Бахчисарай «прелестным путешествием по излучистым, узким долинам, окруженным живописными горами»[193]. Нельзя сказать, что характеристика эта точна. Горы далеки от дороги, они лишь окаймляют ее с юга, и в разных местах встают легкими, холмистыми грядами. Долину Альмы вряд ли можно назвать узкой, напротив она свободна, пространна. Что касается живописности, то прелесть этого пути в мягкой равнинности, в травах, до осени сохраняющих сине-зеленую свежесть (благодаря долго цветущему шалфею). Фруктовые сады в ту пору, когда ехал Пушкин, уже рдели, желтели, розовели яблоками – гордостью альминской долины. Впрочем, всё это, вероятно, лишь мелькнуло перед глазами Пушкина, усталого и больного лихорадкой.Вид Симферополя на акварели Мевиля (1816) являет собой маленький городок с возвышающимися кое-где минаретами (их шесть). На первом плане изображены барашки, чабан, татары на лошадях, мчащиеся во весь опор, татарское кладбище. На гравюре де Палдо и Сергеева (1802) город имеет совершенно иной характер, хотя «съемка» сделана примерно с той же стороны, что и мевилевская, только несколько ближе к самому городу. Мевиль живописал татарский городок Акмечеть, де Палдо и Сергеев стремились воссоздать русский город Симферополь. Им удалось показать даже особый, мелкопоместный дух Симферополя. На первом плане этой гравюры два добротных больших усадебных дома среди буйно растущих рощ-садов. Коровы, мирно пасущиеся на лугу за садами, и пахарь с плугом поодаль дополняют усадебный колорит. А сзади, как опора этого усадебного быта, казармы с марширующими солдатами, губернские «присутствия» и новенькие дома чиновников, окружающих новенькую церковь. Мечеть с минаретом и чабан со своими барашками занимают на этом изображении скромные места. Это не Акмечеть, а губернский город Симферополь, «соединяющий»[194] пестрый разброд Таврической губернии. Хотя гравюра 1802 года сделана за восемнадцать лет до приезда Пушкина, она лучше передает тот Симферополь, который он увидел. Пушкин видел Симферополь мельком и, если запомнил, то лишь в чертах, характерных для любого нового русского городка южных губерний. Подобно любому из них, Симферополь строился с удручающим однообразием, в духе поместно-чиновного уклада тогдашней России. Впрочем, чиновник Гераков находил, что город, хоть и «чистенький», и довольно большой (тридцать девять улиц и переулков), но «неправильно выстроен». По его описанию мы можем более или менее судить о характере Симферополя пушкинских времен. Гераков сообщает, что в Симферополе строения «большею частью каменные», что город «не мощен и потому очень грязен во время дождей», что «Салгир река, прославленная плаксивыми путешественниками ‹…› в сие время ручей, менее ручья, ибо и утки ходят поперек оного, а плавать не могут», что на базаре Симферопольском «весьма не чисто», хотя «фруктов множество». Остальной товар, по мнению Геракова, «незначущий»[195]. Словом, Гераков сам не знает, что с ним было б «в столь прескучном городе»[196], если бы не общество, оказавшееся избранным. В этом отношении Симферополь не был похож на другие российские губернские города, как они описаны у Гоголя или у Достоевского. Сюда еще нельзя было направить какого-нибудь фон-Лембке, и персонажи «Ревизора» или «Мертвых душ», хотя и водились уже в должном количестве, но тон задавали люди мыслящие, преобразователи молодой Тавриды, желающие «оставить свое имя в сем необразованном краю»[197]. Губернатор Александр Николаевич Баранов собирал вокруг себя людей знающих, полезных для края, и хотя деятельность их была ограничена распоряжениями петербургского начальства, а иногда и происками местных богачей, недовольных нововведениями (как это было с Броневским в Феодосии), кое-что удавалось сделать. Гераков пишет о том, что Баранов читал ему «свои обдуманные планы, целью имеющие благоденствие Тавриды»[198] и «Броневского мысли о южном береге Крыма», которые сводились к «обдуманному предположению…» что, когда всё выполнится, «тогда явится фруктовый сад на 250 верстах, достойный величия и славы России». Эти проекты и мысли, несомненно, слышал и Пушкин, оказавшийся вместе с Раевским у гостеприимного губернатора (Баранов писал о Пушкине своему другу А.И. Тургеневу в Петербург). Из «Путевых записок» Геракова мы приблизительно узнаём о просвещенных симферопольских помещиках, не слишком крупных, скорее дачниках в нашем понимании, любителях и патриотах Крыма, которые составляли круг Баранова, друга многих декабристов, приятеля братьев Тургеневых и Вяземского. Именно в этот круг и попали, приехавшие в Симферополь Пушкин и Раевские. Гераков свидетельствует о том, что генерал Раевский остановился у профессора химии Дессера, французского эмигранта, «друга и товарища славного химика Лавуазье»[199]. Дессер жил «за Салгиром», в той части Симферополя, которая была тогда загородной, усадебной, где разводились сады и строились дома, не слишком большие, но поместительные: с гостиными залами, оранжерейками, словом, на помещичий лад. Сады эти и усадьбы «за Салгиром» располагались в соседстве друг с другом примерно на той линии, которая сейчас именуется бульваром им. Франко. Другие из этих маленьких поместий находились вблизи нынешнего Ялтинского шоссе, тянулись по берегу Салгира. По соседству с Дессером жил и знаменитый врач Мильгаузен, оставивший по себе особую память в Симферополе. Гераков пишет, что Мильгаузен «навсегда здесь поселился, выстраивает дом, рассаживает сад, лечит без денег и успел в короткое время приобресть любовь и почтение всех»[200]. Неясно, где именно жил в Симферополе Пушкин, так же как неизвестно и то, сколько времени он там оставался. У Дессера, по каким-то их дружеским связям, остановился генерал Раевский, может быть, с сыном, но вряд ли еще и с Пушкиным. Обычно приезжие чиновники, не имеющие пристанища в Симферополе, останавливались в губернаторском доме. Гераков в записках сообщает, что предупреждал о своем приезде, и Баранов отвел ему три комнаты у себя. Нет сомнения, что Баранов знал Пушкина и как поэта, и как друга своих ближайших друзей. Кроме того, он был обязан принять участие в Пушкине-чиновнике, едущем по месту назначения. Весьма вероятно, что Баранов был знаком с Пушкиным лично, он мог встречаться с ним в 1818 году в доме братьев Тургеневых еще до того, как принял свой губернаторский пост. Итак, Пушкин, скорее всего, остановился в доме у Баранова и был, несомненно, поручен наблюдению врача Мильгаузена, так как приехал больным. Гераков пишет о своем приятеле, который явился в Симферополь «желтый, одержимый лихорадкою» и Баранов тотчас пригласил доктора Мильгаузена, который, прописав больному лекарство и уложив его в постель, принялся наблюдать за ним. Можно предполагать, что то же самое произошло и с Пушкиным, и что припадок лихорадки задержал его в Симферополе на несколько дней, но так как срок его отпуска кончился, он уехал еще больным. Об этом известно из сообщения Баранова его петербургским знакомым. Баранов сообщал, что Пушкин-поэт был у него с Раевским и что он отправил его в лихорадке в Бессарабию. Из этих слов можно заключить, что Пушкин уже не мог по дороге задерживаться и должен был явиться в Кишинев. Биографы Пушкина делали вполне вероятное предположение, что дней шесть-семь Пушкин всё-таки отдыхал в Симферополе и, выехав оттуда 14 или 15 сентября, вполне мог добраться до Кишинева в течение следующих пяти-шести дней (туда он прибыл 20 или 21 сентября). Так или иначе, пребывание в Симферополе было не очень развлекательным, хотя, вероятно, Пушкин видел тех людей, с которыми встречался Раевский, познакомился с приезжими – графом Ланжероном, сенатором Бороздиным, с местными таврическими патриотами Мильгаузеном, Дессером. Вероятно, несмотря на болезнь, он прислушивался к беседам о Крыме, слышал если не самые чтения проектов и планов Баранова и Броневского, то суждения о них Раевских. Тогда-то Пушкин и утвердился в мнении о Крыме как о «стороне важной и запущенной».
Из Симферополя Пушкин отправился к Перекопу, древним воротам Крыма. Теперь он ехал, по-видимому, один (иначе непонятно выражение Баранова «отправил Пушкина»), уже без привилегий, которыми пользовался, едучи с генералом Раевским, ехал почтовым трактом на перекладных. Можно представить себе, что душевное состояние Пушкина, отправившегося к месту своей ссылки, к службе, которая не предвещала ничего хорошего, было не таково, чтобы наслаждаться видами. Между тем, места, по которым шла дорога, были как-то замечены Пушкиным. Муравьёв, отзывался об этих местах, как о «плоской, низкой равнине», заявляя, что на пространстве 130 верст до Перекопа «не видно было других селений по дороге, кроме станций». По обыкновению Муравьёв неточен: станции Сарабуз, Айбар и Дюрмень были и в 1820 году не только станциями, но и селениями, где жили татары-ногайцы, хотя небольшие селения эти не были похожи на огромные стойбища, как в ханские времена. Татарские деревни с тропами, идущими к большой дороге, составляют густую паутину на карте Мухина. Их сотни. Сразу за Симферополем начиналась эта россыпь ногайских стойбищ, которые теперь были превращены в скотоводческие селения, большие и малые (некоторые о две-три сакли): Бахчиели, Кият-Сарай, Кият-Актачи, Карыкият, Сарабуз, Картымышик, Менлерчик, Айбар, Каракоджа, Токулчак, Дюрмень, Джалишай, Юшуй, Гузла, Армянский базар (в трех верстах от Перекопа). Но глинобитные сакли этих деревень были так приземисты, так бесцветны и лишены каких-либо признаков зелени, что сливались с горбами лежащих верблюдов, стогами сена или кучами кизяка. По серо-желтому пространству солончаковой степи перед глазами едущего то и дело возникали стада верблюдов и верблюды, впряженные в арбы. Эти «корабли пустыни» создавали иллюзию больших пространств, делали степь величественной. Хотя ехали обычным по всей России почтовым трактом на перекладных лошадях, с обычными остановками через каждые 35–40 верст, всё это пока было непохоже на российскую действительность: и возницы, и станционные смотрители, и встречные. Скрипели арбы, из которых выглядывали чалмы, чадры и фески, слышались понукания верблюдов и волов, и лошадей: «чу», «айда» и т. п. Остановки и ночлег также не были похожи на российские, и еще меньше на гостеприимство южнобережных горцев, для которых путники были желанными и выгодными гостями. Здесь было другое: почтовая служба. К ней ногайцы относились со скрытым недоброжелательством. Сумароков пишет, что в Треаблане, где у него был ночлег, в темноте «с добрые полчаса расхаживал по селению, с добрые полчаса потом стоял у дверей отведенной квартиры», пока возвратился к ней. Пушкин ехал по установленному почтой порядку, и первой остановкой с отдыхом для него было именно это селение Треаблан. Ночлег был в Дюрмени, а следующий отдых в Перекопе. Так же как Сумароков, он попадал на станциях в руки не слишком заботливого он-баши, в общество татар, раскуривающих свои трубки у круглых столов, на которые ставили и еду. Утром следующего дня (по выезде из Симферополя) Пушкин увидел «сиваш», знаменитые соляные озера, к которым тянулись с разных сторон арбы. Озера с их светлой голубизной и белохрустальными заберегами показались вправо от дороги за селением Юшун. У маленькой деревушки Гузла, по обыкновению, лежали горы соли. Перед Пушкиным мелькнули одно за другим три соляных озера: Тарканское, Красное и Старое. Незадолго до Перекопа возник маленький городишко Армянский базар, место соляного и обменного торга. Муравьёв пишет: «В трех верстах от Перекопа, я проехал чрез Армянский базар, селение, в котором жиды, греки, армяне и немного русских торгуют всякою всячиною, наипаче же овчинками, или, как называют их, крымскими смушками. Это местечко, хотя не может равняться с малороссийскими, однако же несравненно более похоже на город, нежели и самый Перекоп»[201].
Перекоп, древняя крепость Тафре, которую татары именовали Ор-Капи, – ворота в Крым. Пройдя их, путешественник расставался с полуостровом. Это ощущение порога, переступив который, оказываешься уже на большой земле, несомненно, явилось и у Пушкина. Перекопские ворота как порог Тавриды предвиделись еще тогда, когда Пушкин сидел в Тамани и видел вдали берег полуострова. Пушкин, прибыл в Перекоп днем и, судя по обычному расписанию этого почтового пути, должен был ждать, пока сменят лошадей. В Перекопе обычно обедали. Казармы, марширующие солдаты, казак, стоящий на страже у какого-то склада, и мирные домики слободы, «на большой дороге лежащей», где жили «соляные приставы» и «торгующие мещане», составляли мирную действительность этой когда-то грозной для России крепости. Муравьёв пишет: «Татарская Ор-Капи стоит по ту сторону рва, от слободы на восток, в близком расстоянии от каменных ворот»[202]. Вряд ли Пушкин, увидав издали древний вал и ворота, проникся теми же чувствами, какие обуревали Муравьёва, который сразу сделал экскурсию в сторону и углубился в древнюю и недавнюю историю. Почти наверное можно сказать, что Пушкин не отлучался от станции:
…не тем
В то время сердце полно было…
Избранные письма Дмитрия и Зинаиды Лихачёвых Ирине Медведевой-Томашевской в Крым (1964–1973)
Д.С. Лихачёв – И.Н. Медведевой-Томашевской[203] 8 ноября 1964 г. Ленинград – ГурзуфЯ вернулся совсем недавно, и сразу оказалась гора неотложных дел. Но вот есть минутка, чтобы написать Вам письмо и от всей души пожелать Вам скорей выздоравливать. Я пробыл в Югославии почти два месяца (без недели)[204]. Был во всех республиках. Мне выдали деньги на путешествие, и я сам покупал билеты, платил за гостиницы, ездил – куда хотел, на «ходу» меняя свой маршрут. Я был в Загребе, Любляне, Риеке, Задаре (итальянская Зара), Дубровнике (ехал туда пароходом, по пути видел Корчулу и Сплит), Которе (Котарро), Будве, Сен-Стефано, Цетинье, Титограде, Пече, Приштине, Дечанах, Грачанице, Охриде, а кроме того с экскурсией ездил в Карлово, в Жичу, Лазаревицу, Троншу, Раваницу, Манасию (Ресаву) и др. места. Познакомился со страной и с очень интересными людьми из разных слоев, много читал интересного в библиотеках Белграда, еще больше интересного слышал. В театрах и кино я не бывал, так как берёг время для библиотек (они в Белграде открыты до 10 вечера). Всего самого интересного и не расскажешь в письме. Это была моя самая интересная поездка (Югославия интереснее Болгарии, а Черногория даже еще более гостеприимна). Снял Югославию в кино, на цветные диапозитивы и просто сфотографировал многое. Интеллигенция там есть очень высокая (особенно художники), крестьяне живут бедно, а турки и албанцы даже просто нищенски. Я это всё видел, так как ездил сам. В Цетинье и в других местах, не посещаемых туристами, плохо с дешевой едой (дорожает масло, сыр, мало хлеба). Экономия видна во всем. И всё-таки общее направление их жизни, отношение к культуре и к другим[205] вопросам, охрана старины, разумность образования – радуют. Погода на море была жаркая, я купался. В Черногории шли страшные дожди, но было тепло. Необыкновенно понравилась мне Корчула (Корфа), откуда Максим Грек, Марко Поло, София Палеолог, Дубровник и Охрид (озеро там потрясающей красоты). Но и остальное было великолепно. Подробнее Вы посмотрите и послушаете, когда я Вам покажу у нас фильм. Мои все Вам шлют самые горячие пожелания выздоровления и приветы. Не хворайте, дорогая Ирина Николаевна! Лева[206] по моим впечатлениям (чисто интуитивным) пьет меньше, стал серьезнее. Он меня замещал в мое отсутствие и был, кажется, во всех отношениях разумен. Это меня очень радует. Ему надо писать докторскую диссертацию. Любящий Вас Д. Лихачёв.
З.А. Лихачёва и Д.С. Лихачёв – И.Н. Медведевой-Томашевской 10 ноября 1964 г. Ленинград – Гурзуф
Дорогая Ирина Николаевна, мне очень стыдно, что я Вам не написала письма, но Дмитрий Сергеевич Вам послал письмо 6 ноября. Дмитрий Сергеевич вернулся из своего путешествия вполне здоровым. Он загорел, но, к сожалению, не пополнел, хотя он уверяет, что пополнел. Поездкой он очень доволен, много рассказывал интересного. Фильм, снятый в Югославии, уже готов, но снимался он на плохой пленке, а поэтому получилось много темных мест. Белград снят хорошо, но остальные города хуже. Возможно, фотографии будут лучше. Несколько раз нам пришлось принимать гостей (поляков и югославов). Всё это, конечно, не оправдание. Как Ваше здоровье? Как глаза? Скоро ли Вы поедете в Дом Творчества в Ялту? У нас были холодные дни, было так холодно, что мы ходили в зимнем пальто, но сегодня потеплело. Нам обещают дать новую квартиру в 6 комнат, на 2-м Муринском. Общая площадь квартиры = 100 м. Будет у нас спальня, и мы будем спать на кроватях, а не на диванах. Недавно мы были у Максимовых[207]. Там была А.А. Ахматова. Я ее видела первый раз и была поражена ее внешностью и кокетливой манерой держаться, не скажешь, что ей 75 лет. В первых числах декабря она едет в Италию. Кроме того, она выбрана доктором Оксфордского университета. Она сказала, что Иосиф приезжает в Л‹енингра›д. Это хорошо! На днях нам обещают дать ордер на квартиру, и тогда будем переезжать. Сколько будет хлопот! Дорогая Ирина Николаевна, желаю Вам здоровья и всего, всего хорошего. Целую Вас. З. Лихачёва.
Дорогая Ирина Николаевна! Постепенно вхожу в норму, и работа входит в нормальное русло, но всё же работы много. У нас мрачно, темно, грязно. Анна Андреевна выглядит хорошо. Познакомился я у Максимова и с Надеждой Яковлевной Мандельштам. А какая богатая умственная жизнь в Югославии! Какие разные у них течения! Союз писателей у них реорганизуется сейчас: в союзе будут группировки не по жанрам (переводчики, критики, поэты и пр.), а по направлениям. Будут группы с разными названиями. У них культивируется разнообразие и отсутствие принуд‹ительного› единства. Это очень интересно. Объявлена борьба с централизацией. Нет согласованности в работе различных научных институтов. Множество выставок, и есть выставки, спец‹иально› посвященные новым направлениям в искусстве. Шлю Вам сердечный привет. Выздоравливайте скорей. Ваш Д. Лихачёв.
З.А. Лихачёва и Д.С. Лихачёв – И.Н. Медведевой-Томашевской Конец 1964 г. Ленинград – Гурзуф
Дорогая Ирина Николаевна! Очень обрадовались Вашему письму. Из письма чувствуется, что дело идет на поправку и что Вы полны душевных сил. Хорошо, что Вы ощущаете связь с природой, с птицами Вашего сада, с погодой, с видами, открывающимися из Вашего прекрасного дома, и хорошо, что Вас тянет к письменному столу. У нас наступили морозы, темно, как и всегда в это время года у нас. В институте господствует всё та же настороженность по отношению друг к другу. Бурсов[208] выпустил книгу о национальном своеобразии русской литературы (верно, Вам пришлет). Других книг я еще пока не видел, так как очень занят подгонкой дел, затормозившихся с моим отъездом в Югославию. Успел всё же прочесть «Хранителя древностей»[209]. Сперва мне показалось, что вещь беспомощная, нечто вроде неумелых мемуаров, но потом я постепенно стал понимать, что многое в этой неумелости – сознательный литературный прием, и к концу чтения я был в восторге. Правда, созданная им картина очень мрачна. Атмосфера, созданная этой вещью, продолжает окружать тебя на улице, [в] учреждении, жутко жить. Наш новый адрес будет: 2-й Муринский проспект, д. 44, кв. 16. ‹…› Всегда Ваш Д. Лихачёв. ‹…› Желаю Вам всего хорошего, дорогая Ирина Николаевна. Целую Вас. З. Лихачёва. Приветы от всех наших.
Д.С. Лихачёв – И.Н. Медведевой-Томашевской Конец 1964 г. Ленинград – Гурзуф
Дорогая Ирина Николаевна! Очень огорчило Ваше последнее письмо. Бог даст, всё будет хорошо, и это Ваша последняя тревога. Ведь високосный год кончается. Произойдет перелом, дело пойдет к свету, к весне. Всё-таки я не совсем ясно представляю – как Вы живете одна. Постоянно ли у Вас кто-нибудь ночует? Мы всё еще не переехали. Перевезлись лишь наши книги, обеденный стол и один диван. Верно, теперь уж скоро. Без книг трудно работать. Я занимаюсь всякими чужими рукописями, и это очень утомляет. Хочется заняться уж своим делом, если только обстоятельства позволят. Перевозят нас мальчики. Много очень заботится и Юра[210], и особенно Сережа[211]; расставляют, измеряют, ремонтируют (разумеется, нанимая рабочих), развешивают лампы и пр. Квартира получается светлая и веселая, но я боюсь – как будет Мила[212] ездить на переполненных трамваях (Сереже близко, а все остальные будут ездить не в часы пик). Мечтаю о том, что у меня будет, наконец, свободнее время вечером и в воскресенье, и я смогу почитать. Сейчас живу воспоминаниями о прочитанном в Юг‹ославии› (я там по вечерам и днем иногда сидел в библиотеке и читал для души). Очень интересен Степун и еще: Берд‹яев›, Лосский, Бицилли, Осоргин. Читал я воспоминания Бенуа о балете и множество других вещей. Я тут затеял издание всех мемуаров А. Бенуа (в четырех томах). Это будет очень интересно и приоткроет перед многими иной мир. Вы, верно, читали уже первые два тома – они в Ленкниге были. Четвертый том в сокращении вышел на английском языке. А мы его издадим в русском оригинале полностью в «Лит. памятниках». Послал Вам «Досуг при свете лучины»[213] Не Бог весть что, но любопытно. Читал еще прозу Цветаевой. Вот какой мастер. Когда увидимся – я Вам расскажу. Будьте здоровы, дорогая Ирина Николаевна. Все Вам кланяются: Зин. Алекс., Вера[214], Мила. А Сережа напишет Вам особое письмо (он только что приехал из Новосибирска). Всегда Ваш Д. Лихачёв.
З.А. Лихачёва и Д.С. Лихачёв – И.Н. Медведевой-Томашевской 22 декабря 1964 г. Ленинград – Гурзуф
Дорогая, милая Ирина Николаевна, поздравляю Вас с Новым Годом! Желаю Вам здоровья и только здоровья. Я Вас вспоминаю каждый день. Милочка видела Настеньку[215], которая сказала, что Вам стало лучше и Вы 5-го января собираетесь в Ялту в Дом Творчества. Это известие нас всех очень порадовало, так хочется, чтобы это было правда. Мы все очень расстроены Вашим письмом. Хорошо, что у Вас много друзей в Гурзуфе, но очень жаль, что Вы заболели не в Ленинграде. Мы всё еще на старой квартире. 4-го декабря перевезли все книги, книжные шкафы, стол обеденный, книжные полки. Делали ремонт в новой квартире: циклевали пол, меняли обои, заделали дверь. Прибили все карнизы к занавесям, сделали новую входную дверь с замками. Повесили все люстры. Живем на старой квартире, потому что на новой квартире нет воды и газа. Дело в том, что всё не выдают ордера сотрудникам радиоинститута. Дмитрий Сергеевич чувствовал себя не очень хорошо. Начали делать уколы витаминов и кардиомина. После операции плохо с сердцем и нервами. Но из Москвы вернулся в хорошем настроении. Обстановка Пушдома очень действует на нервы. После Югославии вернулся в хорошем состоянии, но потом очень нервничал, плохо спал, несмотря на снотворное. Целую Вас. 3. Лихачёва. Дорогая Ирина Николаевна! Я только что вернулся из Москвы. Вечером 21-го был на концерте Андрея Волконского[216] в Доме Ученых. Билеты легко достал. Зал был неполный, но зато были все энтузиасты, и ему бешено аплодировали. Он выступал с целым небольшим оркестром молодежи. Дирижировал Маркиз. В программе был Бах. Еще одна новость. Когда осенью в Москве был Мазон[217], ему была дана официально на два дня работа Зимина[218] и стенограмма обсуждения. Вот результат: Мазон отказался от Иолля[219] как автора «Слова» и даже от XVIII века. Свою статью об Иолле в Rе́S[220] он переделал в корректуре. Теперь это будет статья просто об Иолле как культурном деятеле XVIII в.; вопрос об авторстве исключен. Но Мазон считает, что «Слово» сочинено в XVII веке. Он извлек из архивов Rе́S непринятую статью П.Б. Струве о «Слове», где П.Б. считает, что «Слово» создано в XVII в. Эту статью раньше Мазон отказывался печатать. Ну, слава Богу, француз вышел из Москвы, а из России-то мы уж теперь его прогоним! Сердечно поздравляем Вас с Новым Годом! Любящий Вас Д. Лихачёв. Мазон всё-таки молодец. Это ведь нелегко ему было. Вот эффект работы А.А. Зимина.
Д.С. Лихачёв – И.Н. Медведевой-Томашевской 18 марта 1965 г. Ленинград – Ялта
Дорогая Ирина Николаевна! Завтра еду в Польшу на 15 дней. Приезд в Варшаву, здесь еду в Торунь, из Торуни на 5 дней в Краков и остаток – в Варшаве. Буду читать лекции на тему «Структурные различия между древнерусской литературой и новой», «Худож‹ественные› сравнения в древнерусской литературе», «Этическая система Владимира Мономаха». Последняя лекция на тему моей будущей книжечки «Три этические системы древнерусской литературы (Мономах, Грозный, Аввакум)». Книга будет небольшая, о трех госуд‹арственных› моралях (этика взаимоотношения личности и государства, монарха и народа). Постараюсь очень аккуратно. Как-нибудь я расскажу, в чем тут дело. Приходится откладывать работу на эти темы, так как в первую очередь должен закончить книгу «Поэтика русск‹ой› литературы XI–XVII вв.». Выздоравливайте, набирайтесь сил. Ваш Д. Лихачёв. Все кланяются.
Д.С. Лихачёв – И.Н. Медведевой-Томашевской 20 октября 1968 г. Ленинград – Гурзуф
Дорогая Ирина Николаевна! Письмо Ваше нас и обрадовало, [и] огорчило (немного): значит, Вы не получили ни моего большого письма, ни № «Вопросов литературы» с моей статьей о внутреннем мире художественного произведения. С почтой нашей что-то странное: мои письма внутри города идут целую неделю, многие не доходят, пропадают и бандероли. Это не единственный случай. Я пробовал опускать в разные почтовые ящики: результат не меняется. Думаю поэтому, что виновато не наше почтовое отделение. Теперь не знаю, как Вам и послать этот номер: он уже распродан. Я послал Вам недели три назад. Интересного выходит сейчас очень мало. Вышел только «Бенуа размышляет…» Зильберштейна и Савинова, но достать эту книгу трудно. Мне достали один экземпляр, но я не рискую Вам его посылать почтой. Может быть, привезут еще из Москвы, тогда непременно пошлю Вам. С 22 ноября мы будем в Кисловодске. Если всё будет благополучно. В нашем институте выдвинули в академики Леонова[221] (по желанию Мих. Борис.[222]) и Твардовского. Мих. Бор. бросился в Ленинград и стремился всех уговорить, что выдвижение последнего серьезная ошибка. Но теперь, кажется, не годятся оба. В общем же я ничего не понимаю. В остальном новостей нет. Был я в Москве, навестил Петра Гр.[223] и Ю.Г.[224] Последний читать и работать не может. Сходить в парикмахерскую – для него событие. Очень жалко старика. А П.Гр., за которого мы беспокоились, благополучен, оживлен. Сын его[225], кажется, разошелся с женой[226], живет с родителями. В Мюнхене перевели ряд моих статей по новой литературе и издали. Назвали книжку ‹пропуск›. Переводчик объяснил мне так: советское литературоведение известно в ФРГ только формалистами. Надо было показать, что и после формалистов есть литературоведы. Я представлен как литературовед «после формалистов». Выбор статей мне не нравится. Если бы они мне сказали, я бы подсказал им другой состав сборника. Зин. Ал., Мила, Вера, Сережа и Юра шлют Вам сердечные пожелания полного здоровья. Недели три назад я Вам звонил утром, но никто не подошел. Зоя Борисовна[227] объяснила мне потом, что телефон у Вас наверху, и, пока Вы поднимались, телефонистка уже разъединила. Искренне Ваш Д. Лихачёв.
З.А. Лихачёва и Д.С. Лихачёв – И.Н. Медведевой-Томашевской 29 октября 1968 г. Ленинград – Гурзуф
Дорогая Ирина Николаевна, очень часто думаю о Вас. Как Вы себя чувствуете, поправились ли Вы после воспаления легких или всё еще чувствуется недомогание? Так хочется пожелать Вам здоровья и всего самого хорошего. Всё же в Крыму хорошо и тепло, а на даче у Вас замечательно. ‹…› Целую Вас. З. Лихачёва. Дорогая Ирина Николаевна! Знаете ли Вы наши новости? Вл. Ник.[228] снят. С нимвместе и другие – Бухмейер[229], глав. ред. Мих. Мих. и др. Это за фразу в статье Эткинда[230] о том, что в 30-е гг. крупные поэты занимались переводами. Вас. Григ.[231] заступился, но против него и Мих. Бор. Поэтому кресло под ним трещит. Кто у нас будет – неизвестно. Одни говорят – старый директор, а другие Бердников[232] вернется в Ленинград. Экспертная комиссия академиков (Мих. Павл.[233], Мих. Бор. и Виктор Максим.[234] рекомендовали в академики Леонова (не Твардовского). Мих. Павл. себя еще раз показал. Невесело. Наш друг[235], кажется, здоров и не хворает (с месяц назад об этом мне говорили). Дай-то ему Бог! С 28 ноября мы будем жить в Кисловодске. Я Вам послал «Мелкие произведения» Данте с «извещением» о получении, так как предыдущее письмо и бандероль до вас не дошли. Дойдет ли это письмо. Простите за почерк. Не хворайте! Надо поставить себе целью – прожить подольше. Это так важно! Будьте здоровы. Всегда Ваш Д. Лихачёв. Лева что-то болеет почками.
Д.С. Лихачёв – И.Н. Медведевой-Томашевской 28 июня 1969 г. Комарово – Гурзуф
Дорогая Ирина Николаевна, немного полегчало с работой, и я могу приняться за письмо Вам. По-видимому, выставка древнерусского искусства в Манеже в Москве сыграла свою роль, и в наших верхах начинают понимать значение древнерусской культуры. Выставка, говорят, сделана хитро: присоединено народное искусство. Это видно и по статьям в газетах. Присоединено даже скифское искусство как свидетельство вековечной талантливости русского (!) народа. Во всяком случае, наш выпуск Всемирной литературы попал в модную струю, и мы все получили благодарности от издательства. К несчастью, только мы получаем по 1 экз. на каждого автора плюс 5 экземпляров. И всё. Достать будет нельзя. Июль у нас, пишут, будет холодный. Пока погода не жаркая, но хорошая. Маленькая Зиночка[236] наслаждается жизнью, убегает, не слушается, много шумит и шалит. А так как Вера и Юра работают, то нам с Зин. Алекс. с ней трудно, а ведь домработницы нет, и Зин. Алекс. совсем плохо. 5-го приедет Мила и будет на даче до 21 июля. Это облегчит положение. Очень хворает Максимов. Он дряхлый старик. Выглядит лет на 80, а ведь мы с ним однолетки и вместе учились. У него полиартрит, но боюсь, что м.б. и что-то худшее. Он худ, едва может двигаться. Очень его жалко. Живет сейчас в Доме творчества. Будьте здоровы. Берегите себя. У нашего другого друга всё благополучно. Пока. Все мои Вам сердечно кланяются. Искренне Вас любящий Д. Лихачёв. Дмитриевым[237] пишу одновременно с этим письмом.
Д.С. Лихачёв – И.Н. Медведевой-Томашевской 14 октября 1969 г. Ленинград – Гурзуф
Дорогая Ирина Николаевна, только что приехали с З.А. из Болгарии. Были там 11 дней на торжествах. Принимали – как на Кавказе, с банкетами, возлияниями, театрами, путешествиями. Последнее было самое приятное. Самолетом из Софии нас доставили в Бургас, оттуда в Несебр, затем Варна, Золотой берег (ночевка), Тырново (ночевка), Шипка, Пловдив. Всюду встречаю самое высокое качество. Отдельно ездили в Рыльский монастырь (на предоставленной нам машине), еще в курорт Боровец и в Самоков. Утром, днем и вечером бывали в гостях. Я устал и сейчас чувствую себя плоховато. Застал у себя на даче оба Ваши письма. Вы правы, что о реализме у меня недоговорено. Не мог! Реализм значительно шире, чем он оф‹ициально› трактуется. Кафка и модернизм тоже реалисты. Я боялся, что если я включу реализм в свою схему, то модернизм будет признан формализмом и пр. А это не так. В «Новом мире» у меня печатается статья «Будущее литературы как предмет изучения». Там мало разъясняется в схеме, достаточно в статье о Барокко. В частности, я там провожу в теории литературы линию развития индивидуального начала. В реализме оно сильнее всего представлено. Но оно же представлено в других новых стилях, в частности в романтизме. От направления к направлению, от стиля к стилю индивидуальное начало растет. Естественно, что в романтизме оно очень сильно (но в реализме сильнее). И еще одно: великие стили постепенно мельчают и самоуничтожаются. Поэтому-то они и не равноправны. Если ренессанс представлен во всех областях жизни, то барокко отсутствует, напр‹имер› в философии. Уходит из многих областей классицизм. А реализм повторяется даже в поэзии. Он слабо представлен в музыке. Его нет в архитектуре, нет в садоводстве, балете и пр. Направления сужают свои границы и постепенно заменяются индивидуальными стилями. Мне жалко В.В. Виноградова[238]. Мы постоянно сереем и мельчаем. Что-то будет. Слышал, что наш друг здоров и благополучен. Рад этому. У нас дома тоже хорошо всё. Внучки растут. В ноябре собираемся в Кисловодск. У меня противные перебои в сердце. Будьте здоровы, дорогая Ирина Николаевна. Берегите себя, не утомляйтесь. З.А. Вам шлет сердечный привет. Любящий Вас Д. Лихачёв.
Д.С. Лихачёв – И.Н. Медведевой-Томашевской Сентябрь 1973 г. Латвия – Гурзуф
Дорогая Ирина Николаевна! Мы с Зин. Алекс. были в Варшаве на съезде славистов. Приехали и на следующий же день отправились в санаторий «Яункемери» на берегу Рижского залива, я – лечить хондрозы и спондилез. Не знаю, помогают ли сероводородные ванны, но погода здесь явно не помогает: дождь, ветер, сырость, ночью заморозки. И очень скучно. Публика серая. Работать тоже нельзя, так как из соседней комнаты доносятся весьма энергичные звуки радио. Единственная польза – уехали от забот, волнений и некоторых других служебных обстоятельств. Рад, что книга Льва Алекс. вышла. Ею много интересуются на западе. Видели Р.О. и его жену (Кристину)[239]. Он очень постарел. Произнес блестящий доклад (речь), после которого его увезли в больницу с аритмией, но на следующее утро выпустили. Говорили с ним (виделись в гостях и посидели вечер в кафе). Такое чувство, что повидались с ним в последний раз. Очень его жаль. Он какой-то был праздничный всегда, а сейчас уже не тот. Как Ваша основная работа и как Карамзин? Работайте, пожалуйста, спокойно, как бы для удовольствия, не думайте о сроках. Вернемся мы в Л‹енингра›д 26 сентября. Простите за плохой почерк. Пишу лежа, так как стола в палате нет! Сегодня поедем в Ригу в Домский собор на органный концерт. Будьте здоровы. Не торопитесь, не спешите, не думайте об обязательствах, берегите себя! Зин. Алекс. шлет Вам приветы. Всегда Ваш Д. Лихачёв. Видели в Москве Богатырёвых (были у них в день смерти Петра Григ.). Теперь ‹нрзб.› очень милая.
Вкладка
 Ирина Николаевна Медведева-Томашевская
Ирина Николаевна Медведева-Томашевская
 Обложка книги Ирины Медведевой «Русская Таврида» (1946)
Обложка книги Ирины Медведевой «Русская Таврида» (1946)
 Борис и Ирина Томашевские на даче в Коккозах. Конец 1930-х
Борис и Ирина Томашевские на даче в Коккозах. Конец 1930-х
 Борис Томашевский – «крымчанин по духу, пушкинист по призванию»
Борис Томашевский – «крымчанин по духу, пушкинист по призванию»
 1950-е
1950-е
 Борис Томашевский с внучками Машей и Настей. 1950-е
Борис Томашевский с внучками Машей и Настей. 1950-е
 Гурзуф
Гурзуф
 Ирина и Борис Томашевские с внуками Колей и Настей и собакой Ёлкой. Гурзуф, 1955
Ирина и Борис Томашевские с внуками Колей и Настей и собакой Ёлкой. Гурзуф, 1955
 Томашевские в Гурзуфе. 1950-е
Томашевские в Гурзуфе. 1950-е
 Маша и Настя Томашевские. Гурзуф, 1974
Маша и Настя Томашевские. Гурзуф, 1974
 Дмитрий Сергеевич Лихачёв с женой Зинаидой Александровной. 1963
Дмитрий Сергеевич Лихачёв с женой Зинаидой Александровной. 1963
 Почтовая карточка. Ленинград – Гурзуф
Почтовая карточка. Ленинград – Гурзуф
 Письмо Дмитрия Лихачёва Ирине Медведевой с автографом. 19 сентября 1968
Письмо Дмитрия Лихачёва Ирине Медведевой с автографом. 19 сентября 1968
 Николай Борисович Томашевский. Гурзуф, 1980-е
Николай Борисович Томашевский. Гурзуф, 1980-е
 Зоя Борисовна и Анастасия Томашевские. Гурзуф, 1995
Зоя Борисовна и Анастасия Томашевские. Гурзуф, 1995
 Ирина Николаевна за работой
Ирина Николаевна за работой
 Дача Томашевских – «дом Нобелевских лауреатов». Гурзуф, ул. Виноградная
Дача Томашевских – «дом Нобелевских лауреатов». Гурзуф, ул. Виноградная
 Могила Бориса и Ирины Томашевских. Гурзуф
Могила Бориса и Ирины Томашевских. Гурзуф

 Ифигения в Тавриде. Сцены из Гёте. Рисунок А. Кауфман. 1802
Ифигения в Тавриде. Сцены из Гёте. Рисунок А. Кауфман. 1802
 Грек и арнаут. Из книги Г.-Т. Паули «Этнографическое описание народов России» (1862)
Грек и арнаут. Из книги Г.-Т. Паули «Этнографическое описание народов России» (1862)
 Херсонес. Литография К. Боссоли. 1842
Херсонес. Литография К. Боссоли. 1842
 Крымские татары. Мулла. Из книги Г.-Т. Паули
«Этнографическое описание народов России» (1862)
Крымские татары. Мулла. Из книги Г.-Т. Паули
«Этнографическое описание народов России» (1862)
 Последний крымский хан Шагин-Гирей (1745–1787)
Последний крымский хан Шагин-Гирей (1745–1787)
 Керчь. Литография К. Боссоли. 1842
Керчь. Литография К. Боссоли. 1842
 Морское сражение с турецкой эскадрой
Морское сражение с турецкой эскадрой
 Александр Суворов. Портрет
неизвестного художника
Александр Суворов. Портрет
неизвестного художника
 Петр Румянцев. Портрет
неизвестного художника
Петр Румянцев. Портрет
неизвестного художника
 Подписание Кючук-Кайнарджийского мира (1774)
Подписание Кючук-Кайнарджийского мира (1774)
 Николай Мордвинов.
Портрет А. Варнека
Николай Мордвинов.
Портрет А. Варнека
 Севастополь. Литография К. Боссоли. 1842
Севастополь. Литография К. Боссоли. 1842
 Григорий Потёмкин-Таврический. Гравюра Дж. Уокера. 1792
Григорий Потёмкин-Таврический. Гравюра Дж. Уокера. 1792
 «Певец Крыма» Семен Бобров
«Певец Крыма» Семен Бобров
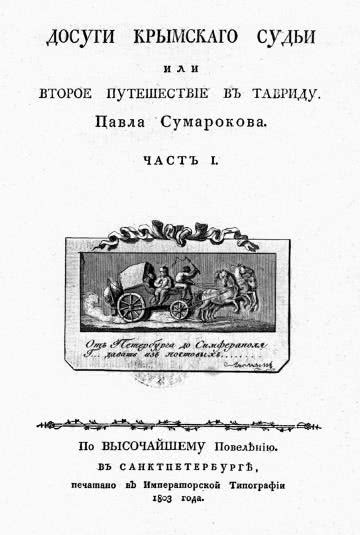 Сочинение Павла Сумарокова «Досуги Крымского судьи, или Второе путешествие в Тавриду» (1803)
Сочинение Павла Сумарокова «Досуги Крымского судьи, или Второе путешествие в Тавриду» (1803)
 Карта Крыма, составленная генерал-майором Семеном Мухиным. 1817
Карта Крыма, составленная генерал-майором Семеном Мухиным. 1817
 Академик Петр Паллас
Академик Петр Паллас
 Христиан Стевен – основатель Никитского ботанического сада. Бушарди, 1820-е
Христиан Стевен – основатель Никитского ботанического сада. Бушарди, 1820-е
 Эммануил де Ришелье – генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии в 1804–1815 гг.
Эммануил де Ришелье – генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии в 1804–1815 гг.
 Воронцовский дворец в Алупке. Литография К. Боссоли. 1842
Воронцовский дворец в Алупке. Литография К. Боссоли. 1842
 Заглавие и эпиграф к стихотворению Александра Пушкина «Таврида» (1822)
Заглавие и эпиграф к стихотворению Александра Пушкина «Таврида» (1822)
 Гурзуф. Литография К. Боссоли. 1842
Гурзуф. Литография К. Боссоли. 1842
 Бахчисарай. Литография К. Боссоли. 1842
Бахчисарай. Литография К. Боссоли. 1842
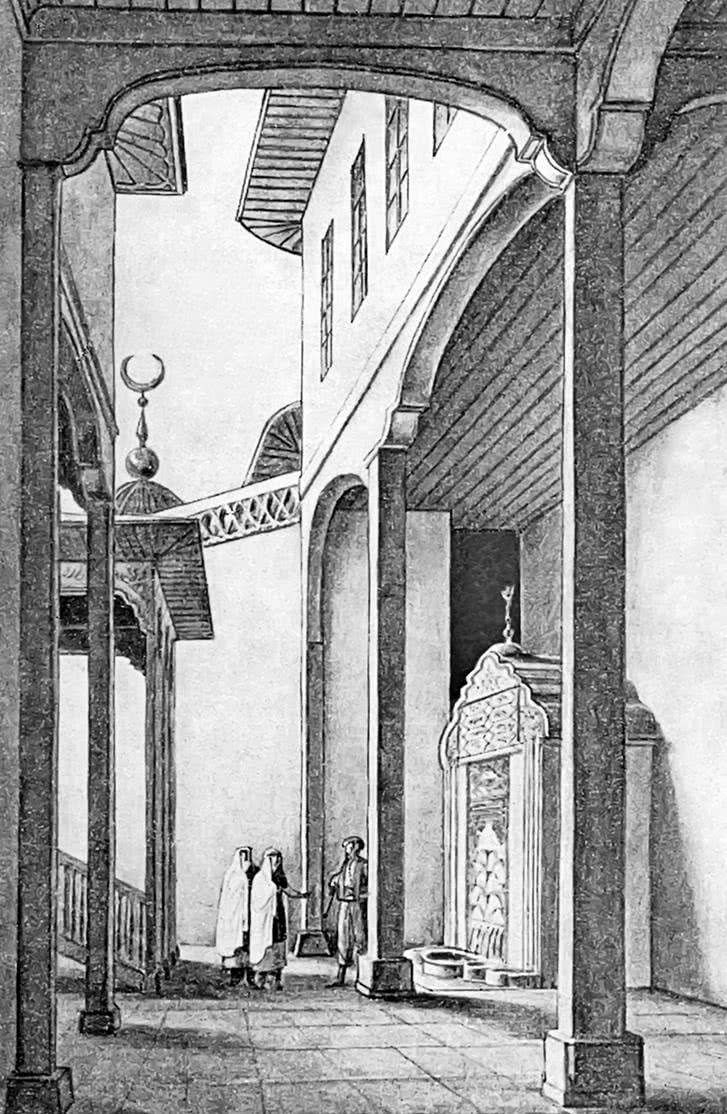 «Фонтан слёз» в Бахчисарае
«Фонтан слёз» в Бахчисарае
 Поэма Александра Пушкина «Бахчисарайский фонтан» (1824)
Поэма Александра Пушкина «Бахчисарайский фонтан» (1824)
Последние комментарии
1 час 48 минут назад
7 часов 32 минут назад
8 часов 39 минут назад
9 часов 37 минут назад
9 часов 52 минут назад
19 часов 2 минут назад