Я.В. Брук, Л.В. Хмельницкая Русская книга о Марке Шагале Том 1

Об этом издании
Цель этого издания – собрать известный в настоящий момент материал – печатный, архивный, иллюстративный, – относящийся к российским годам Марка Шагала и его связям с Россией. Это в основном русскоязычные тексты: выступления в печати и интервью, письма, деловые и служебные документы, каталоги выставок, отзывы прессы, воспоминания и критические суждения современников и пр. Отложившиеся в отечественных и зарубежных архивах, хранящиеся в библиотечных фондах, музейных и частных собраниях, источники о Шагале освоены еще далеко не полностью. Отдельные документы, высказывания художника, воспоминания о нем использованы в литературе, однако в целом корпус архивно-документальных материалов – и прежде всего переписка – не собран, должным образом не опубликован и не откомментирован. Подобная задача долгое время не ставилась, но оказалась выдвинута на передний план в русле той активной музейно-выставочной, историко-научной и публикаторской деятельности, которая развернулась в России и Беларуси на рубеже 1990–2000-х годов и имела целью решение исторической задачи – восстановить память о художнике на его родине. Опорными точками в осуществлении этой программы стали три знаковых проекта – открытие Дома-музея Шагала в Витебске (1991) и проведение двух масштабных монографических выставок в Москве – в Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, к 100-летию со дня рождения художника (1987), и в Третьяковской галерее (2005). Реализация этих проектов потребовала многолетнего консолидированного научного труда – подготовка и выпуск в свет настоящего издания по сути является завершающим этапом долговременной коллективной исследовательской работы. По своему составу и структуре «Русская книга о Марке Шагале» диалогична: в ней сведены воедино антология текстов о художнике и свод документов о нем. Едва ли не каждый раздел включает не только наиболее значительные публикации прежних лет (порою остающиеся малоизвестными из-за труднодоступности источников), но и адресует к вновь обнаруженным печатным и архивным источникам, позволяющим прояснить важные факты и обстоятельства шагаловской судьбы. Таковы, к примеру, документы о его деятельности в революционном Витебске и в Еврейской трудовой школе-колонии в Малаховке, или дипломатическая переписка, раскрывающая подготовку и значимые подробности визита Шагала в Москву и Ленинград в 1973 году, и в особой мере – обширный корпус его русскоязычной переписки. Многоплановость публикуемого материала – когда то или иное событие находит освещение как бы с разных позиций: в ощущении самого художника, с официальной точки зрения, в суждениях и воспоминаниях современников – дает многомерное представление о Шагале. Он предстает не только как уникальная творческая личность, но и как яркий общественный деятель, связанный с широким кругом выдающихся отечественных и зарубежных исторических лиц, откликнувшийся на ключевые события общественно-политической и культурной жизни ХХ века. Фантаст и интроверт в творчестве, в жизни он участвовал во многом и был связан со многими. В существе своем Шагал навсегда остался фигурой коллективистской жизнестроительной эпохи. При «зыбкости натуры» (как он однажды выразился о себе в молодые годы), он – человек твердых убеждений и практического действия – в этом отношении особо важны его статьи и переписка, отражающие непримиримую антифашистскую позицию, занятую им в годы Второй мировой войны и в послевоенное время. Общественно-политическую платформу Шагала, равно как и эстетическую, трудно определить с однозначностью, поскольку он не принадлежал ни к какой политической или художественной группировке. Он жил и творил в разных странах мира. Его высказывания свидетельствуют о том, что он ощущал себя деятелем одновременно нескольких культур: русской, еврейской и французской, но также и о том, что на протяжении всей жизни, вплоть до последних дней он сохранял глубинную духовную связь с Россией. В письме к Абраму Эфросу Шагал назвал себя неисправимым «помнящим», несущим в своем искусстве «мешок воспоминаний», подобно тому блуждающему еврею с мешком на спине, которого он изобразил в своей знаменитой картине (III, 133). Воспоминания не отпускали его. Он жил в Германии, Франции, Америке, исколесил весь мир, но продолжал считать себя русским художником. «Сейчас, как Вы знаете, здесь международная выставка, – писал Шагал в 1937 году Павлу Эттингеру о проходившей в Париже Всемирной выставке. – Мой первый визит был, конечно, Совет[ский] Павильон и каждый раз, когда я хочу понюхать родину, я иду туда… В такие минуты (невеселые) я только и думаю о моей прекрасной родине – так как всю мою жизнь я то и делал, что передавал ее в своем иск[усстве], как умел. Счастливы будут когда-ниб[удь] будущие Шагалы, когда столицей живописи, м[ожет] б[ыть], станет Москва, а не Париж. Их жизнь тогда не будет расколота на 2 части» (III, 127). В середине 1930-х он мечтал съездить на родину, в пору «оттепели» всерьез помышлял о возвращении в Витебск. Приезд в Москву и Ленинград в 1973 году глубоко его взволновал и прибавил ему жизненных сил. Это было своего рода духовное паломничество, возвращение к истокам – заветам родительского дома и идеалам революционной юности. Шагал заново открывал страну, которую оставил полвека назад. Он никогда не был коммунистом, но, увидев, по собственному признанию, людей, «которые умеют так плодотворно трудиться, так интересно жить и так относиться к искусству», готов был признать, что «социалистический строй самый прекрасный и прогрессивный» (II, 31; VI, 292). Спустя полвека после отъезда, выступая в Третьяковской галерее на открытии своей выставки, стоя перед переполненным притихшим залом, восьмидесятипятилетний Шагал сказал слова, которые можно назвать его приветствием и прощанием, обращенным к России: «Я благодарен Вам сердечно за приглашение сюда на мою родину после 50 лет… Вы не видите на моих глазах слез, ибо, как это ни странно, я вдали душевно жил с моей родиной и родиной моих предков. Я был душевно здесь всегда… Я хочу каждому из Вас сегодня пожать руку» (II, 29).* * *
В настоящем издании материалы сгруппированы в семь разделов. В ссылках (в круглых скобках) римская цифра означает номер раздела, следующая за ней арабская – номер документа. Значительная часть материалов публикуется впервые, что специально не оговаривается. Основные предшествующие публикации указываются вслед за публикуемым текстом. Письма и документы в подавляющей своей части сверены по подлинникам. Обращение к автографам позволило дать полный текст тех писем и документов, которые прежде приводились в сокращениях или отрывках, и исправить неточности, проникшие в предыдущие публикации. Орфография и пунктуация текстов приближены к современным литературным нормам, но вместе с тем составители считали необходимым сохранить своеобразие авторского языка и правописания (в том числе в употреблении прописных и строчных букв). Слова, данные в подлиннике сокращенно или недописанные, раскрываются полностью в квадратных скобках (за исключением общепринятых и общепонятных сокращений). Купюры в тексте обозначены угловыми скобками. Письма и документы датируются по числам, проставленным в подлинниках. Даты, вводимые составителями, даются в квадратных скобках. Авторская дата воспроизводится в том месте и в том написании, как она присутствует в подлиннике. Помимо этого, для единообразия во всех случаях дата (набранная курсивом) помещается также в верхнем правом углу письма с указанием места отправления. В подстрочных примечаниях даются авторские сноски, а также перевод иноязычных слов и выражений. Все пояснения от составителей выносятся в комментарии.* * *
Многолетняя работа над проектом не могла бы быть осуществлена без воодушевляющей помощи коллег и друзей. Составители считают своим долгом вспомнить с благодарностью профессора Бенджамина Харшава (Нью-Хейвен, США), одного из первых поддержавшего это издание и великодушно предоставившего для него ряд материалов, и Ирину Александровну Антонову (Москва), щедро делившуюся размышлениями и живыми воспоминаниями о встречах с Шагалом. Особая признательность рецензентам книги: Наталии Сиповской (Москва), Клер Ле Фолль (Саутгемптон, Великобритания) и Ирине Вороновой (Витебск). Благодарим за помощь и заинтересованное содействие в подготовке издания: Аду Беляеву (Москва) Елену Ге (Витебск) Галю Димент (Сиэтл, Вашингтон, США) Гари Израителя (Бостон, США) Михаила Каменского (Москва) Веру Кнорринг (Санкт-Петербург) Никиту Колганова (Москва) Алики Костаки (Афины, Греция) Ирину Логунову (Витебск) Наталию Мавлевич (Москва) Николая Молока (Москва) Светлану Мясоедову (Витебск) Евгению Петрову (Санкт-Петербург) Марику Саар (Москва) Татьяну Свистунову (Витебск) Наталию Семенову (Москва) Галину Урванцеву (Москва) Олега Фельдмана (Москва) Татьяну Чеботареву (Нью-Йорк, США) Александру Шатских (Нью-Йорк, США) Зою Шергину (Москва)Основные даты жизни и творчества Марка Шагала
1887 Шагал родился 6 июля (24 июня) в Витебске на окраине города, называвшейся Песковатик, заселенной в основном еврейской беднотой. При рождении он назван Мовша (Моисей) – имя Марк было принято им в Париже. Родители художника – Хацкель (Захар) Мордухов Шагал (1863–1921), живший в Витебске, и Фейга-Ита Менделева Чернина (1866–1915), жившая в Лиозно – поженились в 1885 году в Витебске. В Лиозно оставалась многочисленная родня, и в юности Шагал часто бывал здесь. В Витебске Шагалы занимались торговлей: Хацкель служил приказчиком в складе сельдей, Фейга-Ита содержала бакалейную лавку в доме, где жила семья. В 1900 на Покровской улице, 29 рядом с уже существующим деревянным они построили одноэтажный каменный дом. Здесь Шагалы жили до конца 1920-х годов.1900–1905 Осенью 1900 поступает в Витебское четырехклассное городское училище с ремесленным уклоном. Одноклассником Шагала был Осип Цадкин.
1906 Посещает художественную школу Ю.М. Пэна, о котором навсегда сохранил благодарную память как о «честном труженике-художнике и первом учителе». «В его ателье я провел всего несколько месяцев, – вспоминал Шагал. – Он был настолько добр, что взялся обучать меня бесплатно». Авигдор (Виктор) Меклер, соученик Шагала, предлагает продолжить образование в столице, и зимой 1906/07 оба уезжают в Петербург.
1907 Держит экзамен в Центральное училище технического рисования барона Штиглица, но не принят. Работает ретушером у фотографа, пишет вывески. Поступает в Рисовальную школу Императорского Общества поощрения художеств (ОПХ), зачислен в третий класс и назначен стипендиатом.
1908 В конце года покидает Рисовальную школу ОПХ; непродолжительное время занимается в частной школе живописи и рисования С.М. Зейденберга (его соучеником был Юрий Анненков).
1909 Лето проводит в Витебске и Лиозно. Знакомится с Беллой (Бертой) Розенфельд. По возвращении в Петербург поступает в частную школу живописи Е.Н. Званцевой, где преподавали Л.С. Бакст и М.В. Добужинский. Шагал считал учебу у Бакста поворотным моментом в своей жизни: «Судьбу мою решила школа Бакста и Добужинского. Бакст повернул мою жизнь в другую сторону. Я вечно буду помнить этого человека».
1910 Участвует в выставке работ учеников школы Е.Н. Званцевой в редакции журнала «Аполлон». Летом уезжает в Витебск. Узнав об окончательном отъезде Бакста в Париж, решает не возвращаться в Петербург. Шагал и Белла объявляют себя женихом и невестой.
1911 Адвокат М.М. Винавер назначает Шагалу стипендию для продолжения учебы за границей. Участвует во 2-й выставке общества художников «Союз молодежи». В мае уезжает через Берлин в Париж. Посещает академии «Ла Палетт», где преподают А. Дюнуайе де Сегонзак и А. Ле Фоконье, и «Гранд Шомьер». Делает попытку выставиться в Осеннем салоне, однако все представленные им работы отклонены.
1912 Выставляется в Салоне независимых и Осеннем салоне. Летом снимает мастерскую в Ла Рюш. Знакомится с Б. Сандраром, Г. Аполлинером, М. Жакобом, Ф. Леже, А. Сальмоном, Р. Делоне.
1913 Выставляется в Салоне независимых. Знакомится с берлинским собирателем авангарда Хервартом Вальденом. В сентябре участвует в Первом немецком Осеннем салоне в галерее Вальдена «Дер Штурм».
1914 Выставляется в Салоне независимых. В мае приезжает в Берлин на открытие своей первой крупной персональной выставки в галерее «Дер Штурм». В июне уезжает из Берлина в Витебск. Начавшаяся война лишает его возможности вернуться в Париж. Приступает к работе над картинами и этюдами «Витебской серии».
1915 Участвует в московской выставке живописи «1915 год». 25 июля состоялось бракосочетание Шагала с Беллой Розенфельд. В сентябре они уезжают в Петроград, где Шагал поступает на службу в Центральный военно-промышленный комитет.
1916 Вступает в члены Еврейского общества поощрения художеств.18 мая родилась дочь Ида. Участвует в выставке объединения «Бубновый валет» в Москве.
1917 Избран членом общества «Союз молодежи». Выдвигается одним из делегатов от этого общества в Союз деятелей искусств. По заказу Петроградской еврейской общины приступает к работе над панно в профессионально-техническом училище для еврейских детей (заказ не был осуществлен). Участвует как член жюри и экспонент во Второй выставке картин и скульптуры художников-евреев в Москве. В декабре уезжает с семьей в Витебск.
1918 В Москве выходит монография А.М. Эфроса и Я.А. Тугендхольда «Искусство Марка Шагала». 12 сентября решением Наркомата по просвещению назначен уполномоченным (комиссаром) по делам искусств в Витебской губернии с правом «организации художественных школ, музеев, выставок, лекций и докладов по искусству». Организует оформление Витебска к первой годовщине революции. Объявляет прием в Народное художественное училище.
1919 В апреле принимает заведование Народным художественным училищем, ведет в нем свою «Свободную живописную мастерскую». Выступает в прессе, организует диспуты, пишет публицистические статьи. Участвует в Первой государственной свободной выставке произведений искусства в Петрограде; часть из выставленных им картин приобретена государством.
1920 Активно участвует в организации Витебского музея современного искусства. В июне после конфликта с Казимиром Малевичем покидает Витебск и уезжает в Москву. По рекомендации Абрама Эфроса привлечен к работе в Еврейский камерный театр: выполняет декорации и костюмы к спектаклю «Вечер Шолом-Алейхема» (премьера 1 января 1921), пишет живописные панно для зрительного зала.
1921 Живет и преподает рисование в Еврейской трудовой школе-колонии в Малаховке под Москвой. Участвует в работе московского отделения еврейского художественного объединения Культур-Лига.
1922 В начале года переезжает из Малаховки в Москву. В помещении Еврейского камерного театра проходит организованная Культур-Лигой «Выставка работ Натана Альтмана, Марка Шагала, Давида Штеренберга». Завершает работу над книгой «Моя жизнь». В начале лета навсегда покидает Россию: отправляется с выставкой своих работ в Каунас, оттуда в Берлин. Участвует в Первой русской художественной выставке в Новой галерее Ван-Димена в Берлине.
1922–1923 Живет с семьей в Берлине. Занимается офортом и осваивает другие техники гравюры под руководством Германа Штрука. По заказу издателя Пауля Кассирера выполняет офорты к книге «Моя жизнь» (альбом гравюр издан в Берлине в 1923). В августе 1923 по приглашению Амбруаза Воллара переезжает с семьей в Париж. По заказу Воллара иллюстрирует «Мертвые души» Н.В. Гоголя (1923–1925).
1924–1925 Выставки в Брюсселе, Париже, Кельне, Цюрихе, Дрездене.
1926 Большую часть года проводит близ Тулона в рыбацкой деревушке Мурийон. Участвует в создании Общества художников-граверов. Выставки в Нью-Йорке, Париже.
1927 По заказу Воллара выполняет офорты к «Басням» Ж. Лафонтена. Создает серию гуашей «Цирк Воллара». Передает в дар Третьяковской галерее в Москве 96 офортов к поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души».
1928 Шагал и Белла посещают спектакли и принимают актеров московского Государственного еврейского театра, гастролировавшего в Париже. Осенью участвует в выставке «Современное французское искусство» в Москве.
1930 В начале года покупает дом в Париже – виллу Монморанси на авеню Сикомор, 15. Выставки «Лафонтен Шагала» в Париже, Брюсселе, Берлине. Получает от Воллара заказ на иллюстрации к Библии.
1931 По приглашению мэра Тель-Авива Меира Дизенгофа посещает Хайфу, Тель-Авив и Иерусалим. В Париже выходит книга «Моя жизнь» в переводе на французский Беллы Шагал. Выставка в Париже.
1932 По заказу Брониславы Нижинской делает эскизы декораций и костюмов к балету «Бетховенские вариации» (балет не осуществлен). Выставки в Амстердаме, Будапеште.
1933 В Мангейме на выставке «Большевизм в искусстве», устроенной нацистами, произведения Шагала подвергаются публичному сожжению. Ходатайство о получении французского гражданства отклонено на том основании, что Шагал был комиссаром искусств в Витебске. Выставка в Базеле.
1934–1936 Летом 1934 Шагал и Белла посещают Барселону, Мадрид, Толедо, в 1935 едут на открытие выставки в Лондон. В Вильно на конференции, созванной по инициативе Еврейского исследовательского института, выступает с речью «Что мы должны сделать для еврейского искусства». В 1936 снимает новую мастерскую в Париже – Вилла Эжен-Манюэль, 4.
1937–1938 В 1937 получает французское гражданство. Нацистские власти убирают из немецких музеев все картины Шагала и публично объявляют некоторые из них образцами «дегенеративного искусства». В 1938 выставки в Брюсселе, Нью-Йорке, Лондоне.
1939 Переезжает из Парижа в Сен-Дийе-сюр-Луар. Удостоен премии Карнеги-института в Питтсбурге.
1940–1941 Переезжает в городок Горд на Луаре. Зимой 1941 получает приглашение от Музея современного искусства в Нью-Йорке переехать в США. В июне прибывает с семьей в Нью-Йорк. Первая выставка в нью-йоркской галерее Пьера Матисса.
1942 По заказу Американского балетного театра выполняет эскизы декораций и костюмов к балету «Алеко» в постановке Леонида Мясина; Шагал и Белла едут на премьеру балета в Мехико.
1943–1944 Встречается с членами советского Еврейского антифашистского комитета, прибывшими в США – актером Соломоном Михоэлсом и поэтом Ициком Фефером. Публикует в нью-йоркской идишистской прессе стихотворение «К моему городу Витебску», выступает с антифашистской речью «Приходит время». 2 сентября 1944 скончалась Белла Шагал.
1945 Иллюстрирует книгу Беллы Шагал «Горящие огни» (издана в 1945 в Нью-Йорке, в 1948 – в Париже). Для Американского балетного театра выполняет эскизы декораций, занавеса и костюмов к балету Игоря Стравинского «Жар-птица» в постановке Джорджа Баланчина. Знакомится с Вирджинией Мак-Нил.
1946 Покупает дом в деревушке Хай-Фоллз на северо-востоке штата Нью-Йорк и поселяется там с Вирджинией. 22 июня родился их сын Давид. Выполняет офорты к сборнику стихов Поля Элюара «Жаркая жажда жить» (издан в 1950). По заказу издателя Курта Вольфа работает над цветными литографиями к сказкам «Тысячи и одной ночи». Выставки в Нью-Йорке, Чикаго.
1947–1948 В 1947 Шагал приезжает на открытие своей ретроспективы в Париж. В 1948 Шагал и Вирджиния переезжают во Францию, поселяются в Оржевале под Парижем. В 1948 в издательстве Эжена Териада выходят «Мертвые души» Н.В. Гоголя с офортами Шагала, за которые художник удостоен Гран-при на 24-й Биеннале в Венеции. Выставки в Париже, Амстердаме, Лондоне.
1949 Выполняет панно для фойе театра Уотергейт в Лондоне. Получает от Териада заказ на иллюстрации к «Дафнису и Хлое» Лонга. Делает акватинты и рисунки тушью на темы «Декамерона» Дж. Боккаччо.
1950 Покупает имение «Ле Коллин» («Холмы») в Вансе близ Ниццы. С этого времени на протяжении двух десятилетий осваивает новые художественные техники: керамику, мозаику, гобелен, витраж; совершенствуется в технике литографии в мастерской Фернана Мурло. Приступает к созданию полотен на библейские сюжеты. Выставки в Париже, Мюнхене, Цюрихе.
1951 Едет в Израиль на открытие выставок в Иерусалиме, Хайфе и Тель-Авиве. Возобновляет работу над офортами к «Басням» Лафонтена. Разрыв с Вирджинией Мак-Нил.
1952 22 июля состоялось бракосочетание Шагала с Валентиной (Вавой) Бродской. В издательстве Териада выходят «Басни» Лафонтена с офортами Шагала. Посещает Грецию и Италию; в Шартре изучает витражную технику. Выставки в Нью-Йорке, Париже, Ницце, Риме, Женеве.
1953–1954 Продолжает работу над иллюстрациями к «Дафнису и Хлое», иллюстрирует книгу Аврома Суцкевера «Сибирь». В 1954 совершает второе путешествие в Грецию и Италию. Выставки в Турине, Вене, Париже.
1955–1956 Продолжает работать над полотнами на библейские сюжеты (цикл завершен в 1966). В 1956 в издательстве Териада выходит Библия с офортами Шагала. Выставки в Ганновере, Базеле, Берне, Брюсселе, Амстердаме.
1957 Поселяется в Париже на набережной Бурбон, затем приобретает квартиру на набережной Анжу, 13. Посещает Израиль. Выполняет керамическое панно, два барельефа и витражи для церкви в Асси (Франция). Работает над цветными литографиями к «Дафнису и Хлое». Выставки в Базеле, Париже, Брюсселе, Зальцбурге, Иерусалиме, Тель-Авиве.
1958 Выступает в Чикагском университете с лекцией «Искусство и жизнь». По заказу парижской Гранд-опера выполняет эскизы декораций и костюмов к балету Мориса Равеля и Михаила Фокина «Дафнис и Хлоя».
1959 Едет в Глазго, где в университете получает степень доктора honoris causa. Избран почетным членом Американской академии литературы и искусств. Выполняет живописное панно для фойе Оперного театра во Франкфурте-на-Майне. Выставки в Гамбурге, Мюнхене, Париже.
1960 Работает над витражами для синагоги медицинского центра Хадасса в Иерусалиме. Удостоен степени доктора honoris causa в университете Брандиса в Массачусетсе. Выставки в Реймсе, Берне, Копенгагене, Шарлотенбурге.
1961–1962 В издательстве Териада выходит «Дафнис и Хлоя» с цветными литографиями Шагала. Едет в Израиль, где присутствует при установке витражей в синагоге Медицинского центра Хадасса в Иерусалиме. Выставки в Дюссельдорфе, Париже, Нью-Йорке, Женеве.
1963 По предложению министра культуры Франции Андре Мальро расписывает плафон в парижской Гранд-опера (торжественное открытие плафона в 1964). Выставки в Токио, Киото.
1964–1965 Выполняет витраж для мемориала Дага Хаммаршельда в резиденции ООН в Нью-Йорке. По заказу Метрополитен-опера работает над монументальными панно для фойе театра, а также эскизами декораций и костюмов к опере Моцарта «Волшебная флейта» (премьера в 1967). Удостоен степени доктора honoris causa в университете штата Виргиния.
1966 Переезжает в Сен-Поль-де-Ванс (пригород Ванса). Выполняет витражи для церкви Покантико-Хиллз в Территауне.
1967 В Лувре выставлен цикл «Библейское послание» (17 полотен и 38 гуашей) – дар Марка и Валентины Шагалов французскому государству, сделанный с условием, что в Ницце будет построено специальное здание для их экспонирования. В издательстве Териада выходит книга «Цирк» с цветными литографиями и текстом Шагала. Юбилейные выставки в Цюрихе, Кельне, Париже, Тулузе, Сен-Поле, Женеве.
1968 Шагал и Валентина едут на открытие выставок в Вашингтон и Нью-Йорк. Выполняет витражи для собора в Меце, мозаику для университета в Ницце. В издательстве Дж. Крамера в Женеве выходит книга «Марк Шагал. Стихотворения» с цветными ксилографиями Шагала.
1969–1970 В 1969 в Ницце заложен первый камень Национального музея «Библейское послание Марка Шагала». Едет в Иерусалим на открытие нового здания Кнессета, где находятся его мозаика и гобелены. Большая ретроспективная выставка в Париже. В 1970 выполняет витражи для церкви в Цюрихе. Иллюстрирует «Антимемуары» Андре Мальро.
1971–1972 Выполняет мозаики для фасада музея «Библейское послание Марка Шагала» в Ницце, для Первого национального Сити-банка в Чикаго (открыты в 1974), для общественных зданий в Иерусалиме. Выставки в Париже, Цюрихе, Будапеште, Нью-Йорке.
1973 В июне по приглашению Министерства культуры СССР Шагал и Валентина посещают Москву и Ленинград. Выставка в Третьяковской галерее. Дарит свои произведения Третьяковской галерее и Музею изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. В июле проходит торжественное открытие Национального музея «Библейское послание Марка Шагала» в Ницце.
1974–1975 Выполняет витражи для собора в Реймсе, мозаику для Центра искусств имени Линкольна в Нью-Йорке. В издательстве Ф. Мурло выходит «Одиссея» Гомера с литографиями Шагала, в издательстве А. Соре – «Буря» Шекспира.
1976–1977 Работает над витражами для Института искусств в Чикаго. В издательстве Э. Мага выходят сборник стихов Луи Арагона «Тот, кто говорит, ничего не говоря» и книга Андре Мальро «И на земле…» с офортами Шагала. В 1977 удостоен высшей награды Франции – ордена Большой крест Почетного легиона. По решению мэра Иерусалима Тедди Коллека удостоен звания почетного гражданина этого города. Юбилейная выставка в Лувре.
1978–1980 Выполняет витражи для собора в Майнце, для нескольких церквей во Франции и Великобритании. В издательстве Дж. Крамера выходят «Псалмы Давида» с офортами Шагала. Выставки во Флоренции, Женеве, Ницце.
1981–1984 Удостоен звания почетного гражданина Майнца. Выполняет витражи для церкви в Сайан-де-Вутзаке. Выставки в Стокгольме, Копенгагене, Париже, Цюрихе, Ленинграде, Женеве. В 1984 Шагал присутствует на вернисажах ретроспективной выставки в Сен-Поль-де-Вансе и выставки витражей и скульптуры в Ницце.
1985 Последняя прижизненная выставка в Королевской академии искусств в Лондоне. 28 марта скончался на 98-м году жизни в Сен-Поль-де-Вансе.
Часть I Материалы к биографии Марка и Беллы Шагалов

1. Марк Захарович Шагал. Сведения о себе
Родился в г. Витебске в 1887 г. в еврейской семье. Отец мой с детских лет был приказщиком в складе сельдей, где до революции трудился, получая мизерное жалование. Это был от природы запуганный, но кроткий смиренный человек. Религиозный, имевший однако меньше сходства с «типичным» евреем и напоминавш[ий] белорусского крестьянина. Мать – простая (безграмотная, также как и отец), но энергичная женщина, умерла 45 лет, был[а] тот человек, которому я обязан всем. Нет возможности мне вкратце передать, что значила эта гениальная женщина. Она умерла, и ценность этого самородка зарыта во мне. Она любила меня, жалея. Она говорила: «Мой сын, да, я знаю, ты талантлив, но жалко мне тебя, не будешь ли ты лучше «бухгалтером»… Она корректировала мои работы, и ее суждения имели для меня решающее значение. Учился с детства в «хедере». Ничего не помню кроме вечернего фонаря и 2–3 «меламедов», никакой книжной грамоты в голове не осталось. К 13 годам читал наизусть «дроше» (проповедь) в течение 1 1/2 час[ов]. О «тфилен» (головные молитвенные принадлежности) забыл окончательно все. К 14 годам с трудом удалось моей матери определить меня в городское училище[1]. Учиться я, кажется, не очень хотел… Сидел даже почему-то в одном классе 2 года… Не мудрено, я охотней рисовал, купался, в палки играл и «ухаживал»… В 1907 г.[2] я окончил городское училище, и я поступил к местному фотографу на обучение – ретушировал негативы. Одновременно я увлекся вывеской местного художника Ю. Пена: «Школа рисования и живописи», и я, захватив у отца 27 руб[лей], умчался в Петроград учиться. 27 руб[лей] иссякли и не было возможности кушать «зразы» даже за 10 коп[еек]. Я «падал» иногда в обморок. Встретившись со скульптором И.Я. Гинцбургом, я начал получать от барона Д.Г. Гинцбурга стипендию 10 руб[лей] в месяц1. Экзаменовался в Худож[ественном] училище барона Штиглица2. Не выдержал экзамена – не поступил. Определился в школу О[бщест]ва поощр[ения] художеств. Я не знаю, что было со мною там. С одной стороны, я был хвалим и поощряем, и стипендию получил3. С другой стороны, я чувствовал безнадежность моего пути… Судьбу мою решила школа Бакста и Добужинского. Бакст повернул мою жизнь в другую сторону. Я вечно буду помнить этого человека. Он пригласил меня с собой в Париж в качестве помощника в 1911 г., но там мы расстались. Я попал в сферу современных европейских художников. Я в Лувре, стоя перед «Олимпия» Мане, Курбе и Делакруа, понял, что такое русское искусство и Запад. Меня пленили мера и вкус французской живописи. Через 3 года в Париже я постепенно начал выбиваться из нужды. Со мной заключила контракт французская галерея «Мальпель»4 и, наконец, моя выставка была устроена в галерее «Der Sturm» в Берлине в 1914 г. … Уехал туда же к открытию ее и на «3 месяца» уехал в Россию на «свадьбу сестры»5. Марк Шагал. Петроград, 1918
Марк Шагал. Петроград, 1918
Грянула война, Революция. И я еще здесь. Все работы мои застряли в Берлине, Амстердаме и Париже6. В России в 1915 г. (Витебске), куда я приезжал 60 этюдов и картин7. Это было почти все, что видно было мне из окна, мои родные, нищие. Выставлял в России8. С момента Революции я одновременно основал в Витебске Художественное училище, заведующим и руководителем которого наряду с другими приглашенными руководителями: М.В. Добужинским, К.С. Малевичем – я был9. В мае 1920 г.10 я покинул Витебск и переехал со своей семьей (жена и ребенок) в Москву по приглашению Евр[ейского] Госуд[арственного] Камерн[ого] (Б[ольшой] Черныш[евский], 12) театра для росписи. Мною написаны для него 7 больших картин, одна из них размером 11 арш[ин] на 5 «Введение в еврейский театр». Остальные: «Музыка», «Танец», «Драматич[еский] актер», «Литература», «Любовь на сцене» и фриз «Свадебный стол».
Худ[ожник] Марк Шагал 5/III –1921 г. Петроград, Русский музей ОР ГТГ. Ф. 31. Ед. хр. 2073. Л. 1–2. Автограф; Л. 3–4. Машинопись с авторской правкой. Пост. в 1935–1936 г. в составе личного фонда П.И. Нерадовского. Опубл.: Chagall Paris 1995. Р. 246 (пер. на фр.); Брук Я. Два неизданных автографа Шагала // Третьяковская галерея. Специальный выпуск журнала. М., 2005. С. 27–32; Холодова И. Марк Шагал: «Сведения о себе» // Шагаловский сборник 2008. С. 162–163.



 Марк Захарович Шагал. Сведения о себе. Автограф. Петроград, 5 марта 1921
Марк Захарович Шагал. Сведения о себе. Автограф. Петроград, 5 марта 1921
2. К родословию Шагалов
Архивные разыскания последних лет позволяют достаточно подробно проследить родословие художника по линии отца. Основой для этих исследований являются «Списки евреев мужского пола» и «Посемейные списки мещан-евреев» Витебска за вторую половину XIX в., хранящиеся в Национальном историческом архиве Беларуси (более ранние документы не сохранились). Эти списки содержат, как правило, сведения о составе семей с перечислением имен и возрастов всех их членов.Давид (Мордух-Давид) Еселев (Иоселевич) Шагал (Сагал, Шагало) (1825 – около 1885), дед художника
В «Общем списке евреев мужского пола, проживающих в 1-й части г. Витебска» за 1874 г. Давид Сагал назван «бабиничским мещанином Могилевской губернии» (в других документах – «бабиновичским мещанином»). Эта запись указывает на место его приписки по последней ревизии податного населения (проводилась в 1857–1859) и позволяет сделать вывод о том, что представители рода жили, скорее всего, в заштатном городе Бабиновичи Оршанского уезда Могилевской губернии (теперь агрогородок в Лиозненском районе Витебской области). Давид Сагал был женат дважды. От первого брака с Леей-Сарой имел сына Гиршу (1849–?), от второго с Башевой (1845–после 1914) – четырех сыновей: Хацкеля (1863–1921), Зусмана (1868–1934), Абрама (1873–?) и Янкеля (1878–?). К 1874 г. Давид Сагал вместе со второй женой и сыновьями Хацкелем (будущим отцом художника), Зусманом и Абрамом жил в Витебске. Старший сын Гирша со своей семьей тоже жил в Витебске, но отдельно от отца, и также числился «бабиновичским мещанином Могилевской губернии». Примечательно, что в списках того же 1874 г. Гирша был записан под фамилией «Шагал». 15 августа 1880 г. семья Давида Сагала была выписана из Бабиновичского еврейского общества и внесена в список мещан-евреев Витебска. В «Посемейном списке мещан-евреев» города за 1881 г. фамилия «Давида Еселева» указана уже в другом варианте – «Шагало». Во всех последующих документах она приобретает устойчивую форму «Шагал». Витебским мещанином дед художника числился, однако, недолго. 5 декабря 1883 г. он и его сыновья были исключены из списка мещан-евреев города в связи с зачислением в Добромысленское еврейское общество Оршанского уезда Могилевской губернии. Жить, тем не менее, дед художника вместе со всем семейством продолжал в Витебске В 1889 г. Гирша Шагал, старший сын от первого брака, выписался из еврейского общества местечка Добромысли и приписался в общество мещан-евреев Витебска. Но Хацкель Мордухов Шагал, отец художника, до самой революции оставался «добромысленским мещанином». К еврейскому обществу местечка Добромысли Оршанского уезда Могилевской губернии (теперь агрогородок в Лиозненском районе Витебской области) было приписано и все его семейство. В связи с этим обстоятельством Марк Шагал призывался на военную службу не из Витебска, где он жил, а из города Орши Могилевской губернии (см. III, 3; VI, 20).Архивные источники: Общий список евреев мужского пола, проживающих в 1-й части г. Витебска. 1874 г. (НИАБ. Ф. 1416. Оп. 1. Ед. хр. 2680. Л. 60, 96, 113 об.); Посемейный список мещан-евреев г. Витебска на 1881 г. (НИАБ. Ф. 2496. Оп. 1. Ед. хр. 2525. Л. 334 об. – 335); Посемейный список мещан-евреев г. Витебска на 1889 г. (НИАБ. Ф. 2496. Оп. 1. Ед. хр. 2546. Л. 249). Литература: Степанец Ю. Из истории семьи Шагалов: новые архивные документы // Бюллетень Музея Марка Шагала. 2000. № 2. С. 3; Дзянісаў У. Новыя дакументы да біяграфіі і радаводу Марка Шагала // Бюллетень Музея Марка Шагала. 2002. № 1 (7). С. 19–20.

Башева Шагал. Витебск, около 1914
 Хацкель и Фейга-Ита Шагалы. Витебск, начало 1910-х
Хацкель и Фейга-Ита Шагалы. Витебск, начало 1910-х
 Семья Шагалов. Витебск, 1914.
Слева направо – сидят: Лиза, Фейга-Ита, Хацкель, бабушка Башева, Роза, Маня;
стоят: Анна с мужем Борисом, Зина с мужем Самуилом, Марк, Давид; у ног матери Марьяся
Семья Шагалов. Витебск, 1914.
Слева направо – сидят: Лиза, Фейга-Ита, Хацкель, бабушка Башева, Роза, Маня;
стоят: Анна с мужем Борисом, Зина с мужем Самуилом, Марк, Давид; у ног матери Марьяся
 Анна. Витебск, середина 1900-х
Анна. Витебск, середина 1900-х
 Давид (слева) и Марк. Витебск, 1910
Давид (слева) и Марк. Витебск, 1910
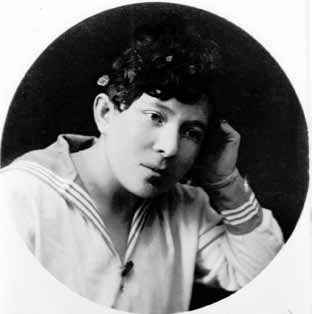 Мария (Маня). Петроград (?), 25 сентября 1921
Мария (Маня). Петроград (?), 25 сентября 1921
 Марьяся. Ленинград, середина 1920-х
Марьяся. Ленинград, середина 1920-х
 Анна и ее дочь Евгения (в первом ряду), Марьяся и Фира, дочь Лизы. Ленинград, конец 1930-х – начало 1940-х
Анна и ее дочь Евгения (в первом ряду), Марьяся и Фира, дочь Лизы. Ленинград, конец 1930-х – начало 1940-х
 Во время встречи в Ленинграде. Июнь 1973.
Слева направо: Валентина Шагал, Лиза Шуб, Марк Шагал и Игорь Корниенко, внук Лизы
Во время встречи в Ленинграде. Июнь 1973.
Слева направо: Валентина Шагал, Лиза Шуб, Марк Шагал и Игорь Корниенко, внук Лизы
Хацкель Мордухов (Мордухович) Шагал (1863–1921) и Фейга-Ита Чернина, в замужестве Шагал (1866–1915), отец и мать художника
Хацкель Шагал был старшим сыном от второго брака Давида Сагала. В 1885 г. женился на Фейге-Ите Черниной, уроженке местечка Лиозно Могилевской губернии (находилось в 40 километрах от Витебска). Ее отец Мендель Чернин был резником. О роде Черниных известно немного. Есть сведения о том, что представители рода жили в Витебске, Лиозно, Бабиновичах, Колышках и других местечках недалеко от Витебска. Как пишет Шагал в книге «Моя жизнь», в год, когда поженились его родители, умерли дед художника Давид Шагал и мать Фейги-Иты, и отец Фейги-Иты Мендель Чернин, живший в Лиозно, женился вторым браком на Башеве Шагал, жившей в Витебске. Башева стала Черниной и переехала к мужу в Лиозно. Первые годы после свадьбы семья жила в 1-й части Витебска на бедной окраине, носившей название Песковатик. К 1894 г. Шагалы перебрались на жительство в 3-ю часть Витебска, на Покровскую улицу (см. I, 3). После смерти Фейги-Иты в 1915 г. Хацкель Шагал женился на ее сестре. К началу Первой мировой войны Мендель Чернин, отец Фейги-Иты, умер, и Башева, овдовев во второй раз, по-видимому, снова переселилась из Лиозно в Витебск, в семью своего сына Хацкеля. Она присутствует на семейных фотографиях той поры и изображена на работах Шагала «Витебской серии» 1914–1915 гг. Хацкель Шагал служил приказчиком в лавке купца Яхнина. В семейном архиве сохранилась справка о его трудовой деятельности, выданная по запросу Марии Захаровны Шагал в июле 1935 г. Витебским горсоветом: «Как видно из имеющихся документов в распоряжении Витебского Городского Совета покойный гр-н Шагал Хацкель Мордухович до Октябрьской революции работал у предпринимателя Яхнина в гор. Витебске, в качестве рабочего. С момента Октябрьской революции до 1921 года, т. е. по день своей смерти, постигшей при исполнении служебных обязанностей (убит проезжающим автомобилем) гр-н Шагал работал в качестве продавца кооперации гор. Витебска. Гр-н Шагал, как видно из документов, состоял с 1905 года членом Союза прикащиков». Погиб отец художника в августе 1921 г. О его смерти газета витебские «Известия» сообщала: «1 августа на углу Вокзальной и Канатной улиц легковой автомобиль сбил с ног и переехал переходившего через улицу прохожего. Последний, оказавшийся гр[ажданин]ом Шагалом, отцом известного витебского художника и бывшего директора Витебской художественной школы, был в бесчувственном состоянии доставлен в б[ывшую] Еврейскую больницу, а оттуда в госпиталь Красного Креста, где ему должны были сделать операцию. Через 10 минут после доставления гр[ажда]нина Шагала в госпиталь он, не приходя в сознание, скончался от раздробления черепа и кровоизлияния в мозгу» (Трагический случай // Известия Витебского губисполкома и губкома РКП(б). 1921. № 173. 3 августа. С. 4). В семье Хацкеля и Фейги-Иты родилось девять детей: Моисей (Марк), Анна (Хана), Давид (Мордух-Давид), Зина (Зисля), Лиза (Лея), Мария (Маня), Роза (Розалия), Мария (Марьяся), Рахель (Ревекка?).Архивные источники: Список семьи Хацкеля Мордухова Шагала на 1907 г. (репрод.: Meyer 1961. S. 25). Литература: Лисов А., Подлипский А. Новые факты биографии // Народнае слова (Biцебск). 1998. 20 жніўня; Лисов А., Подлипский А. Новое о семье Шагала // Шагаловский ежегодник 2002. С. 83; Рогач В. Некрополи семьи Шагала (К вопросу о месте захоронения родных художника) // Шагаловский ежегодник 2003. С. 47–50; Шишанов В. Несколько строк из жизни Марка Шагала // Мишпоха (Витебск). 2010. № 26. С. 46–50; Карпекин К. Род Черниных во второй половине ХІХ – ХХ вв.: попытка реконструкции генеалогического древа // Шагаловский сборник 2019. С. 190–198.
Моисей (Марк) Захарович (Хацкелевич) Шагал (1887–1985)
См. Основные даты жизни и творчества Марка Шагала.Анна (Хана) Захаровна (Хацкелевна) Шагал, в замужестве Грибова (1888–1946)
В 1906 г. вышла замуж за Бориса Карповича Грибова (1883–1943), уроженца Невеля, который занимался продажей мануфактуры, имел свой магазин. Вскоре переехала с мужем в Петербург, где прожила всю жизнь и способствовала переезду туда остальных сестер. Имела дочь Евгению (1920–?), сыновей Захара (1923–1944) и Михаила (умер в младенчестве). Во время Великой Отечественной войны вместе с мужем и дочерью эвакуировалась в Самарканд. Муж Анны умер в Кисловодске, по дороге в эвакуацию. Сын Захар, старшина 64-й гвардейской стрелковой дивизии, погиб на фронте 8 марта 1944 г. и похоронен в братской могиле на южной стороне дороги Кингисепп – Ивангород у въезда в Ивангород Ленинградской области. Дочь Евгения закончила медицинский институт, в 1943 г. в Самарканде вышла замуж за врача Арона Владимировича Шварцмана (1916–1988). Анна Грибова умерла 29 июля 1946 г. и похоронена на Еврейском кладбище в Ленинграде.Давид (Мордух-Давид) Захарович (Хацкелевич) Шагал (1891 – около1918)
После революции работал бухгалтером в Витебске в отделе социального обеспечения. Сочинял стихи, играл на мандолине, пел, рисовал. Будучи болен туберкулезом, в 1918 г. поехал лечиться в Крым и обратно уже не вернулся. Дата смерти и место захоронения неизвестны.Зина (Зисля) Захаровна (Хацкелевна) Шагал, в замужестве Маркович (1894–1947)
В 1914 г. вышла замуж за Самуила Мееровича Марковича (?–1940). В конце 1920-х гг. переехала в Ленинград. Работала бухгалтером, муж был инженером. Увлекалась рисованием. Имела дочь Анну (1915–1963), во втором браке Черную. Мать и дочь похоронены рядом на Еврейском кладбище в Ленинграде.Лиза (Лея) Захаровна (Хацкелевна) Шагал, в замужестве Шуб (1895–1975)
В 1919 г. вышла замуж за витеблянина, часовых дел мастера Вольфа Владимировича Шуба (1894–1972). Вскоре вместе с мужем переехала в Петроград. Имела дочь Фиру (Фейгу-Иту) (1920–1987), которая вышла замуж за Всеволода Петровича Корниенко (1914–1993). В годы Великой Отечественной войны оставалась вместе с семьей в блокадном Ленинграде, принимала участие в оборонительных работах. В начале 1970-х гг. Шагал купил Лизе, которая жила в коммуналке, отдельную квартиру, где и собирались родственники во время визита художника в Ленинград в 1973 г. Умерла 11 января 1975 г. Похоронена вместе с мужем и дочерью на Еврейском кладбище в Ленинграде.Мария (Маня) Захаровна (Хацкелевна) Шагал, в замужестве Перельсон (1900–1948)
С 1917 г. вела торговлю в бакалейной лавке в доме Шагалов. В 1920 г. вышла замуж за Арона Залмановича Перельсона (1895–1966), кустаря и заготовителя пушнины, с которым переехала в Петроград. Имела дочерей Иду, в замужестве Гольдберг, и Розу, в замужестве Гилилову. В годы Великой Отечественной войны оставалась с детьми в блокадном Ленинграде, принимала участие в оборонительных работах. Муж был призван в армию, служил на передовой, получил ранение и остался инвалидом. Дочь Марии Ида Ароновна Гольдберг (1924–2002) в 1948 г. закончила в Ленинграде Первый медицинский институт и поступила на работу в облэпидемстанцию, где заведовала паразитологическим отделом, занималась исследованием малярии, клещевого энцефалита, полиомиелита. В середине 1950-х гг. работала в вирусологической лаборатории, контролировала вирусные препараты. Опубликовала ряд статей в журнале «Советскаямедицина», выступала на научных конференциях. По ее воспоминаниям, чтобы заниматься работой должна была иметь специальный допуск, в связи с чем вынуждена была скрывать родство с Шагалом. Вторая дочь Марии Роза Ароновна (р. 1925) вышла замуж за врача-фармацевта Семена Натановича Гилилова. После войны работала на военном заводе, преподавала на курсах кройки и шитья. В 1989 г. вместе с семьей уехала в Израиль. Мария Перельсон, ее муж и дочь Ида похоронены на Еврейском кладбище в Ленинграде.Роза (Розалия) Захаровна (Хацкелевна) Шагал (1901–1917)
После смерти матери вела торговлю в бакалейной лавке в доме Шагалов. Заболела сыпным тифом и умерла в Витебске.Мария (Марьяся) Захаровна (Хацкелевна) Шагал, в замужестве Грибова (1902–1992)
В 1913 г. поступила в Витебскую 4-классную женскую еврейскую прогимназию Д.С. Давидовой, преобразованную после революции в 7-ю советскую трудовую единую школу II ступени (окончила в 1920 г.). Училась в 1-й партийной школе, работала с октября 1920 г. цензором почты в Витебском отделении военной цензуры. В начале мая 1921 г. по установлению факта разглашения ею служебной информации была арестована «на 30 суток без исполнения служебных обязанностей». Как выяснилось в результате дознания, Марьяся рассказала «известной буржуазной семье гор. Витебска неким Розенфельд» о месте своей службы и факте существовании военной цензуры. Отбыв наказание, которое было сокращено по ее просьбе на 10 суток, в конце июня 1921 г. спешно уволилась с работы и покинула Витебск, уехав жить к сестрам в Петроград. 13 июня 1926 г. вышла замуж за Залка-Соломона Карповича Грибова (1889–1966), родного брата старшей сестры Анны. Имела дочь Софью (род. 1928), которая окончила в Ленинграде архитектурно-строительный институт и работала конструктором. Умерла 29 декабря 1992 г. Похоронена на Еврейском кладбище в Ленинграде.Значительный интерес представляет рукописная анкета, заполненная Марьясей Шагал в 1920 г. при поступлении на службу в военную цензуру почты (Личное дело № 240 Шагал Маруси Захаровны. 1920–1921 / Музей Марка Шагала в Витебске). Приводим ее полностью. Вопросы написаны коричневыми чернилами, ответы – красными.
АНКЕТА СОТРУДНИКА ВИТЕБСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВОЕННОЙ ЦЕНЗУРЫ

Фамилия Имя Отчество: Шагал Марьяся Захарьевна. Какую занимаете должность: цензор почты. в отделении: [запись отсутствует] Возраст: 17 лет. Образование: окончила 4 группу 7 сов[етской] шк[олы] II ступени в 1920 году. Занимаете ли вы где-либо должность помимо Военной Цензуры, где, какую, с каким окладом: нигде кроме цензуры. Какими иностранными или инородческими языками владеете: немного по немецки. Род занятий до Февральской Революции (подробно): училась; нигде не служила до поступления в цензуру. Жила у отца, дома в Витебске. Род занятий после Февральской во время Октябрьской и после Октябрьской Революции (подробно): [запись отсутствует] Семейное положение: не замужем. Кто из семьи состоит на вашем иждивении: никто. Социальное положение ваших родных до Революции (звание, сословие, чин или титул родителей, братьев и сестер; их род занятия): отец, сестры – 4, братья – 2. Отец до революции был приказчиком в Витебске в складе Яхнина. Сестры – учились. Братья – один художник, бухгалтер в соц[иальном] обезпеч[ении]. Социальное положение и занятие ваших родных в данное время: отец сейчас безработный, 55 лет. Сестра – безработ[ная] 20 лет; ост[альные] 3 замужем; братья – один уехал в Крым год тому назад. Местопребывание ваших родных: Покровская, 29 – отец и с сестрой. Брат художн[ик] – на Задуновской. Ваши политические убеждения до революции и в настоящее время (подробно): до революции не было никаких убеждений; сейчас сочувствую Коммун[истической] партии. Привлекались ли к суду или следствию, подвергались ли наказанию в судебном или административном порядке (где, когда и за что): [запись отсутствует] Ваше отношение к военной службе в прошлом и в данное время (подробно): [запись отсутствует] Кто рекомендует на службу в Военную Цензуру (не менее двух рекомендаций коммунистов): Губернский Партийный Комитет. В случае неверных или заведомо неточных сведений заполнивший анкету подлежит увольнению со службы и привлечению к ответственности. Подпись: [подпись отсутствует] Анкета проверена. Начальник Отделения: [подпись отсутствует] дня 1920 г. [дата не проставлена].
Рахель (Ревекка?) Захаровна (Хацкелевна) Шагал (1904–1908?)
Умерла в Витебске.Литература: Шульман А. Ветви одного дерева // Мишпоха (Витебск). 1998. № 4. С. 37–40; Петрова 1999; Лисов А., Подлипский А. Новое о семье Шагала // Шагаловский ежегодник 2002. С. 81–87; Хмельницкая Л. Марьяся Шагал: до и после революции // Бюллетень Музея Марка Шагала. № 1 (9). 2003. С. 23–24.
3. Витебские адреса Шагала
Витебск на рубеже XIX – ХХ веков. Статистическая справка
По данным «Памятной книжки Витебской губернии на 1905 год», город имел 81 122 жителя. Из них евреев было 50 %, белорусов 29 %, великорусов 12 %, малорусов 2 %, поляков 5 %, латышей и литовцев 1 %, немцев 1 %. По вероисповеданиям население распределялось следующим образом: иудеев 50 %, православных и единоверцев 39 %, католиков 7 %, старообрядцев 2 %, лютеран 2 %. Имелись 3 синагоги и 56 молитвенных домов, 32 православные церкви, 2 костела, 1 кирха. В Витебске было 304 улицы и переулка, 9 площадей, 4 общественных сада, 10 гостиниц, 14 меблированных комнат, 65 фабрик и заводов, водопровод (с 1894), электрический трамвай (с 1898). Город был крупным железнодорожным центром, имелось пароходное сообщение по реке Западной Двине. В Витебске действовало 41 учебное заведение, городской театр на 800 мест, в местной типографии печатались 2 газеты: «Витебские Губернские Ведомости» и «Полоцкие Епархиальные Ведомости». Витебск. Вид на центральную часть города. Открытка начала ХХ в.
Витебск. Вид на центральную часть города. Открытка начала ХХ в.
 Витебск. Большая синагога на Суворовской (бывш. Офицерской) улице. Открытка начала ХХ в.
Витебск. Большая синагога на Суворовской (бывш. Офицерской) улице. Открытка начала ХХ в.
 Витебск. Здание Окружного суда (слева) и вид на Ратушную площадь. Открытка начала ХХ в.
Витебск. Здание Окружного суда (слева) и вид на Ратушную площадь. Открытка начала ХХ в.
 Витебск. Улица Подвинская (Л.Н. Толстого) и Успенский собор. Открытка начала ХХ в.
Витебск. Улица Подвинская (Л.Н. Толстого) и Успенский собор. Открытка начала ХХ в.
Родительский дом Шагала
Ныне – ул. Покровская, 11; ранее – 1-я Покровская, 29; Большая Покровская, 29; ул. Жореса, 29; ул. Дзержинского, 11. Улица Покровская находилась в 3-й части Витебска, которая называлась Задвинье и соединяла между собой две торговые площади: Полоцкую и Ильинскую. Имела протяженность около 800 метров и разделялась на 1-ю и 2-ю Покровскую, или Большую и Малую Покровскую. На запад от Полоцкой площади находился железнодорожный вокзал, на северо-восток от усадьбы Шагалов – Ильинская и Покровская церкви. На Покровскую улицу Шагалы перебрались на жительство к 1894 г. Как свидетельствуют «Окладные книги Витебской городской управы», на 2-й Покровской (или Малой Покровской) улице «мещане Хацкель и Фейга-Ита Шагаловы» купили «деревянный дом и флигель». В сентябре 1900 г. родители художника подали в городскую управу прошение с просьбой разрешить им постройку «каменного одноэтажного с погребом дома в 3 части г. Витебска по Покровской улице». Разрешение было получено и, видимо, за следующий строительный сезон дом построили. В одной из комнат этого дома, чтобы поддержать бюджет семьи, Фейга-Ита открыла бакалейную лавку. Как свидетельствуют документы Витебской городской оценочной комиссии, к 1904 г. «Хацкель Мордухович Шагал, мещанин» владел на Большой Покровской улице 130 квадратными саженями земли, на которых размещались 1-этажный жилой деревянный дом, 1-этажный жилой каменный дом и 1-этажный жилой деревянный дом во дворе (флигель). В кирпичном доме жила семья и находилась лавка, часть помещений в деревянных домах сдавалась внаем. К 1915 г. к недвижимости Шагалов на Покровской улице прибавился еще один деревянный флигель и дощатый сарай. Все дома располагались по периметру участка. Внутреннее пространство двора было вымощено булыжником. После революции в домах на Покровской улице продолжали жить незамужние младшие сестры Шагала вместе с отцом и мачехой. К концу 1920-х гг. все сестры Шагала перебрались на жительство в Петроград-Ленинград. Последней родительский дом в Витебске оставила, по-видимому, сестра Зина. Ю.М. Пэн во дворе дома Шагалов. Витебск, 1928
Ю.М. Пэн во дворе дома Шагалов. Витебск, 1928
 Бывший дом Шагалов. Витебск, 1970–1980-е
Бывший дом Шагалов. Витебск, 1970–1980-е
 Кинематографисты в доме Мейтиных (бывший Шагалов). Витебск, 1989. Фото М. Шмерлинга. Слева направо: Давид Симанович, Зиновий и Раиса Мейтины
Кинематографисты в доме Мейтиных (бывший Шагалов). Витебск, 1989. Фото М. Шмерлинга. Слева направо: Давид Симанович, Зиновий и Раиса Мейтины
В июне 1923 г. Покровская улица была переименована в улицу Жореса. В 1929 г. владельцами недвижимого имущества по ул. Жореса, 29 числились «наследники Шагала». Вскоре оставленная бывшими хозяевами недвижимость была муниципализирована. С 1930-х гг. в некогда принадлежавших Шагалам домах проживали семьи, никакого отношения к прежним владельцам не имевшие. В годы Великой Отечественной войны сильной бомбардировке подвергся находившийся неподалеку железнодорожный вокзал. Все деревянные дома на ул. Жореса, в том числе и некогда принадлежавшие Шагалам, сгорели. От кирпичного дома остались только стены. В 1946 г. жители Витебска М.М. Мейтин и Д.В. Шевход заключили с жилгоруправлением договор на восстановление кирпичного дома. Была произведена его перепланировка и с двух сторон фасада сделаны пристройки. Вход в лавку с улицы заложили, сделав на его месте окно.
 Мемориальный Дом-музей Марка Шагала в Витебске. Современное фото
Мемориальный Дом-музей Марка Шагала в Витебске. Современное фото
 Двор мемориального Дома-музея Марка Шагала в Витебске. Современное фото
Двор мемориального Дома-музея Марка Шагала в Витебске. Современное фото
В августе 1950 г. улицу Жореса переименовали в улицу Дзержинского. Бывший дом Шагалов получил № 11. Семья Мейтиных жила в доме до середины 1990-х гг. В январе 1988 г. решением Витебского облисполкома дом по ул. Дзержинского, 11 был взят под охрану государства как памятник архитектуры местного значения. В ноябре 1991 г. по решению городских властей улице Дзержинского было возвращено историческое название – Покровская. В 1996–1997 гг. была проведена реставрация кирпичного дома, ликвидированы возведенные в 1946 г. боковые пристройки, произведена перепланировка. 6 июля 1997 г. состоялось торжественное открытие мемориального Дома-музея Марка Шагала в Витебске.
Архивные источники: Окладная книга Витебской городской управы на 1894/5 год (НИАБ. Ф. 2496. Оп. 1. Ед. хр. 4973. Л. 134 об.); Настольный реестр решенным делам строительного стола. 1900 г. (НИАБ. Ф. 2496. Оп. 1. Ед. хр. 2317. Л. 95 об.); Сведения о городских недвижимых имуществах в 3-й части г. Витебска по Большой Покровской улице (НИАБ. Ф. 2618. Оп. 5. Ед. хр. 1. Л. 26); Списки владельцев недвижимого имущества г. Витебска на 1915 г. (НИАБ. Ф. 2496. Оп. 1. Ед. хр. 5182. Л. 354 об. – 355); Список муниципализированных домов по 3-му району гор. Витебска. 1929 г. (ГАВО. Ф. 302. Оп. 1. Ед. хр. 221. Л. 14). Литература: Рыўкін М. Пра бацькоўскі дом М. Шагала. З архіўных крыніц // Віцебскі рабочы. 1991. 15 студзеня. С. 3; Рыўкін М. Бацькоўскі дом Шагала // Віцебскі рабочы. 1992. 9 ліпеня; Хмельницкая Л. Из истории Покровской улицы – родной улицы Марка Шагала // Шагаловский сборник 1996. С. 231–240; Подлипский А. Витебские адреса Марка Шагала. Витебск, 2000. С. 8–16; Коханко В. Архивная находка: проект восстановления дома № 29 по улице Большая Жореса // Бюллетень Музея Марка Шагала. Вып. 21. Витебск, 2013. С. 81–83; Шишанов В. Шагаловские места Витебска на немецкой аэрофотосъемке 1941 г. // Шагаловский сборник 2016. С. 262–268.
Витебское городское четырехклассное училище
Ныне – ул. Ленина, 24; ранее – угол Большой Могилевской и Рождественской улиц. Витебское городское четырехклассное училище с ремесленным класном учреждено 1 июля 1897 г. путем реформирования уездного училища. Трехэтажное здание из неоштукатуренного кирпича, построенное в конце XIX в., сохранилось до наших дней. В училище с 1900 по 1905 г. учился Шагал. Обучение в четырехклассном училище фактически продолжалось шесть лет – в первых двух классах учащиеся занимались по два года (на первом, а потом втором отделениях). Обучались только лица мужского пола, преимущественно из мещанского сословия. Помимо получения начального образования все желающие могли пройти обучение кузнечно-слесарному или столярно-токарному ремеслу. Шагал возможностью обучения ремеслу не воспользовался. С учеников взималась небольшая плата за обучение (8 рублей в год). С 1900 по 1901 г. в одном классе с Шагалом занимался Виктор (Авигдор) Меклер, с 1900 по 1903 г. – Осип (Иосель) Цадкин, который посещал также столярно-токарный класс. Осенью 1918 г. училище было реорганизовано в 1-ю советскую трудовую школу 2-й ступени. Впоследствии здесь находилась средняя школа № 1 до осени 1968 г., школа рабочей молодежи № 10, ныне – Витебский городской центр дополнительного образования детей и молодежи. Летом 2020 г. на доме открыта мемориальная доска в честь М. Шагала и О. Цадкина (скульптор С. Сотников).Литература: Лисов А. Цадкин и Витебск // Шагаловский сборник 1996. С. 176–187; Подлипский А. Первая не только по номеру. История витебской СШ № 1. Ч. 1 (1918–1968). Витебск, 1998. С. 4–11; Подлипский А. Витебские адреса Марка Шагала. Витебск, 2000. С. 17–20; Хмельницкая Л. Марк Шагал: годы учебы в Витебском городском училище // Шагаловский сборник 2008. С. 115–124.
 Здание бывшего Витебского городского четырехклассного училища. Современное фото
Здание бывшего Витебского городского четырехклассного училища. Современное фото
 Музей истории Витебского Народного художественного училища. Современное фото
Музей истории Витебского Народного художественного училища. Современное фото
Витебское Народное художественное училище
Ныне – ул. Марка Шагала, 5а; ранее – ул. Воскресенская, 10; ул. Бухаринская,10(с 1918); ул. газеты «Правда», 5а (с 1962 по 2016). Особняк был построен в 1912–1913 гг. как жилой дом для семьи купца 1-й гильдии Израиля Вульфовича Вишняка. И.В. Вишняк занимался торговлей мануфактурой, был агентом Санкт-Петербургской компании «Надежда» и Российского общества застрахования капиталов и доходов, владел банкирской конторой и недвижимостью в разных частях города. В двухэтажном с подвалом особняке имелись электрическое освещение, водопровод, два ватерклозета и две ванные комнаты на разных этажах. Во дворе на 400 квадратных саженях был разбит сад. К осени 1918 г. особняк И.В. Вишняка был муниципализирован и передан для устройства в нем Народного художественного училища. Предметы интерьера частично вывезены, частично расхищены. К первой годовщине революции Воскресенская улица была переименована в Бухаринскую. В 1919–1922 гг. в особняке располагалось Витебское Народное художественное училище (ВНХУ). В здании проходили учебные занятия, а также проживала часть преподавателей. В январе 1922 г. ВНХУ было преобразовано в Витебский художественно-практический институт, который занимал второй этаж; на первом размещался Музыкальный техникум. К осени 1923 г. институт, преобразованный в Витебский художественный техникум, был переведен в здание синагоги на Володарской улице, а Музыкальный техникум осенью 1924 г. – на ул. Толстого. С 1924 г. до Великой Отечественной войны в особняке размещались детские дома, потом поликлиника. Во время войны здание было повреждено. С 1957 г. в нем размещался Стройтрест № 9, с 1974 г. до конца 2000-х гг. – Вычислительный центр стройтреста, а также ломбард и риэлтерские конторы. В 1998 г. несколько комнат были отведены Центру современного искусства. 25 июля 1999 г. на здании открыта мемориальная доска (скульптор В. Могучий): «В этом здании находились: 1918–1920 гг. Высшее народное художественное училище, 1920–1922 гг. мастерские УНОВИС, 1920–1922 гг. Свободные художественные мастерские, 1922–1923 гг. Художественно-практический институт». В конце октября 2011 г. дом был передан из республиканской в городскую собственность, после чего началась разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания под «Музей истории Витебского Народного художественного училища». В 2014 г. начались строительные работы. В апреле 2016 г. отрезок улицы газеты «Правда» между улицами Ленина и Калинина был переименован в улицу Марка Шагала. 7 июля на доме № 1 была установлена доска (скульптор С. Сотников): «Вуліца названа ў гонар славутага мастака з Віцебска Марка Шагала» («Улица названа в честь знаменитого художника из Витебска Марка Шагала»). 9 февраля 2018 г. состоялось торжественное открытие «Музея истории Витебского Народного художественного училища».Архивные источники: Настольная делам строительного стола Витебской городской управы. 1908–1913 гг. (НИАБ. Ф. 2496. Оп. 1. Ед. хр. 2362. Л. 121 об., 162 об.); План дома № 10 по Бухаринской улице (ГАВО. Ф. 9. Оп. 1. Ед. хр. 626. Т. 1. Л. 25–25 об.). Литература: Подлипский А. Витебские адреса Марка Шагала. Витебск, 2000. С. 35–39; Подлипский А. Витебские Вишняки // Шагаловский ежегодник 2002. С. 113–120; Хмельницкая Л. Несколько фактов из истории одного здания // Бюллетень Музея Марка Шагала. № 2 (8). 2002. С. 23–24; Котович Т.В. Особняк Вишняка = Школа Шагала. Витебск, 2017; Хмельницкая Л. Несколько фактов из биографии витебского банкира И.В. Вишняка // Шагаловский сборник 2019. С. 162–166.
4. К Родословию Розенфельдов
Упоминания о Розенфельдах, живших в Витебске, встречаются в архивных и печатных источниках с первой половины XIX в. Однако установить их связь с семьей Беллы Шагал не представляется возможным.Шмуль-Неух Ицков Розенфельд (1858–1923) и Фрида-Алта Борухова Левьянт (1860–1943), отец и мать Беллы
Поскольку в одном из документов Шмуль-Неух назван «бывшим лепельским мещанином», можно утверждать, что первоначально он был приписан к мещанскому обществу Лепеля, уездного города Витебской губернии. Около 1878 г. женился на Фриде-Алте Левьянт, родители которой Борух-Аарон и Айга Левьянт были очень религиозны и жили в Витебске на Офицерской улице напротив здания Большой синагоги в одноэтажном каменном доме, принадлежавшем Шмулю-Неуху. В жизни еврейской общины города отец Беллы играл заметную роль: состоял членом правления Витебского общества пособия бедным евреям и старшим Витебской Талмуд-Торы, на нужды которой пожертвовал второй каменный одноэтажный дом, находившийся на Офицерской улице. Шмуль-Неух был записан витебским купцом 2-й гильдии и имел два магазина золотых и серебряных изделий – на Смоленской и Вокзальной улице. В магазине на Смоленской улице, где продавались также часы и бриллиантовые изделия, торговали сам Шмуль-Неух и его жена, в магазине на Вокзальной улице – брат жены Хаим-Лейб Левьянт. Магазин на Смоленской улице находился в самом центре города, в доме Витенберга. В этом же доме размещались гостиница «Брози», фотоателье А. Маковского, кондитерская «Жан Альберт», мебельный магазин Х. Шехтера, магазин конторских, канцелярских и письменных принадлежностей Ш.З. Яхнина, скоропечатня и склад Добрушской бумажной фабрики князя Паскевича. В доме Витенберга жила и вся семья Розенфельдов, занимая несколько комнат, в которые можно было пройти как с улицы, так и из магазина. После Октябрьской революции ювелирные магазины Розенфельдов были закрыты, ценности изъяты. Шмуль-Неух и Фрида-Алта покинули Витебск и переселились в Москву. Оба умерли и похоронены в Москве. После революции в бывшем доме Витенберга открылся Народный университет имени Энгельса, в бывшем магазине Розенфельдов устроен окружной нотный склад. Дом Витенберга разрушен в годы Великой Отечественной войны и позднее снесен. В семье Розенфельдов родилось девять детей: Исаак (Ицка), Анна (Хана), Арон, Яков (Янкель-Гирша), Мендель, Израиль, Белла (Бася-Рейза, Берта), Симха, Абрам.Архивные источники: Об открытии Талмуд-Торы в Витебске. 1893 г. (НИАБ. Ф. 2643. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 347–347 об.); Наряд о купцах на 1894 г. (НИАБ. Ф. 2496. Оп. 1. Ед. хр. 1060. Л. 394). Литература: Памятная книжка Виленского учебного округа на 1900/01 учебный год. Вильна, 1901. С. 282; Адресная и справочная книга города Витебска. Витебск, 1907. С. 124, 147; Хмельницкая Л. Штрихи к портрету (из истории семьи Розенфельд в Витебске) // Мишпоха (Витебск). 1998. № 4. С. 30–32; Подлипский А. Белла из семьи Розенфельдов // Мишпоха. 1998. № 4. С. 33–36; Рогач В. Печать семьи Розенфельдов // Шагаловский ежегодник 2002. С. 146–148; Подлипский А. Розенфельды (семья жены Марка Шагала) // Шагаловский ежегодник 2003. С. 116–129; Шишанов В. Марк Шагал: этюды к биографии художника по архивным делам // Шагаловский сборник 2008. С. 171–175; Карпекин К. Торговцы и бухгалтеры: Розенфельды в Витебске в первые послереволюционные годы // Шагаловский сборник 2016. С. 204–217.
 Шмуль-Неух Розенфельд. Витебск, 1900-е
Шмуль-Неух Розенфельд. Витебск, 1900-е
 Фрида-Алта Розенфельд. Витебск, 1900-е
Фрида-Алта Розенфельд. Витебск, 1900-е
 Братья и сестры Розенфельды. Витебск, 1909
Слева направо: Белла, Мендель, Анна, Израиль, Арон, Абрам
Братья и сестры Розенфельды. Витебск, 1909
Слева направо: Белла, Мендель, Анна, Израиль, Арон, Абрам
 Витебск. Магазин Ш.И. Розенфельда в доме Витенберга. Открытка начала ХХ в.
Витебск. Магазин Ш.И. Розенфельда в доме Витенберга. Открытка начала ХХ в.
 Витебск. Гостиница «Брози» в доме Витенберга. Открытка начала ХХ в.
Витебск. Гостиница «Брози» в доме Витенберга. Открытка начала ХХ в.
 Анна и Абрам Гинзбурги. Витебск. Начало 1910-х
Анна и Абрам Гинзбурги. Витебск. Начало 1910-х
 Арон Розенфельд. Витебск. 1921
Арон Розенфельд. Витебск. 1921
 Яков и Белла Розенфельды. Витебск, 1915
Яков и Белла Розенфельды. Витебск, 1915
Исаак (Ицка) Самойлович Розенфельд (1879–1978)
В 1903 г. уехал за границу. Учился в Гисенском университете (не окончил), потом – на философском факультете Бернского университета, где защитил диссертацию на звание доктора философии (диссертация была напечатана в Берне в 1912 г. с посвящением: «Моим дорогим родителям»). В 1905 г. женился на студентке Бернского университета, уроженке Петербурга Софье (Сарре) Исааковне Дымшиц (1884–1963). Брак оказался недолгим, в 1906 г. молодые расстались. После окончания Бернского университета остался в Европе. Позднее поселился в Париже, где до сих пор живут его внуки.Архивные источники: Документы Бернского городского и университетского архивов об учебе И.С. Розенфельда. 1903–1912 гг. (Stadtarchiv Bern. BBIIIb 769–773; E 2.2.1.3.109. Nr. 117; E 2.2.1.3.110. Nr. 145, 278). Литература: Хмельницкая Л. Сплетения судеб (Исаак Розенфельд, Софья Дымшиц-Толстая, Марк и Белла Шагалы) // Бюллетень Музея Марка Шагала. Вып. 14. Витебск, 2006. С. 87–109.
Анна (Хана) Самойловна Розенфельд, в замужестве Гинзбург (1881–1956)
Получила домашнее воспитание. К концу 1890-х гг. примкнула к революционному движению. В 1898 г. вошла в состав Витебского комитета РСДРП. В 1901 г. арестована, заключена в Одесскую тюрьму, позднее выслана под гласный надзор полиции в «Якутскую область». В 1905 г. в ссылке вышла замуж за революционера Абрама Моисеевича Гинзбурга (1878–1937), который в 1931 г. стал одним из главных обвиняемых на процессе «Союзного бюро партии меньшевиков», приговорен к 10 годам заключения и расстрелян в 1937 г. Вместе с мужем и сыновьями Валентином (1907–1976) и Леонидом (1909–1943) жила в Киеве, затем в Москве.Литература: Шишанов В. «Эти молодые люди были ярыми социалистами…» Участники революционного движения в окружении Марка Шагала и Беллы Розенфельд // Бюллетень Музея Марка Шагала. Вып. 13. Витебск, 2005. С. 64–74; Хмельницкая Л. Социалисты (материалы к биографиям Ханы Розенфельд и Абрама Гинзбурга) // Бюллетень Музея Марка Шагала. Вып. 19–20. Витебск, 2011. С. 125–136.
Арон Самойлович Розенфельд (1881–1941)
Получил домашнее образование, занимался торговлей вместе с отцом. В 1904 г. провел три месяца в Витебской тюрьме «за политические убеждения». До Февральской революции 1917 г. работал на предприятиях Петрограда, затем вернулся в Витебск, где в 1919–1921 гг. служил бухгалтером. Позднее жил с семьей в Ленинграде.Яков (Янкель-Гирша) Самойлович Розенфельд (1883–1973)
В 1903 г. уехал за границу. Учился на философском факультете Женевского университета и экономическом факультете Гисенского университета. Вернувшись в Россию, подвергся преследованиям за участие в революционной деятельности. С 1905 г. поселился в Петербурге, сотрудничал в газетах, выступая с экономическими обзорами. С 1908 г. работал секретарем редакции столичного журнала «Промышленность и торговля». В 1915 г. поступил на службу в Центральный военно-промышленный комитет, где заведовал Отделом труда и металлургии. После революции жил в Петрограде – Ленинграде, работал в различных госучреждениях, читал лекции по экономике в учебных заведениях города: Политехническом институте (с 1926), ЛГУ и Финансово-экономическом институте (1940–1947). В 1930 г. арестован по «делу Промпартии», в 1931 г. освобожден. В 1947 г. в период «борьбы с космополитизмом» подвергся критике за «пресмыкательство перед американским капиталом», уволен из ЛГУ. В 1949 г. снова арестован, провел в тюрьмах, лагерях и ссылке 6 лет. Реабилитирован посмертно в 1993 г. Автор научных монографий: «Промышленная политика СССР, 1917–1925» (М., 1926); «Промышленность Соединенных Штатов Америки и война» (М., 1946); «История машиностроения СССР с первой половины XIX в. до наших дней» (совместно с К.И. Клименко; М., 1961). Одна из последних работ Я.С. Розенфельда – «Крупная буржуазия России и ее политическое развитие», подготовленная автором к печати в 1973 г. и не увидевшая свет по политическим причинам – была издана экономическим факультетом Санкт-Петербургского государственного университета в 2010 г.Архивные источники: Материалы к биографии Я.С. Розенфельда. 1933–1938 гг. (Архив Санкт-Петербургского государственного технического университета. Ед. хр. 4036). Литература: Карлик Е. Профессор Розенфельд. Штрихи к портрету ученого, педагога, коммуниста // Политехник (Л.). 1989. № 21. С. 3, № 22. С. 3; Дмитриев А. Жизненные пути экономиста Якова Розенфельда // Шагаловский ежегодник 2006. С. 31–50; Эльяшова Л. Любимым делом – заниматься наукой – он продолжал до последних своих дней… // Шагаловский ежегодник 2006. С. 51–52; Шишанов В. Яков Розенфельд: превратности судьбы // Шагаловский сборник 2008. С. 169–170.
Мендель Самойлович Розенфельд (1884–1934)
Врач, после революции жил в Москве.Израиль Самойлович Розенфельд (1887 – около 1942)
Планируя продолжить дело отца, обучался работе с драгоценными камнями за границей. После революции жил в Петрограде – Ленинграде.Абрам Самойлович Розенфельд (1892–1980)
После окончания реального училища в Скопине Рязанской губернии поступил на экономический факультет Киевского коммерческого института, специалист в области лесной промышленности. Автор нескольких книг. Жил с семьей в Москве. Его сын Борис Абрамович Розенфельд (1917–2008) – математик, специалист по истории математики. В 1990 г. переехал с семьей в США, профессор университета штата Пенсильвания.Литература: Розенфельд Б. О семье, отце и о себе // Шагаловский ежегодник 2005. С. 39–45.
Белла (Бася-Рейза, Берта) Самойловна (Шмуйловна, Неуховна) Розенфельд (189511–1944), в замужестве Шагал
Училась в Витебске в частном училище Р. Милинарской (1900–1905) и в старших классах женской Александровской гимназии (1905–1907). В 1907 г. поступила в Москве на историко-философский факультет Высших женских курсов (курсы В.И. Герье). После окончания курсов в 1914 г. вернулась в Витебск. В 1915 г. вышла замуж за Марка Шагала, в 1916 г. родилась дочь Ида. В 1915–1917 гг. вместе с семьей жила в Петрограде, затем в Витебске, в 1920–1922 гг. – в Москве, в 1922 г. уехала в Берлин, затем в Париж. В конце 20-х гг. перевела на французский язык книгу М. Шагала «Моя жизнь». В июне 1941 г. вместе с семьей переезжает в Нью-Йорк. Пишет на идише книгу воспоминаний «Горящие огни» (при жизни не издана). Умерла 2 сентября 1944 г., похоронена на еврейском кладбище в 20 километрах от Нью-Йорка.Литература: Хмельницкая Л. Новые сведения к биографии Беллы Розенфельд витебского периода // Шагаловский сборник 2008. С. 104–109; Факты из жизни Берты. Воспоминания Я.С. Розенфельда. Вступл. и публ. В. Шишанова // Бюллетень Музея Марка Шагала. 2003. № 2 (10). С.11–13; Шишанов 2008. С. 176–182; Апчинская Н.В. «Горящие огни» Беллы Шагал // Белла Шагал 2001. С. 337–346.
 Белла Шагал. Нью-Йорк, 1941
Белла Шагал. Нью-Йорк, 1941
5. Документы об учебе Беллы Розенфельд в Витебске и Москве
Прошение Ш.И. Розенфельда о приеме его дочери в Витебскую женскую гимназию
10 августа 1905 г. Ея Высокородию госпоже начальнице Витебской женской гимназии ведомства Министерства Народного Просвещения12. Витебского 2-й гильдии купца Шмуйлы Ицкова Розенфельда, проживающего по Смоленской улице г. Витебска, в д[оме] ВитенбергаПРОШЕНИЕ
Желая определить дочь мою Басю-Рейзу, обучавшуюся в Витебском частном семиклассном училище г-жи Милинарской13, в шестой класс вверенной Вам гимназии ведомства Министерства Народного Просвещения, честь имею покорнейше просить допустить ее к испытанию по предметам, требуемым для поступления в VI класс. При сем прилагаю: 1) метрическое свидетельство; 2) свидетельство об оспопрививании14. Витебский купец Шмуиль Ицков Розенфельд. Витебск, 10 августа, 1905 г.[Приписка: ] Документы получила Бася Розенфельд
НИАБ. Ф. 2604. Оп. 1. Ед. хр. 346. Л. 13. Подлинник. Подпись – автограф.
 Белла Розенфельд. Витебск, 1907. Фотомастерская В. Островского
Белла Розенфельд. Витебск, 1907. Фотомастерская В. Островского
Из «Книги для записи вновь поступающих учениц Витебской женской гимназии Министерства народного просвещения». 1905 г
<…>№ 206. Розенфельд Бася-Рейза Шмуилева. [Родилась]: 1889 г., декабря 2. [Вероисповедания]: иудейского. [Происхождение]: дочь купца. [Поступает] в 6-й класс. [Откуда поступает]: обучалась в Витебском частном 7-классном училище Милинарской. [Отметки, полученные на испытании]: русский язык – 4, арифметика – 5, естественная история и физика – 4, география – 5, история – 4. [Решение Педагогического совета]: принята.НИАБ. Ф. 2604. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 21 об. – 22. Подлинник.
Аттестат Б. Розенфельд об окончании Витебской женской Алексеевской гимназии
31 мая 1907 г.АТТЕСТАТ № 267 Предъявительница сего, ученица VII класса Витебской Алексеевской женской гимназии Розенфельд Бася-Рейза Шмуилева, как видно из документов, дочь купца, иудейского исповедания, родившаяся 2 декабря 1889 г., поступила по экзамену в 1905 г. в 6-й класс Витебской Алексеевской женской гимназии и, находясь в ней до окончания полного курса учения, в продолжение всего этого времени вела себя отлично и была переводима, в высшие классы, а именно из 6-го в 7-й класс в 1906 году. В настоящем году, при окончании курса гимназии, познания ее в обязательных предметах были аттестованы следующими баллами: 1) В Законе Божием пять (5). 2) В русском языке с церковно-славянским и словесности пять (5). 3) В математике пять (5). 4) В географии всеобщей и русской пять (5). 5) В естественной истории четыре (4). 6) В истории всеобщей и русской пять (5). 7) В физике пять (5). 8) В математической географии пять (5). Из всех предметов получила в общем среднем выводе отметку [запись отсутствует]. Затем чистописанию и рукоделию обучалась с хорошими успехами. Сверх того, из необязательных предметов гимназического курса она обучалась: немецкому языку с отличными успехами, французскому языку с отличными успехами, латинскому языку [запись отсутствует], рисованию [запись отсутствует], педагогике с отличными успехами. Почему, на основании установленных правил, Розенфельд Бася удостоена звания ученицы, окончившей полный курс учения в женских гимназиях, с распространением на нее прав и преимуществ, предоставленных ст. 2763 Св[ода] Зак[онов], т. XI, ч. I уст[ава] ученых учреждений и учебных заведений. В удостоверение чего и дан ей, Розенфельд Басе, сей аттестат, по определению педагогического совета Витебской Алексеевской женской гимназии, состоявшемуся 30 мая 1907 года [в] г. Витебске. Мая 31 дня 1907 года. Начальник гимназии Главная надзирательница Члены педагогического совета Секретарь педагогического совета
НИАБ. Ф. 2604. Оп. 1. Ед. хр. 55. Л. 93–93 об. Дубликат аттестата. Печатный бланк с записями от руки.
Прошение Б. Розенфельд о приеме на Московские высшие женские курсы
6 августа 1907 г.Его Превосходительству Господину Директору Высших Женских курсов15 Дочери Витебского купца Баси Неуховны Розенфельд
ПРОШЕНИЕ Желая поступить на историко-философский факультет Высших Женских Курсов, имею честь просить Ваше Превосходительство зачислить меня в число слушательниц. При сем прилагаю копию с аттестата и две марки для ответа. Кроме того, заявляю: во 1-х, из иностранных языков французский и немецкий знаю в объеме гимназического курса, а после окончания гимназии жила у родителей. Б. Розенфельд. Жительство имею в г. Витебске по Смоленской ул. в д. № 1. Августа 6-го дня 1907 г.
ЦИАМ. Ф. 363. Оп. 4. Ед. хр. 21470. Опубл.: Шишанов 2008. С. 177.
 Белла Розенфельд и Тея Брахман. Витебск, около 1910
Белла Розенфельд и Тея Брахман. Витебск, около 1910
Диплом Б. Розенфельд об окончании Московских высших женских курсов
27 февраля 1914 г.ДИПЛОМ Московских Высших Женских курсов Бася Шмуиловна Розенфельд прослушала курс на Историко-философском факультете, по отделению русской литературы16, и выдержала все установленные факультетом испытания с нижеследующими успехами: по истории русской литературы весьма удовл[етворительно] истории всеобщей литературы весьма удовл[етворительно] всеобщей истории весьма удовл[етворительно] русской истории весьма удовл[етворительно] введению в сравнительное языковедение весьма удовл[етворительно] истории русского языка удовл[етворительно] логике весьма удовл[етворительно] психологии весьма удовл[етворительно] педагогике весьма удовл[етворительно] истории новой философии весьма удовл[етворительно] философии и методологии истории весьма удовл[етворительно] истории эстетических учений весьма удовл[етворительно] языкам: французскому весьма удовл[етворительно] Сверх того Б.Ш. Розенфельд выполнила все требуемые факультетом практические работы, специально занималась историей русской литературы. Кандидатское сочинение написала по истории русской литературы – весьма удовлетворительно. В удостоверение чего факультет выдал ей 27 февраля 1914 г. настоящий диплом. Директор Декан Секретарь
ЦИАМ. Ф. 363. Оп. 4. Ед. хр. 21470. Л. 1. Служебные пометы – в правом верхнем углу: П[оследний] экз[амен] 13 XI 1913 г. / пр[едметную] кн[ижку] вернула / соч[инение] 4 II 1914 г., в левом нижнем углу: 25 февраля 1914 г. № 1193 Опубл: Шишанов 2008. С. 181.
 Белла Розенфельд. Витебск, 1911
Белла Розенфельд. Витебск, 1911
Обращение Б. Розенфельд в канцелярию Московских высших женских курсов
3 апреля 1914 г.В КАНЦЕЛЯРИЮ МОСКОВСКИХ ВЫСШИХ ЖЕНСКИХ КУРСОВ Будьте добры снабдить меня следующими справками. Я, в феврале текущего года, окончила историко-философский факультет Московских ВЖК. Я – иудейского вероисповедания, мне сейчас приходится делать себе паспорт, и я недоумеваю, какие права на жительство дает мне диплом ВЖК. Так как я живу в провинции, где мне и приходится делать себе паспорт, и так к[а]к диплом, выданный мне ВЖК, ничего о праве жительства не упоминает, то я хотела бы, чтобы Вы дали мне соответствующие указания. Я не представляю себе своего положения – должна ли я по приезде в какой-нибудь город каждый раз испрашивать себе разрешение у местной полиции, или только Московский градоначальник может мне разрешить пребывание исключительно в Москве? Вообще, пользуюсь ли я какими-нибудь определенными правами или разрешение будет зависеть от произвола полиции. Я бы хотела это знать, чтобы противопоставить что-нибудь определенное возможному произволу полиции. Даст ли сдача государственных экзаменов более устойчивые права? Когда будет сессия госуд[арственных] экзам[енов] для словесниц? На каких условиях я могу их держать? Очень прошу ответить мне обо всем, что касается моего права на жительство в России и условий госуд[арственных] экзаменов. Пожалуйста! Мне очень важно об этом знать. Мне необходимо свободное проживание в России и если для этого нужно сдать госуд[арственные] экз[амены] – так мне об этом нужно знать заранее. Прилагаю марку для ответа. Заранее благодарю Вас. С почтением, Б.Ш. Розенфельд. Адрес: Витебск Смоленская ул. Б. Розенфельд.
ЦИАМ. Ф. 363. Оп. 4. Ед. хр. 21470. Л. 32–33 об. На листе штамп со служебными пометами: Пол[учено] 3 апр[еля] 1914/Отв[ечено] 14 IV 191417 Опубл.: Шишанов 2008. С. 182.
 Московские высшие женские курсы. Аудиторный корпус. Открытка начала ХХ в.
Московские высшие женские курсы. Аудиторный корпус. Открытка начала ХХ в.
6. Марк Шагал. Послесловие к книге Беллы Шагал «Горящие огни»
Белла всегда мечтала стать актрисой. И стала ею, играла на сцене, имела успех. Но вернулся из Парижа я и женился на ней. А потом мы уехали во Францию вместе. С театром было покончено навсегда. Долгие годы ее любовь освещала все, что я делал. Но у меня было чувство, словно что-то в ней остается нераскрытым, невысказанным, что в ней таятся сокровища, подобные берущему за сердце «Жемчужному ожерелью»18. Ее губы хранили аромат первого поцелуя, неутолимого, как жажда истины. Откуда эта скрытность от друзей, от меня, эта потребность оставаться в тени? Так продолжалось до последних, проведенных в изгнании лет, когда в ней пробудилась еврейская душа, ожил язык предков. Стиль, в котором написаны «Горящие огни» и «Первая встреча»19, – это стиль еврейской невесты, изображенной в еврейской литературе. Она писала, как жила, как любила, как общалась с друзьями. Слова и фразы ее подобны мареву красок на полотне. С кем сравнить ее? Она ни на кого не похожа, она одна-единственная, та Башенька-Беллочка, что смотрелась в Двину и разглядывала в воде облака, деревья и дома. Люди, вещи, пейзажи, еврейские праздники, цветы – вот ее мир, о нем она и рассказывает. В последнее время я часто заставал ее читающей ночью в постели, при свете маленькой лампы, книги на идише. – Так поздно? Давно пора спать. Обложка книги Беллы Шагал «Горящие огни». (Париж, 1948)
Обложка книги Беллы Шагал «Горящие огни». (Париж, 1948)
 Марк Шагал и Белла. Нью Йорк, 1944
Марк Шагал и Белла. Нью Йорк, 1944
Помню ее в номере загородной гостиницы за несколько дней до того дня, когда она уснула навечно. Как всегда свежая и прекрасная, она разбирала свои рукописи: законченные вещи, наброски, копии. Подавив шевельнувшийся страх, я спросил: – Что это вдруг ты решила навести порядок? И она ответила с бледной улыбкой: – Чтобы ты потом знал, где что лежит…
 Надгробие Беллы Шагал. Нью-Йорк, 1945. Современное фото
Надгробие Беллы Шагал. Нью-Йорк, 1945. Современное фото
Она была полна глубокого, спокойного предчувствия. Словно вижу ее, как тогда, из гостиничного окна, сидящей на берегу озера перед тем, как войти в воду. Она ждет меня. Все ее существо ждало, прислушивалось к чему-то, как в далеком детстве она слушала лес. Вижу ее спину, ее профиль. Она не шевелится. Ждет, размышляет и уже угадывает что-то потустороннее… Смогут ли сегодняшние, вечно спешащие люди вникнуть в ее книги, в ее мир? Или прелесть ее цветов, ее искусства оценят другие, те, что придут позже? Последнее, что она произнесла, было: – Мои тетради… 2 сентября 1944 года, когда Белла покинула этот свет, разразился гром, хлынул ливень. Все покрылось тьмой. Марк Шагал, Нью-Йорк, 194720.
Печат. по: Белла Шагал 2001. С. 335–336.
7. С.М. Ханин – Я.С. Розенфельду
4 февраля 1961 г. Глубокоуважаемый Яков Самойлович, завтра, 5/II, отсылаю Вам книгу Вашей сестры, столь любезно Вами мне присланную21. Сегодня я еще раз перечитываю отдельные ее страницы. За это время ее успели тут прочесть два десятка человек. Большинство из них витебляне, знающие и чувствующие хорошо все то, о чем рассказывается в книге. Они даже имеют большой «толк» в «кулаэ», о которой вскользь так ноздре-раздражающе упоминается в книге. «Кулаэ» – специфическое дешевое белорусско-еврейское лакомое блюдо, которое было, главным образом, распространено среди малосостоятельной части населения прежнего Витебска, и то по праздникам. Оно не столь характерно для рисуемого в книге дома. Но этот маленький штрих рисует в известной мере демократичность этого дома. Нужно сказать, что многие из указанных мной читателей не просто читали, а с большим наслаждением пили строки и страницы этой книги. Среди этих читателей был близкий родственник бывшего служащего Вашего отца – Карасин (сам Карасин давно уже умер). Многими этими читателями опоэтизированная реальность книги воспринималась с особо глубоким чувством словно звон «потонувшего колокола». Зная хорошо среду, в которой родились образы книги, читатели эти не примеряли их обязательно к реальной натуре, не видели в них фотографии, а уловили то обобщенное «еврейское», что в них содержится. Хотя по описаниям легко узнать и престижный дом, и конкретную обстановку, и даже хорошо знакомые черты и детали, книга в целом дает обобщенную картину, но нарисованную на живом, ясном и совершенно реальном материале. Книга Вашей сестры – художественное произведение и, конечно, далеко от фотографической натуральности или документальной фиксации материала. Книга не сюжетный рассказ, а очерки, этюды, дающие яркую картину былого. Это и не «год жизни в родительском доме» (глава из книги, написанной писательницей П.Ю. Венгеровой, о ней скажу позже). Тут не год, а годы, стабильные в своей повторимости и застывшей устойчивости. Это, выражаясь парадоксом, повторимая «неповторимость», неповторимость своеобразия и самобытности. «Неповторимый цветок», «растущий и цветущий на родимой почве, и корни растения которого на новом месте глохнут или принимаются с большим трудом» (из высказывания А.М. Горького). Ваша сестра берет календарные рамки года описания праздников, но под этим годом можно поставить эпоху, даже целый век. Отдельные картиныхронологическими рамками не связаны. Их можно бы в рамки разделить и они от этого ничего не теряют. Но в общем это годы детства и частью отрочества Вашей сестры. Перехожу к своим непосредственным впечатлениям и оценкам. Книга прежде всего написана хорошим, сочным чисто витебским разговорным языком, изобилуя широко бытовавшими в Витебске народными гебраизмами (далеко не перецовскими). Это придает изящную легкость и особую доступность языку книги. Не надо требовать от книги эпопеи или большого полотна. Ее красота в другом. В книге показан, например, уголок Витебска. Но благодаря художественности изображения и большому чувству поэтичной меры и выдержки, этот скупой показ значительно расширяет картину. Самое главное тут не широта охвата, а глубина и ясность освещения. В таком плане вполне достаточны даваемые попутно отдельные пейзажи Витебска и детальные те или иные зарисовки, выходящие за пределы отчего дома. И все это попутно ложится яркими пятнами на общее полотно. Я бы хотел немножко остановиться на внутренних интимных токах книги, так сказать, на питающих ее грунтовых водах. Признаться, я далеко недостаточно в этом разобрался. Мне не известен внутренний путь автора. Я только могу о нем догадываться по самым незначительным имеющимся у меня данным, да еще по далеко неполным намекам автора в первой главе книги («Ирушэ»[3]). Яков Розенфельд. Ленинград, начало 1930-х
Яков Розенфельд. Ленинград, начало 1930-х
Но обобщенный анализ возможен. Сестра Ваша пишет, по сути говоря, воспоминания. И самое интересное в психологическом отношении – то, что эти воспоминания носят не характер прощания, а являются приветственным салютом. Это приветствие не означает желания утвердить иль воскресить старину, но оно является гимном и хвалой той силе, которая держала и ковала «дигольденекэйт»[4], звенья которой могут отличаться друг от друга соответственно общему прогрессу и духу времени, но не должны отрываться друг от друга. Так что же побудило Вашу сестру вернуться в отчий дом (вернее и точнее, так упорно и долго гостить), откуда являлся «звонкий смех детских лет». Мне многое понятно, но много конкретного сам фактически не знаю. Мне поэтому трудно сказать что-либо больше общего мнения. Грусть, печаль, тоска, боль души, которую захотелось плавить песнью старины. На помощь могла прийти близость большого художника – еврея, человека проникновенных прозрений и обостренных видений. Чудесно то, что сестра Ваша все это перевела на ясный и чистый язык. Факт таков, что она подарила нам хорошую книгу, полную солнечного света и радостного жизнеутверждения.

 Титульный лист и одна из страниц книги Беллы Шагал «Горящие огни». (Нью-Йорк, 1945)
Титульный лист и одна из страниц книги Беллы Шагал «Горящие огни». (Нью-Йорк, 1945)
Теперь о некоторых недостатках. Имеются небольшие анахронизмы, вернее маленькие почти незаметные и неважные хронологические неточности. Дана чрезмерная идеализация (художественно, надо сказать, оправданная). Патриархальный склад ничем не нарушен. А тогда во многих витебских семьях определенного круга борьба отцов и детей, а еще больше дедов, отцов и внуков была сильно заметна. Не могла эта волна не отразиться в Вашей семье. И хотя семейный мир и традиционная линия нерушимы, но борьба давала себя чувствовать. Об этом в книге ни намека. Повторяю, что по художественно-композиционным соображениям это можно простить автору. Это дает выигрыш в силе впечатления, создает яркий рисунок. Но историку и публицисту ограничиться одним этим нельзя. Они требуют большей полноты освещения и общественного осмысления. Однако, и историк, и публицист, не взирая на определенно ограниченные рамки книги или даже благодаря этой усиливающей эффект ограниченности, найдет в этой книге много интересного материала. С точки зрения же чисто литературной критики книга безусловно интересна и хороша. Теперь немного истории и литературных примеров. Имеются многие литературные произведения, практикующие тему, затронутую Вашей сестрой. Но это ни в какой мере не отнимает у книги Вашей сестры ее поэтического своеобразия, ее индивидуального тембра значительно интересной оригинальности. Из весьма многочисленных литературных образов считаю особо интересным для меня с Вами остановиться на одном и, пожалуй, ограничиться только одной литературной аналогией. Аналогия касается затронутого предмета и совершенно не затрагивает самостоятельности произведения и творческого изложения. Я хочу сказать об упомянутом мною выше писателе. Речь идет о Паулине Юльевне Венгеровой22. Ваша сестра дает зарисовки средне-гвиресэ[5] еврейского дома. Там это представлено в более крупном плане. Дана эпопея, развернуто очень широко полотно. У П[аулины] В[енгеровой] раскрыта своеобразная еврейская илиада, правда, более в описательном виде, нежели повествовательном (столкновения и отношения людей и групп, личные судьбы и их взаимопереплетения в жизненном действии не показаны), хотя значительно освещена переломная эпоха. Я книгу Венгеровой знаю в отрывке (она была издана в Берлине на немецком языке). Подробно о ней узнал из лекций Сергея Цинберга. О ней также имеется краткая справка в «Евр[ейской] Энц[иклопедии]» Сокращенную копию этой справки прилагаю23. И вот, по моему впечатлению, П. Венгерова посылает старине прощальный привет, полный тепла и любви. Она словно по-метерлинковски поднимает занавес над царством прошлого и видит отчий дом, заходит в него, всей душой отдыхает в нем, говоря нараспев знаменитое: «П-Р-О-Щ-А-Й-Т-Е». Ваша сестра значительно полнее и глубоко осуществляет эту связь. П. В[енгерова] зажигает только на время свечи воспоминаний, даже молится перед ними, но они гаснут. У Вашей сестры постоянно горящие свечи (был хотя перерыв в пользовании этими словами, но они не гасли). И тут никакой аналогии с П.В[енгеровой] уже нет. Попутно хочу дать еще один гораздо менее важный литературный пример. Вспоминаю русско-еврейского писателя Рывкина (кстати, нашего земляка – витеблянина) – автора очерков «В духоте» и др. У Рывкина довольно красочны еврейские праздники и отдельные обычаи и обряды. Но сделано это в общем духе и сжатом виде отдельных картинок, без яркого семейного фона и сочной бытовой обстановки, которые даны Вашей сестрой. Дорогой Яков Самойлович, темы я не исчерпал. Более того, я затронул только несколько основных моментов и то боюсь, что утомил Вас некоторыми лишними длиннотами. Можно было сжаться и упомянуть материал. Простите, что не успел этого сделать. Об очень многом имеющемся в книге ничего не сказал. Кроме того, хотелось бы еще поговорить о многих необходимых аспектах в связи с книгой Вашей сестры. Но тут приходится ограничиться только намеками. Лично я очень благодарен за эту книгу еще по одному очень важному для меня обстоятельству. Я еще раз вспомнил родной, любимый Витебск. И это, я уверен, произойдет со многими читателями-витебляна-ми. Я свой Витебск очень хорошо знал. Много ходил, бегал по его улицам, дворам, окрестностям. Помню, холмистые, крутобокие улицы Загорья, Заручевья, Задуновья, вспоминаю пейзажи Духовского рва, Гуторовщины, Завитебья. Помню Успенскую гору, Губернаторский б[ульва]р, Юрьеву горку, Елаги, и пр., и пр. Помню очень хорошо З[ападную] Двину и оживленный лесосплав по ней. Помню лихих «перехватчиков» – проводников плотов мимо быков Двинского моста. Перехватчики – это была единственная такая на всю Россию профессия среди евреев. Ею занимались в Витебске сильные и ловкие евреи, помогая проведению плотов по Зап[адной] Двине. Красиво было смотреть, как они вдвоем стоят в маленькой байдарке, быстро передвигаются по реке, гребя каждый одним веслом.
 Витебск. Мост через Западную Двину. Открытка начала ХХ в.
Витебск. Мост через Западную Двину. Открытка начала ХХ в.
 Витебск. Общий вид на район Задвинье. Открытка начала ХХ в.
Витебск. Общий вид на район Задвинье. Открытка начала ХХ в.
Помню купанья в Двине, лодочные переправы и катанья на лодках и многое, многое другое. Разноцветный, разнослойный Витебск имел свое определенное лицо, был весьма красочен и живописен. Сквозь книгу Вашей сестры я все это вновь увидел. Сквозь одноцветный рисунок, сквозь произведение, выполненное по манере и технике письма, по своей поэтической идее, в монохромном стиле (к[а]к говорят художники) я вновь своими уж глазами увидел всю панораму тогдашнего Витебска. В этой панораме есть и поэзия, и проза, есть Замковая ул[ица] и Песковатик и Слободки. Имеются и бедные «орхим»[6] за трапезным столом, имеются и бедные ремесленники, и рабочие, и кружки молодежи, ушедшие в «камф»[7]. Ведь в изображаемый в книге период был и 5-ый год. Автор книги, к[а]к многие из нас прошли в раннем творчестве через эту кульминацию, а отзвуков в книге, прямых отзвуков нет. Конечно, раздвижение рамок нарушило бы художественную цельность произведения, единство его замысла. Но я, получив, благодаря книге, цепной процесс впечатлений и воспоминаний, дополняю и дорисовываю. И вновь я полностью увидел родные места и… родные могилы, и особенно те могилы, которые можно и нужно хранить, и которые заслуживают благоговейной памяти. Большое за все это спасибо автору книгу и Вам за ее присылку. <…> С искренним уважением, Саул Моисеевич.
Печат. по: «Горящие свечи» / Вступ. и публ. В. Шишанова // Бюллетень Музея Марка Шагала. 2003. № 1 (9). С. 14–17.
Часть II Статьи. Выступления. Интервью
1. Искусство в дни октябрьской годовщины
Рабочие и крестьяне уже начинают праздновать свою революционную годовщину. Не будем чрезмерно распространяться о том, что годовщина эта первая и редкая в истории. Это ясно как друзьям, так и врагам. Какую, однако, речь могу повести я – художник, в связи с этой годовщиной? Не покажется ли многим это странным! не сомневаюсь. Вот этого и не должно быть. И вот почему. Искусство жило и будет жить по своим собственным законам. Но в глубине своей оно проходит те же этапы, которые проделывает все человечество, подвигаясь к более революционным достижениям. И если верно то, что только в настоящий момент, когда человечество, вступая на путь последней революции, может быть названо Человечеством с большой буквы, точно так же и еще в большей степени – искусство лишь тогда может называться Искусством с большой буквы, когда оно революционно по существу. Только такое Искусство, во всех областях его, в силах отстоять свое историческое право на жизнь, и такое именно искусство и такие именно революционные творцы его требуют внимания, достигают его, волнуют нас. Пусть же не смущаются те, кому кажется страшным и непонятным наше искусство и то, что Искусству отведено чрезмерное место в эти народные праздничные дни. Никто не осмелится лишить права на жизнь политические достижения революции. Дайте же и нам дорогу! Мы также справляем годовщину революционного Искусства, годовщину падений академий, «профессоров» и восстановления в России власти левого Искусства. Пусть не все деятели Искусства и во всех областях его это поняли. Если они жизнеспособны – рано или поздно они это поймут. Празднование первой годовщины Октябрьской революции. Витебск. 7 ноября 1918. Кадры кинохроники. Манифестация и парад
Празднование первой годовщины Октябрьской революции. Витебск. 7 ноября 1918. Кадры кинохроники. Манифестация и парад
 Празднование первой годовщины Октябрьской революции. Витебск. 7 ноября 1918. Кадры кинохроники. Парад военных частей
Празднование первой годовщины Октябрьской революции. Витебск. 7 ноября 1918. Кадры кинохроники. Парад военных частей
 Празднование первой годовщины Октябрьской революции. Витебск. 7 ноября 1918. Кадры кинохроники. Митинг на Орловской площади. Выступает комиссар Семен Крылов
Празднование первой годовщины Октябрьской революции. Витебск. 7 ноября 1918. Кадры кинохроники. Митинг на Орловской площади. Выступает комиссар Семен Крылов
 Празднование первой годовщины Октябрьской революции. Витебск. 7 ноября 1918. Кадры кинохроники. Парад военных частей. Конные командиры
Празднование первой годовщины Октябрьской революции. Витебск. 7 ноября 1918. Кадры кинохроники. Парад военных частей. Конные командиры
Но нам возразят и скажут: «отчего же вы меньшинство?» Вас никто, по крайней мере, в нашем городе, буквально никто – не понимает, мы все в недоумении перед вашими произведениями – в то время как за нашей политической революцией – большинство. Но не правы будут те, кто станет доказывать, что так не должно быть, по крайней мере, в том периоде человеческого развития, который мы переживаем в настоящее время. Да, творцы революционного Искусства всегда были и есть в меньшинстве. Они в меньшинстве с того самого момента, как пала величественная греческая культура. С тех пор – мы – меньшинство. Но мы им не будем! Недаром земля трясется! За нами придет большинство, когда две революции, политическая и духовная, шаг за шагом искоренят наследие прошлого со всеми предрассудками. Но будет ли с нами большинство сейчас или позже – это нас не останавливает. Мы упорно и властно, подчиняясь внутреннему голосу художественной совести, предлагаем и навязываем наши идеи, наши формы, формы и идеи нового, революционного Искусства, и мы имеем мужество думать, что за нами будущее. И как бы многие не смущались резкостью левого Искусства, мы должны сказать как друзьям, так и противникам: предрассудки прочь! Киньтесь с головой в море народного революционного Искусства, безотчетно отдаваясь ему, доверяя. И верьте: преобразившийся трудовой народ приблизится к тому высокому подъему культуры и Искусства, котор[ый] в свое время переживали отдельные народы и о котором всем нам остается лишь мечтать.
Искусство в дни Октябрьской годовщины. Статья Марка Шагала // Витебский листок. 1918. № 1030. 7 ноября. С. 3. Перепечат.: Даугава (Рига). 1987. № 7. С. 109 / публ. Р. Тименчика; Kamenski 1988. Р. 357 (пер. на фр.); Наливайко 1994. С. 5 (в сокр.); Chagall Paris 1995. Р. 243 (пер. на фр.); Le Foll 2002. P. 254 (пер. на фр., в сокр.); Harschav 2003. P. 28–29 (пер. на англ.); Каменский 2005. С. 260; Шагал об искусстве и культуре 2009. С. 53–55; Изобразительное искусство Витебска 2010. С. 21–22; Chagall Paris 2018. P. 225 (пер. на фр.).
2. Народное художественное училище
Открывающаяся в скором времени художественная школа должна удовлетворить давно назревшую в Витебске потребность в художественном культурно-просветительском центре, существование которого даст возможность здесь же, на месте, направлять по истинному пути начинающего художника из народа. Революционный народ даст полный простор всем народным дарованиям, полную возможность развиться для всех талантов, проявлению которых до сих пор препятствовали как старая отжившая академическая школа, так и социальные условия буржуазного мира. Открывающаяся в Витебске художественная школа, прежде всего, ставит своей задачей проводить в жизнь начала подлинного, революционного искусства, порывающего со старой рутиной академии. Вместе с тем в строении училища будет последовательно проведен принцип трудовой школы. При классе прикладных искусств будет существовать мастерская для исполнения разнообразных декоративных работ – живописных, лепных, деревянных и т. д. – писания вывесок, плакатов и др. Функционирование такой мастерской будет способствовать украшению города – учащимся же школы даст возможность практически приложить свои дарования, обеспечив для них средства к существованию в настоящем и будущем. Сейчас, с окончанием работ по украшению города к октябрьским торжествам, приковавшим к себе все художественные силы Витебска, явилась возможность вести более усиленным темпом работу по организации училища. В скором времени начинаются занятия – временно до приезда всех приглашенных преподавателей и открытия намеченных классов будут вестись занятия в 2 группах: старшей (живопись с живой натуры) и младшей (мертвая натура), а также вечерние курсы рисования. Работа в декоративной мастерской начинается в самом ближайшем времени для выполнения заказов на новые художественные вывески для школ, читален и пр. Запись желающих поступить в школу ежедневно от 11–3 ч. в помещении школы (Бухаринская, 10). Обучение бесплатное.Народное художественное училище // Витебский листок. 1918. № 1038. 16 ноября. С. 4; Известия Витебского губернского Совета крестьянских, рабочих, красноармейских и батрацких депутатов. 1918. № 253. 22 ноября. С. 3 (с небольшими сокращениями). Перепечат.: Наливайко 1994. С. 6–7 (в сокр.); Harshav 2004. P. 256 (пер. на англ., в сокр.); Изобразительное искусство Витебска 2010. С. 28; Chagall Paris 2018. P. 225–226 (пер. на фр.). Статья не подписана, однако авторство Шагала не вызывает сомнений – ее посылки полностью совпадают с основными положениями, сформулированными в «Докладной записке художника Марка Шагала о Художественном училище» (см. VI, 38). Статья опубликована в тот же день (и в том же номере газеты), что и объявление о созыве общего собрания всех художников, живописцев, декораторов и архитекторов города, на котором обсуждались практические вопросы об организации в Витебске городской художественной школы, коммунальной мастерской и класса прикладных искусств (см. VI, 55). Стоит обратить внимание, что в этой статье впервые появилось название школы, данное ей Шагалом: Народное художественное училище. Под этим названием школа функционировала вплоть до отъезда Шагала из Витебска в июне 1920 г.
3. Письмо из Витебска
Город Витебск зашевелился. В этой провинциальной «дыре» с почти стотысячным населением, где когда-то коснел какой-то Юр[ий] Клевер1 и доживает жалкое передвижничество – ныне, в дни октябрьские – раскачивалось многосаженное революционное искусство. С момента приезда в Витебск удалось мобилизовать все таившиеся скудные художественные силы города и губернии. Радовали сердце отдельные начинающие художники из народа и особенно рабочие – маляры-живописцы. С какой любовью, с какой детской преданностью исполняли они наши столичные «мудреные» эскизы. К моменту Октябрьской годовщины губерния Витебская была разукрашена около 450 большими плакатами, многочисленными знаменами для рабочих организаций, трибунами и арками. Работа Комиссии по украшению города и губернии разбилась на секции: живописную, архитектурную и освещения (электрического освещения домов, арок, трибун, фейерверки, факелы и пр.). В конце концов, вечер 6 ноября горел незабываемым огнем. Это был праздник и нашего искусства. Но обыватели на завтра. И только ли обыватели. С болью признаюсь: и передовые товарищи-революционеры, и они с пеной у рта засыпали нас недоуменными вопросами: «Да что же это такое». Объясните, объясните, объясните, это ли пролетарское искусство. Жаль, сорвали митинг об искусстве2. – «Я бы им показал, разъяснил». В конце концов, в городе образовалось и художественное училище3. С момента открытия приема прошений4 в течение нескольк[их] дней записалось около 125 чел[овек]. Все беднота и рабочие. Пусть шипит кругом нас мелкая обывательская злоба, но мы надеемся, из этих трудовых рядов в скором времени выйдут новые художники-пролетарии. При художественном училище организовалась городская коммунальная мастерская по исполнению все[х] городских заказов5. Вся работа по исполнению декораций для театров, плакатов для кинематографов, фресок и вывесок должна концентрироваться исключительно в подотделе искусств6. Заказы подотделом направляются в коммунальную мастерскую и ее отделения для планомерного распределения. Заказы исполняются исключительно руками учащихся и руководителей школы. Все частные артели живописцев города должны были пойти к нам в школу учиться раньше всего и ликвидировать свои частные «дела». Довольно. Ступайте все учиться в школу, не стесняйтесь возрастом. Научитесь в ней работать. С момента открытия мастерской – она получила от отдела народного образования заказ на выполнение 60-ти новых художественных вывесок для единых трудовых школ, рабочих библиотек и Пролетарского университета7. Для каждого заказа объявляется конкурс. Лучший рисунок – пускается в ход. С лица главнейших улиц города снимаются старые вывески для перекраски. Подотделом изобразительных искусств издано постановление о регистрации в подотделе всех предметов искусства, находящихся в пределах города и губернии, и концентрации их в организуемом губернском музее8. Преподавание рисования в учебных заведениях города и губернии также предположено реформировать. Впредь же до произведения общей реформы все преподаватели рисования учебных заведений в настоящее время переизбираются и назначаются и утверждаются вновь подотделом искусств лишь по представлению своих «личных» работ, нескольких образцов рисунков своих учеников каждого класса в отдельности, а также краткого доклада с соображениями о преподавании рисования в школе. Те же из старых преподавателей, кои не отвечают современным задачам искусства, лишаются своих теплых мест и на их места назначаются новые. Здесь уступок быть не может. Вспомните «незабвенные» уроки рисования, это художественное убиение младенцев. В каждом учебном заведении города образовывается специальный класс-мастерская рисования. Преподаватель рисования более не расхаживает по классам, а ученики должны идти к нему в специальный класс-мастерскую каждого учебного заведения, каждая группа учеников в свое время. Марк Шагал. Витебск, 1918
Марк Шагал. Витебск, 1918
Закончим, однако, настоящую заметку «воплем». Людей! Художников! Революционеров-художников! Столичных в провинцию! К нам! Какими калачами вас заманить?
Шагал М. Письмо из Витебска // Искусство Коммуны (Пг.). 1918. № 3. 22 декабря. С. 2–3. Перепечат.: Kamenski 1988. Р. 357 (пер. на фр.); Le Foll 2002. P. 254–255 (пер. на фр., в сокр.); Harshav 2004. P. 259–260 (пер. на англ.); Каменский 2005. С. 260–261; Ле Фоль 2007. С. 231 (в сокр.); Изобразительное искусство Витебска 2010. С. 36–38; Chagall Paris 2018. P. 226 (пер. на фр.).
Статья написана в Петрограде. См. примеч. 9.
4. Художественные заметки Марка Шагала
Наконец, мы опять на своей убогой родине9. Пусть мы, как «не прикрепленные», нигде и ни в коем случае пообедать права не имели и в какой-либо общественной столовой тщетно домогались утолить свой голод, а к вечеру возвращались в свой «номер», оставаясь в темноте… Но почему все же столичного полуголодного человека с таким трудом удается заманить сюда для культурной работы? Да, я их понимаю… Но что же делать? Какими калачами нам все же заманить тех левых деятелей, новаторов в области Искусства, которые так необходимы нам в настоящее время для местной художественной и культурной жизни масс в городе и губернии? Вот на какое именно обстоятельство за время нашего пребывания в столицах мы обратили особое внимание. Нельзя было не заметить того, что в то время, как политически агитационные силы щедро рассылаются по военно-политическим фронтам, область культурная и, в частности, область искусства – в загоне, и почему-то считается излишним рассылка наиболее энергичных и левых деятелей в области искусства, во всех его видах, по провинциальным городам и весям. Между тем создание таких революционных отрядов искусства являлось бы вполне целесообразным. С этим со мной вполне согласились. Но… «Меньшинство в искусстве» – слишком обидное меньшинство. Пока все же не могу нарадоваться и этим достижениям – заманив таких деятелей и художников, как Добужинский, Радлов, Анненков10 и др[угие], и с удовольствием предложив директорство Добужинскому. Только теперь мы смело откроем двери художественного училища, школы губернской, долженствующей служить образцом школ нового типа для нужд нашей области. Откроем, однако, без традиционной помпы, без торжества и «речей»11. Придете ли вы, рабочие, люди народа, обострять свои художественно-культурные наклонности, вкусы свои? Приходите прилежно и скромно учиться и работать, и вы увидите, что украшение города к следующей октябрьской годовщине революции – вы поймете с большей легкостью, чем ныне. Достаточно вам будет ознакомиться слегка с элементарной работой в мастерских школы, и вы поймете, что мы не шутили в эти дни октября, когда искусство мы приобщали к народу. Несмотря на некоторые гнетущие условия – жизнь искусства в столицах не замирает. Ставятся один за другим агитационные памятники, открывается грандиозная выставка в Зимнем дворце12, революционные театральные студии («Красный Петух»13 и друг[ие].) усердно творят, а неутомимый нарком Луначарский вдохновенно носится от комиссариата в Зимний дворец, от Зимнего к художникам, от последних к музыкантам и артистам и от них всех в Смольный. «Воюют» Мария Федоровна[8] с Ме[й]ерхольдом, а Ме[й]ерхольд с Каменевой. Повоюем же и мы. Помогайте же и вы нам, кто может, иль что говорю я! – не мешайте же, в крайнем случае, нам работать, если не всегда сочувствие ваше на нашей стороне. Сделаем кое-что для нашей грустной родины…Художественные заметки Марка Шагала // Витебский листок. 1919. № 1091. 8 января. С. 1. Перепечат.: Le Foll 2002. P. 255 (пер. на фр., в сокр.); Harshav 2004. P. 261–262 (пер. на англ.); Каменский 2005. С. 261 (фрагмент); Ле Фоль 2007. С. 231–232 (в сокр.); Изобразительное искусство Витебска 2010. С. 43–44.
5. Революция в искусстве
Как только подойдем к нашему животрепещущему времени – к моменту всеобщей революции – мы сразу почувствуем себя свободней и вне ограничивающих нас рамок чистосердечно заявим: доколе же нам быть в тесных пределах исторических в кавычках установлений. Не рискнем ли мы – в своем внутреннем ожесточении – на каждое произвольное, историческое «да» – ответить «нет». Духу нашего времени будет чужда какая бы то ни была традиционная историческая планомерность в будущем. А будущему нашему не будет возврата к прошлому, не будет потому, что это противоречило бы духу беспрерывной революции, революции борьбы духовной и политической, в полосу коих мы уже вступили. И только отныне – все должны, наконец, почувствовать то, как очутились мы в революционном круговороте. Все области и стихии духовного и материального порядка – окончательно поглощены им. И нужны гигантские силы и дух воистину современный, чтоб жить духом нашего времени, предвидя будущее. Что значит революция в искусстве? Революция в искусстве – явление не вчерашнего дня. На протяжении всей истории искусств вы встретите имена отдельных новаторов-революционеров: художников, композиторов и поэтов. Не раз ими безжалостно отбрасывалась коснеющая культура и воздвигались новые эры. Однако лишь одно наше время дало искусству особенную устойчивость, ясно определило наши цели и освободило нас от гнета академий и профессоров. Наше время положило окончательный предел всем наивным рассуждениям европейских и русских эстетов об изолированности и неприкосновенности искусства. Первая страница сборника «Революционное искусство» (Витебск, 1919)
Первая страница сборника «Революционное искусство» (Витебск, 1919)
Оно кладет конец изысканным глаголам о так называемой «красоте» в искусстве ради нее самой. Оно кладет конец всем литературным рассуждениям и нудным спорам об «Искусстве для искусства». Отныне мы не желаем знать, что именно в наших руках, каким именно оружием в наших руках мы поражаем вас. Мы сознательно теряем и разбрасываем традиционные определения и смысл самых простых вещей и нам безразлично: будет ли названа вещь своим собственным именем или останется вовсе без такового. Доколе же будут длиться эти нудные интеллигентские споры как в старину об искусстве и об искусстве для искусства? Искусство всеобщей революции и искусство сегодняшнего дня отмежевывается от затворнического искусства ради искусства. Отмежевывается от искусства закрытых мастерских и от художественных продуктов отдельных индивидуумов. И здесь кстати будет сказать о смысле и значении того, что обычно называют искусством пролетарским. Я заявляю: положение искусства наших последних дней гораздо дальше нашего настоящего. И если мы строим социально-политическую жизнь сегодняшнего дня, лишь постепенно подвигаясь к будущему, – Искусство наше вообще и искусство пластическое в частности – уже находится в области этого будущего. И если обычно говорят и думают о пролетарском искусстве, имея в виду его значительные и неоспоримые идеи и задачи, кто же из вас откажется от того, чтоб от этого искусства отнять его «содержание»? Между тем, мы здесь определенно сталкиваемся с «сюжетом» и неужели думаете вы, что если сюжет этот вдохновенно изображает жизнь рабочего и крестьянина, а не жизнь насекомых, это и есть искусство пролетарское? Нет, меня никогда не убедят, что французский изобразитель галантных празднеств и тончайший реформатор пластического искусства своего века Антуан Ватто стал бы ниже Густава Курбе только оттого, что последний на своих полотнах изображал крестьян и рабочих. Но искусство настоящего дня и искусство будущего не хочет никакого «содержания» и лишь счбольшой натяжкой идет на компромисс и уступки в этом отношении. Итак, определять Пролетарское искусство будущего мы должны с большой осторожностью. И в первую очередь определять Пролетарское искусство нужно не с его идеологической содержательной стороны в обычном смысле слова. Именно эту сторону мы должны окончательно обесценить. Не будем кричать направо и налево: Глядите, глядите, мы именно и есть рабочие и крестьяне, мы боремся, мы воюем. Не будем подчеркивать это в наших произведениях. Перед кем, перед кем нам казаться? Подлинную правду всегда почувствует голос народа. Какова бы ни была дерзость наша и кажущаяся бесцеремонность в вопросах искусства, – мы, однако, не должны лишать себя одного важного достояния – чувства некоторой скромности. Это право и обязанность каждого из нас. Пролетарским же будет названо искусство того, [кто] с мудрой простотой и внутренно и внешне порывает с тем, что не может быть названо иначе, как «литература». И как бы вы ни придирались к жизни, с какой бы точки зрения вы к ней ни подошли – пока вы не вытравили в себе жалкие остатки намеков на прежнее существование – пролетарского в вашем искусстве и жизни будет мало. Как только этот фактический разрыв совершен, а совершается он не по закону, искусство перестает играть какую бы то ни было иллюстрационную роль и перестает обслуживать кого бы и что бы то ни было. Что бы тот или иной поэт, музыкант и художник ни изображал: шум ли фабричных гудков или корку апельсина, но поймем же мы, что если при этом нельзя будет добавить слова, как он это изобразил – ценность изображенного – равна нулю. И правы петроградские товарищи, говорящие вместе с нами: пролетарское искусство – не искусство для пролетариев и не искусство пролетариев. Но запомним раз навсегда: оно искусство художников-пролетариев. В художнике-пролетарии в отличие от художника-буржуа – сочетались и творческий дар и пролетарское сознание, и он отлично знает, что он и его талант принадлежат коллективу. В отличие от художника-буржуа, стремящегося угодить вкусам толпы – художник-пролетарий борется с косностью и ведет толпу за собой. Повторяю, определенно нас должны оставлять хладнокровными те произведения искусства, где хотя и говорится и изображается героическая борьба и жизнь рабочих и крестьян, но где рядом с этим не чувствуется дыхание основных законов нового искусства. Этим самым мы, художники-пролетарии, выдвигаем в первую очередь одну лишь ценность пластического языка. Все остальное – постороннее и не существенно. Мы смело ставим точку на этом. В своем нежелании дать какой бы то ни было сюжет и содержание мы непоколебимы. Гоните вон искусство с содержанием 2х2=4, столь близкое и понятное толпе. Это недостойно духа нашего времени. Выдвигайте вперед, выдвигайте наружу совсем противоположное – нашу крайнюю воспаленную волю, наш внутренний незаглушенный голос. Это будет голос мирового бунтаря, беспрерывного разрушителя и строителя новой жизни и культуры, и это есть голос – единственно дисциплинированный внешне и внутренно. Требуйте только максимума проявления его, максимума выразительности. Сюжет же в обычном смысле слова, откуда бы он ни исходил и чем бы ни вдохновлялся, – недостоен нас. Кто бросит камень в нас? Всякий, кто не чувствует будущее наше, в коем одной ногой мы уже пребываем. Прекратим же сыпать раз навсегда недоуменные вопросы – «почему, отчего». Если бы пища, данная вам, окончательно вредила вашему здоровью, вы могли бы смело крикнуть нам: «убрать ее – это вредно», но нам известно обратное – пища, предлагаемая вам, пища нового Революционного Искусства, вам не только вредной быть не может, но является несомненно частью того питания, которое поддерживает жизнь живущего на земле. И пусть не «искусством бедноты» в насмешку называют искусство наших дней. Не смущаемся мы и не смущайтесь вы, что мы в явном меньшинстве, что, так сказать, никто нас не понимает. Пусть восторженно, но искренно нас ценит меньшинство, а большинство поспешно и ошибочно отворачивается. Вслед им мы скажем: «С Богом – вы еще вернетесь». С падением греческой культуры – мы меньшинство. Меньшинство в Искусстве – залог подлинности его. Но мы им не будем. Не даром земля трясется. А наступающие грядущие дни сметут все неясности и взаимное непонимание. Ждите дня преображений! Вы будете с нами! А с нами вместе встрепенется новый мир! Он вас заставит нас понять – и вы поймете!
 Празднование первой годовщины Октябрьской революции. Витебск. 7 ноября 1918
Празднование первой годовщины Октябрьской революции. Витебск. 7 ноября 1918
Шагал М. Революция в искусстве // Революционное искусство (Витебск). 1919. Сборник первый. С. 2–3. Перепечат.: Chagall Paris 1995. Р. 243–245 (пер. на фр.); Le Foll 2002. P. 255–256 (пер. на фр., в сокр.); Harshav 2003. P. 30–32 (пер. на англ.); Шагал об искусстве и культуре 2009. С. 55–60; Chagall Paris 2018. P. 227–228 (пер. на фр.).
6. О Витебском народном художественном училище (К 1-й отчетной выставке учащихся)
Постараюсь объективно, в качестве «незаинтересованного» лица сказать несколько слов о белом доме на Бухаринской14. В стенах его ни разу не вспомнишь с «благодарностью» его бывшего владельца…15 Из окон его виден днем и вечером весь бедный город. Но не ощущаешь этой бедноты сегодня. Беден был ты, город, когда по улицам твоим, сколько ни броди, никого кроме сонного лавочника не встретишь, а сегодня много сыновей твоих, оставляя нищету своих домашних стен, встречаются мне на пути по направлению к Художественному училищу. Есть с кем поговорить. Хочу вкратце сказать о том, что уже сделано и что намечается в будущем. Однако кого интересует история практического созидания того или иного явления в области искусства. Я лично охотно бы воздержался от ответа на вопрос: как, мол, ты, такой-сякой, написал ту или иную картину, как это у тебя вышло? Один ответ «зрителю»: «гляди готовое», а какое тебе дело и какой кому интерес до «черновой работы»… Кому интересно знать, сколько пережито до и после. Покажи свои дела! История же этих дел, как и история возникновения Витебского народного художественного училища, – обычна, но история возрождения в стенах его стольких спавших витебских дарований – необычна. Мечты о том, чтобы дети городской бедноты, где-то по домам любовно пачкавшие бумагу, приобщались к искусству – воплощаются. Но этого мало; нужно было сделать, чтобы получаемое художественное воспитание пошло бы впрок без потери драгоценного времени и чтоб работа по мере выучки была бы в самом деле продуктом Искусства с большой буквы, чтоб методы и приемы художественного образования последовали бы сразу по точному пути, дабы не было впоследствии художественных калек и мертвых душ без воскрешения. Но и этого мало, – нужно было также, чтоб учреждение, давая грамоту и приобщение к Искусству, свернуло бы круто с наиболее «понятного» и опасного пути – пути рутины и пошло бы по пути революционному в Искусстве – пути исканий. Сверх всего этого необходимо было и необходимо будет впредь остерегаться ст[и]раний[9] особенностей каждой личности, работая коллективом, ибо будущему коллективному творчеству необходимо лишь сознание духа и ценности грядущих эпох, но не сборище стертых однообразных личностей. И если мы с самого начала в целях достижения намеченного вышеуказанного плана и проводили соответствующую однолинейную художественную политику – то теперь опыт некоторого «отступления» и кажущегося «смягчения» наших действий нам не страшны. Мы можем себе позволить роскошь «играть с огнем», и в наших стенах представлены и функционируют свободно руководительства и мастерские всех направлений от левых до «правых» включительно. Вот цели наши. Но лучшим подтверждением сказанному могла б явиться закрывшаяся 1-ая отчетная выставка учащихся Художественного училища16. Мне пришлось бы перечислить имена почти всех участников ее и особенно напомнить вам имена тех учащихся, работы коих по своим достижениям премированы и переданы в Школьный музей. Трудно сказать, во что могут вылиться в будущем эти молодые витебские силы, но художественное состояние этой молодежи, несомненно, знаменательно для Витебска. Не менее знаменательно и другое обстоятельство: те самые несчастные рабочие, коих вы могли в летний зной видеть на красных крышах и подоконниках, – маляры-живописцы, попадавшие с детства по ошибке в мастерскую бездарного ремесленника-дельца, – ныне в той же смиренной позе пишут «натур морт» в мастерских Художественного училища. И надо отдать им справедливость: они добиваются права на «звание художника» не хуже «интеллигентов». Будущее должно еще более и более усилить достижения училища за 1-е полугодие существования своего. Ни повторения, ни остановки не допустимы. Будущее должно расширить задачи училища, и для этой цели при училище организуются оборудованные мастерские графики и архитектуры17. Мастерские прикладных Искусств18 из области проектов и эскизов попытаются, несмотря на кризисы промышленности – подойти к практическому делу. Вопрос о лекциях по Искусству будет, несомненно, поставлен на должную высоту19, и вместе с этим училище примет меры к возможному расширению художественной библиотеки при клубе учащихся; с этой целью я здесь же обращаюсь ко всем лицам и учреждениям с просьбой о посильной передаче училищу книг по Искусству, столь же необходимых для художественного развития учащихся20. В области хозяйственно-материальной училище считает необходимым позаботиться всеми мерами к обеспечению беднейших учащихся (каковых слишком много) путем социального обеспечения их и снабжения художественной работой. Город, городские и губернские предприятия и учреждения с своей стороны, несмотря на все тяжелые современные условия, должны учесть положение художественных элементов города, учащихся и членов Государственной декоративной мастерской и предоставить им работу21. Где наши клубы, народные дома, столовые, библиотеки, театры, музеи? Дайте нам стен! Дайте возможность развернуться местным дарованиям на пользу им и Вам. Вот задачи наши.Шагал М. О Витебском народном художественном училище (К 1-й отчетной выставке учащихся) // Школа и Революция (Витебск). 1919. № 24–25. 16 августа. С. 7–8.
 Празднование первой годовщины Октябрьской революции. Витебск. 7 ноября 1918
Празднование первой годовщины Октябрьской революции. Витебск. 7 ноября 1918
Перепечат.: Даугава (Рига). 1987. № 7. С. 107–109 / публ. Р. Тименчика; Kamenski 1988. Р. 358 (пер. на фр.); Бюллетень Музея Марка Шагала. 2000. № 2. С. 6–7; Le Foll 2002. P. 256 (пер. на фр., в сокр.); Harshav 2004. P. 268–270 (пер. на англ.); Каменский 2005. С. 261–262; Ле Фоль 2007. С. 233 (в сокр.); Изобразительное искусство Витебска 2010. С. 110–112; Chagall Paris 2018. P. 228–229 (пер. на фр.). Печатается по: Изобразительное искусство Витебска 2010.
7. Художник-труженик (К 25-тилетию художественной деятельности Ю.М. Пэна) Статья-привет Марка Шагала
Печать сейчас мало уделяет места вопросам узко-культурным или такой не «боевой» области, как искусство. Однако я хотел бы просить разрешения сказать два слова об одном труженике-художнике. 25 лет усердного труда на фабрике, заводе обычно награждается орденом труда. Об этом подвиге докладывают, пишут и доводят до сведения. Разве не заслуживает хотя бы внимания, что в городе же Витебске, из года в год, беспрерывно вот уж 25 лет скромно и честно трудится художник. С одной стороны, он воспитывает в своей первоначальной мастерской-школе десятки юных будущих художников гор[ода] Витебска и губ[ернии]– с другой стороны, он сам, как может, создает работы, из коих некоторые должны войти в исторический отдел Еврейского музея в центре и в музей гор. Витебска в частности. Юрий Моисеевич Пэн художник-реалист старой школы, выходец из старой свалившейся русской академии, но он все-таки остался самим собой, сохранив большую дозу своей искренности. Ю.М. Пэн первый в Витебске, кто десятки лет внушал молодому поколению города и губернии любовь к Искусству. Его никто не миновал. Он был и моим первым учителем. Все это не мешало некоторым ученикам его расходиться с ним в направлениях по искусству, оставаясь вместе с тем доброжелателем Ю[рия] М[оисеевича]. Его мастерская, облепленная с пола до потолка его работами, и он сам за мольбертом с уже ослабленным зрением – образ столь же трогательный, сколь заслуживающий большого уважения.
 Ю.М. Пэн. Фотография (лицевая и оборотная стороны, 1920-е) с дарственной надписью: Дорогому ученику и товарищу великому художнику Марку Шагалу на память от Ю.М. Пэна
Ю.М. Пэн. Фотография (лицевая и оборотная стороны, 1920-е) с дарственной надписью: Дорогому ученику и товарищу великому художнику Марку Шагалу на память от Ю.М. Пэна
 Ю.М. Пэн в своей квартире-мастерской. Витебск, 1920-е
Ю.М. Пэн в своей квартире-мастерской. Витебск, 1920-е
Нельзя не ценить эти упомянутые заслуги, и думаю, что о таком труженике, о таком в своем роде «пролетарии» должна знать и пролетарская масса. Витебск же в особенности должен помнить его. Сейчас в Витебске открыта юбилейная выставка его работ22. Привет моему первому учителю – честному труженику художнику Ю.М. Пэну к его 25-летней деятельности в Витебске!
Марк Шагал Москва
Художник-труженик (К 25-тилетию художественной деятельности Ю.М. Пэна). Статья-привет Марка Шагала // Вечерняя газета (Витебск). 1921. № 18. 24 сентября. С. 4. Перепечат.: Harshav 2004. P. 301 (пер. на англ.); Бюллетень Музея Марка Шагала. 2004. № 2 (12). С. 9; Изобразительное искусство Витебска 2010. С. 212–213; Пэн 2017. С. 77–79. Неделей раньше, 16 сентября, статья была опубликована на идише в издававшейся в Москве в газете «Дер Эмес» [ «Правда»] – центральноморгане Евсекции при РКП (б) (см.: Зельцер 2003. С. 21–22).
8. Листки
Несколько слов, товарищи, по интересующему вас вопросу: что я думаю о еврейском искусстве. Еще совсем недавно в еврейских творческих кругах шли жаркие споры о так называемом еврейском искусстве. И вот в результате всего этого шума и гама обнаружилась группа еврейских художников. Среди них Марк Шагал. Когда со мной приключилось такое «несчастье», я уже был в Витебске (только вернулся из Парижа) и лишь улыбнулся. Тогда у меня было полно других дел. С одной стороны – еврейский, «новый мир», столь ненавистный Литвакову: все эти улочки родного штетла, скрюченные, селедочные обыватели, зеленые евреи, дядюшки, тетушки, с их вечным: «Слава Богу, ты вырос, стал большим человеком!» И я все время их рисовал. С другой стороны, тогда я был моложе лет этак на сто, и я любил их, просто любил. И для меня это было важнее, это захватывало меня больше, чем мысль о том, что мое предназначение – быть еврейским художником. Как-то, в бытность мою в Париже, я сидел в своей комнатушке в «Улье», где у меня была мастерская, и услышал за перегородкой голоса двух еврейских эмигрантов. Они спорили: «Так что ты думаешь, разве Антокольский в конце концов не еврейский художник? Или Исраэлсы, или Либерман?». Тусклый свет лампы едва освещал мою картину, поставленную вверх тормашками (да, так я работаю – ну что, довольны?!), и наконец, когда над парижским небом стал заниматься рассвет, я от души посмеялся над досужими рассуждениями моих соседей о судьбах еврейского искусства. «Ну ладно, вы еще поговорите – а я пока поработаю». Марк Шагал. Обложка журнала «Штром» (М.,1922. № 2)
Марк Шагал. Обложка журнала «Штром» (М.,1922. № 2)
Представители всех стран и народов! К вам обращаюсь я (невольно вспомнил Шпенглера). Скажите честно: теперь, когда в Кремле сидит Ленин и даже щепки не достать [для печки], все в чаду, жена бранится, – где сейчас ваше «национальное искусство»? Вы, радетели интернационального искусства: и умник-немец Вальден сотоварищи, и утонченные французы Метценже и Глез (если вы еще живы), – я знаю, что скажете вы мне в ответ: «Ты прав, Шагал!» Евреи, будь у них такое желание (у меня есть), могли бы погоревать о том, что художники, украшавшие орнаментом деревянные синагоги в штетлах (о, почему я не лежу с вами в одной могиле!), и резчики, изготовлявшие узорные трещотки (я видел такие в коллекции Анского, старые и обугленные), канули в прошлое. Но на самом деле какая разница между моим могилевским прадедом Сегалом, который расписал синагогу в Могилеве23, и мной, разрисовавшим еврейский театр (и хороший театр!) в Москве? Уверяю вас, нам одинаково досаждали вши, хотя один из нас ползал по доскам в синагогах, а другой – по полу в театре. Более того, я уверен, что, если я перестану бриться, вы увидите точный его портрет… Во всяком случае, отец мой [был на него похож]. Поверьте мне, я старался как мог, а уж сколько любви (и какой любви!) мы в это дело вложили! Разница лишь в том, что он [Сегал] рисовал, следуя религиозным канонам, ну а я учился живописи в Париже, о котором он тоже наверняка кое-что слышал. И все же… Ни он, ни другие такие же (а они есть) – это еще не все еврейское искусство. Давайте посмотрим правде в глаза. Откуда этому искусству взяться? Не родится же оно, прости Господи, просто по чьему-то приказанию! Оттого, что Эфрос24 напишет статью, или потому что Левитан пропишет мне «академический паек»!.. Было когда-то японское искусство, египетское, персидское, греческое. Начиная с эпохи Возрождения национальные искусства постепенно приходят в упадок. Границы размываются. Вперед выступают художники – отдельные личности, граждане той или иной страны, рожденные здесь или там (благословен родной мой Витебск!), и без помощи хорошего регистратора или даже паспортиста (по еврейской части) определить «национальность» всех художников уже не удастся. И все-таки мне кажется: если бы я не был евреем (в том смысле, какой я вкладываю в это слово), я бы не был художником – или стал бы совсем другим художником. И где же тут новость? Лично я прекрасно знаю, на что способна эта маленькая нация. Но, к сожалению, я слишком скромен и не могу вслух произнести, чего она может добиться. А ведь добилась она уже немалого. Захотела – и явила миру Христа и христианское учение. Пожелала – и дала Маркса и социализм. Может ли такое быть, чтобы она не показала миру немного искусства? Непременно покажет! Убейте меня, если нет.
Шагал М. Листки // Штром [Поток] (М.). 1922. № 1 (идиш). Перепечат.: Ангел над крышами 1989. С. 123–126; Harshav 2003. P. 38–40 (пер. на англ.); Шагал об искусстве и культуре 2009. С. 71–76 («О еврейском искусстве – Листки»). Печат. по: Шагал об искусстве и культуре 2009.
9. У еврейских художников Витебска
Я должен сейчас напомнить и заострить внимание моих витебских земляков (я пишу об этом также в Москву), что среди вас находится один из старейших наших художников Ю.М. Пэн, тот единственный, который заслужил получить должность руководителя Витебской художественной школы. Мы можем с ним расходиться во взглядах на искусство, но в связи с этим я должен воскликнуть: если вы, витебские культурные деятели, не воздадите должного внимания художнику Пэну и его колоссальным заслугам перед искусством, это приведет к тому, что вам потом будет стыдно за такую холодность и небрежность… Это моя просьба, как витеблянина. Хотя и живу я сейчас из-за творческих обстоятельств за границей, но духовно я связан с моим родным городом. Мою просьбу поддерживают также знаменитые скульпторы из Парижа Мещанинов и Цадкин (урожденные витебляне), которые также были учениками Ю. Пэна. Ю.М. Пэн должен быть назначен руководителем художественной школы, и это будет большое приобретение для самой школы и достойная награда для художника Ю.М. Пэна за его многолетнюю плодотворную творческую работу. Мы убеждены, что наша просьба будет удовлетворена25.Марк Шагал. Берлин.
Шагал М. У еврейских художников Витебска // Дер Ройтер штерн [Красная звезда] (Витебск). 1923. 20 января (идиш). Перепечат.: Зельцер 2003. С. 21 (пер. А. Зельцера); Harshav 2004. P. 313 (пер. на англ.). Печат. по: Зельцер 2003.
10. Как я познакомился с Перецем
Вы просите меня, дорогие коллеги, написать что-нибудь для номера, посвященного Перецу. Наверное, вы думаете, что если любишь кого-то, то написать о том, кого любишь – написать о Переце, – не составит труда. Но разве можно быть критиком, когда любишь? Кроме того, я с ужасом стал замечать, что утратил талант к сочинительству… Перо меня не слушается… Я лично с Перецем не был знаком. И лишь когда некий издатель (забыл, как его звали) попросил меня сделать несколько иллюстраций к сказке Переца «Волшебник»26, лишь тогда я начал читать Переца. И был удивлен. Вам знакомо такое чувство, когда долго идешь по улице, сворачиваешь за угол, а там, за забором, еврейская луна над черным горизонтом – прыгает с небес прямо к твоим ногам. Именно так всплывали с маленьких белых страниц бедные и в то же время роскошные еврейские образы и фигуры. Все это было так просто и так ново. Скромная, почти без акцентирования, благородная техника, штрихи, отточенные на протяжении многих поколений, уже одно это делает его искусство национальным, независимо от содержания. Все это живет в нас, с детства будоражит наше воображение – все эти мелодии, дни Шабата, пятничные свечи, бархатные шапочки, первая любовь, пейзажи, напоенные псалмами, последние звуки молитвы усталого кантора и евреи, евреи на земле и на небе. Я вспоминаю прогулки вдоль берега реки. Идешь мимо лесопилки и фабрики, потом по мосту на другой берег – и замедляешь шаг возле дерева, что растет на краю кладбища. Перец нашептывал мне из-под земли. Парил в облаках у меня над головой. Шуршал листвой над крошечными домиками-надгробиями, где были разбросаны крошечные клочки его сказок – разномастные клочки бумаги, покрытые неразборчивыми письменами. Заброшенный, холмистый, безлюдный участок – ну чем не место для его пьесы «Ночью на старом рынке»?27 И.-Л. Перец. Открытка начала ХХ в.
И.-Л. Перец. Открытка начала ХХ в.
 Сказка И.-Л. Переца «Волшебник» (Вильно, 1917). Концовка по рисунку Марка Шагала
Сказка И.-Л. Переца «Волшебник» (Вильно, 1917). Концовка по рисунку Марка Шагала
Я не успокоюсь, пока не проиллюстрирую весь сборник его «Сказок в народном духе». Мечта! Я очень извиняюсь, дорогие коллеги, что в годовщину его смерти28 я не смогу постоять где-нибудь в уголке в синагоге, пока евреи будут поминать Переца. В такие минуты вся твоя жизнь, все, что ты сделал, проносится перед мысленным взором… А впереди – еще неизведанное. И невольно думаешь: пускай наш век – «жестокий и железный», зато теперь мы заново открыли Переца и Шолом-Алейхема. Они первыми возложили на вас руки и благословили вас – новое поколение идишских поэтов и писателей.
Шагал М. Как я познакомился с Перецем // Литерарише блетэр [Литературные страницы] (Варшава). 1925. № 49–50 (идиш). Перепечат.: Harschav 2003. P. 41–43 (пер. на англ.); Шагал об искусстве и культуре 2009. С. 77–80. Печат. по: Шагал об искусстве и культуре 2009.
11. Памяти М.М. Винавера
Не удивляйтесь, что на время, отложив кисти, берусь за перо – писать о Максиме Моисеевиче Винавере. Не думайте, что к нему имели касательство одни политики и общественные деятели. С большой грустью скажу сегодня, что с ним умер и мой близкий, почти отец. Всматривались ли вы в его переливчатые глаза, его ресницы, ритмично опускавшиеся и подымавшиеся, в его тонкий разрез губ, светло-каштановый цвет его бороды 15 лет тому назад, овал лица, которого, увы, я из-за моего стеснения, так и не успел нарисовать. И хоть разница между моим отцом и им была та, что отец лишь в синагогу ходил, а Винавер был избранником народа – они все же были несколько похожи друг на друга. Отец меня родил, а Винавер сделал художником. Без него я, верно, был бы фотографом в Витебске, и о Париже не имел бы понятия. В 1907 г., я, 19-летний, розовый и курчавый, уехал навсегда из дома, чтобы стать художником. Вечером, перед отходом поезда, отец впервые спрашивает меня, чем это я думаю заняться, куда я еду, зачем? Отец, которого недавно раздавил единственный автомобиль в Витебске29, был святой еврей. У него обильно в синагоге лились слезы из глаз – и он оставлял меня в покое, если я с молитвенником в руках глядел в окно… Сквозь шум молитв мне небо казалось синее. Отдыхают дома в пространстве, и каждый прохожий отчетливо виден. – Отец набрал из всех своих карманов 27 рубл[ей] и, держа их в руке, говорит: что же, поезжай себе, если хочешь, но только одно я тебе скажу – денег я не имею (сам видишь) – вот это все, что я собрал и посылать больше нечего. Не надейся. C.-Петербург. Дом, в котором находилась редакция журнала «Восход» (Захарьевская ул., 25). Фото О. Лейкинда
C.-Петербург. Дом, в котором находилась редакция журнала «Восход» (Захарьевская ул., 25). Фото О. Лейкинда
Я уехал в Петербург. Ни права жительства, ни угла, ни койки… Капитал на исходе. Не раз я глядел с завистью на горевшую керосиновую лампу. Вот, думаю, горит себе лампа свободно на столе и в комнате, пьет керосин, а я?… Едва, едва сижу на стуле, на кончике стула. Стул этот не мой. Стул без комнаты. Свободно сидеть не могу. Я хотел есть. Думал о посылке с колбасой, полученной товарищем. Колбаса и хлеб мне вообще мерещились долгие годы. И рисовать хотелось безумные картины. Сидят где-то там и ждут меня зеленые евреи, мужики в банях, евреи красные, хорошие и умные, с палками, с мешками на улицах, в домах и даже на крышах. Ждут меня, я их жду, ждем друг друга. Но вдруг на улице городовые, у ворот дворники, в участке паспортисты. И, скитаясь по улицам, я у дверей ресторанов читал меню, как стихи: что сегодня дают, и сколько стоит блюдо.
 М.М. Винавер. Открытка начала ХХ в.
М.М. Винавер. Открытка начала ХХ в.
В это время я был представлен Винаверу. Он меня поселил около себя, на Захарьевской, в помещении редакции журнала «Восход»30. Винавер, вместе с [М.].Г.[10] Сыркиным и Л.А. Севом думали: может быть, я стану вторым Антокольским. Каждый день, на лестнице, мне улыбался Максим Моисеевич и спрашивал: «ну, как?» Комната редакции была переполнена моими картинами, рисунками. Это была не редакция, а мое ателье. Мысли мои об искусстве сливались с голосами заседавших в редакции Слиозберга, Сева, Гольдберга, Гольдштейна, Познера31 и др[угих]. По окончании заседания многие проходили через мое ателье и я прятался за горы журналов «Восхода», занимавшие полкомнаты. У Винавера была небольшая коллекция картин. У него висели, между прочим, две картины Левитана. Он первый в моей жизни приобрел мои две картины – голову еврея и свадьбу. Знаменитый адвокат, депутат, и все же, любит он бедных евреев, спускающихся с невестой, женихом и музыкантами с горки на картине моей32. Однажды, запыхавшись, прибежал ко мне в редакцию-ателье и говорит: «Соберите скорее ваши лучшие работы и подымитесь ко мне наверх. Коллекционер Коровин, увидев у меня ваши работы, заинтересовался вами». Я от волнения, что сам Винавер прибежал ко мне, ничего «лучшего» собрать не мог… В день Пасхи к ужину, однажды, я был приглашен. Отражение горящих свечей и пар, блистала темная охра с рефлексами – цвет Винавера. Роза Георгиевна, улыбаясь и распоряжаясь, казалось, сходила с какой-то стенной росписи Веронеза. Сверкал этот ужин, этот вечер в ожидании Ильи Пророка. В 1910 г.33 Винавер отправил меня в Париж, назначив мне стипендию. …Я работал в Париже, я с ума сходил, смотрел на Тур Эйфель, блуждал по Лувру и по бульварам. По ночам писал картины – коровы розовые, летящие головы. Синело небо, зеленели краски, полотна удлинялись и скрючивались и отсылались в Салон. Смеялись, ругали. Краснел, розовел, бледнел, ничего не понимал… Он приезжал в Париж, меня разыскивал, улыбался и спрашивал: «ну, как?» Я боялся показывать ему мои картины – может, ему не понравится. Ведь он же говорил, будто в искусстве не знаток. Но не понимающие – мои любимые критики. Надо ли мне говорить, что самая жизнь Винавера – искусство? Недавно, в Париже, на свадьбе его сына34, куда я явился уже со своей семьей, он хлопал меня по плечу, говоря: «оправдали, оправдали вы мои надежды», и я вторично был счастлив, как когда-то, 19 лет назад, когда он приютил меня в редакции «Восхода» и отправил после в Париж, без которого я был бы обыкновенным зеленым евреем. Вдали от Парижа я узнал, что Винавер умер35. Слетел орел в эти годы с гор и тихо лишь вдали наблюдал. Изредка нам слышалась его мерная речь. Шлю вам, дорогой Максим Моисеевич, цветы, нарисованные на полотне, цветы благодарности. Молите Всесильного вашим мужественным голосом за всех нас. Он вас услышит.
Шагал М. Памяти М.М. Винавера // Рассвет (Париж). 1926. № 43. 24 октября. С. 11. Перепечат.: Бюллетень Музея Марка Шагала. 2003. № 2 (10). С. 21–22; Harshav 2004. P. 194–197 (пер. на англ.); Лехаим (М.). 2006. № 2. С. 47–48; Шагаловский ежегодник 2008. С. 113–115; Шагал. Мой мир 2009. С. 134–137.
12. Мои первые учителя. Пэн
Пэн – мой первый учитель. Живет все время в Витебске. Витебск живет и Пэн постоянно живет в нем. Если я чему-либо завидую, если я грущу о чем-либо, – так это о том, что Пэн всегда живет в Витебске, а я всегда, всегда в Парижах… Не понимает он меня, когда мои письма к нему переполнены вопросами: «Как поживают мои заборы, заборы и заборы»? Я узнал о Пэне в тот момент, когда с площадки трамвая, катившегося вниз и замедленно подымавшегося в гору Соборной площади, мне мелькнул кусок белой надписи на синем фоне: «…школа живописи Пэна». – Ах, – подумал я в отдалении, – интеллигентный же город наш, город Витебск. Я решил познакомиться с вывеской поближе. Оказывается – большая, синяя жестяная вывеска, какие висят на лавках. В самом деле, – в нашем городе маленькие визитные карточки, дощечки на дверях, не имеют никакого значения, никто не обращает внимания… «Булочная и кондитерская Гуревича», «Табак, разные табаки», «Овощная и зеленая лавка», «Аршавский портной», «Школа живописи и рисования художника Пэна» – все это выглядит снаружи, как «а штыкель гешефт»[11]. Нездешним миром показалась мне эта вывеска. Ее синий цвет, как синий цвет неба. Дрожит она от солнца и дождя. Впрочем, эта вывеска растаяла ныне так же, как все снега прошедших годов, и я не настаиваю ни на чем… Слыхали ли вы о Пэне, о моем первом учителе, о художнике, о труженике, живущем вечно на Гоголевской улице? Ю.М. Пэн. 1905
Ю.М. Пэн. 1905
Живу я 38 лет, и ни у одного художника не видел я ателье, где столько атмосферы искусства. Его ателье переполнено картинами от пола до потолка. На полу лежат также горки бумаг и полотен. Свободен потолок. На потолке паутина и полная свобода. Люди еще пока не пользуются потолками. Вот почему я на нарисованных потолках охотно сажаю людей… пусть посидят. Вам не нужно выйти в поле, не нужно ни за город ходить, ни обращать внимания на людей, ни ходить в театр, в синагогу. Все это здесь, все это жалуется и вздыхает с пэновских стен ежедневно, ежечасно, по субботам и по праздникам, днем и ночью… Кое-где между картинами вкраплены школьные, гипсовые, греческие головы, – руки, ноги, орнаменты. Белые предметы покрыты пылью. Сморкаясь, мы, ученики, поглядывали то на гипс, то на бумагу. А сам художник? Бездарен я, если не смогу вам показать, как выглядит он. Пусть он короток – от этого его фигура только интимнее. Свисают к ногам углами концы пиджака. Двигаются направо, налево, вниз, и с ними вместе его часовая цепочка. Бородка светлая – остра, подвижна и быстро чертит то грусть, то привет: «А гут морген»[12]. Ни одна красивая барышня города не достигала двадцатой весны без того, чтоб Пэн не пригласил ее позировать, – как ей угодно. Если возможно до грудей, – тем лучше.
 Витебск. Гоголевская улица (справа – дом, в котором с 1910 находились мастерская и школа Ю.М. Пэна). Открытка начала ХХ в.
Витебск. Гоголевская улица (справа – дом, в котором с 1910 находились мастерская и школа Ю.М. Пэна). Открытка начала ХХ в.
 Объявление об открытии Школы рисования и живописи Ю.М. Пэна в газете «Витебские губернские ведомости» (1898. 17 сентября)
Объявление об открытии Школы рисования и живописи Ю.М. Пэна в газете «Витебские губернские ведомости» (1898. 17 сентября)
Выходит Пен на балкон, – у него прямо рука заболевала от поклонов. Если я обо всем этом пишу, – это потому, что, когда сидел у него в ателье, у меня было много свободного времени. Я все замечал. Описывать картины Пэна я не могу. Картины Пэна я в детстве слышал, нюхал, трогал. Я их не вижу издали. Вот почему я плохой критик, и слава Богу. Впрочем, вам нравится одно, а мне другое. Все дело вкуса. Уж 20 лет, как я оставил Пэна. Судьба забросила меня далеко от моих родных развалин. Но всю свою жизнь, как бы ни было разно наше искусство, я помню его дрожащую фигуру. Он живет в моей памяти, как отец. И часто, когда я думаю о пустынных улицах города, он то тут, то там… И я не могу не просить вас: запомнить его имя36.
Шагал М. Мои первые учителя. Пен // Рассвет (Париж). 1927. № 4. 30 января. С. 6–7. Перепечат.: Рывкин, Шульман 1994. С. 34–36; Le Foll 2002. P. 252–253 (пер. на фр., в сокр.); Бюллетень Музея Марка Шагала. 2003. № 2 (10). С. 22–23; Ле Фоль 2007. С. 229–230; Шагал. Мой мир 2009. С. 125–127; Пэн 2017. С. 126–129.
13. Ж. Генне. Интервью с Марком Шагалом
М.Ш. Я родился в 1887 году в Витебске, в бедной (полукрестьянской, полурабочей) семье. У моего отца были голубые глаза и мозолистые руки. Он работал и молился. Молился и молчал. Я тоже молчал. И думал о своем будущем. Неужели мне придется всю жизнь просидеть в этих четырех стенах? Или таскать тяжеленные бочки? Я глядел на свои руки. Они были слишком красивы… Я мечтал о какой-нибудь негрубой работе, профессии, которая не мешала бы смотреть на звезды и помогла найти смысл жизни. Вот что мне было нужно. Но в наших краях и слов-то таких не знали: «искусство», «художник». Однажды, по чистой случайности, ко мне зашел мой приятель, живший в центре города. Увидев мои рисунки, он воскликнул: «Ого! Да ты же настоящий художник!» – «Что такое художник?» – спросил я. Но мало-помалу я начал двигаться в этом направлении… В девятнадцать лет я без копейки денег сбежал в Петербург. Пошел учиться. Недоедал, так что время от времени падал в голодные обмороки прямо на улице. Но по крайней мере, можно было наслаждаться разглядыванием ресторанных меню в витринах. Потом я поступил в Академию художеств37, откуда, впрочем, сразу же вылетел. Академии во всех странах одинаковы, верно? Вскоре после этого меня представили Льву Баксту. Он был первым, кто заговорил со мной о Париже, Сезанне, Гогене, Ван Гоге. Даже предложил взять меня с собой в Париж помощником декоратора на Русские сезоны. Но я отказался. В 1910 году38 я уехал в Париж один – на Монпарнас, в «Улей». Ж.Г. Расскажите о ваших первых впечатлениях от парижских музеев. М.Ш. В Лувре я обошел все залы. Один. Без всякой системы и без экскурсовода. Посмотрел итальянцев, голландцев. Но все равно чего-то не хватало. И вот, выйдя из большой галереи, я попал в зал французской живописи. И был потрясен! Делакруа, Курбе, Мане! Это было настоящее откровение. Ж.Г. Делакруа привлек вас грандиозностью тем, экспрессией? М.Ш. Нет, я вообще не обратил внимания на сюжеты его картин. Меня восхитило, как это сделано. То же самое с Мане. Вскоре моя мастерская была завалена холстами. Блез Сандрар и Канудо иногда приносили мне кофе и угощали обедом. Я подружился с несколькими людьми, и они не давали мне упасть духом. Кроме тех, кого я уже упомянул, в наш небольшой круг входили Аполлинер, Макс Жакоб, Андре Сальмон, Делоне, Андре Лот, Глез, Рейналь, Роже Аллар, Сегонзак, Андре Варно. С 1911 по 1914 год мои картины выставлялись в Салоне независимых39. Еще я послал свои работы в Осенний салон, но там их отвергли40. Ж.Г. Уверен, что это судьба. Такие ошибки независимого жюри, собравшегося во имя свободы искусства, происходят по его вине. Не будем забывать, что Осенний салон был создан в пику официальному искусству. М.Ш. Так или иначе, после этого случая я решил никогда больше не зависеть от мнения жюри. В 1914 году по совету Аполлинера я отправил двести своих работ в Берлин на выставку «Дер Штурм». После чего сел на поезд и сам поехал в Берлин, чтобы посмотреть, как они там устроили, а оттуда – в Россию, к невесте. Мы вскоре поженились. Без вдохновляющего присутствия этой женщины я не написал бы ни одной картины, не создал бы ни единой гравюры. В России я попал под мобилизацию, а потом началась война. В результате мне пришлось распрощаться с Парижем и своей мастерской в «Улье». В Париже мои картины остались лежать под кроватью, в Берлине – висеть в галерее. Три года спустя грянула революция. Я вернулся в Витебск, где меня охватила революционная горячка. Я сорвал художников с насиженных мест и отправил их в училище, которое сам же основал. Эта школа была плодом моего экстаза, моих мук. Я пригласил учителей со всей России, лидеров всех художественных направлений. Я сам сделался учителем, директором, комиссаром, всем, чем хотите. Было невозможно не поддаться этому вихрю. Я был захвачен. Проводил собрания, говорил речи, обсуждал пролетарское искусство, придумывал различные акции, что-то без конца организовывал. В 1918 году я получил предложение сделать панно и расписать стены и потолок только что созданного в Москве Камерного театра41. Надо сказать, что к тому времени меня уже изрядно вымотали постоянные споры и склоки, административная работа, которая в течение двух лет совершенно не давала мне заниматься живописью. Я не стал тянуть и вместе с семьей первым же товарным поездом уехал в Москву42. Будь я немного понахальнее, я мог бы воспользоваться своим положением и поехать, по крайней мере, третьим классом. Но в конце концов, почему бы не смешаться с крестьянами, спекулянтами и прочей разномастной толпой, погрузившейся в поезд вместе с детьми, самоварами и бидонами с молоком! Мы сидели один на другом в вагоне для скота. Поезд еле-еле тащился под аккомпанемент несмолкаемой ругани. Стояла жуткая вонь. Наконец, после многочисленных мелких и крупных стычек, мы добрались до Москвы. Вокзал был забит толпой крестьян с бесчисленными тюками. С трудом выбравшись из этой орды, мы отправились на поиски жилья. Мне повезло, и я нашел свободную комнату. Правда, она была чудовищно сырая, но в те времена я еще не знал, что такое настоящая сырость. Мне казалось, что после того, как мы затопим печь, вода испарится сама собой. Но каждое утро все мы: и жена, и наша маленькая дочь Ида, и я были покрыты росой. Мои холсты желтели. Что было делать? Бунтовать я не решался. К величайшему сожалению, моему голосу всегда недоставало решительности и авторитетности. Так или иначе, я набросился на стены и потолок Камерного театра и пустого места на них не оставил. Я с огромным удовольствием разрушал мертвые условности, в которых загнивал старый Еврейский театр, и дарил ему возможность новой жизни. С каждым днем мне работалось все легче и легче. Если вы видели постановки Габимы в Париже в прошлом году43 или если вам повезет попасть в Еврейский камерный театр в Москве, вы, возможно, согласитесь, что я тогда не зря мучился и голодал. Жак Генне. Фото А. Мартини
Жак Генне. Фото А. Мартини
Но я очень скучал по Парижу. Было ясно, что как художник я смогу развиваться только во Франции. И хотя в то время было чрезвычайно сложно покинуть Россию – да я и не думал навсегда уезжать из моей страны, – я рассказал народному комиссару просвещения Луначарскому о своем желании выехать во Францию. Я решил заехать в Берлин в надежде спасти двести своих картин с выставки в «Дер Штурм». Этой надежде не суждено было сбыться. Я вернулся в Париж в 1923 году. Там меня ждала приятная неожиданность: большую часть моих оставленных под кроватью холстов сохранил и вставил в рамки Гюстав Кокийо, мой первый коллекционер, остававшийся моим самым верным другом до самой своей смерти. Ж.Г. Стало быть, вы не были в Западной Европе десять лет. Какие перемены в искусстве показались вам наиболее разительными после возвращения? М.Ш. Я с радостью отметил торжество экспрессионизма в Германии, рождение сюрреализма во Франции и появление на экране Чарли Чаплина. Чаплин делает в кино то, что я пытаюсь сделать в живописи. Сегодня он, может быть, единственный художник, с которым, как мне кажется, мы бы поняли друг друга без слов. Ж.Г. Испытывали ли вы чувство одиночества среди парижских художников? М.Ш. Они очень потешались над моей живописью, особенно над моими картинами с перевернутыми головами. Критики не замечали моей работы с формой, ведь деформация и пластическая интерпретация благодаря всевозможным варварским течениям стала модной, не так ли? А я не делал ничего, чтобы избежать этих упреков. Напротив. Я улыбался, не без грусти, конечно. Меня смешила злоба моих судей. Но, как бы то ни было, моя жизнь обрела смысл. Тем более что все художники в моем окружении – от импрессионистов до кубистов – казались мне слишком «реалистичными», если позволительно использовать этот термин.
 Амбруаз Воллар (в центре), Морис Вламинк с женой, Марк Шагал, Ида и Белла. Париж, около 1924
Амбруаз Воллар (в центре), Морис Вламинк с женой, Марк Шагал, Ида и Белла. Париж, около 1924
В отличие от них, меня гораздо больше увлекала невидимая сторона, некий алогичный аспект формы и духа, без которого внешняя правда не полна для меня. Что не означает, впрочем, что я апеллирую к фантастике. Сознательное, умышленное фантастическое искусство мне абсолютно чуждо. Именно поэтому у меня нет ничего общего с такими художниками, как Иероним Босх, Питер Брейгель Старший или Одилон Редон. Их искусство фантастично, богато вымыслом, символами, часто литературно, но не «реально». Наверное, с вами тоже бывало такое: бродишь по музею, переходишь от одного шедевра к другому, от одного мастера к другому, а все равно чувствуешь, что чего-то не хватает. Помню, что это чувство неудовлетворенности преследовало меня с самого детства. Вот почему я предпочел – как некоторые считают – потерять рассудок, нежели повиноваться правилам всех этих «школ», следовать каким-то методам. Мне хотелось положить предел власти теорий, не потому, что они не нужны, нет, конечно, но потому, что человек – это не только разум, но и инстинкты, в том числе выходящие за пределы нормы. Мне хотелось вернуть человека к его истокам. Чисто интеллектуальное искусство не способно трогать. Ж.Г. Вам не кажется, что, апеллируя к человеческому чувству, вы фактически сражаетесь с декоративными тенденциями в современной живописи? М.Ш. Конечно. Изобразительное искусство все больше и больше сдвигается в сторону декоративности, отвлеченного орнаментализма, символической арабески, иероглифики, превращается в прикладное. Не грустно ли, что наш умный и изобретательный век культивирует исключительно формальное искусство, в котором художнику так легко спрятаться. Увы! Человечество слишком привыкло восхищаться внешней стороной дела, одеждой искусства, и разучилось воспринимать то, что происходит внутри. Если мы не сможем вдохнуть в нашу работу те возможности, которые открывает перед человеком природа, зачем вообще браться за кисть?! Разве недостаточно того, что природа и так растворена во всех наших чувствах? Ж.Г. То есть вы считаете искусством лишь то, что рождается из внутренней необходимости? М.Ш. Я с самого начала считал ложным представление об искусстве как профессии. Невозможно получить профессию художника в том смысле, в каком можно выучиться на сапожника, врача или плотника. Уместно ли говорить о каких-то технических методах, когда смотришь на египетские пирамиды, индийскую, китайскую или африканскую графику? Ведь все это действительно родилось из внутренней необходимости художника или из непосредственного религиозного чувства. Иногда меня упрекают в том, что я уделяю слишком много внимания поэзии в своих картинах. В самом деле, мы вправе ждать от изобразительного искусства чего-то еще, кроме поэзии. Но с другой стороны, я не знаю ни одной великой работы, в которой не было бы поэзии. Это не означает, впрочем, что я слепо верю во вдохновение, в мгновенный импульс. Вся моя жизнь связана с моей работой художника, и мне кажется, что я, в сущности, всегда один и тот же, даже когда сплю. Иных удивляет то, что во время летних каникул я с радостью пишу цветы или пейзажи. Склонность к классификации заставляет их предположить, что я и реалист, и поэт, по очереди. Но разве я не имею права изображать места, в которых я живу? Плен какой бы то ни было системы не для меня! Я часто мечтаю о таком чудесном времени, когда я смогу скрыться от всех, как отшельник, – в монастырь. Радость, с которой я делал офорты к гоголевским «Мертвым душам»44, не была бы возможна, если бы господин Воллар не предоставил мне полную творческую свободу. Его доверие очень помогло мне. Без этого мне бы едва ли удалось сделать сто гуашей, которые в ближайшее время должны появиться в виде цветных гравюр на полях «Басен» Лафонтена. Далее я планирую серию о цирке, а затем – библейский цикл (пророки)45. Но всякий раз, когда я отдаю готовую работу господину Воллару, я буквально трепещу от страха. Подумать только, ведь он был современником и другом Сезанна и Ренуара! Вообще-то я не умею говорить об искусстве. Слишком высок риск быть непонятым. Не заставляйте художника говорить. Редкий художник владеет искусством разговора об искусстве. Я с сожалением отмечаю, что моя путаная психология так разительно отличается от ясного латинского сознания. А сожалею я об этом потому, что люблю Францию и уважаю ее мастеров. Воздух, свет, вся атмосфера Парижа были и остаются для меня живой школой. Именно во Франции я возродился к жизни.
Guenne Jacques. Marc Chagall // L’art vivant. (Paris). 1927. № 3. December 15. P. 999–1011. Перепечат.: Шагал. Мой мир 2009. С. 142–149. Печат. по: Шагал. Мой мир 2009.
14. Как я работал в еврейском камерном театре
– Вот стены, – сказал Эфрос46, – и делай с ними что хочешь. Это была брошенная, нежилая квартира, ее хозяева уехали47. – Смотри, здесь будут скамьи для зрителей, там – сцена. Честно признаться, «здесь» я не видел ничего, кроме остатков кухни, а «там»… «Долой старый театр, провонявший чесноком и потом! – воскликнул я. – Да здравствует…» – И набросился на стены. На полу холсты, рабочие и актеры перешагивают через них, бродят по отремонтированным комнатам и коридорам, среди щепок, стамесок, тюбиков с красками, эскизов. Клочья Гражданской войны – продуктовые карточки, бумажки с номерами из всевозможных очередей – разбросаны тут же. Порой мне даже нравилось лежать вот так. У меня на родине покойников клали на землю. Родные плакали, распростершись у изголовья. Да и сам я потом полюбил лежать на земле, нашептывая ей свои жалобы, молитвы… Я вспоминал своего прадеда, который расписывал синагогу в Могилеве48, и плакал: ну почему он не взял меня сто лет назад к себе хотя бы подмастерьем? Ну разве не жаль, что он, заступник мой перед Господом, покоится сейчас в могилевской земле? Он бы рассказал, какие чудеса творила его кисть в местечке Лиозно. Вдохни в меня, мой бородатый предок, хоть капельку еврейской истины! Проголодавшись, я посылал швейцара Эфраима за молоком и хлебом. Собственно, это было не совсем молоко и не совсем хлеб. В молоке – вода и крахмал, в хлебе – овес и какая-то труха табачного цвета. Может, это и правда настоящее молоко, а может – от какой-нибудь революционной коровы. Может, сукин сын Эфраим подмешивал в воду какую-то гадость и подавал мне. Чью-то белую кровь… Я пил, ел, приободрялся. Эфраим, представитель рабочих и крестьян, вдохновлял меня. Если бы не он, разве у меня что-нибудь получилось бы? Его нос, его убогость, его тупость, его вши, переползавшие с него на меня – и обратно. Он стоял рядом, неуверенно улыбаясь. Он не знал, на что смотреть – на меня или на мои художества. И то и другое выглядело чуднó. Где ты сейчас, Эфраим? И кто еще помнит меня? Может, ты и простой швейцар, но иногда ты стоял возле кассы и проверял билеты. Я часто думал: надо бы им взять его на сцену, ведь взяли же они супругу швейцара Каца? Ее фигура напоминала кубометр сырых дров, присыпанных снегом. Втащите-ка дрова на пятый этаж и сложите в комнате. Запотеют – не то слово… На репетициях она визжала и ревела, как жеребая кобыла. А ее груди! Врагу не пожелал бы смотреть на них. Ужас! Сразу за дверью – кабинет Грановского. Пока помещение не готово, у него мало работы. В комнатушке не протолкнуться. Он распластался на кровати, под кроватью опилки. Сейчас он болеет. «Как здоровье, Алексей Михайлович?» Так он лежит, улыбается, язвит или бранится. И часто крепким словцом, по матушке и по батюшке, честит меня или того, кто первым подвернется. Не знаю, улыбается ли Грановский сейчас, но тогда его грустная улыбка, как Эфраимово молоко, успокаивала меня. Правда, порой мне казалось, я его раздражаю, но я не решался спросить, любит ли он меня. Так я и уехал из России, не узнав этого. Я давно мечтал поработать в театре. Еще в 1911 году Яков Тугендхольд писал, что предметы на моих картинах живые и что я вполне мог бы сделать декорации для психологической драмы. Я задумался. И вот в 1914 году Тугендхольд посоветовал Таирову, руководителю Московского камерного театра, взять меня оформителем «Виндзорских насмешниц» Шекспира. Мы встретились и мирно разошлись. Но кубок был переполнен. Сидя у себя в Витебске – комиссарствуя, насаждая искусство по всей губернии, множа учеников-врагов, – я ужасно обрадовался, получив в 1918 году49 приглашение от Грановского и Эфроса. Они звали меня поработать в только что открытом театре, где будут ставить пьесы на идише. Ну как описать вам Эфроса? Одни ноги. Не шумный, не тихий, он всегда в движении. Вечно снует туда-сюда, блещет очками, мелькает его бородка, то он здесь, то он там. Эфрос одновременно всюду. Мы с ним большие приятели и обязательно встречаемся раз в пять лет. О Грановском я впервые услышал в Петрограде, во время войны. Он ученик Рейнхардта и получил известность благодаря массовым постановкам. С тех пор как Рейнхардт привез в Россию «Царя Эдипа», эти массовые действа стали пользоваться успехом. Грановский набирал для своих спектаклей не профессиональных актеров, а любителей, людей самых разных профессий. Отовсюду. Именно они впоследствии образовали еврейский театр-студию. Я видел эти пьесы, поставленные в реалистическом духе, по Станиславскому. И, прибыв в Москву, очень волновался. Мне казалось, во всяком случае поначалу, что мы с Грановским не сработаемся. Я не привык доверять никому и ничему, он – самоуверен, ироничен. Но главное – он абсолютно не Шагал. Мне предложили расписать стены для первого спектакля. «Отлично, – подумал я, – вот прекрасная возможность перевернуть старый еврейский театр, со всем этим реализмом, натурализмом, психологизмом и накладными бородами». И взялся за дело. Я надеялся, что, по крайней мере, несколько актеров Еврейского камерного театра и театра «Габима» (куда меня позвали оформлять спектакль «Диббук») сумеют понять новое искусство и откажутся от старых правил. Я сделал наброски. На одной стене я хотел в общем плане представить зрителям народный еврейский театр. На остальных стенах и на потолке будут клезмеры, свадебный шут, танцовщицы, переписчик Торы и влюбленная парочка, парящая над сценой, а рядом – всевозможные яства, пироги, фрукты, столы с угощением, и все это на фризе. Напротив – сцена, где играют актеры. Работа была трудная, я понемногу осваивался на новом месте. Грановский, похоже, находился в процессе перехода от Рейнхардта и Станиславского к чему-то еще. В моем присутствии он был каким-то рассеянным, задумчивым. Порой мне казалось, что я ему досаждаю. Так ли это? Не знаю, он никогда со мной не откровенничал. А я сам не заговаривал с ним о серьезных вещах. Эту стену отчуждения пробил актер Михоэлс, такой же изголодавшийся, как и я. Он часто подходил ко мне – глаза навыкате, крутой лоб, волосы дыбом, приплюснутый нос, пухлые губы – впечатляющее зрелище. Труппа ГОСЕКТа с Алексеем Грановским (в центре), Соломоном Михоэлсом и Марком Шагалом (слева и справа от Грановского). Москва, около 1921
Труппа ГОСЕКТа с Алексеем Грановским (в центре), Соломоном Михоэлсом и Марком Шагалом (слева и справа от Грановского). Москва, около 1921
 ГОСЕКТ. Труппа у здания театра (Малая Бронная, 2). Начало 1920-х
ГОСЕКТ. Труппа у здания театра (Малая Бронная, 2). Начало 1920-х
Он ловит мою мысль раньше, чем я ее выскажу, и всем своим угловатым телом пытается уловить суть. Никогда его не забуду. Он смотрел, как я работаю, просил разрешения взять домой эскизы – чтобы как следует вникнуть в образ, привыкнуть к нему, прочувствовать. И однажды радостно заявил: «Знаете, я изучил ваши рисунки и все понял. Я полностью изменил трактовку образа. Теперь все смотрят на меня и не могут понять, в чем дело». Я улыбнулся. И он улыбнулся в ответ. Другие актеры тоже стали как бы невзначай подходить ко мне, разглядывали холсты, пытались угадать, что же там такое, вдруг и для них что-то изменится? Материала для костюмов и декораций не хватало. В последний день перед премьерой мне принесли кучу заношенной, ветхой одежды. В карманах попадались окурки, сухие хлебные крошки. Я быстро раскрасил костюмы. В день премьеры я так и не смог выйти в зрительный зал. Я был весь вымазан краской. За считанные минуты до того, как поднялся занавес, я кинулся на сцену – расцветить последними штрихами некоторые костюмы: не выношу «реализма». И вдруг – конфликт. Грановский вывешивает на сцене обычное, простое полотенце! Я заметил это и кричу: «Простое полотенце?» «А кто тут режиссер, вы или я?» – отвечает он. Бедное мое сердце! Меня попросили сделать декорации для «Диббука» в театре «Габима». Я не знал, как поступить. Эти два театра враждовали друг с другом. Но я не мог пойти в «Габиму», где актеры не играли, а молились, бедняги, на систему Станиславского. У нас с Грановским, как он сам выразился, роман не сложился. Вахтангов (который к тому времени поставил только «Сверчка на печи»50) был мне совсем незнаком. Казалось, нам будет трудно найти общий язык. На явную любовь я отвечаю любовью, а заметив неуверенность и сомнения, разворачиваюсь и ухожу.
 Сцена из спектакля «Гадибук». Театр Габима. Москва, 1922
Сцена из спектакля «Гадибук». Театр Габима. Москва, 1922
Например, в 1922 году меня любезно пригласили во Второй художественный театр Станиславского поставить вместе с режиссером Диким пьесу Синга «Герой». Я взялся за дело, но труппа объявила забастовку: «Невразумительно». После этого они позвали кого-то еще, и пьеса провалилась51. Ничего удивительного. На первой репетиции «Диббука» в «Габиме», глядя, как работает с актерами Вахтангов, я подумал: «Он русский и грузин52, мы видим друг друга впервые. Может, он читает в моих глазах хаос и сумятицу Востока. Суетливый народец, и искусство у них какое-то непонятное, чудное… Так что же я смущаюсь, краснею и поедаю его глазами?» И все же каплю отравы я в него заронил – Вахтангов признавался в этом позже и при мне, и за моей спиной. После меня придут другие, они станут повторять мои же слова и жалобы, но не в такой резкой форме, и потому их услышат. В конце концов я спросил Вахтангова, какой он видит постановку «Диббука». Он спокойно и веско произнес, что единственная верная линия для него – система Станиславского. «Нет такого направления для возрожденного еврейского театра», – заявил я. Наши пути разошлись. А Цемаху я сказал: «Все равно вы поставите пьесу по-моему, даже без меня. Иначе просто невозможно», – и вышел на улицу. Вернувшись домой, в детскую колонию в Малаховке, я вспоминал свою последнюю встречу с Анским, на званом вечере в 1915 году в Калашниковской бирже53. Качая седой головой, он поцеловал меня и сказал: «У меня есть пьеса, “Диббук”, и только вам по силам ее оформить. Я сразу подумал о вас». Стоявший рядом Баал-Махшовес одобрительно кивнул, блеснув очками. «Так что же мне делать? Что же делать?» Потом я узнал, что год спустя Вахтангов часами просиживал над моими эскизами и в результате пригласил другого художника54 – но попросил его, как говорит Цемах, сделать эскизы «под Шагала». А у Грановского, слышал я, они и сами себя перешагалили. Ну и слава Богу.
Малаховка, 1921 – Париж, 1928. P.S. Только что узнал, что москвичи за границей55. Всяческих им благ!
Шагал М. Как я работал в Еврейском камерном театре // Ди идише велт [Еврейский мир] (Вильно). 1928. № 2. С. 276–282 (идиш). Перепечат.: Ди голдене кейт [Золотая цепь] (Тель-Авив). 1962. № 43. С. 170–174 (идиш); Kamenski 1988. Р. 358–360 (пер. на фр.); Harshav 2003. P. 33–38 (пер. на англ.); Harshav 2004. P. 289–296 (пер. на англ.); Каменский 2005. С. 263–264 (пер. Д.М. Фрайштата); Шагал об искусстве и культуре 2009. С. 62–71. Печатается по: Шагал об искусстве и культуре2009.
15. Памяти Я.А. Тугендхольда
Я пошлю эти строки на родину. (Где сил взять, чтобы преодолеть смысл этого слова). Теперь, когда Як[ов] Ал[ександрович] лежит в поле, под небом русским, моим любимым – я хотел бы сказать несколько слов о нем, кто первый, лет 20 назад, улыбнулся мне, кто первый открыл дверь своего дома, усадил за стол, смотрел с сочувствием и улыбкой мои первоначальные сумасшедшие работы. – Улыбку его я более не увижу? Прошло много лет с тех пор, как я первый раз к нему зашел в Париже со свертком моих полотен и с чемоданом, оставленным у дверей. Никого не знал я в Париже, никто меня не знал. С вокзала спускаясь, смотрел я робко на крыши домов, на серый горизонт и думал о моей судьбе в этом городе. Хотел вернуться на 4-й же день обратно домой. Мой Витебск, мои заборы… Но Тугендхольд взял в руки мои полотна. Что? В чем дело? Он начал, торопясь, звонить одному, другому, звать меня туда, сюда, и радостно стало мне даже читать свои рассказы… Тугендхольд стал моим другом. Не раз я допрашивал его, как должен я работать, и я часто, признаюсь, хныкал (моя специальность) перед ним. Он утешал, посылал (напрасно) пакеты моих работ на выставки в Россию, хлопотал о стипендии. Мы долго блуждали по Парижу и, наконец, не раз оставался он ночевать в моем бедном ателье, в «La Ruche», в одной ужасной койке со мной. А потом, во время войны, в России, куда и я был занесен – он первый заговорил обо мне… – Я даже спрашивал его: жениться ли мне? Он отвечал: «Да, но без детей»… Он торопил Морозова56 купить у меня картины, и за первые полученные 300 руб[лей] я смело женился. Революция. Я в Витебске директор и командир всего, чего хотите, а он на юге то же57. Позже я вижу его в Москве в крестьянском армяке – он засыпает от усталости на стуле… Я видел, как он истекает любовью к нам, художникам, окружающим во имя возрождения. Тугендхольд – моя молодость. Если бы мое сердце не болело бы и так – оно сейчас бы щемило б меня особо… Мне грустно привыкнуть к мысли, что те годы, и те пейзажи, и те радости, о которых я бормочу сейчас – ушли… И лежит он в земле, которая мне близка, как кровь моя. Лежит он там, а я здесь… Если б он знал, что я пишу эти строки… Мне все равно: смерть мне безразлична. Я не верю в нее никогда. Все равно – моих любимых и близких я вижу в небесах, в воздухе, повсюду, неотступно. Я увижу по приезде на свою родину и Якова Александровича где-либо… Не иначе. Привет всем Вам.Марк Шагал. Paris. 1928[13]. Декабрь
Шагал М. Памяти Я.А. Тугендхольда // Искусство (М.). Т. IV. Кн. 3–4. М., 1928. С. 239. Перепечат.: Kamenski 1988. Р. 360 (пер. на фр., в сокр.); Бюллетень Музея Марка Шагала. 2003. № 2 (10). С. 24; Harshav 2004. P. 200–201 (пер. на англ.); Каменский 2005. С. 265.
 Я.А. Тугендхольд. Москва, середина 1920-х
Я.А. Тугендхольд. Москва, середина 1920-х
 Дарственная надпись на монографии: Сальмона А. «Шагал» (Париж, 1928): Якову Александровичу Тугендхольду в знак старой дружбы Марк Шагал 928 Paris. Boulogne
Дарственная надпись на монографии: Сальмона А. «Шагал» (Париж, 1928): Якову Александровичу Тугендхольду в знак старой дружбы Марк Шагал 928 Paris. Boulogne
16. Мои учителя. Бакст[14]
– «Барин еще спит», – отвечает мне таинственно горничная. Час дня, – и еще спит. Тихо. Ни детского шума, ни следов жены. На стенах репродукции греческих богов, завеса синагогального «оренкойдеша»[15]. Стою я так, в передней Бакста, со свертком моих работ, и жду. Стою так же, как раньше в Витебске, в ожидании Пена. Тогда я лепетал: «Я – Моська, желудок у меня слабый, денег нет, хочу быть художником». Так и теперь, в передней Бакста, я, волнуясь, шепчу: «Он скоро выйдет из спальни. Нужно обдумать, что и как ему сказать». Быть принятым в его школу, посмотреть на него. Может быть, он поймет меня, поймет, почему я заикаюсь, почему я так часто грущу и почему пишу лиловыми красками. Может быть, объяснит и разъяснит мне смысл тайн, которые уже с детства заграждают мне улицу, обволакивают небо… – Отчего это?… – скажите мне. Никогда не забуду его – не то, просто, – улыбки, не то улыбки сожаления, которой он меня встретил. Он стал предо мной, едва показывая ряд светящихся розоватых и золотых зубов. Над ухом его, мне кажется, чуть вьются рыжеватые пейсы. Он мог бы быть моим дядей, дальним родственником. Он, может быть, родился недалеко от моего гетто, и был он в детстве тоже розовым и бледным заикающимся мальчиком, как я… Лев Бакст. Автопортрет. 1906. Б., уголь, сангина, цв. кар. 76 х 52 ГТГ
Лев Бакст. Автопортрет. 1906. Б., уголь, сангина, цв. кар. 76 х 52 ГТГ
– «Чем могу служить?» – произносит Бакст. В устах его отдельные буквы как бы растягивались. Своеобразный акцент придавал ему не русский характер, а слава его, в связи с русским сезоном заграницей, кружила голову и мне. – Покажите ваши работы. Что ж, стесняться нечего. Я чувствовал, что, если суд Пена имел значение лишь для моей мамы, визит к Баксту, его отзыв мне казался роковым. Я хотел лишь одного: чтобы не было ошибки – будет ли признан во мне талант, или нет… Просматривая мои работы, которые я, волнуясь, поднимал с пола и показывал ему, он цедил по-барски: – Да-а, да… талант есть, но… вы испорчены. Вы на ложной дороге. Вы испорчены. Довольно! Боже, это я? Тот самый стипендиат Императорской школы Поощрения Художеств; я, которому директор Рерих машинально расточал светлозубые улыбки, «манеру» которого там же хвалили; но тот самый, который, действительно, не знал, когда же конец этой бесконечно неудовлетворяющей мазне? И, лишь голос Бакста, слова его: «Испорчены, но не совсем» – меня спасли. Если бы эти слова были сказаны кем-либо другим – я бы, плюнув, успокоился… Но Бакста я слушал стоя, волнуясь, веря каждому слову, со стыдом подбирая и свертывая свои рисунки и полотна. То, что я нашел в его школе, навсегда останется в моей памяти. Я, не имевший понятия о том, что на свете есть художественный Париж, увидел здесь Европу в миниатюре. Ученики, с большим или меньшим дарованием, знали путь, по которому они шли. Я понял, что мое прошлое должно быть забыто. Я сел писать этюд. Стояла натурщица: толстые розовые ноги, синий фон. В мастерской, среди учеников – графиня Д. Толстая58, танцовщик Нижинский… Я опять стесняюсь. Этюд кончен. В пятницу приходит Бакст. Он являлся раз в неделю. Все оставляли свои работы. Становились мольберты в ряд. Ждут. Идет. Осматривает, не зная, чья работа, потом спрашивает: «Кто писал?» Говорит мало, – то, да се, – но гипноз и страх, и запах Европы делали свое дело. Он приближается ко мне. Я пропал. Он обо мне, т. е. о моей работе, не зная (или притворяясь, что не знает), что моя – говорит «неловкие слова в приличном обществе». Все смотрят на меня, сочувствуют. – Чья работа? – спрашивает Бакст. – Моя. – Я так и знал, – говорит он, – ну, конечно. Я вспомнил все свои полукомнаты, все углы, нигде не было так неловко, как здесь, после замечания Бакста. Я чувствовал, что так продолжаться не может. Пишу второй этюд. Пятница. Приход Бакста. Не хвалит. Я убегаю из школы. В течение трех месяцев милейшая Алиса Берсон, так чутко отнесшаяся ко мне, начинающему, платит за меня по тридцать рублей в школу, а меня все нет. Это было выше моих сил. Ведь я, в сущности, учиться не могу. То есть, вернее, меня научить не могут. Недаром я учился еще и в городском училище, с общепринятой точки зрения, скверно. Я беру лишь внутренним своим чутьем. Вы понимаете? В общие школьные теории не укладываюсь. Посещение мною школ носило скорее характер приобщения и ознакомления, чем насильственной учебы. Потерпев неудачи в новой школе Бакста, с двумя первыми этюдами, и не поняв в точности (не желав понять), почему собственно ругал Бакст – я сбежал, чтобы на свободе ориентироваться, попытаться сбросить с плеч какую-то мешающую мне тяжесть. И я возвратился позже [в] его школу с решимостью не сдаваться и вырвать признание Бакста и его почетных учеников. Так и случилось.
 Ученики школы Званцевой с Л.С. Бакстом (в центре) и Е.Н. Званцевой (слева). Санкт-Петербург, 1907
Ученики школы Званцевой с Л.С. Бакстом (в центре) и Е.Н. Званцевой (слева). Санкт-Петербург, 1907
Я написал этюд, и в очередную пятницу он был избран Бакстом в «образцы», которые, в знак отличия, вывешивались в школе. И на то, чтобы дойти до этой переходной грани, я потратил четыре-пять лет. Спустя короткое время, я почувствовал, что и в школе Бакста мне оставаться больше нечего. Тем более, что сам он, в связи с созданием русского балета заграницей, оставил школу и Петроград навсегда. Встреча с Бакстом навсегда останется в моей памяти. Но что таить? Что-то в его искусстве мне было чуждо. Может быть, виною этому был не он, а то общество, под названием «Мир искусства», где процветали стилизация, графизм, светские манеры, где революция европейского искусства Сезанна, Ван Гога и др[угих] казались преходящей парижской модой. Не так ли раньше Стасов и его современники, в проповеди национальных и этнографических сюжетов, сбили с пути Антокольского? Я, заикаясь, обратился к Баксту: – Нельзя ли, Лев Самойлович… знаете, Лев Самойлович, я хочу… в Париж. – А? Пожалуйста! Слушайте, вы умеете писать декорации? – Конечно (абсолютно не умел). – Вот вам сто рублей. Подучитесь технике декораций, и я вас возьму с собой. Однако пути наши разошлись, и я отправился в Париж один.
* * *
По приезде в Париж, я пошел на спектакль балета Дягилева, чтобы увидеть там Бакста. Как только я открыл двери кулис, я его издали увидел. Рыже-розовый цвет приветливо улыбнулся. Нижинский тоже подошел, взял за плечо. Он должен сейчас выбежать на сцену. Бакст отечески говорит ему: «Ваця, иди сюда», и поправляет ему галстух. Д’Аннунцио стоит рядом и томно кокетничает. – Вы все-таки приехали, – говорит, обращаясь ко мне, Бакст. Мне стало неловко. Ведь он меня предупреждал, чтобы я в Париж не ездил, что я могу там, среди 30.000 художников с голоду умереть, и что помочь он мне не сможет… Что ж, я должен был остаться в России? Но я, – ведь, еще мальчиком, чувствовал на каждом шагу, что я еврей. Столкнешься ли с художником Общества «Союза Молодежи», – они твои картины запрячут в самую последнюю и темную комнату; столкнешься ли с художником из «Мира Искусства», они твои вещи просто не выставляют, а оставляют в квартире одного из своих членов. Все приглашены давно в это общество, один лишь ты в стороне и думаешь: это, верно, оттого, что ты еврей и нет у тебя родины… Париж! Не было нежнее слова для меня. В этот момент мне уж было все равно, зайдет ли Бакст ко мне или нет. Он сам сказал: «Где вы живете, я к вам зайду, – посмотрю, что вы делаете». Л.С. Бакст. Париж, 1910-е
Л.С. Бакст. Париж, 1910-е
– Теперь ваши краски поют, – сказал он, зайдя ко мне. Это были последние слова профессора Бакста его бывшему ученику. То, что он увидел, ему, вероятно, сказало о том, что я оторвался навсегда от моего гетто, и что здесь, в «Ла Рюш», в Париже, в Европе, я – человек. Теперь Бакст в гробу59. Такой ли он, каким выходил на сцену отвесить поклон, такой ли, каким он вдруг вошел, через 15 лет, в мое ателье на именины моей дочери, целуясь со мной?60 Бакст умер, значит, он человек. Сгнили цветы на его могиле, и мой скромный букет, на лепестках которого осталось много моих грустных мыслей о судьбе художника. На его листья упали слезы. Я еле положил цветы на большое черное бархатное возвышение в его мастерской. Ателье его пустое. Стоит мольберт с картиной, повернутой к стене. Горят свечи. У ног подушка с крестом и орденом, и тут же, на диване, сгорбившись, дремля, сидят старые евреи в ермолках. В руках у них псалтырь и они бормочут «теилим»[16]. Хотелось выгнать всех гоим, стоявших вдали в передней, без шапок и даже Иду Рубинштейн в ложно-трагической позе… Ведь, лежит еврей… Это он так себе ходил в смокинге, гнался за славой… Нету больше славы… Я смотрел на мой букет, самый скромный из всех, искал его, чтоб не потерять его из виду, и думал о своей судьбе… Могу же я подумать, когда сердце у меня так часто бьется, а голова летит. Но те, кого мы любили, – пусть их нет средь нас – мне кажется, повсюду защищают нас.
Шагал М. Мои учителя (Бакст) // Рассвет (Париж). 1930. № 18. 4 мая. С. 6–7. Перепечат.: Бюллетень Музея Марка Шагала. 2003. № 2 (10). С. 23–24; Harshav 2004. С. 186–190 (пер. на англ.); Шагал. Мой мир 2009. С. 128–133.
17. Бен – Таврия. М. Шагал о Палестине (Интервью)
Странное чувство охватывает меня, когда я оказываюсь в приемной Шагала. Точно неожиданная встреча с другом детства: со всех сторон глядит безмятежная шагаловская «творимая легенда», – все те образы, которые – в тусклых и обманчивых репродукциях – дошли до меня уже много лет назад и поселились в самом сокровенном уголке души… Вот он, наконец, передо мной незабвенный молчаливый еврей, пепельнопечальным голубем пролетающий над уткнувшимся в снежные сугробы городком… Но вот и сам Шагал. Что-то детски доверчивое есть в его улыбке – надо видеть эту улыбку, чтобы коснуться самого дна этих картин, – что-то тревожное – несказуемое – мелькает иногда в глазах. Мы усаживаемся. От картин направо и налево от меня и за моей спиной идут беспокойные лучи, заставляющие меня иногда ерзать на стуле. Приступаю к «допросу». – Ваша поездка в Палестину стояла в связи с организацией музея искусств в Тель-Авиве? – Да, меня пригласил заняться этим М. Дизенгоф61. Съездить в Палестину я давно собирался. Визит Дизенгофа и его приглашение мою поездку ускорили… Вы знаете Дизенгофа, этого семидесятилетнего молодого человека? Нельзя было не откликнуться на его призыв. – …Влекла ли меня Палестина, именно как художника? Видите ли, я поехал туда, как еврей. Я хотел воочию посмотреть на все это – как они строят страну. У меня это всегда так – раньше идет человек, а за ним художник. И потом, вся эта экзотика Востока, за которой, обыкновенно, гонятся, вся эта этнография, которую художники спешат нанести на полотно – мне кажется несущественной… Разве дело в какой-нибудь там пальме или горе? Ведь такую же пальму и почти такую гору, таких же пестрых арабов и верблюдов, можно найти и за несколько сот километров от Палестины. Для этого достаточно съездить в Алжир или Марокко… Нет, европейская мерка тут ничего не может дать. Другое дело, если на это все посмотреть внутренним глазом, понимаете ли вы?.. Конечно, Делакруа и Матисс, не в пример Гогену, сумели что-то увидеть в Северной Африке, – но они не евреи – у них нет нашего прошлого. Нет, я смотрел на все это – глазами еврея, и больше ничего. – …Да, в Тель-Авиве очень радостно, блестит солнце, молодежь улыбается тебе в глаза… С тех пор, как евреи поселились в этой солнечной стране, у них появилось новое – здоровое – начало, – чего нет в голусе[17], – это какое-то особое спокойствие, уверенность в себе; еврей там твердо ходит и работает – эта кучка в 170.000 человек намерена, несмотря на политическую и экономическую атмосферу, продолжать начатое; и еврей этот гораздо меньше реагирует на всякую встряску – даже на яджурское убийство, – чем евреи вне Палестины… И все так – у всех этот подъем: и у купцов, и мещан в городе, и в квуцах[18], где им, конечно, гораздо труднее живется…Но евреев там еще мало!.. Генеральских сил, пожалуй, вдоволь, но «армии» не хватает… – …Конечно, не все еще гладко. Есть, пожалуй, в отношении политических проблем сионизма некоторое безразличие… Но что же вы хотите – все очень много работают – вы знаете, как рабочие живут и что едят? – они положили там все свои силы, строили, создавали – и, естественно, они теперь осторожны в отношении перемен и связанного с этим риска… Кстати, я чувствовал себя очень хорошо в Эмеке, в этих квуцах… Хотелось даже пожить среди них… – …Общее впечатление? В Палестине меня поразило постоянное вездесущее сопоставление двух элементов: с одной стороны: порыв в будущее, борьба за новое – с другой стороны, пафос давно окаменевшего, отжившего прошлого; и то, и другое одинаково сильно и волнующе. – Это заметно, наверно, в особенности в Иерусалиме?.. – Иерусалим?.. В этом городе ощущаешь, что дальше оттуда уже нет дорог… Я чувствовал, что по этим узким уличкам, с их козами и арабами, по переулкам, которыми теперь бредут к Стене Плача красные, синие и зеленые евреи – недавно еще проходил Христос… Здесь чувствуется вся односемейность еврейства и христианства – это было, ведь, одно целое, – а потом пришли какие-то дьяволы, разорвали все и разделили… Чувствуешь, какая мощная культура разрослась тут когда-то… Если ей суждено воскреснуть, она будет одной из богатейших на земле, – я говорю это, вовсе не будучи шовинистом… Все же остальное в Иерусалиме – и мечеть Омара, куда меня заставил поехать Эдвин Самюэль и Святые Места, – несмотря на мой большой интерес к Христу, как к поэту и фигуре пророческой, – меня оставило равнодушным… Впрочем, за два с половиной месяца я, ведь, все объездил и пожил и в Сафеде, и в Хайфе, и в колониях… – Как же обстоят дела с музеем? – Это сложный вопрос, и – скажу прямо – у меня совсем мало надежды на то, что он разрешится благополучно. Вначале предполагалось, что функции будут резко разграничены. Есть там, в Тель-Авиве, комитет: Дизенгоф, Бялик, Шошана Персиц, – очень хорошо, но художественный контроль, т. е. подбор материала должен был осуществляться здесь в Париже; в художественный комитет вошли Э. Флег, Хана Орлова и я62; можно было бы наезжать время от времени. Все дело, ведь, в том, как подойти к такому начинанию. Я набросал беспристрастный художественный план, наметил залы: Израэльса, Либермана, Писсарро, Модильяни, Паскина, – в качестве остова, базы вокруг которой могла бы группироваться и разрастаться подлинная художественная молодежь… Ведь гораздо легче, подчеркиваю, реализовать серьезный план собирания еврейских художественных ценностей – я говорю о подлинном музее – с чистой, выдержанной на 100 % программой, чем что-нибудь убогое, полное компромиссов, куда даже и культурный турист не заглянет… Для этого нужна на несколько лет настоящая диктатура людей строго компетентных, которым доверяют и кому всецело предоставляют художественное руководство… Но что вы хотите – Тель-Авив не Париж, и – надо сказать, что мы, евреи, еще, в общем, не разбираемся в искусстве… К еврейскому обществу, как к листу с клеем, липнет, прежде всего, все мелкое, преходящее… Есть опасность: из этого музея выйдет второй «Бецалель»63… Хотят портреты еврейских знаменитостей… Разве важно для музея, что это портрет Л. Блюма? Важно, ведь, как и кем он сделан, а то, что он изображает именно Блюма – это на втором плане… Хотят завалить этот музей какими-то муляжами, гипсами, копиями – кому это нужно? К чему весь этот заплесневевший хлам? Тут не место покладистости – надо уметь даже отвергнуть подарок, если он идет вразрез с намеченным художественным планом. Но если все это не серьезно – я сниму с себя всякую ответственность за ход этого дела… Одно из двух – пусть устроители доверятся нам, или пусть действуют по своему вкусу, но в этом случае, я совершенно не могу допустить, чтобы какой-нибудь комитет прикрывался моим именем – оно не должно даже упоминаться!.. На пароходе «Шампольон» при отъезде в Палестину. Марсель, 1931.
Слева направо: Хаим Бялик, Йозеф Боксенбаум, Александр Флег, Меир Дизенгоф, Ида, Марк и Белла Шагалы, двое неизвестных
На пароходе «Шампольон» при отъезде в Палестину. Марсель, 1931.
Слева направо: Хаим Бялик, Йозеф Боксенбаум, Александр Флег, Меир Дизенгоф, Ида, Марк и Белла Шагалы, двое неизвестных
 Марк Шагал в Палестине. 1931
Марк Шагал в Палестине. 1931
Таков заключительный аккорд. Еще один последний взгляд на портрет молодой женщины в черном – на матово-лимонном фоне – портрет, который можно увидеть только во сне, и я прощаюсь с моим собеседником.
Бен-Таврия. М. Шагал о Палестине (Интервью) // Рассвет (Париж). 1931. № 24. 14 июня. С. 10–11. Перепечат.: Марк Шагал: «Я смотрел на Палестину глазами еврея» // Шагаловский ежегодник 2002. С. 126–130 (публ. Гр. Райхельсона).
18. Ответ М. Шагала
Прочтя статью М. Дизенгофа64, я хотел бы сказать несколько слов по существу. Нет полемики между нами. Я слишком уважаю и ценю г. Дизенгофа, слишком восхищаюсь искренностью и плодотворностью его работы во всех других областях, чтобы с ним спорить. Но моя «нервность» объясняется тем, что я слишком часто видел, что хорошие люди с хорошими намерениями – одно, а осуществление этих намерений – другое. Каково бы ни было разногласие между художниками, все же они приблизительно сходятся в оценке хорошего и плохого. Поэтому я считаю, что комитет жюри, правда, из очень представительных людей общества, без участия художников – nonsense. Я думаю, что только при участии художников с некоторой долей личной терпимости к другим можно достигнуть того, чтоб музей еврейский отвечал своему назначению. Только художники могут настаивать на том, чтоб еврейский музей базировался в первую очередь (как я это много раз повторял) на залах Писсарро, Израэльса, Либермана, Модильяни, Левитана, Паскина, Бакста и т. д. Музею не нужны копии и слепки каких бы то ни было сюжетов. Музею не нужны портреты знаменитостей, если это не – раньше всего – ответственные произведения искусства. Музей не может рассчитывать исключительно на подарки «художников всего мира» не потому только, что не все художники мира должны быть в музее, а также потому, что не нужно всегда думать, что художники должны дарить и дарить, забывая, что им тоже нужно жить, особенно в нынешнее трудное время. Я не буду распространяться сейчас о других отделах музея. Бояться так называемого левого или нового искусства нечего. Лет 30 тому назад Люксембургский Музей боялся принять дар Гильебота, где были «левые»: Сезанн, Монэ, Писсарро, Роден и др. и что же оказалось? Недавно этих «левых» перевезли в Лувр, а произведения тех художников, которые протестовали, остались на месте, – и то только потому, что дирекция стесняется сразу перенести их в погреб. Что касается заявления г. Дизенгофа, что он никогда не возлагал на меня ответственности, – считаю нужным заметить, в интересах так называемой «правды», – здесь, кроме меня, замешаны и другие лица – и для того, чтобы прекратить эту тягостную для меня полемику, что, перед моим отъездом в Палестину, г. Дизенгоф в Париже утвердил комитет музея, в составе Х. Орловой, Э. Флега и меня, предоставив нам все художественные полномочия. Я совершенно не удивляюсь теперь тому, что г. Дизенгоф меня лично, так сказать, «отставил», так как я, вероятно, непригоден для роли «комитетчика»; другие видные художники других течений будут наверное здесь больше на своем месте. Я хочу уверить дорогого и любимого Мирона Яковлевича, что я нисколько не обижаюсь. Наоборот, я благодарен за то, что, таким образом, могу свободнее и беззаботнее сидеть за своим мольбертом. Я надеюсь, что это малое «недоразумение» принесет известную пользу и будет содействовать дальнейшему развитию будущего музея, близкого сердцу каждого из нас.Ответ М. Шагала // Рассвет (Париж). 1931. № 44. 1 ноября. С. 6–7.
19. Речь, произнесенная на всемирной конференции, созванной по инициативе еврейского исследовательского института (YIVO) К десятой годовщине института, Вильно, 14 августа 1935 года65
На самом деле вы можете подумать, что мне здесь не место. Потому что я художник, а вы – ученые. Но я приехал сюда для того же, для чего и вы, ибо у нас с вами одна слабость, одна страсть: евреи. Именно сейчас, в это страшное и странное время, когда вновь поднимается волна антисемитизма, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что я – еврей. И именно благодаря этому факту я в душе даже больший интернационалист – не как те профессиональные революционеры, которые с презрением отказываются от своего еврейства. Тому, что я здесь, есть несколько причин. Мне хорошо знакомы все эти окрестные домишки с заборами, они врезались мне в память с самого детства. Но ваш дом, здание института, хоть и кажется со стороны бедным, как избушка на какой-нибудь из моих картин66, при всем том роскошен, как дворец царя Соломона. И я от души приветствую его – и приветствую вас, его создателей. Чувство щемящей радости переполняет меня при мысли о том, что, почти не имея средств, без государственной поддержки, на чистом энтузиазме и любви, вы своими руками возвели это здание. В будущем, когда для нас настанут лучшие времена, этот дом послужит примером того, с каким завидным упорством евреи отстаивают идеи искусства. Для моего приезда сюда была еще одна причина, глубоко личная. В нескольких километрах от вас есть место, точнее говоря, один городок67, в котором я не был уже очень давно, но постоянно о нем вспоминаю. Так что я воспользовался вашим приглашением, чтобы побродить тут немного. Признаюсь: с возрастом я стал ленивее и не двинулся бы с места, если бы меня не позвали. Не знаю почему, но между мной и моей родиной любовь без взаимности, и тем не менее страна таких гениев, причем революционных гениев, могла бы почувствовать, что творится в сердце одного из своих сыновей, а не прислушиваться к наветам авторов покаянных писем… Однако главное, ради чего я сюда приехал: чтобы еще раз напомнить вам, и не только вам, виленским евреям (потому что вы и так делаете все, что в ваших силах), но и евреям всего мира, что Еврейский исследовательский институт – это, конечно, замечательно, но Еврейский художественный музей не менее замечателен и не менее важен. И в самом деле, с конца девятнадцатого века евреи, освободившись от пут, устремились во внешний мир со своим искусством, и, на мой взгляд, этот культурный вклад – пожалуй, самый важный их вклад в последнее время. Но большая часть человечества даже и не подозревает об этом. Народные массы и интеллигенция не видят этого, все так разбросано, разъединено, и мне даже неловко говорить об этом, потому что я сам – заинтересованная сторона. Но что мы можем сделать? У нас, евреев, нет своего Бодлера, Теофиля Готье, Аполлинера, которые властно выковали, сформировали художественный вкус и эстетические концепции своей эпохи. Чем же мы можем помочь? В нашем еврейском сообществе нет своего Дягилева, Морозова, Щукина, чутких ценителей и страстных собирателей произведений искусства, организаторов культурного пространства. Уже одно то, что интеллигенция вообще и еврейские писатели в частности не проявляют интереса к пластическому искусству, доказывает, что изобразительное искусство совершенно не нужно им ни для жизни, ни для работы – и все держится пока на одной лишь литературе. Если бы еврейская поэзия, еврейская литература заинтересовались другими областями искусства, и в частности пластическим искусством, они бы сами обогатились идейно и стилистически, сделали бы заметный, мощный рывок вперед. Возьмем, к примеру, русскую литературу – Пушкин и псевдоклассицисты, Гоголь и Александр Иванов, Толстой и передвижники, Чехов и Левитан – между писателями и художниками была несомненная связь, а если взять нашу литературу, то Перец был очень чуток к модернистским веяниям в живописи, – так вот, при ближайшем рассмотрении мы наверняка обнаружим, что эта связь обогатила их литературные творения новой пластикой образов, новыми стилистическими приемами, влила в их произведения мощную свежую струю. И потому их язык не этнографичен, но универсален в высоком эстетическом смысле. Но это уже другая проблема, и она гораздо важнее, чем может показаться, и может быть, даже требует научного подхода, так что я бы переадресовал ее тем, кто и должен ею заниматься, а именно вам, дорогие ученые. <…> Вильно. Еврейский квартал. 1935
Вильно. Еврейский квартал. 1935
Я заканчиваю свое выступление с чувством, что все сказанное мной и даже не сказанное должно прозвучать на конференции писателей и художников. Но художников как социальной группы практически не существует, они почти не общаются друг с другом. Следовательно, другие, все вы, здесь присутствующие, должны приглядеться к нам со стороны и попытаться руководить нами – чутко, ненавязчиво, с сочувствием и глубокой симпатией.

 Еврейский исследовательский институт (YIVO). Главный фасад и парадный вестибюль. Вильно, начало 1930-х
Еврейский исследовательский институт (YIVO). Главный фасад и парадный вестибюль. Вильно, начало 1930-х
Долгое время я хотел сказать эти несколько слов о нашей роли, о вашей роли, о роли всех нас, и художников и ученых, да и вообще всех евреев – о том, что мы можем сделать на благо человечества. Сейчас, когда весь мир переживает кризис, и не только материальный, но и духовный, когда социальные потрясения, войны, революции вспыхивают буквально из-за куска хлеба, а евреи еле сводят концы с концами и порой им даже негде жить, я не вижу более достойной миссии, чем потрудиться и пострадать ради нашей высокой цели, потому что дух нации, а он живет в нашей Библии, в наших мечтах об искусстве, поможет нам вывести еврейский народ на истинный верный путь – и мы добьемся того, ради чего другие народы только проливают кровь – свою и чужую68.
Шагал М. Речь, произнесенная на Всемирной конференции, созванной по инициативе Еврейского исследовательского института (YIVO), 14 августа 1935 года // Всемирная конференция Еврейского исследовательского института (YIVO). К 10-летней годовщине YIVO. Вильно, 1936 (идиш). Перепечат.: Марк Шагал: Что мы должны сделать для еврейского искусства. // Ангел над крышами 1989. С. 127–132 (в сокр.); Harschav 2003. P. 56–60 (пер. на англ.); Шагал об искусстве и культуре 2009. С. 103–111. Печат. по: Шагал об искусстве и культуре 2009 (в сокр.).
20. Письмо художника М. Шагала
Известный русский живописец и график, уроженец города Витебска, который живет в Париже с 1910 г., Марк Шагал прислал в редакцию минской еврейской газеты «Октябрь» письмо по поводу смерти старейшего художника Беларуси Ю.М. Пэна. В этом письме Марк Шагал пишет: «Не могу успокоиться и не знаю, как выразить глубокую скорбь по случаю неожиданной жестокой смерти Ю.М. Пэна69. Как я завидую всем вам. Вы могли быть на его похоронах, идти по нашей земле за его гробом, и воздух неба, того самого неба, которое я так часто старался передать на своих картинах, обволакивал вас. Почему этот воздух не доходит ко мне – сюда в безвоздушное пространство? Почему судьба разделила меня на две части – тело здесь – душа там? Витебск. Похороны Ю.М. Пэна. Фото из газеты «Звязда» (Минск, 1937. 5 марта)
Витебск. Похороны Ю.М. Пэна. Фото из газеты «Звязда» (Минск, 1937. 5 марта)
А я тешил себя надеждой еще увидеться с Пэном, быть в своем городе, ходить с Пэном вновь на этюды, как раньше, и вновь и вновь писать наш уже возрожденный город. Понятно, революция возродила других, новых незнакомых «родственников», но я хочу передать для Пэна эти несколько слов. Пэн же меня любил. Эта любовь его продолжалась вот уже 30 лет с момента, когда я стал самим собой, несмотря на различие наших художественных путей. Он был моим первым, хотя и кратковременным учителем. Я был из его первых учеников, и он знал, что, хотя я и живу в Париже уже с 1910 года 70 с небольшими перерывами, я все же душевно остался преданным моей родине, что показал, как мог, в своем искусстве. Нет столько красок и грустных оттенков, в которые я хотел бы завернуть свой последний привет Пэну».
Опубл. на идише в газете «Актабер» [ «Октябрь»] (Минск) в марте 1937; в переводе на белорусский – в газете «Звязда» (Минск). 1937. № 79. 8 апреля. С. 4. Перепечат. в переводе на русский: Шагаловские дни в Витебске (специальный выпуск газеты «Витьбичи»). 1992. 3–5 июля. С. 5 (публ. А. Подлипского); Рывкин, Шульман 1994. С. 53 (фрагмент); Шагаловский сборник 1996. С. 198 (публ. А.М. Подлипского). Печатается по публикации в газете «Звязда» (пер. Л.В. Хмельницкой).
21. Памяти моего друга Баал-Махшовеса
Доктор Эльяшев был моим другом71. И конечно, не я один – многие могли бы сказать то же самое. Ибо он был человеком, буквально лучившимся доброжелательством. Его глаза сразу же привлекали вас. Не думаю, впрочем, что среди его друзей было много художников. Его личность была магнетической; вы еще только пытались вникнуть в смысл высказанных им суждений, а он уже глядел на вас так, словно вы были самым важным человеком в его жизни. Разве не это умение забывать о себе отличает настоящего друга? Не знаю, какие именно дефекты ментальности человека диаспоры мешают мне сближаться с людьми, но почему-то для меня это всегда было проблемой. Однако доктор Эльяшев сразу заговорил со мной как старый знакомый, словно мы просто вернулись к давно начатому разговору. Моя встреча с Эльяшевым произошла в тот день, когда я уехал из Витебска в большой мир, чтобы собственными глазами увидеть свою выставку в Москве72. Мне повезло: евреи полагали, что я смогу стать «вторым Антокольским». Не помню, кто именно представил меня Баал-Махшовесу. «Знаете, – тут же сообщил он мне, – на встрече Еврейского общества поощрения художеств я посоветовал Каган-Шабшаю73 приобрести как можно больше ваших работ для будущего Еврейского музея». Каган-Шабшай был беспорядочным гением, инженером без средств, но с большими планами. Он мечтал основать собственный Еврейский музей в Москве. Личность самого Эльяшева притягивала меня не меньше, чем то, о чем он говорил. Мы гуляли сутки напролет. Несколько раз он провожал до дому меня, а потом я – его. Мы разговаривали обо всем, особенно часто – о живописи и литературе. Мне казалось, что во время наших разговоров Эльяшев прояснял для себя многие собственные позиции по вопросам искусства. Это было «счастливо-спокойное» военное время. Иногда Баал-Махшовес смотрел на часы и говорил: «Я ведь врач, так? Надо проверить, не ждет ли меня пациент». Он был невропатологом психоаналитической школы доктора Фрейда, Штекеля и других ученых, тогда еще не вошедших в моду. Мы долго ждали, сидя в его кабинете, но в тот день никто так и не появился. Порой у меня возникало впечатление, что доктору Эльяшеву хочется исследовать и меня – он расспрашивал меня об отце, матери, бабушке. И чем больше он расспрашивал, тем разговорчивее и возбужденнее становился сам. «Ну что ж, уже поздно. По всей видимости, никто не придет. Давайте зайдем в кафе. Там мы, скорее всего, встретим Фришмана. Вы знаете Фришмана?» Честно говоря, я совсем не стремился познакомиться с Фришманом. Эльяшев как критик идишской литературы был мне значительно ближе. Хотя в те времена меня совершенно не интересовали «кошерные» направления еврейской общественно-культурной жизни. Я был слишком занят ниспровержением разных художественных «методов». С Эльяшевым, впрочем, я редко об этом говорил. Его взгляд обволакивал вас, его глаза темнели и часто пугали меня в вечерних сумерках, а иногда и при свете дня. Не обсуждал я с Эльяшевым и общественно-политических вопросов. Если бы такой человек, как он, оставался исключительно в области литературной критики, у него, конечно, не было бы врагов. Когда сегодня читаешь его статьи на социальные темы, увы, видишь, что он ошибался. Впрочем, обсуждаемые им вопросы были настолько сложны, что в них ошибались и более профессиональные политики. В целом, однако, его обаяние и искренность производили очень сильное впечатление, а его пристальный и глубокий взгляд на свободный мир, когда-то называвшийся «европейским», был, в сущности, свободен от «еврейского» аспекта… И.З. Эльяшев. 1900-е
И.З. Эльяшев. 1900-е
 Я.Ф. Каган-Шабшай. Начало 1900-х
Я.Ф. Каган-Шабшай. Начало 1900-х
И тем не менее его справедливо считали ведущим еврейским литературным критиком. Многие молодые писатели и критики, которыми мы можем гордиться сегодня, испытали на себе его благотворное воздействие.
* * *
Позднее, в революционные годы (1917–1918), в Петрограде мы часто жили под одной крышей. Обычно мы сидели в единственно теплой комнате: на кухне. Служанка в углу стирала белье, а мы пили неизменный чай с одним кусочком сахара. Его маленький сын Аля74, в коротких штанишках, с вылезшей из них рубашкой, понуро стоял рядом, всегда мрачный и голодный… Отец спрашивал сына: «Ты приготовил уроки?», а потом обращался ко мне: «Вы только посмотрите на него, весь день играет в театр. Хочет быть театральным режиссером. Кто знает?..» Александр Быховский. Портрет Баал-Махшовеса. 1916
Александр Быховский. Портрет Баал-Махшовеса. 1916
Я сидел и рисовал его, врача с редкими пациентами, слабеющего, точно Дон Кихот, под бременем разнообразных несчастий. Приходила его разведенная жена. Белая, как статуя, и холодная, как лед. Ни единого ласкового или хотя бы заботливого взгляда. Но Эльяшев шептал мне возбужденной скороговоркой: «Вы взгляните на нее как художник, обратите внимание на ее жесты, присмотритесь к ее профилю, ее черным волосам, ее глазам…». Но я был равнодушен. И думал только о моем полупарализованном друге, у которого было очень мало радости в жизни. С рукой, висящей как плеть, подволакивая правую ногу, он бродил туда-сюда по квартире в своей грязноватой выцветшей куртке. А когда на столе появлялся кусок конины – это был праздник. В конце концов он уехал в Ковно, из Ковно – в Берлин, а из Берлина вновь попал в Ковно, и на этот раз – навсегда75. В Берлине в 1922 году я увидел уже другого Эльяшева, с другой улыбкой, в которой не было ни капли бодрости. Мы встретились дважды: в румынском кафе и у меня дома. Последние годы свободы в Германии и последние годы жизни Эльяшева. Но ему еще повезло не быть похороненным заживо и не видеть самого большого позора в мировой истории, когда евреи, чьи тревоги и тяготы Эльяшев принимал так близко к сердцу, не могли получить даже горстки земли в могилу. Эльяшеву выпала честь быть похороненным в своем родном городе. Все евреи закрыли дома и лавки и пошли проводить его туда, где под травой и камнями лежат праведники. Я бы мечтал увидеть еврейский Ковно и его могилу и сообщить ему хорошую новость: он может покоиться с миром – его ценят и всегда будут ценить как классика идишской литературной критики.
Шагал М. Памяти моего друга Баал-Махшовеса // Литерарише блетер [Литературные страницы] (Варшава). 1939. № 16. 9 июня (идиш). Перепечат.: Harshav 2004. С. 232–235 (пер. на англ.); Шагал. Мой мир 2009. С. 138–141. Печатается по: Шагал. Мой мир 2009.
22. Письмо в редакцию
Уважаемые друзья! Благодарю вас за отклик на мою картину «Революция», которую я написал почти точно к дате 25-летия Советской революции. Я не был отрезан от моей родины никогда. Потому, что моя живопись не способна существовать без нее и ни в какой другой стране не может ассимилироваться. И теперь – когда Париж, столица пластического искусства, куда все художники мира имели обыкновение ездить, мертв – я часто спрашиваю себя: где я? Я шлю своим большим советским друзьям и коллегам – писателям и художникам, и еще бóльшим художникам – героям-красноармейцам всех фронтов – мой сердечный привет и пожелания. Я надеюсь и я уверен, что кровью своей они напишут самую прекрасную и замечательную картину жизни и Революции, произведение, на которое мы, просто люди и просто художники, будем взирать с восхищением и жить в его ярком сиянии.Шагал М. Письмо в редакцию // Моргн фрайхайт [Утренняя свобода] (Нью-Йорк). 1944 (идиш). Печат. по: Ангел над крышами 1989. С. 175.
23. К моему городу Витебску
Давно уже, мой любимый город, я тебя не видел, не слышал, не разговаривал с твоими облаками и не опирался на твои заборы. Как грустный странник – я только нес все годы твое дыхание на моих картинах. И так с тобой беседовал и, как во сне, тебя видел. Мой дорогой, ты не спросил с болью, почему, ради чего я ушел от тебя много лет назад. Юноша, думал ты, что-то ищет, какую-то особую краску, которая рассыпается, как звезды с неба, и оседает светло и прозрачно, как снег на наши крыши. Откуда он это берет, как это приходит к нему? Почему он не может найти все это рядом, тут в городе, в стране, где родился? Может, этот парень вообще «сумасшедший»? Но «сойти с ума» от искусства?.. Ты думал: «Вижу – я этому мальчугану в сердце запал, но он все “летает”, он срывается с места, у него в голове какой-то “ветерок”». Я оставил на твоей земле – моя родина, моя душа – гору, в которой под рассыпанными камнями спят вечным сном мои родители. Почему же я ушел так давно от тебя, если сердцем я всегда с тобой, с твоим новым миром, который являет светлый пример в истории? Я не жил с тобой, но не было моей картины, которая не дышала бы твоим духом и отражением. Иногда бываю я печален, когда слышу, что люди говорят обо мне на языках, которых не знаю и не могу понять, – они говорят о моем отношении к тебе, будто я забыл тебя. Что говорят они? Мало мне моих художнических терзаний, должен я еще выстоять как человек. Не зря я издавна мечтал, чтобы человек во мне не был виден – только художник. Витебск. Бой в районе Ильинской и Покровской церквей. 1941
Витебск. Бой в районе Ильинской и Покровской церквей. 1941
 Витебск. Руины в районе костела Св. Варвары. 1941
Витебск. Руины в районе костела Св. Варвары. 1941
 Витебск. Колонна евреев под охраной солдат вермахта. Июль 1941
Витебск. Колонна евреев под охраной солдат вермахта. Июль 1941
 Немецкие офицеры в Витебске. 1943
Немецкие офицеры в Витебске. 1943
Еще в моей юности я ушел от тебя – постигать язык искусства… Я не могу сам сказать, выучился ли я чему-либо в Париже, обогатился ли мой язык искусства, привели ли мои детские сны к чему-то хорошему. Но все же, если специалисты говорили и писали, что я достиг чего-то в искусстве, то я этим принес пользу и тебе. И все же я все годы не переставал сомневаться: понимаешь ли ты меня, мой город, понимаем ли мы друг друга? Но сегодня, как всегда, хочу я говорить о тебе. Что ты только не вытерпел, мой город: страдания, голод, разрушения, как тысячи других братьев-городов моей родины. Я счастлив и горжусь тобой, твоим героизмом, что ты явил и являешь страшнейшему врагу мира, я горжусь твоими людьми, их творчеством и великим смыслом жизни, которую ты построил. Ты это даешь не только мне, но и всему миру. Еще более счастлив был бы я бродить по твоим полям, собирать камни твоих руин, подставлять мои старые плечи, помогая отстраивать твои улицы. Лучшее, что я могу пожелать себе – чтобы ты сказал, что я был и остался верен тебе навсегда. А иначе бы я не был художником! Ты не скажешь мне, что я слишком фантазирую и непонятен тебе. Ты же сам в глубине души своей – такой. Это же твои сны, я их только вывел на полотно, как невесту к венцу. Я тебя целовал всеми красками и штрихами – и не говори теперь, что ты не узнаешь себя. Я знаю, что уже не найду памятники на могилах моих родителей, но, мой город, ты станешь для меня большим живым памятником, и все твои новорожденные голоса будут звучать, как прекрасная музыка, будут звать к новым жизненным свершениям. Когда я услышал, что враг у твоих ворот, что теснит он твоих героических защитников, я словно сам воспламенилсяжеланием создать большую картину и показать на ней, как враг ползет в мой отчий дом на Покровской улице, и из моих окон бьется он с вами. Но вы несете навстречу ему смерть, которую он заслужил, потому что через смерть и кару, возможно, много лет спустя, обретет он человеческий облик. И если бывало, что какая-то страна объявляла святым человека, то сегодня все человечество должно было бы тебя обожествить, мой город, вместе с твоими старшими братьями Сталинградом, Ленинградом, Москвой, Харьковом, Киевом, и еще, и еще, – и всех вас назвать святыми. Мы, люди, не можем и не имеем права спокойно жить, честно творить и оставить этот свет, пока грешный мир не будет очищен через кару святую. Я смотрю, мой город, на тебя издалека, как моя мать на меня смотрела когда-то из дверей, когда я уходил. На твоих улицах еще враг. Мало ему было твоих изображений на моих картинах, которые он громил везде. Он пришел сжечь мой настоящий дом и мой настоящий город. Я бросаю ему обратно в лицо его признание и славу, которые он когда-то дал мне в своей стране. Его «доктора от философии», которые обо мне писали «глубокие» слова, сейчас пришли к тебе, мой город, чтобы сбросить моих братьев с высокого моста в воду, похоронить их живьем, стрелять, жечь, грабить и все это наблюдать с кривыми улыбками в монокли. Мне не нужен больше мой собственный дом, если вы даже его спасете, во всех ваших сердцах – мое жилище. Ваше дыхание мне дорого, как бальзам. И счастлив был бы я принести тебе новую весть, как сам ты, мой город, принесешь ее миру.
Шагал М. К моему городу Витебску // Эйникайт [Единство] (Нью-Йорк). 1944. 15 февраля (идиш). Перепечат.: Марк Шагал: Моему родному Витебску (пер. Д.С. Симановича) // Литературная газета (М.). 1987. № 36. 2 сентября. С. 14; Ангел над крышами 1989. С. 72–75; Марк Шагал. Паэзія. Мінск, 1989. С. 68–71 (пер. Д.С. Симановича; пер. на белор. Р. Бородулина); Шагаловский сборник 1996. С. 292–295 (пер. Д.Г. Симановича, новая ред.); Симанович 2001. С. 21–23; Марк Шагал: К моему городу Витебску (пер. Д.С. Симановича) / Музей Марка Шагала. Витебск, 2004; Шагал об искусстве и культуре 2009. С. 166–171; Симанович Д. Скрипка Шагала, или Здесь осталась его душа. Минск, 2010. С. 17–23. Печатается по: Симанович 2001.
24. Два вида искусства – поэзии Речь по случаю чествования Шагала и Фефера 30 апреля 1944 года в Нью-Йорке
Меня немного утешает сегодня то, что в дни скорби, когда евреи всего мира оплакивают погибших героев – участников восстания в Варшавском гетто76, – мы чествуем поэта – живого бойца молодой страны, которая сражается с нашим общим недругом, – бойца, чьи песни, воспевающие мужество и доблесть, пронизаны праведным гневом. Благодарю вас за теплые слова. Но в то же самое время я думаю: не слишком ли много чести для меня? Ведь я на этом празднике как новобрачный без пары. Я несказанно счастлив, что сегодня я здесь, вместе с вами отмечаю выход книги Фефера77, хотя мне немного грустно, что автора нет со мной рядом. Во-первых, с ним было бы гораздо веселее, во-вторых, я бы не чувствовал себя своего рода «узурпатором», потому что в мелодичных стихах этой книги звучит сильный, задорный, молодой голос Фефера… так что все похвальные слова должны быть адресованы именно ему. А я лишь, так сказать, подпевал его песням. Следует особо поблагодарить издателей книги – ИКОР и [И.] Ронча, который старательно, с любовью составил этот сборник. И все мы собрались здесь не только ради Фефера. Этот вечер – для всех тех, кто пытается хотя бы мысленно перенестись на его и мою великую родину, являющую сегодня величайшее искусство быть выше искусства. Но, говоря так, я задумался: если народ почему-то не понимает моей живописи (а это, как мне кажется, все же моя «профессия»), поймет ли он мои слова, ведь в речах я не силен? Поэтому я особо благодарен моему другу и большому писателю Шолому Ашу и замечательному критику еврейского искусства доктору Клумоку и всем остальным, кто растолковал мое искусство вам и даже мне самому… Иллюстрировать книгу Фефера мне было вдвойне приятно. Конечно, как я уже говорил, рисунков там немного, к тому же я спешил, – но эта поспешность отражает мое нетерпение снова выразить теплые чувства к народу и стране, о которой Фефер слагает песни. Я впервые встретился с поэтом Фефером в Москве в разгар революции – во дворе Еврейского камерного театра, в котором я в то время работал, и в колонии для беспризорников в Малаховке, где я учил детей. Наряду с писателями Добрушиным, Нистером, Гофштейном и другими… вдруг появляется некто новый и провозглашает: «Цыц, мечтатели, парящие в облаках! Мы идем к вам с простыми словами»78. Я огляделся по сторонам: никто из писателей не «испугался». Прошло двадцать с лишним лет. Я повидал все печали, а может, и радости, уготованные художнику двадцатого столетия в Париже – столице искусств. И когда мой старый друг, великий актер Шломо Михоэлс приехал сюда [в Нью-Йорк] вместе с Фефером79, мы увидели в нем истинного еврея – прирожденного революционера и поэта, придерживающегося общей идишской поэтической традиции, но вписавшего в нее новую яркую главу – настолько новую, насколько страна, породившая его, нова по своей сути. Но это не та страна [царская Россия], где я, например, прятался под кровать, когда мимо наших окон шел городовой. Если в моем воображении моя страна простиралась не дальше границ нашего двора – для Фефера она раскинулась «от моря и до моря». И он проходит по ней с песней, радуясь свободе, и в ногу с ним шагает молодежь. За что я люблю Фефера? Если вам хочется получше узнать художника, вы обращаете внимание на его колористику, а если хотите узнать о музыканте – послушаете его мастерство, его голос, его гармонию. Так же и с поэтом. Сегодня (как, впрочем, и всегда) истинное мастерство художника и поэта неотделимо от судьбы и от усилий человека – творческой личности. Хуже всего тем, кто неуверен в себе, кто колеблется, потому что шаткость его позиции отразится на качестве его работ. Да, я – по словам некоторых, художник с искаженным взглядом на мир, извращающий стиль, содержание и все прочее, – но при этом я люблю поэзию Фефера, которую они, скорее всего, считают абсолютно правильной и «здоровой». Сегодня есть два вида поэтического искусства. Одно из них сверхреалистическое, и в Советском Союзе яркий пример тому – еврейско-русский поэт Пастернак. Второй вид поэтического искусства – это так называемое прямое высказывание, ясность и простота, как у Фефера. Однако настоящее сверхреалистическое искусство, по сути своей, простое и прямолинейное, а прямолинейное и простое искусство – поэзия или живопись – в лучших своих проявлениях сверхреалистично. Такое случается, когда оба направления достигли в своем развитии высшей стадии и прибегают к чистым формам, чистому, неприукрашенному слову. И лишь те, кому не удалось достигнуть подобных вершин – как в искусстве, так и в жизни, – хромают на обе ноги, мучаются сами и мучают нас. Я люблю «контрасты», в которых сокрыта истинная гармония. Вот вам один из примеров, когда разные полюса в искусстве каким-то образом сходятся. Возьмем, к примеру, классика реализма Пушкина, с его ритмически четкими, проникновенными стихами, и пылкого романтика Бодлера, мечтающего о загадочных ядовитых цветах, – их обоих роднит глубина и проникновенность лирики. Вспоминаю последние парижские эксперименты в живописи [накануне войны], когда рядом с полотном средневекового художника Джотто могли повесить картину Пикассо, и тут же – мастер эпохи Раннего Возрождения Мантенья, а рядом с нашим Модильяни могли поместить византийскую икону; несколько полотен художника-реалиста и революционера Гюстава Курбе, по инициативе которого в дни Парижской коммуны снесли Вандомскую колонну, могли быть вывешены рядом с волшебными творениями Джорджоне, художника эпохи Возрождения, и так далее. И это вовсе не «эклектизм», напротив. Но я не хочу слишком много говорить об этих проблемах, расскажу лучше о книге. Работая над книжными иллюстрациями, я всегда мечтал о некоем слиянии с литературой – нашей или других народов, – начиная с Библии, Лафонтена, Гоголя, Переца, Шолом-Алейхема вплоть до наших современников. Я старался не просто проиллюстрировать произведение, для меня это была попытка художественного переосмысления и сближения двух искусств. И пусть у каждого рода искусства имеются свои законы и правила, есть некая сердечная линия, которая в конечном счете их сближает. Насколько я в этом преуспел, с христианами или евреями, – это другой вопрос. Как-то раз, например, в год смерти Переца [1915], я попытался сделать что-то для его «Сказок в народном духе». Попросил меня об этом хороший человек, ученый Нохем Штиф. Но его атеистические взгляды и «огромность» издательства позволили ему сделать из моих рисунков и текста нечто вроде брошюры на дешевой оберточной бумаге, ценой в копейку. Естественно, от подобного «издания» и от моих стараний давно уже и следа не осталось. Не знаю, больше ли мне повезло со стихами Лесина, там было много моих рисунков80, он долго и упорно упрашивал меня сделать для него иллюстрации, – однако на сегодня с меня хватит. Обложка книги Марка Шагала «Моя жизнь». (Палестина, 1943)
Обложка книги Марка Шагала «Моя жизнь». (Палестина, 1943)
Взгляните только на бедный Эрец Исраэль – даже в военное время, несмотря на нищету, там опубликовали несколько моих книг с иллюстрациями и на прекрасной бумаге…81 Конечно, для меня было чистым удовольствием иллюстрировать Фефера. Потому что в его стихах я чувствовал огонь, который пылает в сердцах его героев. Они восстают как дым, как жар, исходящий из самой земли, они несут в себе прообраз нового человека. Я всегда с радостью присматриваюсь к такому человеку в реальной жизни, я вижу в нем не только отдельную личность – я смотрю дальше и вижу за ним целую страну, ее просторы, ее народ. Мне везет, я то и дело встречаю подобных людей. В самом деле, почему тысячные массы с таким волнением слушали Михоэлса и Фефера? Потому что за ними они смогли увидеть и почувствовать страну, народ, живую душу.
 Ицик Фефер, Альберт Эйнштейн и Соломон Михоэлс. Нью-Йорк, 1943
Ицик Фефер, Альберт Эйнштейн и Соломон Михоэлс. Нью-Йорк, 1943
 Соломон Михоэлс и Ицик Фефер на митинге на стадионе «Поло-Граунд». Нью-Йорк, 1943
Соломон Михоэлс и Ицик Фефер на митинге на стадионе «Поло-Граунд». Нью-Йорк, 1943
И я очень надеюсь, что те, чьи сердца полны сочувствия к многострадальному еврейству, не пожалеют сил и вместе с дружественными, объединившимися его представителями помогут спасти наш народ. Хочется верить и надеяться, что сила этой огромной страны [СССР], где евреи сражаются в общем строю с представителями других народов, станет сильнее и поможет еврейскому национальному возрождению всюду, в том числе и в Эрец Исраэль, – и это будет вернее, чем пустые слова тех, кто только кормит нас обещаниями да издает «Белые книги»82…
Рукопись (автограф, идиш) находится в архиве YIVO в Нью-Йорке. Статья опубликована в журнале «Найлебен» [ «Новая жизнь»] (Нью-Йорк) в июне 1944 г. с подзаголовком «Искусство прямолинейности и чистоты». Перепечат.: Марк Шагал: Приходит время // Ангел над крышами 1989. С. 133–141 (с сокр.); Шагал об искусстве и культуре 2009. С. 173–186. Печат. по: Шагал об искусстве и культуре 2009 (с сокр.).
25. О французской живописи Лекция, прочитанная в колледже Маунт-Холиук, август 1943 / март 1946
<…> Я впервые приехал во Францию в 1910 году83. Париж был моей мечтой. Мое искусство возрастало на благодатной витебской почве, но оно развивалось, и Париж стал тем живительным источником, без которого мое творчество просто зачахло бы, как дерево без воды. В России было две художественные традиции: народная и религиозная. Мне нужно было искусство, основанное на реальной жизни, а не только на воображении. Я сам вышел из народной среды, однако народное творчество, которое, кстати, мне всегда нравилось, все же меня не удовлетворяло. Оно было замкнутым. Ему не хватало эстетической утонченности, этого достижения современной цивилизации. А я всегда любил утонченность, меня интересовали эстетические новшества. У меня на родине эстетизированным и утонченным было религиозное искусство. Я признавал ценность некоторых великих работ, выполненных в иконописной традиции, – например, творчество Рублева. Но это было исключительно религиозное, православное искусство, поэтому мне оно оставалось чуждо. На мой взгляд, Христос – это великий поэт, поэтическое учение которого забыто нашими современниками. Я хотел каким-то образом соединить утонченность с жизненностью, и мне казалось, что именно Париж подскажет мне идеи. Должен сказать, что мои переезды из страны в страну всегда были продиктованы эстетическими соображениями. Иначе зачем было мне, пареньку из рабочей среды, покидать родную страну, которой я (несмотря ни на что) всегда оставался верен в своем искусстве? Как художник и человек из народа (а я считаю, что простой народ проявляет больше чуткости к искусству, чем остальные классы общества), я понимал, что высшую художественную утонченность можно найти во Франции. Вероятно, в этом источник моей двойственности и, как показала жизнь, полной неспособности адаптироваться. <…> Итак, я приехал в Париж, и это была судьба. Меня переполняли слова, поднимавшиеся из самых потаенных глубин души. Я задыхался от слов – они рвались наружу, им не терпелось блеснуть, покрасоваться в свете этого парижского великолепия. Я приехал, переполненный мыслями и мечтаниями, какие бывают у человека в двадцать лет, и все же эти мечты, похоже, остались со мной надолго. Обычно в Париж не приезжают, так сказать, со своим багажом. Туда приезжают с пустыми руками – учиться, а вот уезжают уже с багажом – если повезет. <…> Как-то один мой знакомый, который вместе со мной приехал в Париж, сказал мне: «Бедные мы, несчастные! Что нам теперь делать, что нового мы тут можем сказать? Все уже до нас сказано, и не раз. Давай купим билет и уедем [в Россию]». Но я остался, не поддался порыву. Я ответил ему: «Зачем брать чужое?» Мне было достаточно и того, что было вокруг, и я взялся за дело с прежним энтузиазмом. Участвуя в уникальном преобразовании техники искусства, которое происходило в те годы во Франции, я возвращался – мысленно, духовно, так сказать, – к своей родине. Мечты и сомнения, которые начали мучить меня еще на родине, теперь не давали мне покоя. Каким именно художником я хотел бы стать? Я не говорю «мог стать». Я был еще слишком молод, и искусство не было для меня профессией, средством заработка. И я не считал, что картины пишутся только для того, чтобы украшать ими стены домов или радовать близких. Я сказал себе: «Искусство – это своего рода миссия, и не надо бояться этого высокопарного слова». И какой бы ни была революция в технике, в реализме, она почти не затрагивала сути. Ни «реальные цвета», ни «условные» по-настоящему не передают истинный цвет предмета. Не даст этого и так называемая перспектива, придающая изображению глубину. Светотень не передаст живого сияния – а «третье измерение» кубистов не позволит увидеть предмет со всех сторон. Вероятно, я имел в виду «мировоззрение» – идею, которую несет объект и которая находится за его явной, видимой частью. Если вы заговорите об этом в период реалистического, технического подхода к искусству, вас обвинят в «литературности». Признаюсь, когда я услышал это слово из уст молодых художников и поэтов, я даже побледнел. Но не от стыда, не от страха за себя – скорее от страха за других, тех, кто это сказал. Я увидел себя словно в зеркале – ощущение было странным и незнакомым. Восхищаясь «глазом» французских художников, их чувством меры, я невольно думал: может быть, существует и другой взгляд, другое видение, не такое, к которому мы привыкли? <…> Когда разразилась Первая мировая война, я вернулся в Россию. Война 1914 года стала для меня не только школой жизни, но и школой искусства. В России я снова увидел небо и пейзажи своего детства – быть может, они не такие красочные, как виды Франции, но теперь я смотрел на все это другими глазами. Оказавшись вдали от парижских салонов, выставок и кафе, я задавал себе вопрос: «Может, эта война – знак того, что пора подводить итоги?» Недавние достижения самобытных реалистических школ (в том числе таких, как импрессионизм и даже кубизм), на мой взгляд, уже не соответствовали духу времени. И тогда постепенно начало всплывать на поверхность то, что многие потом будут пренебрежительно называть «литературностью». Люди гибли на фронтах. Они сражались за что-то, чего сами не понимали. Оказалось, что эта война, а также все то, что за ней неминуемо последовало, привела к «дополнительной» деформации природы, которую художник вряд ли способен выразить реалистическими, чисто техническими средствами. Сама жизнь вышла на арену и стала создавать новые психологические и, так сказать, «алогичные» элементы, которых прежде в искусстве не наблюдалось. Жизнь создала контрасты, без которых искусство немыслимо и неполноценно. Русская революция еще более усугубила эти контрасты. Все произошло внезапно – хотя этому предшествовала серьезная подготовка – и сопровождалось таким народным порывом, в сравнении с которым все потуги отдельного индивида (с его подавленным бессознательным, по Фрейду, началом) кажутся вялым эстетизмом или, в лучшем случае, символизмом. Революция поразила меня своим бунтарским духом, казалось, мощная волна подхватывает человека и переворачивает все его существо, пленяет воображение, проецируясь на внутренний мир художника, – он тоже претерпевает внутреннюю революцию. Двойное потрясение от этих двух революций не всегда бывает благоприятно. Годы в послереволюционной России я бы назвал годами полного самозабвения, которое охватывает вас, когда вы становитесь очевидцем чего-то совершенно нового. Но разве дано человеку предугадать, каким будет его путь в жизни и в искусстве? И когда он завершится? Судьба, если можно так выразиться, все время бросала меня с места на место. И все же я благодарен ей за то, что оказался в России в бурные годы войны и революции, равно как и за французский период, предшествовавший этим суровым годам. <…>Chagall M. Quelques impressions sur la peinture Française // Renaissance: Revue trimestrielle de l’Ecole des Hautes Etudes de New York. New York, II–III, 1944–1945. P. 45–57. Английский перевод, подготовленный Робертом Хейвудом, опубликован под названием «The Artist» в сборнике: The Works of the Mind. Chicago: University of Chicago Press, 1947. Печат. по: Шагал об искусстве и культуре 2009. С. 122–124, 127, 134–136.
26. В «Израель»
Мои картины сейчас плывут по морю. Моя дочка летит. Я бы тоже хотел ехать сейчас же. Но я должен подождать, когда стану здоровее. Странно! Эта выставка84 меня волнует больше всех моих выставок, устроенных на свете. Она для меня наиболее значительна. Кроме того, я пронизан особым волнением, какой-то ответственностью перед теми молодыми в Израеле, которые на своих плечах и своей душой открыли новую страницу нашей еврейской жизни, жертвовали собой, чтобы прервать цепи гетто и вывести нас к новым библейским горизонтам, к новой стране и новому героизму. Быть видным перед их глазами – это слишком большая ответственность и большой почет. И как мне – выходцу из гетто – не волноваться. Они мне простят, может быть, мои слабости. С волнением я думаю, что ведь мои друзья Дизенгоф и Бялик меня 20 лет назад призвали к себе, а теперь я, так дрожа и волнуясь, – перед глазами нового еврейства, новой страны. И я хочу ведь притти попробовать получить новые силы и инспирацию, если я еще способен в мои годы е[e] получить. Я хочу в дни 3-го года свободы и существования страны послать мои чувства любви и сердечных приветов – до того как мои ноги будут ступать по земле святой, и я буду иметь наслаждение смотреть в Ваши глаза на фоне библейских гор и творчества и видеть, как героически Вы боретесь за идеалы справедливости.Марк Шагал Vence 1951
Частное собрание. Автограф. Опубл.: Harshav 2004. P. 749–750 (пер. на англ.).
 Марк Шагал и Вирджиния Мак-Нил (справа от художника) среди преподавателей Школы искусств и ремесел «Бецалель». Иерусалим, 1951. Фото Р. Миллона
Марк Шагал и Вирджиния Мак-Нил (справа от художника) среди преподавателей Школы искусств и ремесел «Бецалель». Иерусалим, 1951. Фото Р. Миллона
27. Э. Родити. Диалоги об искусстве: Марк Шагал
В парижском Pied-à-terre[19], на Бурбонской набережной на острове Сен-Луи, где недавно обосновался Марк Шагал, на стенах не висит еще ни одной картины мастера. Только несколько плакатов с его последних выставок прибиты гвоздями в разных местах, как в комнате какого-нибудь ученика художника, который не может позволить себе купить оригиналы мастера, которым он восхищается. Впервые мы встретились с Марком Шагалом в 1930 году на Монпарнасе, за одним столом на террасе Café du Dôme. Он сидел там с группой художников и интеллектуалов из Средней и Восточной Европы. Если меня не подводит память – а, возможно, у меня сливаются воспоминания о нескольких похожих встречах в одну – Шагал находился в обществе скульптора Осипа Цадкина, еврейского романиста Шолома Аша, советского публициста Ильи Эренбурга и немецкого кино– и театрального режиссера Эрика Чарелла, которого сделали знаменитым его «Белый конь» и фильм «Конгресс танцует». За столом, где разговаривали на русском, французском и немецком, сидело много людей. Из всего этого вихря я вспоминаю только несколько знаменитостей, которые меня, 20-летнего, восхищали. Позже я встретил Шагала снова в Нью-Йорке, куда он бежал во время войны. И снова в моей памяти возникает воспоминание об оживлении в квартире на Riverside Drive85, где опять была слышна русская, французская и немецкая речь. Здесь встречались многие художники и поэты, среди прочих – Иван и Клер Голль, историю любви которых Шагал проиллюстрировал в Париже вскоре после Первой мировой войны86. Они как раз собирались вместе с поэтом Аленом Буше основать в Нью-Йорке журнал «Hémisphères»87, с которым позже будут сотрудничать многие эмигранты с Монпарнаса. Эдуард Родити
Эдуард Родити
Сегодня вечером я наконец-то почти наедине с Шагалом. Мы впятером в его новой квартире: Шагал, его жена Вава, которую я до 1934 года встречал в Париже и Берлине, парижский фотограф Андре Ости, торговец произведениями искусства Хайнц Берггрюн и я. После первого обмена новостями о людях, которых мы оба знали, но с 1939 года потеряли из виду, Шагал уводит меня в другую комнату. Он устраивается на маленьком диванчике, предлагает мне стул в изголовье и начинает рассказывать о своей жизни. Его взгляд направлен на голую белую стену, как будто он видит там как на экране то, что описывает. Нарастающий поток его воспоминаний настолько стремителен, что мне с трудом удается вставлять время от времени свой вопрос. И мне кажется, будто я занимаюсь психоанализом.
Сколько лет Вам было, когда Вы нарисовали Вашу первую картину или сделали первый рисунок? Я никогда так и не узнал, когда я появился на свет. Официально я родился в 1887 году и повсюду, где у меня есть друзья, отмечалось мое семидесятилетие. Но действительно ли мне 70 лет? Несмотря на мою седую голову я кажусь себе моложе. Легко может быть, что мои родители изменили дату моего рождения. Я был самым старшим из четырех детей, и если тогда мои родители смогли доказать, что между мной и моим младшим братом 4 года разницы, я освобождался в царской России от воинской повинности. Поэтому вполне вероятно, что в свидетельстве о рождении мне приписали 2–3 года, чтобы доказать, что я – самый старший сын и являюсь опорой семьи. (Кажется, что Шагал хочет уйти в семейные воспоминания больше, чем отвечать на мои вопросы. Но я настаиваю, как психоаналитик, который призывает своего пациента к порядку, если он пытается «убежать».)
Ваша семья была согласна с Вашей карьерой художника? В маленьком кругу ремесленников в нашем провинциальном гетто не знали, что означает карьера художника. У нас не висело ни одной картины, не было ни одной линии на стене, самое большое – несколько фотографий, как семейная память. До 1906 года за всю свою жизнь я не видел в Витебске ни одной картины, ни одного рисунка. Но однажды я увидел в общинной школе88 одного из моих одноклассников, который срисовывал картинку из какого-то иллюстрированного журнала. Этот мальчик, самый лучший ученик, был моим врагом, который постоянно меня преследовал и самым жестоким образом издевался надо мной как над самым отстающим в классе, обзывая мечтателем. Когда я застал его за рисованием, я просто лишился речи. Мне это показалось миражом, своего рода чернобелым откровением. Я спросил его, как это делается. «Дурак, – сказал он мне, – иди в библиотеку, найди картинку, которая тебе понравится, и срисуй ее». Так я стал художником. Я пошел в городскую библиотеку, попросил номер «Нивы» и понес его домой. Я выбрал портрет композитора Антона Рубинштейна, на котором, где как мне казалось, все кружится, роится – такими он был наполнен маленькими штрихами, передававшими складки и морщины на лице знаменитого человека. Я скопировал этот портрет, позже еще один, но искусство в то время не было для меня ни призванием, ни профессией. Все эти рисунки я прибил на стену у нас дома.
Говорят, что родители Сутина, полурусские, полуевреи, были шокированы, когда их сын сообщил о своем желании стать художником. Ваша семья тоже противилась Вашим художественным склонностям? Мой отец был глубоко верующим евреем. Он, вероятно, понимал, что наша религия запрещает рисовать человеческие лица. Но нам никогда бы не пришло в голову, что этот строгий запрет может касаться и тех листочков, на которые я срисовывал то, что было напечатано на других. Никто в моей семье не видел в моем призвании ничего скандального. Однажды ко мне в гости пришел мой товарищ, чья семья была богаче и занимала более высокое положение в обществе. Он был настолько восхищен рисунками на стенах, что сказал: «Да ты же настоящий художник!» Что это значило? Я был ленивым парнем. В школе я плохо учился, так как всегда был рассеян. Дома меня никогда не спрашивали, какую профессию я хочу получить. Когда человек беден, то он не знает слова «призвание», а просто берется за первую попавшуюся работу. Я сам мог с трудом себе представить, что я когда-нибудь могу сделать что-нибудь полезное. Но слово «искусство», возможно, скрывало в себе решение моей проблемы, и я спросил моего друга, что оно означает. В ответ он назвал мне имена великих академических художников тогдашней России Репина и Верещагина. Я никогда не слышал об этих художниках, хотя репродукции их картин печатались в журналах, из которых я брал образцы для моих рисунков. Это было началом моей одержимости. Я нашел профессию. Мой отец ничего в ней не понимал. Но я уже решил, что должен пойти учиться в художественную школу и получить диплом. В этот день моя мать пекла хлеб. Я пошел сообщить ей о своем решении. Она не поняла ни слова и выставила меня из кухни.
Итак, Ваш первый урок живописи Вы получили в Витебске? По всему Витебску я искал школу, где мог бы учиться живописи. Наконец я нашел ателье Пэна. Он был провинциальным портретистом, который обучал своему искусству учеников. Я попросил мою мать отвести меня к нему так, как если бы я просил своих родителей сходить со мной к какому-нибудь ремесленнику, могущему взять меня в ученики, и договориться об условиях. Но моя мать хотела сначала поговорить с моим дядей, который в нашем малообразованном кругу снискал себе славу человека, который читает много газет. И дядя привел в пример имена Репина и Верещагина, но добавил еще, что художник должен обладать талантом. Об этом я как раз вовсе и не подумал. Моя мать решила позволить мне учиться рисовать, если учитель Пэн обнаружит во мне талант. Все это произошло в 1907 году. Мне тогда было 17 лет89.
Какое впечатление произвел на Вас этот первый визит к Пэну? Когда мы с матерью пришли к Пэну, самого художника не было в мастерской. Нас встретил один из его учеников, который там занимался. Я принес с собой мои свернутые рисунки, которые хотел показать мастеру. Когда моя мать увидела в ателье художника множество прекрасных портретов генералов с бородками и провинциальных дам в декольте, ей вдруг стало не по себе. «Мой бедный сын, ты никогда не сможешь сделать что-нибудь подобное», – сказала она и сразу же хотела уйти и увести меня. Тогда я был еще настолько неуверен в себе, что цеплялся за ее юбку, когда мы выходили в город, чтобы не потеряться в суматохе на улице. Моя мать задержалась, чтобы полюбоваться картинами Пэна и заодно расспросить его ученика о перспективах, которые открывала профессия художника. Начинающий художник как раз объяснял матери, что живопись не позволяет содержать ни склада товаров, ни лавки, когда Пэн вернулся из города. Он быстро посмотрел мои рисунки. Моя мать спросила его, есть ли у меня талант. На это он уклончиво ответил: «В этом что-то есть». Этих слов было достаточно. Дело было решено, и я стал учеником Пэна. В его ателье я провел всего несколько месяцев. Очень скоро я увидел, что Пэн не может научить меня тому искусству, к которому я стремился. Но с другой стороны Пэн понимал, что мои родители многим жертвуют, платя за мое обучение. Он был настолько добр, что взялся обучать меня бесплатно. Я делал большие успехи и уже в 1908 году90 мог поехать в Санкт-Петербург и записаться в Художественную академию91, где преподавал Лев Бакст.
Бакст был сотрудником Дягилева и создателем декораций и костюмов для некоторых великолепных русских балетов? Да, он был одним из ведущих художников петербургской группы «Мир искусства».
Какой была в то время Ваша манера письма? Все картины этого первого периода моего творчества утеряны. Я в то время был реалистическим импрессионистом, как и большинство наших русских художников. Они приезжали из Парижа и распространяли в России те немного туманные идеи, которыми они восхищались во Франции – от Пикассо и Жюля Адлера, до Сислея и Бастьен-Лепажа, не поняв их до конца.
Как случилось то, что все Ваши картины этого периода утеряны? Когда я прибыл в Санкт-Петербург, мне нужны были деньги. Однажды я нашел изготовителя рамок, его фамилия была Антокольский92. В его витрине были выставлены на продажу фотографии и картины, возможно, для художников, которые сами были его клиентами. Я набрался смелости и все свои работы отнес в его магазин в надежде продать несколько картин. Он велел мне все оставить ему и прийти через неделю. Когда я снова пришел, он отрицал, что брал что-либо у меня. А никакой квитанции у меня не было. Как в одном романе Кафки, этот человек сделал вид, что впервые меня видит, и даже спросил: «Вы вообще кто?»
Я уверен, что этот человек был первым, кто определил цену Ваших картин, и определенно, что позже он продал все Ваши полотна и заработал на них много денег. Как бы то ни было, я больше никогда не увидел ни одной из тех картин.
В Петербурге Вы отказались от реалистически-импрессионистского стиля? Не сразу. Я начал с того, что скопировал картину Левитана.
Великого русского импрессиониста, который был другом Чехова и который вдохновил его на лучшие описания русской природы? Да. Мы все считали Левитана большим художником. Я познакомился с друзьями Левитана и Серова, а также с некоторыми коллекционерами, у которых я мог найти картины этих художников. Как еврею мне нужно было особое разрешение на проживание в столице. Я не получил такого разрешения и поэтому не мог учиться в государственной школе искусств. Я продолжал учиться в свободной Академии искусств. Среди моих учителей были Бакст и Рерих93, который сделал для Дягилева декорации к «Весне священной» Стравинского. Бакст и Рерих были тогда руководителями «Мира искусства», объединения в стиле модерн, которое ориентировалось на сецессионное искусство Парижа и Вены и одновременно обращалось к русскому народному творчеству, особенно к творчеству азиатских провинций. В то время, как живопись Бакста и его друзей была аристократичной, утонченной и иногда декадентской, Левитан и даже Репин следовали социально окрашенному популизму, который в определенной степени означал возвращение к земле и к жизни русского народа. Этот популистский импрессионизм притягивал меня больше, чем импрессионизм тех русских художников, которые, как Грабарь, рисовали à la Sisley. Но я всегда трактовал народное творчество по-своему.
Разумеется, Вы никогда не были одним из тех «реалистов-социалистов», которые создают свои картины так, как будто они – диссертации по сравнительной социологии. Напротив, я всегда стремился найти вдохновение, импульс в народном творчестве, как в великом искусстве, которое влияет на народ. Поэтому я всегда любил русские иконы. В их пластике есть что-то магическое, необычное, а их краски излучают сияние, освещающее ночь. Можно понять, почему люди думают, что многие из этих старых икон созданы не рукой человека, а каким-то таинственным образом посланы с неба.
Еще у одного русского художника – [Алексея][20] Явленского, друга Кандинского и Пауля Клее, была подобная страсть к иконам. Явленский? Великолепный художник! Он часто меня поддерживал в мои тяжелые времена в Петербурге. Позже он часто писал мне из Мюнхена. Я очень рад, что последних 2–3 года, наконец-то, начинают обращать внимание на его искусство.
Итак, в Петербурге Вы впервые столкнулись с современным искусством. Совершенно верно, но кроме того, я обнаружил множество сокровищ в музеях. В это же время нарисовал свои первые автопортреты.
Я знаю один из этих портретов, которые сегодня стали большой редкостью. Он находится в Оксфорде, в коллекции одного моего друга94. Его концепция, даже больше, чем манера исполнения, напоминают мне Рембрандта, возможно, потому, что Вы на портрете в шапочке, похожей на ту, что на ранних автопортретах Рембрандта. Странно! В то время мои мысли были далеко от Рембрандта. Все русские художники, которых я знал, использовали такую палитру, которая кажется Вам такой темной. Только в Париже мы научились использовать краски и свет в полной мере, как Ван Гог.
Говорят, что еще Бакст советовал Вам проявлять больше свободы в использовании красок. Может быть… Ведь Бакст сам уже бывал в Париже. В любом случае, этим советом я воспользовался только в 1910 году95, во время моей первой поездки в Париж.
Как Вы попали в Париж? Сначала Бакст хотел, чтобы я помогал ему с изготовлением декораций для балета вместо его ассистента Бориса Анисфельда, который как раз в это время ушел от него. Я не могу сейчас вспомнить, почему из этого плана ничего не вышло, во всяком случае, моим меценатом в конце концов стал депутат Думы Винавер. Некоторые мои картины уже были в его коллекции96, где они висели рядом с картинами Левитана и Серова. Однажды он предложил мне поехать за его счет во Францию и открыть мне счет в банке «Crédit Lyonnais»[21] в Париже, на который он мне ежемесячно будет перечислять 40 рублей. Таким образом, я один отправился в Париж. Я был настолько беден, моя одежда настолько потрепана, что пограничник посмотрел на меня недоверчиво и спросил: «У вас есть вши?»
Какое впечатление произвел на Вас Париж? Я открыл там для себя свет, свободу, краски, солнце, радость жизни. Когда я прибыл в Париж, я наконец-то смог выразить свою радость, которую я иногда испытывал в России, радость моих воспоминаний о детстве в Витебске. Я никогда не хотел рисовать, как другие, и мечтал о новом, отличающемся от всех искусстве. В Париже я обрел представление о том, чего я хотел. Там я открыл новое психологическое измерение для моего творчества. Я не представлял себе какой-то новый способ выражения своих чувств, у меня перед глазами не было импрессионизма в том плане, как это слово переводится с латинского, и каким он был у Курбе. Нет, моя живопись – это не искусство для самовыражения, она не является литературной, это что-то конструктивное, мир форм.
Вследствие этого Вы примкнули к парижским кубистам? О нет, тенденции кубистов меня особо не интересовали. Все, что они рисовали, так или иначе было связано с геометрией, которая была для меня своего рода новым видом рабства, а я искал, напротив, свободу. Если я помещаю корову на крышу, а маленькую фигуру одной женщины вписываю в фигуру большой, то это – не литература, а логика нелогичного, иной формализм, вид композиции, которая перевоплощает правила импрессионизма и кубизма в душевной проекции.
Андре Бретон и сюрреалисты часто утверждали, что в свое время Вы подчинялись так называемому «автоматизму», каким они его переняли в 1920 году. Нет, это неверно. Я, напротив, стараюсь создать такой мир, где дерево может быть непохожим на дерево, где я сам могу вдруг заметить, что у меня на правой руке семь пальцев, а на левой только пять. В общем, такой мир, где все возможно, где нечему удивляться, но вместе с тем тот мир, где не перестаешь всему удивляться.
Один мой друг, израильский критик Хаим Гамзо, высказал мнение, что Вы являетесь Брейгелем языка еврейского народа, и говорит о том, что в Ваших картинах он нашел отражение более ста народных пословиц и поговорок. Я никогда не иллюстрировал их сознательно. И прежде всего я, как Брейгель, никогда не делал систематических композиций, в которых каждая деталь отражает отдельную поговорку. Эти выражения и поговорки стали популярными потому, что тысячи людей, как и я, используют их ежедневно для выражения своих мыслей. Если какой-нибудь извозчик использует этот язык, это вовсе не является литературой. Или я, сын простого еврейского ремесленника из витебского гетто, пользуюсь таким языком – это тоже не является литературой. Можно ли заподозрить меня в том, что, став художником, я стал выражаться литературным языком? Ведь я не делаю ничего иного, как только выражаю свои мысли таким языком, как все те люди, что окружали меня в детстве.
 Ла Рюш, Монпарнас. Париж, 1910-е
Ла Рюш, Монпарнас. Париж, 1910-е
 Блез Сандрар. Париж, 1920-е
Блез Сандрар. Париж, 1920-е
 Амедео Модильяни, Пабло Пикассо и Андре Сальмон перед кафе «Ротонда». Париж, 1916
Амедео Модильяни, Пабло Пикассо и Андре Сальмон перед кафе «Ротонда». Париж, 1916
Некоторые критики утверждают, что на Ваши работы в стиле модерн в большой степени повлияли произведения великого еврейского юмориста Шолом-Алейхема и рассказы Переца. Конечно, я знаю книги этих писателей. Но я никогда не был большим любителем чтения. Я думаю, что я просто черпал материал из тех же источников юмора и народного творчества евреев, как и те писатели, о которых Вы говорите.
А что Вы скажете о том, что некоторые находят в Ваших произведениях влияние хасидской мистики? Вся моя семья принадлежала к хасидской общине. В Витебске даже жил один из известнейших раввинов, творивших чудеса97. Но я не могу сказать, что моя живопись – это мистическое или религиозное вероисповедание. Музыка и религия играли большую роль в моем детском мире и оставили след в моем творчестве, как и все, что принадлежало к этому миру. Но ведь с тех пор я познакомился и с другими мирами…
В каких творческих кругах Вы вращались во время своего первого пребывания в Париже? Одним из моих ближайших друзей был поэт Блез Сандрар. Я всегда немного стеснялся в обществе Аполлинера, хотя он всегда привлекал меня. В то время я жил в «La Ruche», в этой колонии художников, которая состояла только из обветшалых ателье, ставших уже почти легендой. Среди моих соседей был Модильяни, который в то время занимался больше скульптурой, чем живописью. Я был единственным русским художником в «La Ruche», Сутин жил там уже позже. Кстати, он просил меня разрешить ему жить в моем ателье, когда я в 1914 году готовился к поездке в Германию и Россию.
Сутин действительно был таким неаккуратным и непривлекательным, как его часто описывают? Мне всегда было жаль его. Но, несмотря на это, я не хотел, чтобы кто-нибудь жил в моем ателье во время моего отсутствия, и в день моего отъезда я завязал свою дверь веревкой, т. к. там не было замка. Лишь в 1922 году98 я снова увидел это ателье в «La Ruche».
 Обложка журнала «Дер Штурм» (Берлин, 1914, № 6) с рисунком Марка Шагала «Пьяница»
Обложка журнала «Дер Штурм» (Берлин, 1914, № 6) с рисунком Марка Шагала «Пьяница»
 Обложка каталога выставки Марка Шагала в галерее «Лутц» (Берлин, 1923)
Обложка каталога выставки Марка Шагала в галерее «Лутц» (Берлин, 1923)
 Херварт и Нелл Вальден в своей берлинской квартире (на стене картины Марка Шагала). 1916
Херварт и Нелл Вальден в своей берлинской квартире (на стене картины Марка Шагала). 1916
Что подтолкнуло Вас уехать в Берлин? Аполлинер рассказал Герварту Вальдену о моих картинах. Вальден часто приезжал в Париж в поисках новых художников, которых он мог бы выставить в своей галерее «Der Sturm». Мои хорошие друзья поэт Людвиг Рубинер и его жена Фрида посоветовали Вальдену посмотреть мои работы. И однажды тот попросил меня доверить ему для выставки 150 моих картин и гуашей. Я уже выставлялся в 1913 году в Берлине в «Осеннем салоне» со своей картиной «Голгофа», которую купил у меня коллекционер Бернард Келлер и которая сейчас находится в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Итак, из-за выставки Вальдена я отправился в 1914 году в Берлин, где провел всего несколько дней. Я отправился в Россию, чтобы встретиться с моей невестой Беллой. Я рассчитывал на то, что сразу же вернусь с нею в Париж, а по пути заберу в Берлине деньги, которые выручит Вальден от продажи моих картин. Но началась война, и Париж и Берлин я увидел вновь только в 1922 году. Вальден продал за это время все мои картины, но Германия пережила огромную инфляцию, и все предназначавшиеся мне деньги, собранные с 1914 года, не стоили и гроша ломанного99.
Во второй раз с Вами произошла та же самая история, когда работы целого периода были проданы, а Вам от этого не было никакой пользы. Я знаю большое количество этих работ парижского периода до 1914 года, когда Вашими друзьями были Аполлинер и Сандрар. Они сейчас находятся в больших коллекциях, как, например, в Stedelijk Museum в Амстердаме, где для них отведен целый зал. Не все эти картины – из той коллекции, которую я доверил Вальдену для его выставки. В Париже меня ждал третий неприятный сюрприз. Когда в 1922 году100 я вернулся туда в ожидании того, что найду все так, как оставил, и найду все мои картины, неповрежденные за 10 лет, меня встретил новый жилец. Во время моего отсутствия вынесли и продали все, что у меня было. Я больше не нашел ни одной вещи.
Маня Гарари, которая два года назад провела в Москве несколько недель, рассказывала в своем выступлении на Лондонском радио, которое было напечатано и в«The Listener», что она видела некоторые картины, которые Вы написали с 1914 по 1922 год в России. Вы могли вообще отдаваться искусству во время войны и революции? Это был один из ужаснейших периодов в моей жизни. Когда я вернулся из Парижа в Россию, я обнаружил, что атмосфера здесь полностью изменилась. Она стала намного взволнованнее, чем была до 1910 года, особенно среди евреев, с которыми я общался до отъезда во Францию. Между тем, увеличилось и число коллекционеров, они стали более заинтересованными.
Вы должны были уже стать ведущим художником, и в первую очередь для молодых художников. Да, возможно… Во всяком случае, в Москве жил один инженер Каган-Шабшай, который купил у меня около 30 картин. Эти картины должны были войти в экспозицию музея еврейского искусства, который он хотел основать. Но потом началась революция, и Каган-Шабшай вынужден был отложить свой план. В 1922 году он одолжил мне эти купленные им картины для выставки в Париже101.
Три из них были проданы на аукционе в декабре 1956 года в Salle Drouot. У них, должно быть, очень интересная история. Да, это верно. Когда в 1922 году я вернулся в Париж, эмигрировавшие родственники Каган-Шабшая102 заверили меня в том, что он разрешил им продать картины, одолженные мне, и оставить выручку себе. Но позже, после смерти Каган-Шабшая, советское правительство от имени оставшихся в России его наследников изъяло оставшиеся три картины, и они в течение еще 20 лет были под арестом103.
И когда эти картины в 1956 году были, наконец, проданы в Париже, наследники – жили они в эмиграции или в советской России – могли получить более 12 миллионов франков, намного больше, чем они могли бы получить в 1922 году. Я сам продал эти картины Каган-Шабшаю самое большое за несколько тысяч франков!
Маня Гарари познакомилась в Москве с одним коллекционером, который является владельцем около 30 Ваших картин. Это вполне возможно. Я оставил там много картин у друзей либо в маленьких коллекциях, которые не были изъяты. Часто случалось, что владельцы этих картин были вынуждены продать их позже в Москве на так называемом открытом рынке, вид советского блошиного рынка.
Насколько я знаю, на сегодняшний день в Москве есть около десятка коллекционеров, которые умудрялись даже во времена Сталина доставать на таких рынках произведения великих французских импрессионистов, а также работы Пикассо, Матисса, Ларионова и Ваши, короче говоря, искусство, которое называют «формалистским» и на которое наложили запрет поборники социалистического реализма. Но ведь не всегда Ваше творчество было в опале в советской России. У Вас даже в начале революции было несколько госзаказов. Некоторое время меня поддерживал Луначарский, первый советский комиссар народного образования. Он был тем, кто назначил меня комиссаром искусств в моем родном Витебске. Я отвечал за все формы художественной деятельности в губернии, и, наконец, Витебск смог получить то, чего мне так не хватало 20 лет назад: художественную академию104 и музей.
Вам удалось переманить в Витебск много коллег из Москвы и Ленинграда? Все, кому я предлагал, приехали. В то время в Витебске было лучше, чем в больших городах с продовольствием, кроме того, я дал всем своим коллегам полную свободу. Многие известные представители русского авангарда преподавали на факультетах моей академии. Были представлены почти все направления, от импрессионизма до супрематизма.
Супрематизм – это русская школа абстракционистов, которые являются родственными группе Мондриана в Голландии и дадаизму в Цюрихе, Берлине и Париже. Художник Пуни, например, был супрематистом до того, как приехал в Париж. Определенно, и Пуни и его жена105 вели в моей академии курсы прикладного искусства. И уже много позже, когда он уехал в Париж, у Пуни, как и у многих других русских художников, развилось чувство цвета.
 Я.Ф. Каган-Шабшай. Москва, 1932. Фото Н.И. Свищева-Паолы
Я.Ф. Каган-Шабшай. Москва, 1932. Фото Н.И. Свищева-Паолы
 Лазарь Лисицкий в учебной мастерской Народного художественного училища. Витебск, 1919
Лазарь Лисицкий в учебной мастерской Народного художественного училища. Витебск, 1919
 Лист из альбома С.Н. Юренева с рисунком и автографом Марка Шагала: Я не мастер афоризма – обратитесь к творцам «Супрематизма». Марк Шагал. 26 мая 1920. Витебск
Лист из альбома С.Н. Юренева с рисунком и автографом Марка Шагала: Я не мастер афоризма – обратитесь к творцам «Супрематизма». Марк Шагал. 26 мая 1920. Витебск
Да, цветовая гамма у Пуни стала настолько типично французской, что его часто сравнивали с Боннаром и Вюйаром. Неужели такие разные направления уживались в Вашей академии? Совсем наоборот! Очень скоро моя академия превратилась в настоящее гнездо скорпионов. В первую очередь это был Пэн, который смертельно обиделся, что я не признал его как учителя. Я не признавал академических методов. Пэн отомстил мне пародией на знаменитую картину Арнольда Беклина. Он изобразил себя на смертном одре, а лицо черта, который ждет, чтобы утащить его душу в ад, неуловимо передавало мои черты. Позже я предложил Пэну стать преподавателем в моей академии. Но самые большие хлопоты доставляли супрематисты.
На Западе мало знают о различных направлениях советского авангарда. Более известны конструктивисты, к которым мы причисляем художников Татлина, Родченко, Лисицкого и скульптора Певзнера (Габо). Супрематисты и конструктивисты – это все различные фазы одного направления. Их руководитель Казимир Малевич был основателем абстрактного супрематизма. Он начинал в 1900 году как импрессионист, а затем стал фовистом.
Прошлым летом я видел некоторые его картины 1905 года, написанные в этом стиле, на выставке в Амстердаме. А Ларионов рассказывал мне, что Малевич после своего кубистического периода выставлялся в 1913 году в Москве с группой лучистов. Когда я познакомился с ним после 1917 года, он был супрематистом.
Он создавал искусство, которое было близко стилю Мондриана и нидерландских абстракционистов «Stijl». Самым недовольным из друзей Малевича, принадлежащих к группе абстрактных супрематистов, был Лисицкий. Позже он, Татлин и еще некоторые стали конструктивистами. Но поначалу он был моим поклонником и изображал еврейские мотивы в манере, похожей на мою.
Да, я знаю. Даже иногда случается, что некоторые его ранние произведения с еврейским сюжетом и подписью по-еврейски так, как Вы сами долгое время подписывали Ваши произведения, после 1945 года, особенно в Германии, продаются как оригинальные произведения Шагала. Исаак Рыбак, умерший довольно молодым, был, пожалуй, самым талантливым художником из тех, кто работал в специфическом еврейском стиле. Еще до Рыбака, Натана Альтмана, Лисицкого, Рабиновича и Тышлера я сам работал для Еврейского национального театра и для «Габимы», а также для Камерного театра. Но мои наброски показались режиссерам Мейерхольду, Таирову и Вахтангову слишком фантастическими, и они никогда не были использованы. Единственный, кто оказался смелым, был Грановский. Так я создал декорации для премьеры «Диббука»106. Также панно в фойе Еврейского театра.
Один мой американский друг, который недавно был в Москве, сказал мне, что еще до сих пор можно увидеть Ваши картины в Еврейском театре, но они спрятаны в подвале, и их достают только по просьбе иностранных гостей. По-моему, настало время пригласить Вас для реставрации этих картин. Но как Вы находили время для того, чтобы открыть в Витебске музей и академию, руководить ею, да еще и работать с различными московскими театрами? Честно говоря, нельзя одновременно танцевать на двух свадьбах, т. е. нельзя одновременно работать в Витебске и в Москве. В то время, когда я был руководителем академии, у меня не было времени рисовать. Каждое мгновение я должен был либо ездить в столицу и обращаться к властям, чтобы достать необходимые средства, либо доставать продукты для преподавателей и студентов, иногда необходимо было сделать освобождение от военной службы. Я был постоянно в разъездах, инспектировал все школы Витебской губернии, где преподавали рисование, меня постоянно вызывали в Москву. Мое отсутствие использовали сезаннисты, супрематисты, кубисты, импрессионисты, причем, как преподаватели, так и ученики, чтобы устроить самые ужасные неприятности. Однажды после возвращения из Москвы я увидел на фасаде моей академии вывеску «Академия супрематизма». Малевич и его друзья распустили другие факультеты и провозгласили себя победителями. В гневе я послал прошение об отставке и сразу же поехал в Москву в товарном вагоне, который в то время был обычным видом транспорта даже для лиц, которые ездили в командировку.
Но ведь Ваши московские друзья не хотели принимать Вашей отставки? Напротив, в министерстве мне показали целую папку с доносами на меня. Супрематисты приписывали мне стремление к власти, неблаговидные связи и много чего еще. Уже сразу после получения моего прошения я был уволен.
Каждое тоталитарное государство стремится использовать раздоры между художниками и учеными в политических целях. Когда обо всем узнали в Витебске, запротестовали студенты академии. Меня снова назначили директором, и я снова должен был принять руководство академией. Но это длилось недолго. Супрематисты не переставали устраивать интриги, и скоро я был сыт этим по горло. Я уехал в Москву и работал там с Еврейским театром, пока в 1922 году не уехал в Париж107. В Москве я написал и проиллюстрировал свою книгу «Моя жизнь».
Супрематисты преследовали Вас и в Москве? После 1920 года конструктивистам и супрематистам нечего было больше сказать.
Верно, в это время ощутимой стала реакция, которая стала характерной для искусства в эпоху Сталина. Даже Давид Штеренберг, Фальк и Альтман – последователи сезаннизма, которые руководили в Москве государственной академией художеств – не отваживались что-нибудь сказать, когда теоретики социалистического реализма приговаривали любое искусство, которое, по их мнению, было формалистским или буржуазным.
Из Советского Союза Вы уехали как политический беженец, потому что Вас преследовали бы как представителя заклейменного искусства? Уже в 1910 году у меня было достаточно политических причин, чтобы уехать, но я каждый раз покидал Россию только по личным и связанным с искусством причинам. Я уехал во Францию лишь потому, что чувствовал, что это – моя настоящая родина, потому что только в Париже я чувствовал себя свободным как художник. В России художники не могли развить ощущение цвета.
Как раз чувство цвета восхищало весь Париж у Бакста и художников, которые рисовали декорации и эскизы для первого русского балета. Конечно. Но они не учились в Париже и не были учениками русских художников, которые работали под влиянием великих импрессионистов. Кроме того, нельзя сравнивать цвет в декорациях с цветом на картине. Свет в театре – это не то же самое, что свет в природе или в комнате. На сцене можно позволить более резкие контрасты, чем на картине, где нет движения актеров и нет прожектора, который может осветить одну деталь, а все остальное оставить в тени. Картине нужна гармония света и цвета, единство, которое нужно сценической декорации в меньшей степени. Эти проблемы занимают меня в настоящий момент, т. к. я работаю над эскизами к балету Равеля «Дафнис и Хлоя»108.
Вы, вероятно, чувствовали себя немного отчужденно в Париже после всех этих лет войны и революции. Да, наверное… Но я не сразу поехал в Париж из Москвы. Сначала я провел несколько месяцев в Берлине. Там в растущей инфляции, в трудных начинаниях Веймарской республики я ощутил настроение, похожее на настроение первых лет русской революции. Я снова встретил многих друзей из Витебска, Ленинграда и Москвы.
Там же Вы, наверно, встретили своего старого друга или врага супрематиста Лисицкого. Польский художник Генрих Берлеви недавно нашел для меня старый номер авангардного журнала, которым в Берлине в 1922 году руководили Лисицкий и Илья Эренбург. Этот журнал с названием «Вещь / Objet / Gegenstand» издавался на немецком, русском и французском языках. Я записал имена некоторых сотрудников: Пикассо, Архипенко, Озанфан, Ле Корбюзье, поэты Андре Сальмон, Маяковский, Есенин, театральные режиссеры Таиров, Мейерхольд и многие другие, весь Парнас 20-х годов. Здесь нет ничего удивительного. Берлин после войны был чем-то вроде караван-сарая искусства, где встречались все, кто блуждал между Москвой и Западом. Позже я ощутил похожую атмосферу уже на Монпарнасе, а в период между 1943–1945 годами в Нью-Йорке. Но в Берлине царило тогда ощущение того, что ты живешь как во сне, иногда даже это было ощущение кошмара. Каждый хотел продавать и покупать картины, а цена одной булочки доходила до нескольких миллионов. В баварском квартале было уже много больше, чем раньше в Москве, самоваров и графинь, увлекавшихся теософией и почитавших Толстого. На кухнях некоторых ресторанов на улице Мотц можно было встретить больше генералов и офицеров, чем в каком-нибудь гарнизоне царской России. Разница была лишь в том, что в Берлине они работали поварами или мыли посуду. Никогда еще в моей жизни я не встречал столько раввинов, как тогда в Берлине, во времена разгула инфляции, а еще никогда не встречал столько конструктивистов, как в «Романском кафе».
Лисицкий в то время увлек почти всех современных ему художников Баухауза в Веймаре. Его проун-проекты, как он их называл, шли нарасхват… Ему удалось открыть новое сочетание дадаизма и неообъективизма, с которым он в Германии, а позже и в Америке мог заработать много денег. Но он предпочел вернуться в Советский Союз. И с 1928 года даже его друг Генрих Берлеви ничего больше о нем не слышал. Говорят, что во время сталинского режима его сослали в Сибирь, где он и умер…109 Вы были знакомы в Берлине с немецкими экспрессионистами? Я недолго пробыл в Берлине и в это время встречался в основном с русскими и польскими художниками. Там я встретил польского художника Янкеля Адлера, который в то время был очень знаменит в Германии, а умер в изгнании в Англии. Меня особо не привлекали немецкие художники, кроме Франца Марка, чьими картинами я восхищался еще до 1914 года. Но в 1922 году Франца Марка не было больше в живых.
И все же, как только Вы прибыли в Берлин, Ваша живопись стала популярной. Как мне кажется, Вашим поклонником в это время был среди прочих и художник Генрих Кампендонк. Не помню, чтобы когда-нибудь встречал его. Но в любом случае, Берлин был только промежуточным периодом в моей жизни. Как только я приехал в Париж, я понял, что останусь здесь навсегда. Париж стал «моей деревней», как когда-то Витебск, он стал мне настолько близок, как мой родной город. Во время моего пребывания в Нью-Йорке я мечтал только о Париже.
Вы уже стали настоящим парижанином настолько, что почти все забывают о Вашей работе в России. По этой причине я позволил себе расспросить Вас подробнее о начале Вашей творческой карьеры в царской России и о Ваших достижениях к началу революции. Начнете Вы вновь постоянно работать в Париже, как это было в период между двумя войнами? Я собираюсь как можно чаще приезжать в Париж. Но мне нужны определенные условия для работы. Спокойнее всего я чувствую себя в моем доме на юге.
Возможно, Ванс станет еще одной Вашей «родной деревней»? Я так не думаю. Я всегда остаюсь верен тем местам, которые влияют на мой внутренний мир каким-то необъяснимым образом…
В этот момент нас прервала мадам Шагал, которая пришла, чтобы напомнить своему мужу о визите к зубному врачу. Он спрыгнул с тахты с ловкостью акробата и стал посреди комнаты. Неожиданно он стал похож на великого клоуна Чаплина или Харпо Маркса. Когда мадам Шагал спросила его, хватит ли ему денег на такси, он ответил, ощупывая свои карманы: «Да-да, только где мои зубы?» А затем, уже ощупывая свой подбородок: «А, вот же они!». И он тут же исчез. Спустя два дня я снова пришел к нему, чтобы показать первую запись нашего разговора и уточнить некоторые детали. Шагал был очень удивлен, как много он рассказал и как много я смог записать за ним. Я сказал ему, что у меня была хорошая практика, я был переводчиком и мог запоминать большой объем информации, не прибегая к стенографии. Просматривая мои записи, он время от времени исправлял какую-нибудь дату или слово. После того, как он дал добро на публикацию написанного, он заметил: «Поэт Маяковский говорил мне: «Мой дорогой Шагал, ты – хороший парень, но ты слишком много говоришь». Я убедился, что с возрастом я не исправился…»
Roditi Edouard. Dialoge über Kunst. Wiesbaden, 1960. S. 31–53; Roditi Edouard. Dialogues on Art. London, 1960. Печат. по: Родити 2002.
28. К. Померанцев. Творчество и безумие. У Марка Шагала
Старинный дом на набережной Анжу, в Сити, самом центре города110. Здесь все история: Дворец Правосудия, Святая Капелла, Консьержери… Казнь Марии-Антуанетты… Людовик Святой… Собор Парижской Богоматери… Квазимодо… Виктор Гюго… На доме мраморная доска: «Здесь в 1640 году скончался оружейных дел мастер…» – имя и фамилия. Но не все ли равно? Окна дома выходят на Сену, в ней уже перевернут вечереющий город. Еще раз смотрю на доску, на набережную, на дрожащие в воде пятна…Остановиться на мгновенье,
Взглянуть на Сену и дома,
Испытывая вдохновенье,
Почти сводящее с ума…111
 К.Д. Померанцев. 1940-е
К.Д. Померанцев. 1940-е
Шагал садится за стол напротив меня. Начинается разговор. – Мое первое впечатление от жизни? Я прежде всего не хотел жить, ощущал себя мертворожденным… Вообразите белый пузырь, которому не хочется жить. Как будто его набили картинами Шагала! – Ваши родители – мать, отец? – Что мой отец? Что стоит человек, если он ничего не стоит? Мне трудно подыскать для него точные слова. Он поднимал тонны бочек с селедками, грузил их на автомобили, в то время как его толстый хозяин стоял в стороне, как набитое соломой чучело… Потом его раздавил автомобиль… Только теперь я понял, что это был святой человек… Как трудно говорить о прошлом! О прошлом можно только плакать… Помню речку, бегущую вдаль, мост, забор, вечный забор, за ним вечный покой, земля, могилы… Вот моя душа, ищите меня здесь. Здесь все мои картины. Грустно, грустно! Помню еще: вечер, лавка уже закрыта, дети вернулись из школы, отец устало облокотился о стол. Лампа мирно отдыхает, стулья скучают. Никто уже не знает, где за окном небо, куда делась природа. Все тихо, неподвижно. Мать сидит перед печкой, одна рука на столе, другая на животе… Она первая открыла мой талант, он прятался где-то в ней, все мне было передано через нее. Как часто она говорила: «Да, сынок, вижу, что у тебя есть талант. Но послушай меня. Может быть, лучше тебе стать рассыльным? Мне, право, тебя жаль… Откуда это у нас?» – А как другие относились к вашему таланту? – Другие? – переспросил Шагал, как бы не услышав вопроса. – Дед был мясником. Он с бабушкой мало ценил мое искусство, в котором все наоборот и все так непохоже. Зато он очень дорого ценил мясо. Но я обязан и ему: в хорошую погоду дед забирался на крышу, цеплялся за трубу и лакомился там морковью. И вот, представьте себе, некоторые критики с радостью и облегчением видят в этих невинных развлечениях деда разгадку моих картин! Здесь есть доля правды: мое искусство не играло никакой роли в жизни моих родственников, зато их жизнь оказала большое влияние на мои картины. Был еще дядя-парикмахер. Он меня стриг и брил с безжалостной любовью и даже – единственный – гордился мной. Когда же я написал его портрет и подарил ему, он бросил взгляд на полотно, потом посмотрел на себя в зеркало, задумался и сказал: «Ну, нет. Храни его сам!» Так же смотрел на мои упражненья и отец: «Восемь душ детей на руках и никакой помощи!» Я глотал слезы, думая о моих бедных картинах, о моем будущем, о моем таланте. Меня душил поднимающийся от горячей воды, смешанный с запахом мыла и соды, густой, липкий пар… – Неужели никто не понимал вашей живописи? Никто? – Искусство это тайна. Иногда мне кажется, что я сам не понимаю людей и еще меньше мои собственные картины… В первый год революции я основал в Витебске Академию художеств и стал ее директором и председателем. По делам академии меня принял как-то Луначарский. Я слышал, что он марксист, но мои знания марксизма ограничивались тем, что я знал, что Маркс был евреем, носил большую белую бороду и что моя живопись никак с марксизмом не уживалась. Я сразу сказал Луначарскому: «Главное, не спрашивайте меня, почему я пишу зеленым или синим и почему в коровьем животе виден теленок и так далее. Впрочем, я бы очень хотел, чтобы Маркс, если он так мудр, воскрес и все объяснил…» Луначарский смотрел на меня с изумлением. Он, наверно, думал: «Почему его корова зеленая и почему лошадь улетает в небо? Какое все это имеет отношение к Марксу и к Ленину?» Но он молчал. Он был неглупым человеком… Вы спрашиваете – понимал ли кто-нибудь мою живопись? Мне казалось, что люди не понимают природу, не видят окружающих предметов, или видят в них не то, что видит во много раз лучше простой фотографический аппарат… – Марк Захарович, я бы хотел… – Знаю, знаю: вы хотите задавать вопросы, спрашивать, как все журналисты: как я смотрю на живопись, что я думаю о красках… А что я вам отвечу? Для этого и рассказываю свою жизнь, как я родился и каким родился… Русская живопись, особенно передвижники, мне всегда были чужды. Я их не понимал. Не моя вина, что я не вижу жизнь, как фотографический аппарат… Если русские художники и должны были стать учениками Запада, они, мне кажется, оказались, в силу их собственной природы, не очень верными учениками. Лучший русский реалист шокирует реализм Курбе. Самый настоящий русский реализм озадачивает, в сравнении с реализмом Моне и Писсарро. А вот Пикассо. Когда я в первый раз попал в Париж и познакомился с Аполлинером, который меня со всеми и познакомил, то как-то за завтраком я спросил его, почему он не представит меня Пикассо? «Пикассо? Вы разве хотите покончить жизнь самоубийством? Все его друзья кончают самоубийством», – отвечал Аполлинер, как всегда, улыбаясь. Но это между прочим… Воспоминания… Простите… В Париже, в Лувре, перед полотнами Мане, Милле и других я понял, почему не осуществился мой союз с Россией и русской живописью и почему даже мой язык был им чужд … В России я всегда был с боку припеку. Все, что я делал, им всегда казалось странным, а все, что делали они, я считал лишним. Мне больно об этом говорить… Я люблю Россию…
 Марк Шагал. Париж, около 1960
Марк Шагал. Париж, около 1960
И после небольшой паузы: – Но, увы! Я не был нужен царской России и еще меньше советской… Опять пауза… – Вы бывали на выставках советских художников? Видели советские картины? Там все точно, все на месте. Все как циркулем вымерено… Я видел вчера американский фильм: прерии, леса, водопады. А краски-то, краски! Никакому художнику не снилось. А как выбран пейзаж, как снято! Загляденье! Но это фотография, хотя и замечательная фотография. Живопись в ней и не ночевала. Я и в детстве такой живописи не понимал. Живопись – не внешний мир, а внутренний, «вещь в себе», недоступная никакой философии и уж тем более фотографическому аппарату. – А как вы относитесь к импрессионизму и кубизму? – Они мне так же чужды, как и реализм советских художников. Когда я смотрю на ухищрения кубистов, я думаю: «Ешьте сами ваши квадратные груши, садитесь сами за ваши треугольные столы!» Искусство для меня – это прежде всего душевное состояние. Всякая же душа свята, душа каждого человека, в какой бы части света он ни находился. Свободно одно лишь честное сердце, у него свой ум и своя логика. Помните Паскаля? Уже примитивное искусство обладало таким техническим совершенством, к которому, жонглируя и ковыляя, еле-еле подходят современные художники. Весь этот формальный багаж мне представляется богато облаченным римским папой, стоящим около полуголого Христа, или расписанной сверху донизу церковью 3 молитвы в чистом поле… Меня называют фантазером. Почему? Напротив, я реалист. Я люблю землю… Шагал задумывается. На букет сирени падает луч заходящего солнца. Я, наконец, рискую задать давно подготовленный вопрос: – Марк Захарович, один из старейших советских живописцев, К. Юон, сформулировал, по его собственным словам, «отличительные черты, характеризующие искусство социалистического реализма»112. Мне бы хотелось спросить, что вы думаете о некоторых из этих формулировок. Первая из них гласит: «Полное единство содержания и вытекающей из него художественной формы». – Прежде всего, неправильно сформулировано: сначала краски, красочный образ. В Евангелии сказано: «В начале бе Слово…» Когда появляется это слово, или эти краски, то все остальное уже прилагается, творится само собой. Творческий акт бессознателен, он безумен. Творчество есть безумие. «Единство содержания и формы» хорошо для автомобиля или самолета. Искусство не техника. Я никогда не думал, что технические тенденции в искусстве могут привести к чему-нибудь путному. – Во второй говорится о «волевом характере советской художественной культуры». – Это просто глупо. Я не отрицаю наличия волевого момента в советской живописи. Он там налицо. Но он-то и привел ее к антихудожественным результатам. Волевой момент проявляется в красках, таится в их природе. Когда художник творит, он творит всем своим существом, а не только волей. Воля же воплощается в красках, а совсем не в том, о чем думают советские теоретики. – В третьей настаивается на «изжитии противоречий между художником и зрителем». – Подлинное творчество всегда таково, таковы же и подлинные слова, и подлинные краски. Прежде всего художник не должен «мудрствовать лукаво», не думать, а творить. Тогда его творчество будет всем доступно и понятно. Советские художники жестоко ошибаются, когда считают, что именно их картины, картины «социалистического реализма», всем доступны и понятны. Повторяю, они доступны и понятны, но только как грубая копия внешней природы, как слабое подражание цветной фотографии. Но как художественное произведение, как то, что раскрывает сущность человеческой души и с нею всей нашей эпохи, они никому не понятны, никому ничего не говорят и не дают. – Четвертая подчеркивает «содержание и идейность, составляющие как изначальный момент творческого труда, так и его конечную цель». – Я ровно ничего в этом не понимаю: я максималист. Для меня искусство это все, и содержательность, и идейность, и начало, и конец. Повторяю – творчество это безумие. Творчество это вечная революция. Ленин перевернул вверх ногами Россию, я переворачиваю вверх ногами мои картины… Это, во-первых, а во-вторых, – идея, проводимая в философском труде, и идея, воплощающаяся в произведении искусства, два совершенно разных понятия. Боюсь, что Юон их спутал или, вернее, их не различает. – В одиннадцатой требуется «простота и доходчивость языка искусства». – Об этом уже заботился Курбе. Он в свое время уже проповедовал социалистический реализм. Но что из этого получилось? Доходчивость и простота осуществляются отнюдь не потому, что этого требует та или иная школа, но вопреки этому требованию. Не думаю, чтобы Рембрандт стремился к доходчивости своих картин. Вообще, требования исходят от самого искусства и от самого художника: «Ты сам свой высший суд»113. Золотое правило. Вспомните Пушкина: он оказался самым доходчивым из русских поэтов. А что он писал в «Черни»?
«Несносен мне твой ропот дерзкий,
Тебе бы пользы все! На вес
Кумир ты ценишь Бельведерский.
Ты пользы, пользы в нем не зришь.
Но мрамор сей есть бог!»114
Остановиться на мгновенье, Взглянуть на Сену и дома…
Померанцев К. Творчество и безумие. У Марка Шагала // Мосты (Мюнхен). 1960. № 4. С. 143–148. Перепечат.: Померанцев К. Сквозь смерть. Воспоминания. Лондон, 1986. С. 161–169; Диалог (М.). 1991. № 18. С. 82–85; Шагаловский ежегодник 2003. С. 76–82.
29. Выступление М. Шагала в Государственной Третьяковской галерее. 5 июня 1973 г
Я благодарен Вам сердечно за приглашение сюда на мою родину после 50 лет и в этой Третьяковской галлерее, где Вы выставляете некоторые мои картины. Вы не видите на моих глазах слез, ибо, как это ни странно, – я вдали душевно жил с моей родиной и родиной моих предков. Я был душевно здесь всегда. Но я, как дерево с родины, висел как бы в воздухе. Но все же рос… В конце концов это вечная проблема краски или «химии», как я часто говорю… Кроме далекой Азии и Африки, художники Европы и Америки влеклись то в Рим, то позже в Париж. Мальчиком в моей душе, может быть, была некая краска, которая мечтала о какой-то особой синеве. И мой инстинкт меня влек туда, где как бы шлифуется эта краска. Так же как когда-то ехали русские художники Брюллов[22] и Иванов в Рим – так некоторые молодые ехали позже в Париж. Я не буду распространяться сейчас обо всех этих тонких проблемах. Можно обо мне сказать все что угодно – большой или я не большой художник, но я остался верным моим родителям из Витебска красочно, а что такое краска, вот вопрос. Краска – это сама кровь тела, как поэзия у поэта. Вам всем известно что такое любовь… Краска сам[а] по себе и есть эта знаменитая любовь, которая рождает иногда Mozarta, Мазаччо[23], Тициана и Рембрандта[24]. Я хочу каждому из Вас сегодня пожать руку. Я люблю говорить о Любви, ибо я без ума от известной прирожденной краски, которая видна в глазах людей и на картинах. И надо только видеть особыми глазами – как будто только что родился.ОР ГТГ. Ф. 4. Ед. хр. 1589. Л. 1–4. Автограф. На л. 1 вверху рукой Шагала надпись: 5 / 6 1973 Москва Третьяковская галерея. на л. 3 подпись: Марк Шагал. на л. 4 рукой директора ГТГ П.И. Лебедева надпись: т. Приймак Н.Л. Вместе с альбомом фотографий о пребыван[ии] Шагала в Тр[етьяковской] гал[ерее] включить в архив Шагала. П. Лебедев. 11 / VI 73. Опубл.: Брук Я. Два неизданных автографа Шагала // Третьяковская галерея. Специальный выпуск журнала. М., 2005. С. 37. Копии находятся: ОР ГТГ. Ф. 4. Ед. хр. 2092. Л. 33 (машинопись); РГАЛИ. Ф. 2788 (личный фонд Ф.Г. Раневской). Оп. 1. Ед. хр. 612. Л. 1–2 (рукописная и машинопись); на оборотах обеих копий рукой Ф.Г. Раневской надписи – на л. 1: Из Третьяковки получено. Узнали, что я потрясена была Шагалом гением его; на л. 2: Письмо Марка Шагала – прислали мне сотрудники Третьяковки. Текст выступления (машинопись), подписанный Шагалом, находится в собрании семьи Каменских: см. Каменский Д. Я был душевно здесь всегда… // Новый мир (М.) 1987. № 8. С. 246; Kamenski 1988. P. 362 (воспр.).


 Выступление Марка Шагала в Государственной Третьяковской галерее. 5 июня 1973. Автограф
Выступление Марка Шагала в Государственной Третьяковской галерее. 5 июня 1973. Автограф
 Марк Шагал и министр культуры СССР Е.А. Фурцева на открытии выставки в Третьяковской галерее. 5 июня 1973. Лист из альбома с автографом Шагала. ГТГ
Марк Шагал и министр культуры СССР Е.А. Фурцева на открытии выставки в Третьяковской галерее. 5 июня 1973. Лист из альбома с автографом Шагала. ГТГ
 Марк Шагал в Третьяковской галерее. Июнь, 1973
Марк Шагал в Третьяковской галерее. Июнь, 1973
30. Беседа Марка Шагала с Александром Каменским
10 июня 1973 года Гостиница «Россия», № 503, 15 этаж Северной стороны.Перед началом беседы М.З. Шагала с А.А. Каменским несколько вопросов художнику задал искусствовед Ю.А. Молок (затем он ушел). Молока интересовала история создания М.З. Шагалом гравюр-иллюстраций к «Мертвым душам» Н.В. Гоголя. Шагал заметил, что он не всегда может точно вспомнить даты создания своих вещей, ведь он работает уже почти семь десятилетий, а число его произведений сейчас, наверное, уже просто невозможно установить. Но историю работы над гоголевским циклом помнит хорошо. Она началась вскоре после его второго приезда в Париж в 1923 году. Амбруаз Воллар предложил Шагалу проиллюстрировать любую по его выбору книгу. Шагал, не колеблясь, избрал «Мертвые души», ибо в этой книге, по его глубокому убеждению, – вся Россия. Над циклом иллюстраций к «Мертвым душам» художник работал несколько лет (1923–1927), делал перерывы. Серия увидела свет в качестве иллюстраций лишь в 1948 году (издательство «Териад»). Поначалу цикл был встречен критикой холодно, но впоследствии его оценили. По ходу рассказа о «Мертвых душах» Шагал замечает, что сведения, сообщаемые о нем в книге Андре Сальмона116, не всегда точны и требуют внимательной проверки. «Мертвые души» – не первый иллюстрационный цикл Шагала. Он иллюстрировал до этого сочинения Ицхака Переца117, Филиппа Супо118, Давида Гофштейна119, некоторые другие книги. Но – рисунками. Гравюра впервые появилась в творчестве Шагала при оформлении его собственной книги «Моя жизнь» (издательство Кассирера в Берлине [выпустило лишь папку с офортами)120, а затем при работе над оформлением «Мертвых душ». Технике гравюры Шагал учился у Германа Штрука в Берлине. Впоследствии гравюру и офорт он употребляет часто и для разных целей, в том числе и для станковых жанров. Как правило, делает предварительные наброски.
 Марк Шагал, Александр Каменский (справа) и Юрий Молок. Москва, 10 июня 1973
Марк Шагал, Александр Каменский (справа) и Юрий Молок. Москва, 10 июня 1973
За «Мертвыми душами» последовали иллюстрированные гравюрами «Басни» Лафонтена, «Дафнис и Хлоя», «Цирк» (текст художника) и другие издания. Самой грандиозной была серия иллюстраций к Библии. Сейчас мастер занят иллюстрациями к «Одиссее» Гомера. Шагал упоминает, что сейчас он пишет вторую часть автобиографической книги «Моя жизнь»121. Как и первую часть, он пишет ее по-русски. Художник очень сожалеет, что эта книга не издана на русском языке, ибо ее переводы на иные языки, возможно, далеки от совершенства. Художник знает, что в России ходит по рукам русский вариант его автобиографической книги, но это не оригинал, а обратный перевод с французского или немецкого. «Как жаль!» – восклицает Шагал. Затем начинается беседа с А.А. Каменским. Каменский. Марк Захарович, вы прожили такую большую жизнь, так много видели и узнали, так много создали, что искусствовед может забросать вас вопросами, на которые и за целую неделю не ответишь. Между тем, я понимаю, что ваше время для беседы со мной ограничено. Поэтому я хотел бы спросить вас только о том, что нахожу сейчас особенно важным и остроактуальным для нашей аудитории. Шагал. Разве вы хотите получить у меня интервью? Из нашей с вами переписки я составил представление, что вы – историк искусства, интересуетесь проблемами художественного творчества и хотите написать статью или какое-то другое сочинение. К. Именно так. Но вместе с тем я очень хотел бы выступить в нашей периодической печати в связи с вашим приездом в Москву и выставкой ваших работ в Третьяковской галерее. Ш. От души желаю вам успеха. Напишите все, что вы сами думаете обо мне, о моей выставке, о моих произведениях. Я не люблю давать интервью. Если я (очень редко) хочу высказаться, то, за редкими исключениями, пишу сам. А критик пусть опирается на собственные мнения. Вот я вижу, что вы захватили с собой книги Эфроса, Тугендхольда, Мейера, Леймари. Все они написаны более или менее давно, вы, вероятно, хотите добавить к этим сочинениям что-то новое, свое, иначе зачем же писать. К. Вы совершенно правы. А нашу беседу не будем считать за интервью. Ведь я просто хотел бы узнать, во-первых, ваши взгляды на некоторые проблемы художественной (да и не только художественной) жизни нашего века, а, во-вторых, проверить правоту и справедливость своих суждений о вашей творческой личности и вашем искусстве – с тем, чтобы затем использовать все это в своих статьях и книгах. Ш. Я не могу утверждать, что вы правы или не правы. Я могу лишь сказать, согласен я или нет. К. Пусть так… Марк Захарович, вы были современником нескольких войн и революций, вы жили в мире, который сотрясали трагедии и катастрофы, который видел Гитлера и Муссолини, переживал Хиросиму, Бабий Яр, Освенцим. Ваша собственная жизнь сложилась очень нелегко, очень сложно: сколько лет вы находитесь вдалеке от земли, где родились и прожили тридцать пять лет своей молодости, скольких близких людей вы потеряли… ваши произведения сжигались на аутодафе в Мангейме – этим гнусным зрелищем руководил Йозеф Геббельс, который охотно сжег бы вас самого вместе с вашими произведениями. И все-таки, несмотря на все перенесенные вами в жизни драмы и страдания, ваши работы всегда пронизывает ощущение красоты и счастья бытия. Вы часто показываете мир странный, алогичный, парадоксальный, у вас встречаются трагические сюжеты – распятия, мученичество, навязчиво-печальные и гнетущие видения. Но и в этих случаях ваши работы своей живописью, формой, художественной материей, что ли, с величайшим душевным напором утверждают: мир прекрасен несмотря ни на что, ему изначально свойственно и присуще быть прекрасным, а ужасное и безобразное – это искажение и извращение самой органической природы мироздания. Правильно ли я вас понимаю? Ш. Это не вопрос, а высказывание. Целая речь. Я выслушал ее с интересом. В чем-то главном и существенном вы, очевидно, правы. Но вы говорите как искусствовед. Очень горячо говорите. Я как-то тоже вспыхиваю, когда у меня в руке кисть или карандаш. И при этом что-то мне подсказывает ощущение своей некоей правоты. Но в разговоре и на людях мне труднее быть до конца самим собой. Все же скажу, что вряд ли мир сам по себе такой-то или такой-то. Он прекрасен, если его любишь. Я люблю любовь. Что бы я ни изображал, это о любви и о нашей судьбе. Любовь помогает мне найти краску. Можно даже сказать, что она сама находит краску, а я только наношу ее на холст. Она сильнее меня самого и идет от души. Так я вижу жизнь. И прекрасное, и страшное. И странное тоже. Может быть, поэтому и странное, что видишь жизнь глазами любви. Гитлер, Освенцим… Да, да, это было, и это страшно. Это прошлое, но человеку и сейчас угрожает многое. У него хотят отнять любовь. Но она всегда оставалась, оставалась и ее краска. Про это мое искусство. С самых ранних лет, с юности. Это во мне заложено, это сильнее меня самого. К. Простите, вы употребляете слово «краска» не в техническом смысле и даже не только в эстетическом, а в каком-то более широком, более сложном и масштабном значении. Для вас это какое-то особое понятие? Ш. Конечно. В общем, краска – это чистота. Краски – это и есть искусство. Вообще искусство, причем хорошее, чистое искусство. Или главная его интонация. К. Вы сказали – и это прозвучало как символ веры – «я люблю любовь». Это и есть «главная интонация», «краска» вашего искусства? Ш. Может быть. Но надо, вероятно, родиться с этой краской. Я безгранично люблю свой родной Витебск не просто потому, что я там родился, но прежде всего за то, что там я на всю жизнь обрел краску своего искусства. Вы знаете, я после долгих колебаний отказался сейчас ехать в Витебск, хотя вспоминаю о нем всю жизнь. Потому и отказался, что вспоминаю. Ведь там, наверное, я увидел бы иную обстановку, чем та, которую я помню, иную жизнь. Это было бы для меня тяжким ударом. Как тяжко навсегда расставаться со своим прошлым! Да, с краской надо родиться. Ведь краска – это еще и качество. К. Качество в одном из оттенков французского «qualité»? То есть достоинство, ценность, хорошее качество? Ш. Ну так, хотя этим не все еще сказано. Слово всегда богаче термина. К. Марк Захарович, как бы сложно ни развивалось ваше искусство, Вы всегда ценили многие старые традиции живописи, всегда стремились, как многократно уже говорили, любить любовь. В XX веке такие привязанности далеко не все ценили и уважали. И все же вас, по сути дела, не пытались отбрасывать с авансцены художественной жизни, вас признавали и такие критики, теоретики, художники, которые яростно атаковали всякую лирическую поэзию и тем более старые традиции. Как, на ваш взгляд, объяснить такое противоречие? Ш. Объяснить его можно только тем, что его не было вовсе. Как это вы говорите, что меня не пытались отбрасывать? Пытались, и не раз. Вы же сами вспоминали про нацистов и костер в Мангейме. Но столкновения у меня были и в кругу художников. Например, в начале 1920-х годов я был вынужден уехать из Витебска после того, как приглашенные мною в качестве профессоров в основанную мной академию Казимир Малевич и его единомышленники вступили со мной в резкую и нетерпимую полемику. Вот я вижу, вы принесли с собой «Профили» Эфроса – там об этом рассказано. [Впоследствии я отыскал то место в «Профилях», которое имел в виду Шагал. Эфрос писал: «Малевич <…> обвинял Шагала в умеренности, в том, что он <…> все еще возится сизображением каких-то вещей и фигур, тогда как подлинно революционное искусство беспредметно» (Эфрос А. Профили. М., 1930. С. 200). – А.К.]. Ш. Еще раньше, в 1911–1913 годах, в Париже на меня нападали Делоне и Метценже (что, впрочем, совсем не мешало мне дружить с ними). Они обвиняли меня в литературности, «c’est la littérature», говорили они про мои картины. И они, и другие говорили, что я принадлежу прошлому, что меня скоро позабудут и так далее. И позже я слышал не раз нечто подобное. К. Однако вы не опасались выглядеть старомодным и, может быть, одиноким. Ш. Одиноким я себя никогда не чувствовал. Может быть, не было похожих, но были близкие по духу, по краске. К. Я имею в виду европейское искусство последних десятилетий. Ш. Ну и что же. И в нем были такие мастера, как, например, Матисс, Брак, Хуан Грис. К. Теперь они тоже выглядят одиночками. А вместе с тем в Европе последних десятилетий было так много художников, которые изображали мир пустым, злым, жестоким. А также бездуховным, что противоречит самой сокровенной сути вашего искусства. Ш. Я тоже часто видел жестокость и зло в мире. Я хотел только, как мог, победить их. Можно ли осуждать тех, кому это не удавалось? Тем более что я вовсе не уверен, что мне самому это удалось. Я вообще никому не хотел бы себя противопоставлять. К. Стало быть, вы находите обоснованным, что в различных книгах и статьях вас порой рассматривают однопланово и одновременно с художниками, решительно не сходными с Вами по духу?
 Марк Шагал. Москва, июнь 1973
Марк Шагал. Москва, июнь 1973
Ш. А может быть, тут дело выглядит сложнее? Может быть, те, кто предпочитает мои вещи, любят в других то, что как-то сродни мне, что имеет близкую краску, качество, сходную «химию»? К. И в абстракционизме? Ш. В абстракционизме тоже есть иногда какая-то своя чистота. Например, в некоторых вещах Мондриана и Пауля Клее. К. Вы не считаете, что вы и, скажем, Мондриан принадлежите к разным направлениям в искусстве? Ш. Направления! Есть художники, и только. Направления – это скорее теоретические понятия. Большие художники – это те мастера, которые разрывают рамки направлений, оказываются выше их, не скованы правилами и нормами направлений. В рамках направлений полностью умещаются только посредственности. А иногда приверженность к системам стилей мешает и крупным мастерам. Курбе и Делакруа остро спорили между собой. Делакруа корил Курбе за натурализм формы и незначительность замысла некоторых его картин – перечитайте дневник Делакруа. В спорах словесного рода он, Делакруа, пожалуй, побеждал – он был талантливым литератором и незаурядным мыслителем. Но когда спорят между собой не высказывания, а краски, то верх, пожалуй, берет Курбе. У него больше силы, напора, цвета. Делакруа слишком поддавался направлению, и в его картинах встречаются легковесность, нарочитые эффекты в духе традиционного романтизма. Эти эффекты обедняли его индивидуальность, тянули к общим местам; «направление» подчиняло себе личность художника и мельчило ее. Направление, как и мода, мешает тому, чтобы верно, без предвзятости оценить работу художников. Вспоминаю, как кое-кто иронизировал, когда лет 25 назад я говорил о том, что высоко ценю краски Клода Моне. Это были годы «отката» вкусов от импрессионизма в сторону иных стилевых систем. Потом вдруг Моне стали превозносить, но главным образом как предтечу абстракционизма, хотя он, с его бесконечной любовью к впечатлениям от реальной натуры, никогда им не был, как мне кажется. Но не в этом дело. Ведь разве достоинства Клода Моне тем определяются, что он принадлежал к той или иной школе? Просто он замечательный мастер, у него самое острое чутье краски. И не все ли равно, каким словечком называть стилевую манеру художника? Раз он хорош – поймите, чем именно, в чем его сила, его краска. К. Быть может, без понимания и пусть самой общей классификации направлений будет трудно построить историю искусства, она может лишиться четкой структуры. Но оставим этот спор для искусствоведов. А вот раз уже зашел разговор о направлениях, то скажите пожалуйста, Марк Захарович, как вы относитесь к тому, что вас очень часто называют одним из основателей и виднейших представителей сюрреализма? Даже его классиком? Ш. Прежде всего оставим в стороне слово «классик». Это громкое звание, его может присудить только время. Сюрреализм? Вам обязательно нужна какая-то этикетка? Не знаю. Сам я никогда не понимал, что имеют в виду, когда меня называли сюрреалистом, и слова этого не люблю. Я действительно хотел отойти от приземленности, от некоей внешней манеры, от простого пересказа видимого в жизни. Я хотел строить свои работы при помощи духовных, психических элементов, воплощенных в краску. То, что при этом получалось, раздражало приверженцев салона и старого жанра. Но и с другой стороны слышались нападки. Я же говорил, что меня обвиняли в литературности. Этого обвинения я, кстати сказать, совершенно не опасаюсь. Ну, литературность, и что же? Еще одно словечко. Была бы духовность, была бы краска. И поэзия, высшим образцом поэтичности я считаю Библию. Я ее перечитываю без конца. Это, на мой взгляд, высший взлет поэтического гения за всю историю человечества. К. Вся Библия? Ветхий и Новый Заветы в равной мере? Ш. Конечно, вся. Оба завета нераздельны. Но они не равнозначны. Новый Завет создан позднее, у него одна тематическая линия. У Ветхого Завета более древние краски и какое-то первозданное могущество фантазии. Кстати сказать, через несколько недель, 7 июля нынешнего года в Ницце открывается музей моих работ, целиком посвященных библейской тематике. Музей называется «Messages Bibliques Chagall» – «Библейские послания Шагала». Я подарил музею что-то около четырехсот моих произведений разных жанров на библейскую тематику. Кроме того, я делал витражи для действующих церквей в разных странах. Это всегда поэтические фантазии, поиски духовных и нравственных истин. Подобными целями определяется все в этих произведениях, даже такие вещи, как декоративное решение, орнамент, цвет. Я не люблю сухих графических форм, я добиваюсь текучего, динамического колорита, психической духовной краски. К. Ну а как же все-таки с сюрреализмом? Ш. Но ведь я уже все сказал по этому поводу. Я слово это слышал десятки раз, но, признаться, не особенно задумывался над его значением. Оно мне просто безразлично. Если уж говорить об искусстве, то надо делать это конкретно, а не отвлеченными понятиями. Конечно, и я, и мои современники, хуже или лучше они работают, говорим на каком-то другом языке, чем в прошлые эпохи. И реальность нашего времени другая. Наверное, чтобы правильно ее увидеть, надо найти какие-то особые точки зрения и какие-то особые краски. Каждый решает такие проблемы по-своему. Я не считаю себя принадлежащим к какому-либо направлению. Мое дело – краска, чистота, любовь. Ничего иного мне не надо. Но это не направление, а убеждение. К. Вы часто показываете алогичность многих событий или, точнее сказать, их отклонение от обычной, одномерной логики. Ш. Может быть. Но причем тут направление? Художник так или иначе чувствует жизнь, воспринимает мир. Это художническая, поэтическая логика. К. И время в ваших картинах чаще всего не обычно текущее, а условно-поэтическое. Ш. В искусстве любого времени оно условно-поэтическое. К. Но в прошлом веке чаще всего изображали то, что как бы на глазах происходит. Ш. Во-первых, не всегда, а во-вторых были еще более ранние примеры. К. Да, это так, ваши картины у меня порождали иногда очень далекие ассоциации. У вас есть полотно, которое называется «Разделанная туша»122 и имеет несколько вариантов. Там голова туши, висящей на крюке, как бы оживает и пьет воду из бочонка! Глядя на эту картину, я вдруг вспомнил диалог у Лукиана, где один собеседник говорит другому, что для него вовсе не удивительно, когда он слышит, как мычит мясо быков, наполовину уже изжаренное и вздетое на вертеле. Очень сходное ощущение динамики жизни! Ш. Ну, это случайное совпадение. Хотя Лукиана я люблю и не раз его читал. И я мечтал бы достигать такого единства, такой естественности ощущения мира, которое было у античных авторов. Это же мечта многих современников, но, наверное, неосуществимая мечта. Видеть мир целостным и нераздельным, видеть его сразу, его разные качества, его начала и концы – это так захватывает, это такая чистота! Между прочим, она была в русской иконе. Я ее люблю и многим ей обязан. Иконописцы – поэты, у которых краска показывала сразу всю жизнь, всю вселенную. Их искусство было насквозь духовно, оно не знало пристрастия к приему, которое уничтожает чистоту. Время. Я всегда хотел угадать тайну времени, уловить его магию. Еще довольно давно, когда я начал изображать человека и его воспоминания, его размышления как что-то одновременно существующее и видимое, мои картины иногда считали чудачеством. Но ведь это время человека, каков он есть на самом деле. Разве память – это не формы времени? А память всегда с человеком, его прошлое всегда с ним. И его мысли. Это как бы одно существо. И я его изображаю. Это помогает мне понять человека. Циферблат поэтического времени жизни человека я впервые изобразил еще в начале 1910-х годов в картине «В честь Аполлинера»123. Аполлинер был моим другом. Так же, как и Блез Сандрар. Оба они в своих стихотворениях писали о моих картинах и помню, что сам я стал понимать самого себя с их помощью. А о времени, о поэтическом времени написал позже в связи с моими картинами Поль Элюар124 в трехчастном стихотворении, которое кончается словами «Notre naissance est perpétuelle» («Мы вечно рождаемся»). И верно, мы же постоянно обновляемся, каждый день в чем-то начинает новую жизнь. Каждый день приносит и новые надежды. 7 июля мне исполнится 86 лет. Еще многое я хотел бы успеть. К. В таком чувстве времени, о котором вы говорите, есть еще и условность зрелища, которое может как угодно уплотнять и расширять время. Мне вообще ваше искусство кажется очень зрелищным – в том смысле, что в каждой из ваших работ жизнь предстает как некая арена сценического действия, а нередко – как мистерия. Ш. Может быть. Но я не хотел бы быть театральным. Я очень люблю театр, я работал в нем целые годы. Но одно дело театр, другое – театральность. Театральность – это искусственность, это утрата чистоты. Часто это можно было видеть в начале века. Да и сейчас тоже. Да, но театр я очень люблю. И цирк. Цирк – это великое искусство. Быть хорошим клоуном – это страшно трудно. Для этого надо быть и артистом, и художником, и философом. Нигде так замечательно, так естественно не соединяются эксцентричность и наивная простота, как в цирке, вы говорите, что мои картины напоминают Вам театр. Но уж если так сравнивать, то, наверное, цирк они напоминают больше. Не всегда, конечно, и не в прямом смысле слова, но по приему, по поискам краски и чистоты. К. Вы упомянули сейчас о своей работе в театре. Вам по душе работа и в других видах и жанрах нестанкового характера. Ш. Да-да, конечно. Я делал витражи, мозаики, плафон в Гранд-опера, настенные росписи, керамику и другое. К. Тем ценнее ваше мнение насчет того, что разные виды и формы художественной работы в ансамблях и прикладных жанрах постепенно вообще вытеснят станковое искусство, которое, якобы, обречено на вымирание. Ш. Вздор. Станковая картина или рисунок – это как симфония, роман, сонет. Это вечные формы, которые отвечают самым глубоким интересам души. И зачем вообще противопоставлять картины или офорты другим формам работы художников? Для меня между полотном и, скажем, витражом или плафоном разница чисто техническая и пространственная. Но как художник я один и тот же всегда, над чем бы и с помощью каких бы материалов ни работал. Впрочем, психическая разница тут есть. В плафоне или витраже больше декоративных моментов. Станковые вещи предназначены для глубокого созерцания и размышления. В этом смысле ничто не может их заменить. Вот почему они совсем не случайно появились на белый свет и ничто не может ни заменить, ни отменить их. К. Но, может быть, как-то меняется их эстетическая и психологическая функция? Ведь нельзя же не признать, что с течением времени меняются и по-новому складываются цивилизация, окружение людей, материальная среда, все то, что как-то создает и определяет наше восприятие и видение мира? Ш. Ну и что же? И раньше многое менялось. Разве перемены – это достояние только современности? Их всегда было много. Но великие мастера и великие жанры оставались душевно близкими людям после любых перемен. Если представить себе такие перемены, то Рембрандту не окажется места в получившейся обстановке, – так это отвратительные перемены и ужасная обстановка. К. Вы очень любите Рембрандта? Ш. Очень. Наверное, это мой самый любимый художник во всей истории искусства, хотя я люблю многих и очень разных мастеров, в том числе и русских. К. Марк Захарович, но, возвращаясь к тому, о чем шла речь, ведь меняются не только дома и платья, облик городов и пластика улиц. Меняются и чувства. Вот и в вашем искусстве, Марк Захарович, так много любовных сюжетов – я говорю о любви не в широко философском смысле слова, а о самой обычной человеческой любви. Говорят, что сейчас и в ней многое меняется, что на нее как бы ложатся рефлексы от красок века. Как вы воспринимаете такие суждения? Ш. Пусть любят как хотят. Нелепо тут устанавливать правила. Тем более человеку, которому вот-вот стукнет 86 лет. Я только об одном в этой связи думаю. Любой человек, даже если он в жизни не брал в руки кисть или карандаш, не написал ни одной стихотворной строчки, в любви – художник. Будет горько, если сникнет и ослабеет художественное начало в любви. Люди сами себя обворуют. Поблекнет и тонкость и сила любви. Все может огрубеть. Это было бы печально. Искусство должно помочь любви. Они родственно связаны между собой. Искусство может противостоять грубости и бездуховности в любви. И той нарочитости, театральности, о которой я говорил – она бывает и у плохих художников, и у людей, не умеющих или разучившихся любить. К. А искусство любить искусство? Оно не ослабевает, как вы думаете? Ш. Оно не может ослабеть, ибо это коренная человеческая потребность. Но зрителя можно сбить с толку, привить ему дурные и глупые вкусы. Словом, восприятие искусства может быть извращено, и это, к сожалению, нередко приходится наблюдать в нашу эпоху. К слову сказать, критика в этом смысле может сыграть и полезную, и самую роковую роль. К. А как, к слову сказать, помогали понять и оценить ваше искусство критики? Они помогали вам лично? Кого из критиков вы особенно цените? Ш. Обо мне писали много. Были и хулители, и очень туманные авторы, но есть и серьезная критика. Я, правда, не все знаю, что обо мне писали. В библиографии, которая напечатана в книге Франца Мейера125 обо мне, насчитываются сотни названий разных книг, альбомов, статей. Я читал далеко не все, иных даже не видел. Мне давно уже гораздо интереснее читать о других, чем о самом себе. Я ценю те книги и статьи, которые написали Тугендхольд, Эфрос, Бенуа, Лионелло Вентури126, Мейер. К. Абрам Маркович Эфрос, кажется, был не только вашим биографом, но и помог в вашей деятельности. Ш. Об Эфросе я вспоминаю с особым уважением и благодарностью. Он написал обо мне один из первых, очень ярко и художественно. И действительно он мне помог в трудные годы, когда я уехал из Витебска в Москву. Эфрос пригласил меня работать в Камерный Еврейский театр Грановского, где был заведующим литературной частью и вообще много значил. Кстати, в Третьяковской галерее мне показали панно, висевшие когда-то в здании театра Грановского, который находился в Большом Чернышевском переулке. Панно сохранились. Если когда-нибудь будет возможность разместить их в отдельном зале, то это надо сделать в такой последовательности: я начертил план [показывает набросок возможной экспозиции]. К. Мне рассказывали, что до Третьяковской галереи вы побывали в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. А его экспозиция Вам понравилась? Ш. Очень. И экспозиция, и вообще весь музей. В Третьяковской галерее я любовался известными мне вещами, особенно на этот раз меня растрогал Левитан. А в музее Пушкина мне все было как-то внове. Великолепная коллекция, замечательные вещи Рембрандта, импрессионистов, Матисса. Все в превосходном состоянии. В этом музее очень хороший воздух. К. Световая среда? Ш. Не только. Освещение там действительно отличное, очень естественное. И в экспозиции все как-то просто, нет бьющих в глаза эффектов, которыми часто щеголяют в больших музеях и которые только мешают восприятию, душевному родству с художником, с его краской. Но вообще там хороший воздух искусства, в этом музее. К. Руководители музея имени Пушкина счастливы, что вы подарили ему цикл своих литографий, преимущественно многоцветных127. Я их внимательно рассматривал – на мой взгляд, они блистательны по форме и при этом очень сердечны, а не только виртуозно-артистичны. Насколько я знаю, этот музей хотел бы устроить большую выставку ваших работ, собрав их из коллекций разных стран мира. Ш. Да, мне об этом сказали. Что же, это было бы великолепно, если бы такая идея осуществилась. Меня здесь очень хорошо, очень тепло встречают, но не скрою, у меня такое впечатление, что меня, мои работы здесь просто позабыли, мало и плохо их знают. Такая выставка исправила бы это128. К. Кроме того, дирекция музея хотела бы, чтобы ваши произведения висели где-нибудь по соседству с Матиссом и другими прославленными мастерами. Но у музея нет ваших картин. Ш. Это не простой вопрос. Какие именно произведения? Было бы странно, если бы картины, которые я написал в России, висели бы рядом с Матиссом или кем-нибудь еще из западных художников. Такие картины со всех точек зрения должны находиться в музеях русского искусства, искусства России начала XX века. К. А более поздние ваши произведения? И вообще, нельзя же представить себе европейское искусство XX века, взятое в целом, без Шагала! Получилась бы нарочито обедненная картина, важное звено выпало бы из цепи исторического развития. Ш. Вы рассуждаете как искусствовед и на такие темы, которые должны решать искусствоведы. Я только хочу сказать, что всегда чувствовал себя художником из России. Когда в 1922 году я оказался за рубежом, то почувствовал себя деревом с вырванными корнями, висящими в воздухе. Правда, я раньше, с 1910 по 1914 год жил в Париже129, но тогда у меня такого ощущения не возникало и не могло возникнуть, ибо я в любой день мог сесть в поезд и поехать на Родину, с которой был все время связан своими мыслями. В 1920-х годах я утратил возможность возвращения. Я испытывал тяжкие мучения. Я выжил и даже – если сравнивать меня с деревом – не переставал расти только потому, что никогда не порывал духовной связи с Родиной. Я очень многим обязан Франции, где прожил более полувека, французской культуре, с которой я связан тысячами нитей. Во Франции ко мне были добры, меня поддерживали и чествовали. Но моя душа всегда впитывала соки из русских воспоминаний, из русского воздуха. Я очень благодарен всем, кто помог мне в мои 86 лет побывать в России, увидеть Москву, свои работы в Третьяковской галерее. Я долгие годы мечтал об этом и счастлив, что моя мечта осуществилась.
Каменский А. «Краска, чистота, любовь…» [Публ. беседы с фр. художником М.З. Шагалом от 1973 г. / Записал А.А. Каменский] // Огонек (М.). 1987. № 27. С. 24–25 (в сокр.); Каменский 2005. С. 285–291. Печат. по: Каменский 2005.
31. Н. Мар. Марк Шагал: «Мне здесь очень понравилось…»
По приглашению Министерства культуры СССР в Советском Союзе гостил известный современный художник Марк Шагал. Он родился в 1887 году в городе Витебске, а с 1923 года живет и работает во Франции. В Москве в Третьяковской галерее была открыта выставка литографий Марка Шагала. В ее экспозиции демонстрировались работы, переданные художником в последние годы в дар Советскому Союзу. Когда спустя полвека человек вновь встречается со своей юностью, и себе, и другим он кажется очень помолодевшим. Так, по-моему, случилось с Марком Шагалом, который только что гостил в Советском Союзе.– Какие впечатления вы увозите с собой, Марк Захарович? – спрашиваю художника. – Их много. Даже не знаю, с чего начать. Прежде всего – мне очень понравилось здесь, в Советском Союзе, меня порадовало, что после ужасов и разрушений страшной минувшей войны в Советском Союзе все восстановлено. Так энергично все отстроено, так много здесь строится вообще – это просто фантастика! Я вижу, что советские люди много, упорно работают и хорошо, с удовольствием живут… Да, да, все делают с размахом и живут, как надо.
– Где вы успели побывать за эту неделю? – В Москве и в Ленинграде. Мы пробыли здесь мало времени, но многое увидели. Разумеется, мы были в Кремле и ощутили, как гордится народ своей историей. Мы были в Третьяковке и поняли, с какой громадной любовью здесь относятся к искусству, сколь щедро и в этом Советское государство. Мы были в Большом театре и здесь ощутили эту любовь. Люди, которые умеют так плодотворно трудиться, так интересно жить и так относиться к искусству, – признаться, все это было для меня открытием в Москве, в которой я не был более пятидесяти лет.
 Марк Шагал на Красной площади. Москва, июнь 1973
Марк Шагал на Красной площади. Москва, июнь 1973
Все здесь мне напоминает былое. Разве можно забыть Кремль, Большой театр, Третьяковку… А в Ленинграде я хотел разыскать здание Общества поощрения художеств. Было когда-то такое – до революции. Тогда в Академию художеств меня не приняли, наверное, за то, что я не мог хорошо рисовать коленки, а в это общество приняли130. И вот мы едем по Ленинграду, я прошу шофера подвезти меня на Морскую улицу. Приехали. Ищу, ищу, наконец, вижу знакомое здание, на дверях вывеска: «Союз художников». Открываю дверь и спрашиваю у пожилой консьержки: «Мадам, было ли здесь когда-то Общество поощрения художеств?» «Да, товарищ, конечно, было», – удивленно ответила она. Но я уже и сам вижу: вот она – моя лестница – здравствуй! Я встал на ступеньку и сфотографировался на память, ибо с этим зданием связано очень многое. Побывал я и в Академии художеств. И здесь меня окружили старые воспоминания. В академию, как я сказал, меня тогда не приняли, а сейчас нас пригласил директор, и я, немного поломавшись, расписался в почетной книге.
– А Эрмитаж, Русский музей… – Неужели вы на минуту могли подумать, что я забыл о них? Сколько мне лет сейчас? А-а, лучше не вспоминать об этом… Так вот, три часа, как говорится, не глядя на возраст, я с наслаждением шагал по Эрмитажу и столько же по Русскому музею. Взволнованно говорил художник о своем родном городе Витебске: – Скоро он будет отмечать тысячелетие со дня основания131, и, если позволите, я хотел бы через вашу уважаемую «Литературную газету» передать сердечный привет, мою любовь и самые добрые пожелания Витебску и моим землякам. Там, на бывшей Второй Покровской, а ныне на улице имени Дзержинского, я имел удовольствие родиться. Мне недавно из Витебска прислали фотографию этой улицы… Я решил отказаться от поездки в Витебск только потому, что, как говорят, сильное эмоциональное волнение опасно для людей моего возраста. Но все равно я всегда помню о Витебске и очень люблю его: у меня нет ни одной картины, на которой вы не увидите фрагменты моей Покровской улицы. Это, может быть, и недостаток, но отнюдь не с моей точки зрения. – В Советском Союзе, на моей родине, я побывал спустя полвека после разлуки, – продолжал Марк Шагал. – Полвека я живу и тружусь во Франции, где очень любят русских, советских людей, как и здесь, в Советском Союзе, сердечно относятся к французам. Мне приятно и радостно видеть, что сейчас, особенно в последние годы, узы дружбы двух великих народов – советского и французского – крепнут. Я очень рад и счастлив, что у этой дружбы большое будущее.
– Завтра вы, Марк Захарович, улетаете… – Да, дела ждут… К тому же 7 июля в Ницце открывается мой музей132, и я, несчастный (шучу, конечно!), должен присутствовать на этом торжестве. А потом? Надо еще немного поработать… Мне хочется еще два-три раза приехать в Москву и сделать десяток хороших картин, вдохновленных родиной.
Мар Н. Марк Шагал: «Мне здесь очень понравилось…» // Литературная газета (М.). 1973. № 25. 20 июня. С. 8.
32. Марк Шагал: «Все это есть в моих картинах»
Сегодня мы знакомим читателей с небольшой частью литературного наследия Марка Шагала. Это отрывок из интервью, взятого у художника Жаком Шанселем для радио и опубликованного в 1971 году в «Сборнике радиопередач», а также два фрагмента из статей, собранных в 1979 году издательством «Дрегер» в книге «М. Шагал. Художник и писатель».Неустанно работать
– Мало людей, к которым можно обратиться со словом «мэтр» без малейшего желания польстить, из уважения. Шагал, вы – один из таких людей. Ваше имя покрыто славой. – Зачем говорить о славе в связи со мной? Да, правительство Франции осыпало меня почестями, власти очень любезны со мной. Однако я сам живу в постоянном сомнении, оно съедает меня. Если обо мне хорошо отзываются, я быстро забываю об этом, если хорошо пишут, я, к несчастью, не очень верю. Но если кто-то бранит меня, я принимаю его слова всерьез… – Вы один из самых старых художников в мире… – Не будем говорить о возрасте. Я знаю, что стар. Очень стар. Я помню об этом. – Однако вы выглядите человеком, находящимся в полном здравии. – Я не пью, не объедаюсь. Не ложусь слишком поздно спать. Раньше я любил работать по вечерам, но это было давно, очень давно. Сейчас я стараюсь не возвращаться из мастерской поздно, моя жена рада, когда я прихожу пораньше. – Вы часто волнуетесь? – Все время. Мать рассказала мне, что когда я появился на свет, город охватил огромный пожар и чтобы нас с матерью спасти, кровать, в которой мы оба лежали, переносили с места на место. Может быть, поэтому я постоянно взволнован. Но в общем я человек веселый и часто улыбаюсь. Я люблю людей и стараюсь не жаловаться. Конечно, мне становится невесело, когда я, читая газеты, узнаю, что сегодня творится в мире. Но молодежь мне нравится. – Какая она, по-вашему, сегодня? – Я ей завидую. Правда, сегодня все молодые люди – спорщики, они готовы пререкаться по любому поводу. Но я тоже когда-то был спорщиком. Еще до войны 1914 года. Как и мои друзья Сандрар и Делоне. Мы даже носки носили разных цветов, один у меня был красным, другой, кажется, синим. Я надевал зеленую куртку и начинал спорить. Молодым людям я готов простить все, даже то, что мне кажется странным: они теряют время. В самом деле, молодость всегда вызывает симпатию. – Вам ближе люди, которые постоянно работают? – Да. Нужно работать, неустанно работать. Нельзя достигнуть идеала без работы. Для того чтобы создать произведение искусства, необходимо отдавать себя работе на все 100 процентов, даже больше. Если вы выкладываетесь на 90 процентов, значит, вы не талантливы. В любой профессии работать нужно на пределе, отдаваясь ей целиком. Не ради денег – ради качества. Качество придает смысл жизни. Насколько молодые люди были бы счастливее, если бы умели работать, работать по-настоящему. Думаю, что сегодня им не хватает именно этого. – Что вы думаете о современной эпохе? Вы с ней в согласии? – Я не люблю подобных вопросов. Мне нравится делать взбалмошные вещи, требующие фантазии, – писать картины, книги, поэмы. Сегодня же взбалмошность и фантазия выливаются в то, что один обливает другого грязью. Я не вижу в этом ничего интересного. Из книг, газет, по радио – отовсюду узнаешь, что убивают, убивают и снова убивают. Крайне редко по радио можно услышать, что кто-то написал гениальную поэму… Снова и снова войны. Почему бы людям не читать Шекспира, не смотреть Рембрандта. Почему бы им не ходить в музеи, не увидеть своими глазами, что и как было сделано. На концертах слушают Моцарта, затем выходят из зала и оказываются на войне. Бесконечная глупость, одно и то же… – Вы только что вспомнили о своей молодости. Наверное, это было прекрасное время? – Конечно. Когда мне было двадцать, я тоже выкидывал номера. Я был крайне влюбчив и терял массу времени. Я влюблялся и забрасывал свои картины. Вероятно, не стоит об этом говорить. Я был не просто романтиком, я был романтиком с головы до пят, правда, у себя в мастерской я работал… По тем временам я был очень богат – в моем распоряжении было 125 франков в месяц. Помню, как однажды я пришел за ними в банк и меня спросили, в каком виде я хочу их получить, в золоте или в бумагах? Я попросил дать мне их в бумагах, потому что иначе я их потеряю. В золоте это было пять маленьких монет величиной с мой ноготок. Я боялся их посеять. Тогда в квартале Рюш жили Модильяни, Сутин и многие другие. Так как среди нас всех я был самым богатым, часто ко мне стучали в дверь и говорили: «Шагал, дай мне на маленький бифштекс». Затем шли и покупали телячью печень. Единственная вещь, которую я умел хорошо готовить, была телячья печень. Часто приходил Сандрар. Я предлагал ему завтрак. За один франк в те времена можно было позавтракать. Ночь напролет я работал, днем вышагивал по улицам, ходил на выставки, в музеи и возвращался, чтобы ночь работать. – Вы очень рано увлеклись живописью? – В школе я неплохо учился, но заикался. Когда-то меня укусила собака. Я заикался и не знал, как мне быть. Однажды один из учеников показал мне черно-белый рисунок. Я спросил его: «Что это такое»? Он ответил: «Ты можешь пойти в библиотеку, взять картинку и перерисовать ее». Тогда я понял, что тоже могу худо-бедно рисовать и это мне подходит. – Вы довольны сегодня собой? – Если моя жена счастлива, я тоже счастлив, я улыбаюсь. – Вы говорили: «Мои дни проходили на площади Согласия и в Люксембургском саду, я видел Дантона и Ватто. Париж, ты мой второй Витебск». – Так что же вы все-таки хотите узнать от меня? Я пишу картины, и на моих картинах, если вы чувствуете их, есть все. Мне нечего добавить. Нужно только продолжать работать… Если в произведении искусства нет чего-то ирреального, оно нереально. Я сказал это мальчишкой, в 20 лет, когда меня спросили: «Но как это понять? Почему мертвые у вас лежат на улице, а на крыше у вас музыкант?» Что я должен объяснить? Я так чувствовал. Чувствовал, что мир стоит вверх дном. Ребенком я чувствовал, что во всех нас есть некая тревожащая сила. Вот почему мои персонажи оказались в небе раньше космонавтов. Как в жизни, так и в искусстве нам нужны взбалмошные и фантастические вещи. Только не надо им специально выучиваться, не надо их насаждать. Я не заканчивал никаких специальных курсов. Знания входят в нас с рождением, вместе с кровью. Для того, чтобы научиться чему-либо, необязательно ходить в университет. Учатся прежде всего у своих родителей. Отец и мать были моей школой. Я учился, когда смотрел на своего отца и видел, как тяжело он работает, как пьет чай, курит, как он устает. Учился, когда видел свою мать, стряпавшую на кухне для восьмерых детей. Затем я вырос и увидел небо, его ночь, увидел молоденьких девушек, настолько прелестных, что я ни за что не решился бы до них дотронуться. Все это – моя школа. И все это есть на моих картинах. – Вы, должно быть, умеете необыкновенно видеть? – Нет, я не Эйнштейн. Недавно по телевизору показывали Эйнштейна. Он действительно необыкновенный человек! Я же просто человек. Я не умею ни воровать, ни убивать. Я люблю людей, работаю почти бесплатно, ничего не требую. – Однажды вы сказали: «Я приехал в Париж за синим цветом». Есть цвета, которые принадлежат определенным странам? – Да, конечно. Определенным странам и определенным людям. Не знаю почему, синий – мой цвет. Быть может, человеку с рождения соответствует какой-то цвет. – Вы сказали, что ничего не кончали. Все, что вы умеете, вы узнали на улице, глядя на людей? – Да. Сначала – дома, у родителей, затем – во Франции. Примерно в 1910–1911 годах я увидел художников, работающих на рынке. Мне очень нравится их метод. Достаточно взглянуть на картины Шардена, Пуссена или Моне. В этом – Франция! – Вам приходилось завидовать? – Я завистлив. Это так. Я завидую Моцарту, Рембрандту, Гойе – из-за некоторых его картин. Я завидую Тициану в старости. Я завидую вам, вашей молодости…Цирк
Цирк – магическое слово, тысячелетняя игра, танец со слезами и смехом, игра рук и ног, превращенная в высокое искусство. Что получают большинство людей цирка? Кусок хлеба. Ночь приносит им одиночество, тоску. До следующего дня, пока вечер, залитый электрическим светом, не объявит им о новом празднике старухи жизни. Цирк – представление, которое мне кажется наиболее трагичным. Во все времена это пронзительный крик человека, ищущего беспечность и радость. Часто цирк становится высокой поэзией. Мне кажется, он похож на Дон Кихота. Дон Кихота, ищущего свой идеал, словно гениальный клоун, который выплакался и грезит о человеческой любви. Где-то во мне или вне меня кружат странные мысли при виде огромной клетки со львами и тиграми. Она передо мной как Ноев ковчег. За решеткой сидят те, кого Ной выбрал, чтобы спасти от потопа. Вместо Ноя – молодой укротитель с хлыстом в руке. Он распоряжается. Я не вижу здесь белой птицы, которая могла бы взлететь, чтобы возвестить людям о мире на земле. Играют чью-то музыку. Я сижу, словно голый, и жду, когда эти звери бросятся на нас и начнут мстить за себя, за то, что они не родились людьми. Может быть, поэтому они ревут и скалятся, взбешенные и раздраженные людьми, их миром? Я слышу, как из их широко открытых глоток доносится иная правда, звериная, нам неизвестная. Они рычат, презирая нас и свою тюрьму, их рев полон загадок, для нас недоступных. Сейчас они готовы съесть нас всех заживо. Где найти клоуна, у которого был бы столь выразительный рот и который мог бы показать белые зубы в красном, острые, как молнии? Я однажды нарисовал этих львов: на троне царя Соломона, в ногах у царя Давида, на арке в храме. Я видел их изображение на одеждах верховных жрецов, на коврах во дворцах. Музыка смолкает. Цирковые звери покидают нас. Укротитель открывает дверцу, звери, прошедшие через унижение, заходят в свои пропахшие клетки, а мы расходимся по своим спальням, к своим обыкновенным снам. Всю жизнь я рисовал лошадей, которые скорее походили на ослов или коров. Я видел их в Лиозно, у своего деда, которого часто упрашивал взять меня с собой в близлежащие деревни, куда он ездил закупать скот для своей мясной лавки. Он убивал его под навесом во дворе. Так как все лошади, которых я видел, находились в восторженном состоянии, я подумал: быть может, они счастливее нас? Можно совершенно спокойно встать на колени перед лошадью и читать молитву. Из-за величайшей скромности эти животные все время опускают глаза. Я чувствую, как у меня внутри резонирует лошадиный топот. Я мог бы, вскочив на лошадь, ринуться, закрыв глаза, на сверкающую арену жизни. Я хотел бы превзойти свою природу и более не чувствовать себя чужим среди этих молчаливых существ, мысли которых одному богу известны. В зверях, лошадях, коровах, пастухах, среди деревьев и холмов – во всем тишина. Мы же болтаем, поем, пишем поэмы, делаем рисунки, которых они не читают, не видят и не слышат. Я хотел бы, улыбаясь, подойти к той наезднице, о которой только что говорил, с букетом цветов. Я окружил бы ее своими цветущими и отцветшими годами. Я рассказал бы ей, стоя на коленях, о сновидениях и мечтах, совершенно неземных. Я бежал бы за ее лошадью, чтобы спросить, как жить, как убежать от самого себя, от мира, к кому бежать, куда идти. Так в меня вошел иной мир. В нем ничего общего с человеческой комедией. У него иные горизонты…Единственный цвет
Наперекор всем трудностям нашего мира во мне сохранились часть той одухотворенной любви, в которой я был воспитан, и вера в человека, познавшего Любовь. В нашей жизни, как и в палитре художника, есть только один цвет, способный дать смысл жизни и Искусству. Цвет Любви. В этом цвете я различаю все те качества, которые дают нам силы совершить что-либо в любой из областей. Я часто спрашиваю себя, откуда иногда в человеке, частице такой грандиозной природы, столько жестокости. Я спрашиваю себя, как это может быть, когда рядом есть Моцарт, Бетховен, Шекспир, Джотто, Рембрандт и столько других, начиная со скромных и честных тружеников, которые воздвигли соборы, монументальные здания, создали множество произведений искусства и заканчивая теми, кто изобрел все, что облегчает и улучшает нашу жизнь. Возможно ли, чтобы человек, обладая всеми новыми средствами, наделяющими властью над вещами, оказался неспособен властвовать над самим собой? Моему пониманию это недоступно. Зачем искать где-либо вне природы? Ключи от гармонии и счастья нужно искать в самих себе. Мы держим их в собственных руках. Все, что я пытался сделать, слабая попытка бросить вызов жестокости. Искусство, которым я занимался с детства, научило меня тому, что Человек способен Любить, тому, что Любовь может его спасти. Для меня ее цвет – цвет истины, истинный материал Искусства. Такой же естественный, как дерево или камень.Марк Шагал: «Все это есть в моих картинах» / пер. с фр. Игоря Якименко // Литературная газета (М.). 1985. № 42. 16 октября. С. 15.
Часть III Переписка
1. Шагал – Н.К. Рериху
[10 июня 1908 г. Санкт-Петербург]Высокочтимый Н.К. Рерих1. Скрепя сердцем, извиняюсь за нарушение Вашего спокойствия. Убитый роком моей судьбы, я принужден ненормально просить Вас о нижеследующем. Как я Вам однажды сказал, я призываюсь в этом году2 и сим лишенный спокойствия работы в прошлом полугодии у Бобровского, лишаюсь образования по пути искусства еще на три года. Положение мое отчаянное, и время приближается. Решил подать прошение на Высочайшее имя, и, быть может, одно важное лицо приложило бы свою просьбу за меня3, но необходим художественный авторитет Ваш, что занимаюсь в школе и успешно и т. д. Обращался в канцелярию нашей школы, там ответили, что не могут без Вас и не знают меня и дали мне Ваш адрес. Вы, быть может, меня не знаете, я Ваш стипендиат4, измученный (призывом) безвыходным положением, принужденный вследствие этого оставаться в душном гранитном Питере, когда солнце манит, зовет к внегородной природе, к этюдам зовет. Я думаю, что не откажете в скорейшей присылке необходимой заметки к прошению и быть может посоветуете что-нибудь в этом моем [лич]ном деле5. Слишком люблю искусство, слишком много потерял и потеряю, чтобы согласиться с мыслью бросить военной службой 3 года. Отсрочка по ней очень необходима, пока не найду учебы прочную почву, не получу серьезной подготовки в школе. Вам преданный Ваш ученик V к[ласса] Шагал Адрес мой: СПб. Захарьевская, д. 25 к. 13 Шагал6.
ЦГИА СПб. Ф. 448. Оп. 1. Ед. хр. 879. Л. 180–180 об. Автограф. Датируется по канцелярскому штампу с проставленной датой: выдано за 380 10 Июня 908. Опубл.: Chagall Paris 1995. Р. 238 (пер. на фр.); Harshav 2004. Р. 179–180 (пер. на англ.).
 Санкт-Петербург. Здание Императорского общества поощрения художеств (Большая Морская улица, 38). Начало 1910-х
Санкт-Петербург. Здание Императорского общества поощрения художеств (Большая Морская улица, 38). Начало 1910-х
 Н.К. Рерих. Санкт-Петербург, 1910
Н.К. Рерих. Санкт-Петербург, 1910
 Санкт-Петербург. Большая Морская улица. Открытка начала ХХ в.
Санкт-Петербург. Большая Морская улица. Открытка начала ХХ в.
2. Шагал – барону Д.Г. Гинцбургу
[Июнь 1908 г. Санкт-Петербург]Дорогой Барон Давид Горациевич! Насилу притащил свои ноги с Выборгской стороны. И решил из-за предчувствия не быть допущенным к Вам написать записку… Отчего, зачем пишу, не знаю… Пишу оттого, что солнце блещет, целует моих сухих щек и отравляет мне этим мозги, зовя, маня куда-то в даль, к обновленным гладким, атласным полям, к небу и душистым облакам. Душа, иссохшая за долгую зиму в каменных киптях[25] Петербурга, ноет по влажной красоте: мне реально невидимой, тонкой, пахучей зелени, губы, иссохшие различными материальными невзгодами, только и жаждут поцелуем отравить и отравиться хотя б одним лучем неизменимо вечной красоты!.. Как мне быть?! Где ж могу я вцепиться за ключ этой двери, источника света? – Я думаю, Вы, дорогой Барон! Вы одни [?] остались в моих исплаканных глазах ночи. Илья Яковлевич7 уехал, моя опора. Некому теперь напомнить о моих нуждах и проч. И только Вы!.. В школе нас распустили, ученики все разъехались на этюды. Остался я один… жаждущий здесь выхлопотать себе отсрочку по военной службе, а лишь потом уехать, утонуть в море трав и счастья неба!.. Я должен дождаться что-нибудь определенное для моей этой вышесказанной… и пусть я стаю как воск и сгорю от потока солнечных свечей, я должен дождаться что-нибудь определенное в хлопотах. Вы только один, Барон, мое преддверие к жизни, но не к смерти… из-за солнца жажды!.. Глубоко преданный Вам М. Шагал
ОР РНБ. Ф. 183 а. Ед. хр. 1251. Л. 11–11 об., 12 (конверт). Автограф. Опубл.: Письма Гинцбургу 1990. № 7 (не датировано). С. 108. Печатается по автографу.
3. Шагал – барону Д.Г. Гинцбургу
[Июнь – июль 1908 г. Санкт-Петербург]Дорогой Барон Простите, что беспокаиваю Вас, быть может, в неудобном месте, но дело ведь неотложное и, главное, Вы, как это мне ни больно, уезжаете. Вот прошение8, написанное Г.А. Гольдбергом9. Надо, чтоб оно не лежало под сукном… и получило б положительный и скорый результат. Меня уже требуют из Орши повесткой в этом году к призыву10… Ваш Шагал
ОР РНБ. Ф. 183 а. Ед. хр. 1251. Л. 14. Автограф. Опубл.: Письма Гинцбургу 1990. № 9 (не датировано). С. 108. Печатается по автографу.
4. Шагал – барону Д.Г. Гинцбургу
29 июля 1908 г. Санкт-ПетербургВысокочтимый Барон Давид Горациевич! Наконец после томительного выжидания, я дождался Вашего приезда11, когда, как я думаю, Вы уже теперь меня поддержите Вашим авторитетом в моем важном деле, ибо уж мало времени осталось и весь я исполнен жажды уехать на каникулы домой для этюдов. Письмо, которое Вы любезно перед отъездом Вашим вручили мне для М.Я. Вилие, я передал, но, к несчастию моему, последний в тот же день должен был ехать заграницу, да и своим косным языком навряд сумел бы я что-нибудь выговорить с ним… Но прошение я подал12, извещение приложенное13 говорит ясно, где оно, в чьих руках я, моя судьба, все будущее… и кто знает, быть может, увы, мне готов уж отказ. Все это, дорогой Барон, заставляет меня страстно умолять Вас, не стесняя, не отказать помочь в возможном обращении ктем лицам, от которых моя судьба зависит – у меня ведь просьба самая правая и никакой фальши ведь нет. Между прочим, если Вас не затрудню, могу привести Вам, так сказать, фактор моего последнего настроения… недавний набросок моей души
«Не думать я хотел
И думать не желаю
О мелких бед и низком ярлык[е]…
О том, что покоя я не знаю
Что нету влаги в моем цветке…
Но сокрушен в слезах я
И обречен глумить и быть глумленным
И вот в черных дум котле душа моя
Мнит, увы! лишь света быть лишенным!»
ОР РНБ. Ф. 183 а. Ед. хр. 1251. Л. 10. Автограф. Опубл.: Письма Гинцбургу 1990. № 6. С. 107–108. Печатается по автографу.
5. Шагал – барону Д.Г. Гинцбургу
[Июль? 1908 г. Санкт-Петербург]Дорогой Барон Сижу и плачу в темноте, совершаю тихую молитву Богу, молю Его пусть спасет и вынесет меня из пучины моря к дальнему желанному берегу… Ах, Барон, что наша жизнь? и чудится мне, что в слезах я все-таки я вижу утешения… Ваш Шагал Принес свидетельство, а теперь, быть может, скорее покончим с отсрочкой и поеду писать этюды, успокоюсь немножечко, быть может, я так устал.
ОР РНБ. Ф. 183 а. Ед. хр. 1251. Л. 13–13 об. Автограф.
6. Шагал – барону Д.Г. Гинцбургу
[Август 1908 г. Витебск]Мой адрес: Витебск. III часть. Покровская ул. Моисею Шагалу.
Дорогой Барон Давид Горациевич. Когда я был еще в Петербурге и у Вас, мы условились, чтоб я Вам написал в деревню о том, в чьих руках находится мое прошение, и потом Вы уже сами любезно что-нибудь сделаете, но я, простите, будучи сам в деревенской тиши теперь, сознавая, как неприятны другие мелкие дела… не пожелал нарушить Ваш покой, и как ни важно мое дело, до 25 июля, т. е. дня приезда Вашего в Петерб[ург]. Теперь я в Витебске, т. е. на родине. По вечерам иду один: по набережной реки, полям, деревням, и ночью замираю вместе с луной у мелкого кустарника с своеобразной, мной давно составленной молитвой на губах. Я стараюсь осторожно совлекать с себя мантию моих петербургских неудач и погружаться в поэзию деревенской тиши. О! Я не забываю, Русская земля! Я, хотя бывший сын другой земли, мне понятна душа твоя… моя душа – твоя…
 Марк Шагал. Санкт-Петербург, около 1908
Марк Шагал. Санкт-Петербург, около 1908
Но, дорогой Барон, простите за такое наивное распространение, но я не могу быть сухим к тем, котор[ые] меня понимают… Не могу не предаваться печальным раздумьям моего будущего в минуты, когда мое «я» не хочет, или, вернее, не может радоваться небу… Тогда вспоминаю Вас и умоляю в последнее время, когда к моему несчастному призыву остался месяц, приложив все возможные старанья в достижении мной прошением (по № 47.337) желаемую отсрочку по воинской повинности, иначе я простой рядовой и через месяц я под ружьем, а не в искусстве на 4 года. Быть иль не быть, погасив свое светило, или раздуть все шире и шире… в Ваших руках, люди! И вот, дорогой Барон, я думаю, добродетелью Вашей Вы жизнь мою обновите… Не могу больше писать… просить… только не забудьте, как не забывали до сих пор… и осчастливите меня, если чиркнете мне несколько слов в ответ, что не оставлен без внимания Вами или… Жду томительно. Ваш Моисей Шагал.
Перед отъездом был в министерстве в отделе по воинской повинности, но прошение в тот день перевелось лишь к ним из Высочайшей канцелярии, и на вопрос, в чьих руках оно будет? мне, конечно, не ответили. Всего хорошего! Не забудьте.
ОР РНБ. Ф. 183 а. Ед. хр. 1251. Л. 18–19. Автограф. Опубл.: Письма Гинцбургу 1990. № 11 (не датировано). С. 109–110. Печатается по автографу.
7. Шагал – барону Д.Г. Гинцбургу
[Август 1908 г. Витебск]Дорогой Барон Спешу известить, что письмо Ваше, дорогое для меня, получил. Меня в высшей степени тронуло то, что, несмотря на все Ваши дела, захватывающие Вас со всех сторон, Вы уделили мне – такому маленькому ужасно мизерному человечку, Ваше бесценное внимание и согласие сделать что-либо с моим прошением. Теперь прошение было, пишу Вам, у Могилевского губернатора (в его губернии призываюсь)14 с запросом о моем семейном положении. Ответ послан уже обратно за № 3516. Теперь, я думаю, решается самое главное в министерстве: «да или нет», и вот я очень рад, что Вы уже, верно, в Питере и, быть может, если Вас это не затруднит, обратитесь куда следует, как Вы писали, и этим, быть может, осчастливите меня. Молю лишь моего Бога, дабы они сами не решили кое-как… пока Вы за меня, зная всего меня и положение мое, не забросите несколько слов… У нас начинаются в училище15 занятия 1 сентября, и кто знает, сумею ли приехать к этому числу… Но пока удивительно забываюсь и много пишу этюдов, и, право, Божьи вечера со смутными очертаниями всех предметов, здешняя луна, ее металлический блик создают во мне песнь смутного понимания святой Высоты!.. При всех невзгодах (и, быть может, это эгоизм) стараюсь забываться, надеясь на моих лучших знакомых доброде[те]лей… Будьте здоровы и вечно живы, не забывайте Ваш искрен[не] пред[анный] Шагалов Не приехал ли милый Илья Яковлевич Гинцбург, кланяйтесь, пожалуйста, им.
ОР РНБ. Ф. 183 а. Ед. хр. 1251. Л. 15–16, 17 (конверт). Автограф. Опубл.: Письма Гинцбургу 1990. № 10 (не датировано). С. 108. Печатается по автографу.
8. Шагал – барону Д.Г. Гинцбургу
[Конец 1908 г. Санкт-Петербург]Высокочтимый барон Давид Горациевич! Наконец пришел я к Вам. Мне физически легче Вам написать, что жду здесь Вашего ответа в хлопотах относительно матер[иального] известного моего положения. Но О! Что-то инстинктивно предчувствую Ваш отказ, отрицательный ответ, и этим Вы мне будто говорите, что я недостоин Ваших дорогих хлопот в моей судьбе, и к вечно сомневающейся моей натуре прикладывается еще одно большое сомнение: в ненужности моего существования в Искусстве и вообще. Вам пред[анный] Шагал
ОР РНБ. Ф. 183 а. Ед. хр. 1251. Л. 7, 8 (конверт). Автограф. Опубл.: Письма Гинцбургу 1990. № 4 (не датировано). С. 107. Печатается по автографу.
9. Шагал – барону Д.Г. Гинцбургу
[13 декабря 1908 г. Санк-Петербург]Четверг 1908. Захарьевская, д. 25, кв. 1316
Высокочтимый Барон Давид Горациевич! С тяжелым чувством и болью в душе берусь за перо, не смея нарушить Ваш покой, написать Вам о том, о чем, быть может, стремящемуся к Искусству и не подобает заботиться, хлопотать, что ли. В сущности, я-та-ки и не думаю или думаю мало. В последнее время по приезде моем из дома с радостною вестью об отсрочке и почти полном освобождении от воинской повинности, радость, которую, между прочим, я потерял в вихре своих личных неудовлетворений, я был у Вас, явившись как всегда по натуре нерадостной душой и ушел от Вас с такой думой: Я признаюсь перед Вами, дорогой Барон, (ведь Вы всегда внушаете «чем-то» простоту – эту святую искренность), когда выхожу из Вашего дома иногда не озаренный Вашими Солнце-поглощающими глазами, их чутким, как бы благословляющим приветом, взором, хот[ь] случайно брошенным по мне, я обволакиваюсь точно тучей, с небес спускающейся, тяжелой и сердитой до самых моих ног… и я кажусь себе немым и единным, ненужным и трагическим лицом во всей этой мировой затее. И когда приближаюсь к водам Невы, без конца волочась по ее гранитным набережным, мне становятся любовно манящими ее мелкие волны – их обитель!.. и прозрачный снег, падая хлопьями на мое бледнеющее лицо, растворяясь, ниспадает вместе с моими накатившимися слезами… Но я отвлекся, и Вы простите мне мою, б[ыть] м[ожет], растянутую, ненужную наивность, но такова моя натура. Меня упрекают в отсутствии «быстроты и натиска», в малоэнергичности моей в мелко практических интересах, и это видно даже и сейчас из того, как я не решаюсь вспомнить Вам о Вас, к моему несчастию, обременяющей, моей заострившейся в данное время нужде, о когда-то получаемой мною из Ваших рук стипендии… Мне трудно физически даже об этом говорить (ведь мне лучше, легче голодать, как теперь живу, но не говорить ничего – потому и пишу отчасти…). Но вспомню лишь завтрашний день, и следующий – и следующий… когда придется итти работать (в мастерской Зейденберга17 и в школе П[оощрения] Х[удожеств] с маленьким запасом красочных материалов, когда нужно будет вдохновляться и вдохновлять, зрить натуру, изображая, а сам я буду бледен и, быть может, не сумею удержать палитру… как другие со мной рядом стоящие, я уже энергичнее бросаю свой застывший и, о ужас! молящий взор на Вашу отзывчивую и для меня единственную добродетель – душу… Больно и не в состоянии излагать эти свои «настроения», Вас непростительно затрагивающие и меня низводящие до последней степени изнеможения. Я только молчанием, хоть и не приятно отражающемся на меня, напомню Вам то, что Вам известно… о моем положении. Вам предан[ный] и искренний Моисей Шагал В свободный, близкий от занятий день – зайду, и Вы, б[ыть] м[ожет], возрадуете?!
ОР РНБ. Ф. 183 а. Ед. хр. 1251. Л. 1–1 об. Автограф. На конверте (Л. 2) рукой Шагала адрес: нужное / Здесь / В. Остр. 1-ая линия д. 3 / ЕВ Барону Давиду / Горациевичу / Гинцбургу. Датируется по почтовому штемпелю: С.-Петербург. 13–12 – 08. Опубл.: Письма Гинцбургу 1990. № 1 (датировано: 3 декабря 1908). С. 105–106. Печатается по автографу.
10. Шагал – барону Д.Г. Гинцбургу
[Конец декабря 1908 г. Санкт-Петербург]Высокочтимый барон Давид Горациевич! Теперь нас распустили на несколько дней18, и я имею возможность зайти к Вам, к Вашему дому, как средь моря для меня единственному маяку… Я думаю, что если не совсем забыли меня, то, во всяком случае, ничего еще не успели сделать для моего известного Вам положения или сделать ничего нельзя (леденящая меня мысль) – живу пока живется. Жду, хоть посредством швейцара Вашего, и вдруг, дай Бог, положительного ответа. Ваш преданный М. Шагал С Нов[ым] Г[одом]!!
ОР РНБ. Ф. 183 а. Ед. Хр. 1251. Л. 8. Автограф. На конверте (Л. 9) надписи – рукой Шагала: Е Вб / Барону Д.Г. Гинцбургу. карандашом рукой Д.Г. Гинцбурга (?): К письмам Шагала (юдаика или евр. художники и т. д.). Опубл.: Письма Гинцбургу 1990. № 5 (не датировано). С. 107. Печатается по автографу.
 Марк Шагал. Санкт-Петербург, 17 июня 1910
Марк Шагал. Санкт-Петербург, 17 июня 1910
11. Шагал – барону Д.Г. Гинцбургу
[27–28 декабря 1908 г. Санкт-Петербург]28 дек[абря] воскр[есенье]
Дорогой Барон Дав[ид] Гор[ациевич]! Вчера, будучи у Вас совершенно здоровым, но не принятым, сегодня же утром отчего-то занемог: что-то давит горло и пусто в сердце… Оттого и пишу Вам, чтобы сим спросить: могу ли надеяться к наступающему Н[овому] Году радостнее зажить в хлопотах Ваших относ[ительно] стипенд[ии], хотя до нового года целых мучительных 4–5 дней и положение мое в материальном заострилось до высшего своего апогея. Я был бы счастлив, если б мог достать за небольшое хоть вознаграждение работу, выбором которой я бы не постеснялся, даже самую «черную». Жду с нетерпением Вашего дорогого для меня, любезного ответа, при всем моем полном сознании причиняемых Вам, быть может, мною неприятностей. Ваш предан[ный] слуга во всем М. Шагал Захарьевская, д. 25, к. 13
Я решаюсь, дорогой Давид Горациевич, привести Вам мной вчера изложенную мысль в ограниченном и наивном стихе – люблю страшно поэзию, но, не зная приемов ее, люблю и писать.
БЕДНОСТЬ И ВОЗВЫШЕННОСТЬ
Завтра думы. Думы, думы…
Думы бедняка…
Веселите меня шумы
Не тоскуй тоска…
Вознеси моя мольба
Полушепот грез…
Голос Божьего раба
Небу моих слез…
Не зову и не кляню…
Не кляню и не горю…
Доразсветную зарю
Призову к Огню…
ОР РНБ. Ф. 183 а. Ед. хр. 1251. Л. 3–4. Автограф. На конверте (Л. 5) рукой Шагала адрес: нужное /СПб / Барону Давиду Горациевичу Гинцбургу./ здесь / Вас. Остр. 1-ая лин. д.[3]. Датируется по почтовому штемпелю: С.-Петербург 28–12–08. Опубл.: Письма Гинцбургу 1990. № 2. С. 106. Печатается по автографу.
12. Шагал – барону Д.Г. Гинцбургу
[Начало 1909 г. Санкт-Петербург]Высокочтимый Барон Давид Горациевич! Простите мне – ничтожному… что так долго Вас беспокаивал просьбою о стипендии. Но как я принужден просить!? Я думаю что Вы меня не забыли… и поспешите похлопотать… Ваш безгранично уважающий Шагалов
ОР РНБ. Ф. 183 а. Ед. хр. 1251. Л. 20. Автограф. Опубл.: Письма Гинцбургу 1990. № 12 (не датировано). С. 110. Печатается по автографу.
13. Шагал – барону Д.Г. Гинцбургу
[Начало 1909 г. Санкт-Петербург]Дорогой Давид Горациевич Хотя хорошо понимаю, что Вам все это теперь не в голове и Вы опечалены болезнию Вашего высокочтимого отца19, прошу извинения. С небывалым раньше у меня положением я пришел к Вам уже позже, как мне тогда велели к концу недели. Совсем как-то плохо мне стало, – как взгляд безнадежного больного на самого себя… Со всех сторон требуют с меня: плату (9 руб.) в школу просят20, адресный сбор за паспорт просят, грозя арестовать, желудок уже давно просит, художество мое требует красок. Ничего этого нет. Сидишь себе по вечерам дома, и крайне печально на душе… Жалко то, главное еще, что, имея много маленьких рисунков, эскизов, хочется сделать побольше вещи, и нет ни пастели, ни акварели, ни масляных красок, ни холста, а тут еще моя малая сестрица21 (ученица ремеслен[ной] евр[ейской] школы) приходит ко мне и тоже просит… Ах, Давид Горациевич! Жизнь!!.. Ваш пред[анный] М. Шагал
ОР РНБ. Ф. 183 а. Ед. хр. 1251. Л. 20. Автограф. Опубл.: Письма Гинцбургу 1990. № 13 (не датировано). С. 110. Печатается по автографу.
14. Шагал – барону Д.Г. Гинцбургу
[Начало 1909 г. Санкт-Петербург]Дорогой Давид Горациевич! Простите, что опять нарушаю Ваш покой… Я так и чувствовал, что если Он увидит это синее лицо… и проч[ее] на рисунке, так он меня уже и забракует22, а к тому и работ всего только 3. Недаром я расплакался там навзрыд, заглушая в себе и рабство и боль за нежелание приблизиться, хоть мысленно к наболевшей душе, [в] работах. Меня может понять страдалец-художник, пусть я страдаю рисунком, направлением ложным (время впереди!), но душу мою ведь можно понять, ее качества… Я чувствую, Он пишет верно Вам, что не способен и не может ничего сделать – конечно! Пусть же Рерих-директор им скажет! Он знает меня… Теперь я вижу, что я несчастный во всех отношениях. Пусть Бог, если только таковой имеется, пришлет мне сил пережить это время. Итак, все кончено… Что же, смерть мне – виселица, яд что ли? Ах, скажите, Барон, дорогой, неужели все кончено?!23 Ваш Шагал
ОР РНБ. Ф. 183 а. Ед хр. 1251. Л. 6. Автограф. Опубл.: Письма Гинцбургу 1990. № 3 (не датировано). С. 107. Печатается по автографу.
 Г.А. Гольдберг
Г.А. Гольдберг
 Барон Д.Г. Гинцбург
Барон Д.Г. Гинцбург
 Санкт-Петербург. Банкирский дом Гинцбургов (Конногвардейский бульвар, 17). Фото Ф. Буффе
Санкт-Петербург. Банкирский дом Гинцбургов (Конногвардейский бульвар, 17). Фото Ф. Буффе
15. Шагал – А.Г. Ромму
[5 мая 1910 г. Нарва]Простите мне, Александр Георгиевич, что, уехав так внезапно, я не зашел к Вам. Теперь я здесь, т. е. вдали от г. Нарвы в довольно приятном месте24. Это просторное свободное имение моего знакомого, но в котором, б[ыть] м[ожет], не особенно просторно и свободно мне… – Как же Вы? страдаете наукой25 и что еще? Я взял [с] собой, конечно, свои художествен[ные] инструменты и постараемся писать, впрочем этюд вчера я уже написал. Но, Боже, что слышно… – мне снился сегодня проклятый насмешливый и неподдельный сон: «не вышло». Я похолодел от счастья и обезобразил гримасой свое лицо, когда увидел, что это лишь сон… – Захлопнулась ли наша выставка26, из-за которой в воскресение это27 мне сделалась [одно слово нрзб.] мойка, и для того чтобы спасти себя для… потомства, я пошел пить «нектар» у бездумного Фра-Аджелико и преклоняться перед лукавым Кранахом (в Эрмитаже). Письма, значит, нет еще28, но если будет, так Вы, конечно, знаете, что надо с ним делать – (послать). Стесню иль нет, но поручаю Вам посмотреть, послушать, поговорить, получить за меня. Ваш преданн[ы]й – Моисей Шагал
ОР ГТГ. Ф. 62. Ед. хр. 53. Открытое письмо. Автограф. На оборотной стороне адреса: С.Петербург / Николаевская 39. к. 7 / г-ну Александру Георгиевичу Ромму. ниже: г. Нарва / Б[алтийская] ж[елезная] д[орога] / Лесопильный завод Гермонт / для М. Шагала. Датируется по почтовому штемпелю: Нарва С.П.Бг. 5.5.10. Опубл.: Письма Ромму 2003. № 1. С. 586.; Письма Ромму 2008. № 1. С. 54.
16. Шагал – А.Г. Ромму
[Конец мая 1910 г. Нарва]I
Дорогой Алекс[андр] Георг[иевич]. После долгих жданий получил Ваше письмо. Правда, мне его так мистически просунули в дверь двумя пальцами и я так призрачно держал его в своих руках, и это потому, что я знал, что оно содержит в себе как[ие]-то вести. Ваш почерк узнал, он напомнил мне чье-то самобытное детство далекого юноши, которого я мало знал и которому в знак согласия так просто улыбался. Мне ничего, что Бакст так молчалив, не отвечает, что вообще как-то неважны[й] [друг?] по-видимому. Пусть будет то, что должно быть… но нужно не наклоняться в сторону печальных и грустных безначалий под давлением этих неудающихся «дел». Я-то именно так зыбок и большой труд для меня изгладить из головы[26] всю эту внешнюю неурядицу, понятный холод поступков, отношений… Но это – обесценивает, и впереди: предвестники поверхностного внимания к тому, над чем прольете, б[ыть] м[ожет], кровь своих полночных измышлений и горестных тревог… Марк Шагал. Санкт-Петербург, 1908. Фотоателье М.С. Иоффе.
Марк Шагал. Санкт-Петербург, 1908. Фотоателье М.С. Иоффе.
 Александр Ромм. Санкт-Петербург, около 1910
Александр Ромм. Санкт-Петербург, около 1910
 Семья Роммов. Санкт-Петербург, 1908–1912.
Слева направо: Александр, Софья Евсеевна, Георгий Давыдович, Владимир.
Семья Роммов. Санкт-Петербург, 1908–1912.
Слева направо: Александр, Софья Евсеевна, Георгий Давыдович, Владимир.
* * *
Я прервал это письмо, не знаю по каким причинам, вероятно, меня отозвали к обеду иль ужину иль что-то в этом роде. Сижу и очень часто совсем в холодной комнате. Со стен смотрят те или иные этюды, в которых сказывается то совсем противоположное тому иль часто что хочется и сказать нужно. Но постараемся – посмотрим. Как же Вы живете[?] Хотел бы видеть Вас, пройти мимо вашей зеленой столовой, продолговатых и милых гобеленов в Вашу изломанную комнату и сесть на подоконники, посмотреть в окно, нет ли где как-ниб[удь] высунут[о]й прохладительной головы, нет ли где в какой-нибудь раскрытой форточке какого-нибудь удивленного «любящего» глаза, посмотреть, б[ыть] м[ожет], какого-ниб[удь] милого затейливого «Кокка», «потолковать об Ювенале»… чувствительно погружаясь в кресло. Взглянуть стремительно и медленно искоса на Ваш взбунтованный остановившимися движениями и остротою масок эскиз. Относительно того, что Вы писали о желании приехать погостить, это было бы хорошо во всех отнош[ениях], б[ыть] м[ожет], но, к сожалению, просить о помещении здесь было б неудобно, ибо сам я занимаю то место, которое принадлежит другому и принадлежать будет скоро, вероятно… Затем «дача» эта (если это дача)29 находится вдали от городишки, действительно красивого своей стариной… Но если бы Вы даже взяли здесь к[акое]-ниб[удь] помещение (что и возможно и, вероятно, дешево), то мы… так не могли видаться, ибо я уже все время нахожусь почти в одном месте и иначе невозможно (здесь нуж[ны] эти самы[е] права…)30. Как же мы мож[ем] быть вдвоем вне этой черты[?]* * *
Через день или дваПростите, что так долго письмо не послано, оно ведь почти написано, но только не кончается, и если Вам нужны мои распластывающиеся излияния, я их, к несчастью, пишу. Пишу потому не так коротко, что чувствую, что Вы именно, а никто здесь другой из [многих?], будете слушать меня, мой голос. Он Вам знаком, Вы его знаете, знаете меня. С другой стороны, я боюсь, что задерживаю Вас, Ваше время, Вам «некогда». А я времени не знаю, и это, б[ыть] м[ожет], нехорошо, очень нехорошо.
II
Где ж я буду лето? Скоро ли придется отсюда уйти[?] Я бы пошел по шпалам в как[ой]-ниб[удь] город на кладбище и там бы жил. Вы не знаете наши кладбища? Они похожи на ту любовь, которая складывается из души неудовлетворенного юноши и «обыкновенной провинциальной сестры»… Неудачная такая любовь. Сырая непогодь и беспрестанный шум морского ветра такая любовь. Не приносит ни светлой надежды, ни радости единственных взглядов, [слов?] … – А буду ли в Петербурге – не знаю. Ничего не отвечает (Б.)31. Забыл в вихре балерины, ее ножек вертящихся, забыл ученика (какое неизбежное слово), одного небольшого человека, здесь к вечеру думающего в саду, и не вспомнит, и поэтому грустно. Б[ыть] м[ожет], написать в Берлин [?]32 Знает адрес, б[ыть] м[ожет], Званцева, Зилоти33 или на его квартире швейцар34, что ли? Напрасно? Попалось же Званцевой, нашей школе. Я читал письмо Репина. Удивительно… «нам заборы красит[ь]»…35 Как поживаете[?] C кем видаетесь, видите ли мне неизвестную Вашу N. Ах… довольно… Мне хочется сесть у печки и наклонить голову, и думать… У нас в моем том городе есть переулки, и когда я был мальчиком, я бродил по ним, а вечером там бывало темно, и я ходил в синагогу деревянную, прятался под забором, нюхать плесень молельных книг и продолжительно и одиноко хихикать около горящих свечей, около самого запрятанного в шкапу Бога. Я это помню… Однажды я разбил одному мальчику ку[л]аком щеку, когда он «стоял» «шминэсрэ»[27] …около стенки и раскачивался над «сидэром»[28]. Полилась кров[ь]… а я остался стоять на месте, пока все не ушли из синагоги. Это было вечером, на улице маленькой никого нет… Побывайте на выставке поощрения худож[еств] школы36, интересно знать [все?] о ней, а потом напишите впечатление. Ужели вся та же скука или свежеет. Снимитесь, Алек[сандр] Геор[гиевич], и с весточкой-письмом пришлите и открытку – фотограф[ию] Вашу (хотя б моментальн[ую]) в позе, наприм[ер], «очень хорошего и полезного человека»… снимите[сь] к[ак]-ниб[удь] мило, просто и пришлите, чтоб смотреть здесь иной раз и часто на нее, если можно. И пишите не стесняясь, а? Ваш Моисей.ОР ГТГ. Ф. 62. Ед. хр. 66. Автограф. Опубл.: Письма Ромму 2003. № 2. С. 586–588; Письма Ромму 2008. С. 54–57. № 2.
17. Шагал – А.Г. Ромму
[20 июня 1910 г. Нарва]Дорогой Александр Георг[иевич]. Получил Ваше открытое с Финляндии37. Думал, что получу от Вас и подробное, но его нет. Вероятно, Вы иль не расположены писать пока иль заняты чем. Довольно. Пусть солнце закатывается здесь то серебристым к полдню, то золотисто-сиреневым флером к вечеру без меня. Я поеду – дальше. Я знаю: и там те же бесконечно длинные равнины, и молчаливые реки, и испорченные ножичками недавно расцветшие березы. И там, как здесь, мне будет говорить все то же все поглощающая земля и чистое и сердитое и беспокойное небо, как все моря и океаны, Земля и все планеты взятые вместе. Когда буду на пару дней в Питере, живо заверну [опять?]. Пока прощайте, в ожидании от Вас Ваш преданн[ый] Моисей. На короткое время после этого письма адрес – Надеждинская 18 к. 3, прис[яжному] пов[еренному] Гольд[бергу]38, мне
ОР ГТГ. Ф. 62. Ед. хр. 56. Почтовая карточка. Автограф. На оборотной стороне адрес: Усикирко/ Ф[инляндская] ж[елезная] д[орога] / Читка-Ярви / Дача Петрова /Е[го] В[ысоко]б[лагородию] /Алекс[андру] Георг[иевичу] Ромм. Датируется по почтовому штемпелю: Нарва С.П.Бг. 20–6–10. Опубл.: Письма Ромму 2003. № 3. С. 588; Письма Ромму 2008. № 3. С. 57.
 Дом в имении Н.С. Гермонта (мыза Фердинандсхоф под Нарвой)
Дом в имении Н.С. Гермонта (мыза Фердинандсхоф под Нарвой)
 Нарва. Городской музей имени супругов Лаврецовых. Открытка начала ХХ в.
Нарва. Городской музей имени супругов Лаврецовых. Открытка начала ХХ в.
18. Шагал – А.Г. Ромму
[2 июля 1910 г. Нарва]Дорогой Алекс[андр] Георг[иевич]. Простите, что до сих пор не писал Вам, но в то же самое время (как и всегда) я ждал от Вас писем, что так редко я получаю здесь, особенно почему-то в настоящее время, а между тем это единственное утешение, что ли, после то долгих, то коротких дней тоски, а иногда работы. Только на днях мне передали из Петербурга ([от?] Гольдб[ерга]) Ваши для меня 2 письма, одно закрытое, за которое я Вам так благодарен. Ведь Вы так мало писали до сих пор… Я себе представляю теперь Вашу жизнь (дай Бог наилучшую) в Финляди[и], где есть и широкое озеро, и милый лес, и солнце иногда блестит для Вас. Хотел бы минуту с Вами посмотреть на Ваше насиженное уже, б[ыть] м[ожет], место и озеро. Вы работаете, стараясь (как писали) очищать свою палитру, это очень хорошо, если можно это сделать, а мы можем… должны и умеем. Но я лично, прочитав это в Вашем письме, вспомнил, что сам этим не занялся все время, и Вы ведь знаете меня и каким трубочистом я кажусь в своих раб[отах]. Работаю пока что и как попало, но надеюсь быть другим. Спасибо большое, дорог[ой] Алек[сандр] Геор[гиевич], за открытое (финлянд[ского] худ[ожника] «Гадание»)39. Мне только легко и свободно, и будто возвращаюсь к моему детству, когда я смотрю на это приятно наивное чуть полушкольное произведение. Еду через дня 2–3 отсюда на «миг» в Питер. Откуда при всем моем желании постараюсь заехать к Вам, а потом в Витебск. Вероятно, скоро снимусь и пришлю Вам свою фотогр[афию]. Пока же у меня есть только неважн[ая?], но жду от Вас так[же?]. Вы мне это можете сделать – простите, дорогой Ал[ександр], что пишу мало, в следующ[ий] раз и по получ[ении] от Вас (ждет лошадь для отправки почты). Шлю Вам свои неважные стихи… «судите сами», какой я писец..? Ваш Моис[ей]
Посвящ[аю] др[угу] Алекс[андру] Георг[иевичу]
Уже с утра мне был означен
Мой ранний жребий на кресте:
Еще шумит в главе веселье,
Младое пенится похмелье —
Но свист бича угрюм и мрачен
И шрам исчерчен на лице…
Не соблазнен ты был пороком,
Моей судьбы казненный день!
Но дум невинных твой тиран,
Кровавой сказкой осиян,
Распял с безжалостным упреком
Твою бездыханную тень!
Косней язык, добро природы,
Престол священный, как и я!
И солнца огненный глагол,
Порывов юношских Эол,
И моря царственныя воды —
Все будьте жертвою креста!
15 июня Нарва
Стою среди полей забытых,
Один я, недвижим и тих,
Среди могил, давно разрытых.
Стою среди полей забытых,
Полей пустынных и немых.
Быть может, я здесь был когда-то,
Исполнен сладкозвучных нег…
Давно ушли лучи заката…
Быть может, здесь я был когда-то,
Покинув свой родимый брег.
Иль так же с горестным упреком
Блуждал я там и здесь в ночи,
И на раздольи одиноком
Мои терялися следы…
Чья жизнь была – года исканий,
Склоненных трав во тьме лугов,
Иль детских у морей рыданий…
Склонись ко мне, мой брат исканий,
К моей груди, в тени гробов.
В давно покинутых, разрытых,
Младых и старческих гробах
Слышна мольба – душа забытых…
В давно покинутых, разрытых,
На темных плитах и камнях.
ОР ГТГ. Ф. 62. Ед. хр. 57. Автограф. Опубл.: Письма Ромму 2003. № 4. С. 589–590; Письма Ромму 2008. № 4. С. 57–60.
19. Шагал – А.Г. Ромму
[8 июля 1910 г. Санкт-Петербург]Дорогой Алек[сандр] Геор[гиевич]. Вы мне простите, что к Вам не мог заехать, сложилось так, что не было никакой возможности… И вот бегаю по асфальтовым трот[уарам], пакую свои пожитки, которых так много набралось. Все это будет сегодня вечером закручено в веревках, сколько только сил есть, взвалено на коляску и шмыг по ветру скакуном. Я Вам писал из Нарвы еще письмо, если Вы туда писали, мне перешлют. Жду Ваших известий, писем и фотограф[ию], если можно. Когда увидимся? Кто знает. Никто не знает… Но где мы, я, это всякий знает, т. е. мы… Работайте с восторгом от восхода до захода… и после заката я приду к Вам в темноту… хорошо? Ваш М. Привет Вашим
ОР ГТГ. Ф. 62. Ед. хр. 54. Открытое письмо. Автограф. На оборотной стороне адреса: Усикирко / Читка-Ярви / дача Петрова /для Алекс[андра] Георгиев[ича] Ромм. ниже: Витебск, III часть, Покровская, мне. Датируется по почтовому штемпелю: С. Петербург / городская почта 8–7–10. Опубл.: Письма Ромму 2003. №. 5. С. 590–591; Письма Ромму 2008. № 5. С. 60–61.
20. Шагал – А.Г. Ромму
[29 июля 1910 г. Витебск]И Вы молчите? Рассердил Вас. Почему? Как Вы живете. А фотограф[ия]? Давно уж и ни одного слова, Алекс[андр] Георгиевич. Моисей Мой грустный город40.
ОР ГТГ. Ф. 62. Ед. хр. 54. Открытое письмо. Автограф. На оборотной стороне адрес: Усикирко / Финл[яндская] ж[елезная] дор[ога] /Читка Ярви /дача Петрова/ Алекс[андру] Георгиевичу Ромм. Ниже карандашом рукой А.Г. Ромма надпись: Кореиз Оболенская Карташов [Оболенская и Карташов – соученики Ромма и Шагала по школе Званцевой – в июле 1910 г. находились в Верхнем Мисхоре, почтовая станция Кореиз, в Крыму]. Датируется по почтовому штемпелю: Витебск 29–7–10. Опубл.: Письма Ромму 2003. № 6. С. 591; Письма Ромму 2008. № 6. С. 61.
 Витебск. Елагская улица. Почтовая карточка
Витебск. Елагская улица. Почтовая карточка
21. Шагал – А.Г. Ромму
[8 сентября 1910 г. Витебск]Дорогой Алекс[андр] Георг[иевич]! Простите, что шлю Вам эту ерунду, как будто и в самом деле я «горячий» поклонник Перова (!)41 Но в нашей глуши шедевра не найдешь для вкуса изощренного нашего. Дорогой – кончено, обидно и бо[льно] «а почему? случилось что – нибудь, я… мил[29] ведь очень, очень…[»] «Гиацинты пахнут сладко, но от них сердце болит еще сильней[»]. Алекс[андр] Геор[гиевич], скажите пожал[уйста], ко[гда] в школе начинаются занятия. [И мне] ехать иль… сгинуть здесь, [улы]баясь. Где Бакст теперь, как его [одно слово нрзб.] Я должен еще написать, иначе [не] стоит ехать и так и у[мру]. Земля – могила. Земля во рту.
ОР ГТГ. Ф. 62. Ед. хр. 58. Открытое письмо. Автограф. Текст по краю залит чернилами. На оборотной стороне адреса: Нужное / С.Петербург / Николаевская 3[9]. 7 / Г. Алек[андру] Георгиевичу Ромм. ниже: Витебск. /III ч[асть]. Покровская / мне. Датируется по почтовому штемпелю: Витебск 8–9–10. Опубл.: Письма Ромму 2003. № 7. С. 591; Письма Ромму 2008. № 7. С. 61.
22. Шагал – А.Г. Ромму
[Сентябрь-октябрь] 1910 г. ВитебскВитебск. вечер 910 Дорогой Алекс[андр] Георг[иевич]. Простите, что Вам так долго не отвечал на Ваше открытое. Это ничего не значит. Я только рассеян, хотя работаю понемногу, как могу, по временам. Что писать Вам[?] Т. е. писать можно мне без конца, но как хотя бы начать?.. – Я о Вашей жизни ничего не знаю. Как Вы там поживаете? Вы мне не пишете подробно. Какими делами думаете заняться (всегда непременно уж так установлено, что… делами заниматься надо, хотя бы покупкой и продажей певчих птиц). Будете ли работать в школе под руководством новорожденного Водкина?42 Б[ыть] м[ожет], он и гений для нашей школы – так умеет разжевать какую-нибудь «истину» и вложить ее таки прямым сообщением какому-либ[о] нашему из ряда вон выходящему ученику (…за исключ[ением] армянки с зрачками43 – совсем забыл). Как Ваше самочувствие? Что в школе нового, и кто из старых ученик[ов] занимается? Я написал Баксту письмо, такого никогда не писал еще[30]. Пусть теперь не ответит44. Тогда мне конец. Пусть ничего не выйдет, я молчать не хотел. Так в Питер ехать нельзя, плохо, невыносимо было (не в школе). Больше не надо, и если и здесь пусто и жизнь так же невозможна, так лучше здесь пусть съест меня эта скучная и отвердевшая земля, или растаю в своем одиночестве и – пишите.
СТИХИ М. ШАГАЛА 191045
Какие там свирели
в ночи твоей шумели
и жалобно мне пели
предчувствие утра.
Как долго в отдалении
неслись твои томления
и так без сожаления
скривили мне уста…
Зачем преступных хартий,
похитив их заклятия,
ты облачные рати
прокляла до утра!
Зачем твои печали,
разбив мои скрижали,
жестоко растоптали
мантилию Царя!
Ждала ты вдохновений,
стремительных паден[ий],
когда парящий гений
свершает свой полет!
И вот уж не глубока
печаль. Как тень упрека,
стоишь ты одиноко,
где тонут берега
в дали́. Без сожалений
забытых откровений,
я криком песнопений
смету твои года!
ОР ГТГ. Ф. 62. Ед. хр. 52, 51. Автограф. Опубл.: Письма Ромму 2003. № 8. С. 591–592; Письма Ромму 2008. № 8. С. 61–63.
23. Шагал – А.Г. Ромму
[21октября 1910 г. Витебск]Простите, дорогой, что шлю Вам этот лоскуток46, другого нет, к сожалению, и здесь не достать в провинции. Хочу сказать, что получил Вашу милую, благородную карточку, спасибо Вам. Очень напоминает (простите сравнение) Кнута Гамсуна, и у него пэнснэ остры и усы точно намазаны – я это люблю. Пишите и шлите еще и еще. О себе немного я писал недавно и еще напишу. Почему мне на открыт[ое] не ответ[ила] Елиз[авета] Никол[аевна]47? Хотя я знаю. Все же интересно было б поработать с Водкиным. Моисей
ОР ГТГ. Ф. 62. Ед. хр. 55. Открытое письмо (Carte postale). Автограф. На оборотной стороне адрес: С.Петербург / Николаевская 39. 7 / Алекс[андру] Георг[иевичу] / Ромм. Датируется по почтовому штемпелю: Витебск 21–10–10. Опубл.: Письма Ромму 2003. № 9. С. 593; Письма Ромму 2008. № 9. С. 63.
24. Шагал – А.Г. Ромму
[Октябрь-ноябрь 1910 г. Витебск]Дорогой Александр Г[еоргиевич]. Получил ваше закрытое и открытое. Вы пишете мне о Петрове Вод[кине]. Я чувствовал, что Петр[ов] В[одкин] художник хороший. Это было видно в его главных работ[ах]. [Он] несомненно вдумчив, тонок, (х[отя] иной раз груб), но это положитель[но] [одно слово нрзб.] и все же всего в ученик[ах]. Я даже [ут]верждаю, что за исключением [одно слово нрзб.] официального признания «умени[я?]» [его?] учеников и неумени[я?] Бакстовск[их?] Вод[кин] молодым истинным [позво]лял познать полезн[ое?]. Я гово[рю], [что] захлебнулись наши ученики в пре[делах?] установленной сладко упрощенн[ой] [кра]соты, нек[оторые] даже стали48 (пример <…>това49 и ее ватные, но жизнен[ные] рисунки), Толстая50, Лермонтова и как ее? Блок51. Водкин оживит, огрубит (но огру[бит] Толстую и Жукову52, котор[ые?] только (!) теперь там это уж напрасно), увлечет в друг[ие] – [чем] Бакст – стороны и, м[ожет] б[ыть], если на то слуха хватит, в нек[оторые] противозаконные стороны.
 Марк Шагал и Белла Розенфельд. Витебск, около 1910
Марк Шагал и Белла Розенфельд. Витебск, около 1910
Что Вам писать о себе? Молчание наилучшее средство выражения. Благородно замолчим, и Вы поймете все. О работах тоже. Ничего. Все пла[ны], мысли какие-то, но надо взять <…> [п]устота. Да. Мы уже на рассто[янии] [друг] от друга 6-ти месяцев53 и <…> верст. Летом, когда были нек[оторые] знакомые (их у меня очень мало, толь[ко] [не]сколько друзей), я видался [кое] с кем. Средь них была она… Р.54 <…> недоразумение она (?)[32] в мо[ей] жизни, но факт неоспорим <…> другого прос[ят?] считаться [с этим?]. Я заметил, что женщи[ны] совсем не так тупы и ограни[чены], конечно, исключение это она. Богатство прошедших и современных опытов мимо ее не проходит, и сама питает нек[оторую] любовь к литературе (отнюдь не злоупотребляя… бумагой), философ[ии] и др[угим] отдел[ам] искусства55. Он[и?] очень меткие (далее текст утрачен).
ОР ГТГ. Ф. 62. Ед. хр. 68. Автограф. Фрагмент письма (окончание утрачено). Текст по правому краю залит чернилами и оборван. Опубл.: Письма Ромму 2003. № 10. С. 593; Письма Ромму 2008. № 10. С. 63–64.
25. Шагал – А.Г. Ромму
[Ноябрь-декабрь 1910 г. Витебск]Дорогой Александр. Простите мне, что Вам не писал до сих пор. Простите мне, что и Вы… мне не писали до сих пор, ибо в этом была отчасти моя вина. Я не хочу Вас в настоящее время – время экзаменов Ваших в Университете56, занять Вас моими строками многочисленными, когда Вы, б[ыть] м[ожет], очень заняты. Последнее Ваше закрытое письмо было так любезно и всякого добра в будущем Вы так не жалели для меня, что я теперь более еще сознал свою беспомощность и, увы, далеко недостойность всего этого, но Бог с ним. Мне только хочется еще, чтоб Вы не смотрели так окончательно бесповоротно на Вашу жизнь – будущее. Но все, что Вы сделаете для себя, – я знаю, – все равно это будет Ваше решенное желание в ту или другую сторону так, как найдете нужным для себя.
 Марк Шагал. Витебск, сентябрь 1910
Марк Шагал. Витебск, сентябрь 1910
Затем по получении Вашей Дианы (за что я Вам «в благодарность» шлю тоже такого же качества Диану)57, я был обрадован, во-первых, тем, что предо мной лежит во всей своей красоте одна «простая» совершеннолетняя, по-видимому, поселянка, и во-вторых, тем, что Вы сказали, что имеете возможность поместить кое-что из моего рисования58. Вот это самое ужасное местечко… Очень приятно оно потому, что это было бы впервые для меня (как «впервые» мы были в Аполлоне с нашей школьн[ой] выставк[ой])59, и видеть кое-что свое, как бы то оно ни было, приятно и приятно; затем «приятны» м[огут] б[ыть] и денежки, хотя не вижу, за что здесь брать их вообще, и я бы «с удовольствием», если б для них что-либо сделал, не хотел бы получить, во всяком [случае] до тех пор, пока я не сделаюсь свиньей, а это будет лишь со временем.
 Л.С. Бакст. Париж, 1910-е
Л.С. Бакст. Париж, 1910-е
Но вот что (опять об этом же). Ведь все они удивительно талантливы, напр[имер], статский советник: Реми60, поэт и безукоризненный семьянин: Радаков, приятный мальчик: Яковлев61 и… даже Мисс62. И вот бедняга еврей попадется к ним в руки. И потом, хоть убейте, «карикатурить» не могу, смеяться не могу, а их страницы журнала63 мне очень нравятся, и сам от них «возвышенно[»] смеюсь вечерком. Потом – я совершенно мало или почти совсем не делал рисунков, а если писал неважное, то красками на холсте, что я имею сейчас (на полке лежит, и, Боже мой, ни радости ни… ну ведь понимаете – я сам думаю об этом моем горе – иметь бы Вашу сочность палитры, ее здоровье и чистоту красок Жуковой…). Но я постараюсь сделать и прислать Вам неск[олько] рисунков, они ведь не юдофобы… (а я не юдофил…). Можно ли снимки (котор[ые] я могу сделать) с работ прислать для помещения у них, как будет и «Синий журнал»64. Ну Бог с ним, пока сейчас о другом. Вы знаете, на мое, вероятно, «задевающее» письмо, содержание которого немного «в проэкте» я Вам писал65, я получил от… Б[акста], но злое и… (ха…) по праву. Вот оно:
18 ноября 910 «Любезный Шагал Ваши письма инервируют меня, тем более что в ответе г. Пену66 заключается ответ и Вам. Повторяю: здесь сейчас ничего не могу сделать, в скором времени – вероятно, сделаю что-нибудь. В Париже я остаюсь еще три недели, а затем еду на 1 1/2 месяца в Петербург. Мое мнение о Вас Вы хорошо знаете. Волнуетесь и себе портите. Помните – Вы нервный – я еще нервнее Вас. Как бы не пришлось считаться мне с этой чертой в Вас. Вы напрасно презрительно относитесь к окружающему Вас. В Ваших работах мне более всего нравится именно та провинция, которая вокруг Вас. Но писать таких писем как Ваше последнее – нельзя… Даю Вам сейчас искренний совет. Работайте, не нуждаясь в одобрении окружающего люда, вещи искренние и доведенные до Вашего идеала. Этот материал Вам же потом пригодится. А по приезде в Петербург – я приму меры к реализированию моих проэктов. Помните – я все помню – ничего не забываю. Вас не забываю и стараюсь поступать целесообразно. Жму Вашу руку Лев Бакст»
 Обложка журнал «Сатирикон». (СПб.1908. № 1)
Обложка журнал «Сатирикон». (СПб.1908. № 1)
 Обложка «Синего журнала». (Пг. 1914. № 15)
Обложка «Синего журнала». (Пг. 1914. № 15)
 Санкт-Петербург. Дом, в котором находилась редакция журнала «Сатирикон» (Невский проспект, 7/9). Фото К. Буллы
Санкт-Петербург. Дом, в котором находилась редакция журнала «Сатирикон» (Невский проспект, 7/9). Фото К. Буллы
Б[ыть] м[ожет], он уже в Питере67. Вы бываете в школе, а у меня на него карикатура есть, только я ее рву – я раньше чуть не лопнул от натуги и от такого письма… Пишите – умоляю Вас щадить… (Я кланяюсь Вашей маме68 – опускаю голову) Ваш преданный и любящий – Жуан69 А что, м[ежду] п[рочим], «Дон Жуан»70, здорово, что Бенуа растрепал по щепоточкам «бердсле[я]новщину» и себя и Сомов[а] и Бакста исповедь71. Отчухались ли Вы после смерти Т.72 Конец теперь всем «интервьюерам». Как Вы думаете, «приятно» написать «смерть Толстого», только не так как пишет «Пимоненко» иль «Сухово-Кобылин»… Притом такой прародительницей изобразить Софию Андр[еевну]. – Что выставка, в[о]-первых, Тархова73 и «Нов[ого] общ[ества]»74? Ни одного слова не говорите. Но по праву, ей Богу, може[те] отложить на время Ваше «право»75 и пойти туда и сказать, что хорошего на свете.
ОР ГТГ. Ф. 62. Ед. хр. 65, 67. Автограф. При регистрации архива А.Г. Ромма публикуемое письмо рассматривалось как два самостоятельных отрывка и соответственно было оформлено как две единицы хранения. Опубл.: Письма Ромму 2003. № 11. С. 594–595; Письма Ромму 2008. № 11. С. 64–66.
26. А.Ф. Гауш – Шагалу
[Март 1911 г. Петербург]Многоуважаемый Г[осподин] Шагал! Очень извиняюсь, что до сих пор не ответил Вам76: я был страшно занят историческ[ой] выставкой архитектуры77. Чем могу, с удовольствием услужу Вам и с этой целью прошу Вас зайти ко мне на этих днях около 2 1/2 час[ов] (до 3-х)78; но не ожидайте многого и не сравнивайте меня с капиталистами-меценатами79, с которыми мне тягаться не под силу. Преданный Вам А. Гауш
РО ГРМ. Ф. 137. Оп. 1. Ед. хр. 2646. Л. 1–1 об. Автограф.
27. Шагал – А.Г. Ромму
[11 мая н. ст. 1911 г. Берлин]четверг Дорогой дружок, прости моему молчанию. Только общее мое плохое самочувствие могло меня на несколько лишних дней задержать дома. Вчера приехал сюда и сегодня, [уезжая?], осмотрю бегло «Национ.» и «Фридр.»80. Стою в пенс[ионе], но не в мамином [одно слово нрзб.], ибо там не было мест. Она81 прекрасно помнит, говорит, маму: «у нее три сына». Устал адски. Спал адски, по частям свое тело раскладывал: где руку,где ногу, то, друг[ое]… а теперь еще 36 час[ов] езды до Парижа. О их бин дурстих! О мир ист варм![33] Но напрасно я звоню. Как ты живешь? Сердечно кланяюсь маме тв[оей] Софии Евс[еевне] и Евс[ею] Георг[иевичу] и Влад[имиру] Геор[гиевичу]. Из Парижа (?)[34] напишу – да – твой. Но пока могу дать этот адрес мой до посылки другого – моей кв[артиры] (Post – Restante Bureau 25 M. Shagalloff).
ОР ГТГ. Ф. 62. Ед. хр. 60. Почтовая карточка (Postkarte). Автограф. На оборотной стороне адрес: С. Петербург /Николаевская 39 к. 7 / Алекс[андру] Георг[иевичу] Ромм / от М. Шаг[ала]. Датируется по почтовому штемпелю: Berlin 11–5–11. Опубл.: Письма Ромму 2003. № 12. С. 595; Письма Ромму 2008. № 12. С. 66.
 Берлин. Кайзер Фридрих музеум. Открытка начала ХХ в.
Берлин. Кайзер Фридрих музеум. Открытка начала ХХ в.
28. Шагал – А.Г. Ромму
[Май 1911 г. Париж]Писал ли я другу своему 2 слова, когда за верстой – верста, за облаками – расстояния. Я вспомнил тебя. Грустный большой интеллигентный муж. Пробил мой час и дым растает, а где ж лицо?82 Приехал в большой город. Это займет отдельные страницы на последнем повороте каждого человека. Я, конечно, еще не совсем устроился, надеюсь скоро успокоиться тогда, когда найду порядочное помещ[ение] для себя. Пока я временно в меб[лированных] ком[натах], и это мне ничто. Сказать, что я топтался в «Национале», «Фридрихмузее»83, «Люксембурге»84, Лувре, что я шел по «закату» «вниз по «Сене», что Пантеон с Роденом напружинил меня? Что Манэ однажды написал Олимпию, а Делакруа тоже, и оба они божественные? Что «Венера Милос[ская]» чуть не убила меня [?] Все это – неопубликованные происшествия… Дорогой, ты будь моим секундантом по выставке85, где поныне еще, б[ыть] м[ожет], висит мой хладный труп. И ты адрес дай выставки и пиши, пиши… И бывай у Гольдберг[ов] и кланяйся им. Я кланяюсь сердечно маме, привет Евс[ею] Г[еоргиевичу] и Володе. Володе.
ОР ГТГ. Ф. 62. Ед. хр. 59. Почтовая карточка (Carte postale). Автограф. На оборотной стороне адреса: С. Петербург / Николаевская 39 к. 7 /Алекс[андру] Георг[иевичу] Ромм / Russie. ниже: Paris / Post Restant / № 25 Bureau /M. Chagaloff. Датируется по почтовому штемпелю: С. Петербург 5–5–11 Гор. почта. Опубл.: Письма Ромму 2003. № 13. С. 596; Письма Ромму 2008. № 13. С. 66–67.
 Марк Шагал у фонтана Обсерватории. Париж, июнь 1911
Марк Шагал у фонтана Обсерватории. Париж, июнь 1911
29. Шагал – А.Г. Ромму
[Конец мая – начало июня 1911 г. Париж]<…>[35] Тетя86 больше чем выказала свою родственность душ с Вами, она всеми деталями интересуется из Вашей жизни, и жаль только, что немного-то «деталей» я знаю. Как твое здоровье? «Небось» зубришь[36] 87. Но я думаю, если не пишу еще ничего особенного, все же примешь и это как следует. Из Петербурга не получаю еще ни одного слова и не знаю еще, когда получу финансы. Гольдберг бол[ен?]. Б[ыть] м[ожет], (т. е. наверно) нужно было б работы показать Винаверу88, они находятся у Гольдберга. Дорогой, побудь, как только сумеешь, у Гольдберг[а] и встреть Анну Наумовну89. Она скажет – что и как, ты скажешь ей, когда думаешь также ехать, и горячо поклонись им. Все, что можно из моих работ (и что если останется – останется), возьмешь с собой то, что найдешь нужным. Всего хорошего, спешу. Пиши пока: адрес Post Restante Bureau [25] Shagaloff
ОР ГТГ. Ф. 62. Ед. хр. 69. Автограф. Фрагмент письма (начало утрачено). Текст в нескольких местах залит чернилами. Опубл.: Письма Ромму 2003. № 14. С. 596; Письма Ромму 2008. № 14. С. 67.
30. Шагал – А.Г. Ромму
[16 июня н. ст. 1911 г. Париж]Дорогой Алек[сандр]. Здесь ждали тебя (Шлепян90 и я) к 13му июню. Но тебя не было – теперь 16–17го июня. Надо было б, т. е. я б хотел, чтоб ты написал, когда ты именно думаешь быть здесь. Напиши, пожалуйста, об этом скоро. Затем, что касается выставки, то она будет открыта (эндепендан) до 30го с[его] м[есяца] (июня)91. До 24 июня также открыта у Бернгейма Ван Донген92, кажется, открыта еще (?)[37] и Мориса Дени. Кроме глав[ных] правительст[венных] Салонов 2-х93. Что поделываешь, как поживаешь? М[ежду] п[рочим], здесь русс[кий] балет. Тоже штука (я был не раз), но ему на днях конец94. Всего хорошего. Напиши. Поклонись маме. Привет братьям. Тв[ой] Моисей. Если успеешь, захвати фот[о] у Иоффе мои 2 пробные карточки. Я заплатил. Невский 29, телефон есть у него, М.С. Иоффе95.
ОР ГТГ. Ф. 62. Ед. хр. 64. Почтовая карточка (Carte postale). Автограф. На лицевой стороне фотографический вид Парижа: Le Metropolitain, boulevard de la Villette C.L.C. На оборотной стороне адреса: С.-Петербург / Николаевская 39 к. 7. / Алекс[андру] Геор[гиевичу] Ромм / Russie. ниже: Paris / Post – Restante / Bureau 43 / M. Chagaloff. Датируется по почтовому штемпелю: Paris 43 16–6–11 R. Littre. Опубл.: Письма Ромму 2003. № 15. С. 597; Письма Ромму 2008. № 15. С. 67–68.
 Париж. Метрополитен, Бульвар де ля Виллет. Почтовая карточка
Париж. Метрополитен, Бульвар де ля Виллет. Почтовая карточка
31. Шагал – М.В. Добужинскому
[12 октября 1911 г. Париж]Paris 12 окт (29) 911 Глубокоуважаемый Мстислав Валерьянович. Вот уже 5 месяцев я в Париже живу и работаю и не забыл, что когда я уезжал, Вы после того как мне сказали, что сумею выставить в «Мире Искусстве[»], просили чтобы я прислал свой адрес. Не перестаю ныне надеяться, что Вы любезно напишите: как со мной решили. – Большой честью, конечно, премного обязанный моим прежним руководителям, я бы считал: быть вблизи Вашего уважаемого Общества, [с] мнением которого считаюсь и тем более когда я здесь в Париже живу и работаю одинокий. Надеюсь Вы не замедлите ответом и тем любезно дадите мне знать как в скором [времени] поступить. Ваш преданный и бывший ученик М. Шагал. Paris. Impasse du maine 18 / atelieur 18 / M. Chagall96 P.S. Привет от Л. Бакста, который вчера был у меня здесь и ему сказал что Вам напишу и он тоже советовал это сделать, наметив 2 работы. М.Ш.
Архив Дома русского зарубежья им. А.И. Солженицына, Москва (ранее собр. В.Н. Ильина, Париж; Н.В. Ильина, Франкфурт-на-Майне). Ф. 31. Автограф. Опубл.: Письма Добужинскому 2012. С. 69; Письма Добужинскому 2013. С. 81–82.
32. Шагал – М.В. Добужинскому
[Вторая половина октября – начало ноября 1911 г. Париж]Paris 1911 Глубокоуважаемый Мстислав Валерьянович. Я получил Вашу телеграмму97 и сегодня высылаю работы (в одном ящике с работами г. Тархова98). Баксту я известил. Теперь хочу обратиться к Вам с просьбой: для меня очень нужно быть уверенным, что все мои работы будут на выставке. Вспоминаю пререкания с цензурой на нашей выставке в Аполлоне99 и поэтому очень беспокоюсь судьбой моих теперешних работ; могу надеяться только на Вас, что Вы, если возможно, отстоите работы перед цензурой. – Сомневаюсь относительно вещи: «Внутренность дома (рождение)». Быть может, цензор будет придираться к названию «рождение», тогда прошу Вас сохранить только первое и объяснить ему как декоративную задачу исключительно. Мне очень неловко Вас беспокоить, зная что Вы будете заняты и так, но я не знаю никого в Москве. Так и относительно развески картин я бы считал желательным повесить их в определенном освещении (следуя обычаю французского салона, где всегда опрашивают относительно развески). Повесить хотел бы в пол наклона; не против окна с сильно бьющим светом; но также не в слишком темном месте, лучше всего повесить сбоку от окна. Притом необходимо смотреть на расстоянии и в маленькой комнате им не место. Наконец, о чем я б Вас хотел попросить, это, чтоб комитет выставки100 послал мне счет всех расходов, павших на мою долю, включая сюда часть стоимости за пересылку работ совместно с Тарховым, или предъявить его человеку, который зайдет уплатить следуемое от моего имени. Вот все, что я Вас хотел просить, и позволю себе надеяться что примете все меры, чтоб остаться Вам искренне благодарным и обязанным. М. Шагал.
Назв[ания] раб[от:] № 1 Внутренность дома (рождение) № 2 Комната № 3 Покойник на улице101. (но все эти названия можете Вы по Вашему усмотрению как угодно переменить).
Архив Дома русского зарубежья им. А.И. Солженицына, Москва (ранее собр. В.Н. Ильина, Париж; Н.В. Ильина, Франфурт-на-Майне). Ф. 31. Автограф. Опубл.: Harshav 2004. P. 204 (пер. на англ.); Письма Добужинскому 2012. С. 69–70; Письма Добужинскому 2013. С. 82–83.
33. Шагал – К.В. Кандаурову
[Начало ноября 1911 г. Париж]Милостивый государь. Позвольте мне Вам написать то, о чем я забыл упомянуть в письме к г. Добужинскому[38]102. Посылая 3 вещи на выставку «Мир искусства», я бы желал относительно вещей: «Внутренность дома (рождение)», «Комната» воспользоваться моим правом экспонента выставить 2 вещи без жюри. Примите уверение в соверш[енном] почт[ении] М. Шагал. Paris. Impasse du maine 18.
[На обороте продолжение письма]: По мере возможности /в виду возможных в России придирок цензуры отстоять как-нибудь работы. Развеска /не в маленькой комнате, не в темной стороне, не против окна с бьющим светом, полунаклон; хорошо бы сбоку от окна Рамы /простые № 2 можно с углублениями (желт. сероват. охра), желт. цитрон № 3 Надеюсь за все быть искренно благодарным Chagall.
РГАЛИ. Ф. 769. Оп. 1. Ед. хр. 210. Л. 1–3. Автограф, зарисовки картин. Опубл.: Возвращение мастера 1988. С. 316–317 (датировано: 14 ноября 1911); Kamenski 1988. P. 291 (воспр. фрагм.); Chagall Frankfurt 1991. S. 144–145 (пер. на нем.); Каменский 2005. С. 272 (в сокр.). Письмо на трех листах. Лист 2 заполнен с двух сторон: на лицевой стороне рисунки с трех картин и аторские надписи – правее рисунка «Внутренность дома (рождение)»: № 1 / желт. рама / охра / простая. правее рисунка «Комната»: № 2 / Очень черн. рама из простого дерева нетесанного. правее рисунка «Покойник на улице»: № 3 / рама очень желтая – цвета неба; на оборотной стороне образцы красок: № 1 – охра, № 2 – черный, № 3 – желтый цитрон. На листе 3 рисунки с картин «Покойник на улице» и «Внутренность дома (рождение)» (последний обрезан справа); вокруг рисунка «Покойник на улице» авторские надписи – вверху: На этой карт. (№ 3) оставлен след на холсте от прежней рамы и новая, желтая рама должна его закрыть. внизу: рама простая гладкая цвета неба. Под рисунком «Внутренность дома (рождение)» фрагмент авторской надписи (обрезана): № 1 Внутренн[…] / вне жюр[…] / простая рама / дерева покра[…] густо.
 Письмо Шагала К.В. Кандаурову. Париж, начало ноября 1911
Письмо Шагала К.В. Кандаурову. Париж, начало ноября 1911
34. Шагал – А.Н. Бенуа
[Вторая половина ноября 1911 г. Париж]Paris. 911. Impasse du Maine, 18.
Глубокочтимый Александр Николаевич. Написал несколько слов и остановился. Я как бы спрашиваю себя: как осмеливаюсь я Вам писать? Кроме того, мне это душевно, по отношению к Вам, не легко делать. Для того, чтоб с более легкой душой Вам писать, я должен был бы иметь на это известное право, а это большой вопрос для меня, сложный и больной. Вот почему меня можно обвинить в редких случаях в робости перед людьми, а перед Вами в особенности – в данном случае. И тысячу раз в конце концов я б желал просить прощение… Позвольте откровенно сказать все. Работаю в Париже. Каждый день из головы не выходит мысль, что есть, наверно, что-то существенное, всегда живущее, и я стараюсь, все потеряв (само теряется и слава Богу), иметь это, и сверх того в награду этим же не быть довольным. Одним словом, я работаю. Но нужно же то, что делаешь (я даже этого хочу – поскольк[у] могу) показывать. Кроме того, что это еще долг с моей стороны по отношению к некоторым, материально которым, увы, я должен быть пока обязан, как всегда так и теперь, самым, б[ыть] м[ожет], не знающим, почему я для них такая обуза, зачем и так трудно это мне. За это время пребывания в Париже в «Осенний Салон», куда не своей силой толкнулся, был не принят103 (из них – 2 работы, которые были послан[ы] недавно вместе с Тарховым в Москву104). Я Вам это признаюсь, ибо что мне скрывать. Было больно, но потом Бакст успокоил, упрекнув: почему ему не сказал раньше, в то время как он проводил каких-то незнакомых ему иностранцев. И я должен знать, что «протекция» еще кроме всего нужна. Вспоминаю, что в «Союзе Молодежи» тоже огорчили, не взяв то, что было нужно, еще кроме того оскорбив105. Но достаточно, что я огорчаюсь, когда вынужден, волей иль неволей, когда прошу др[угих] людей (иль за меня просят)… о хлебе. Когда же я обращаюсь к художникам работою, то я думал и думаю, если можно, избавят от лишних просьб. Так вот я не принятый и, б[ыть] м[ожет], долго еще не принимающийся «экспонент», кроме своих личных художественных, необходимых огорчений, должен иначе и часто огорчаться еще. Обращаясь к Вам, я, во-первых, радуюсь, что чистосердечно пишу человеку знающему и близко понимающему даже того, кто не все в состоянии сказать. И во-вторых – Ваша художественная прямота Вам даст точный отзыв, могут ли быть на Вашей выставке «М[ир] И[скусства]» мои работы (начальн[ые] здесь и, конечно, далекие до всяких совершенств). Почему-то напуганный прошлыми уроками, несмотря на обещание (письмо М.В. Добужинского106) убежден, что для меня должно вообще случиться наоборот, и когда так и случается, то уже не можешь даже этому удивляться. А такое б возможное с Вашей стороны участье может быть для меня дополнительным, но полезным уроком. Простите за беспокойствие и спасибо Вам за то, как мне кажется, что легче мне как-то стало, несмотря на большой холод в моей комнате. Преданн[ый] Шагал.
ОР ГРМ. Ф. 137. Оп. 1. Ед. хр. 1721. Л. 1–4. Автограф. Опубл.: Chagall Martigny 1991. P. 235 (пер. на фр.); Chagall Frankfurt 1991. S. 146–147 (пер. на нем.); Chagall Paris 1995. P. 238–239 (пер. на фр.); Harshav 2004. P. 201–202 (пер. на англ.).
35. Шагал – А.Г. Ромму
[Декабрь 1911 г. Париж]Дор[огой] Алекс[андр]. Я тв[ое] откр[ытое] получил, но не мог сейчас ответить. Как поживаешь и надолго ли остаешься в Финлянд[ии]. Здесь все по старому. Выставки бывают, м[ежду] п[рочим] и футуристов107 откр[оется], скоро «Independant», куда я тоже послал 3 раб[оты] (такое правило в этом году), но ценз[ура] больш[ую] работу сняла108. Здесь уже весна. Хорошая школа откр[ылась?] под руководством Лефоконье, Метценже109 и нек[оторых] др[угих]. Пиши обо всем – м[ежду] пр[очим], о картин[ах]. Моя благодарность брату Евс[ею] Георг[иевичу], но нельзя ли лучше нанять от моего имени человека для передачи карт[ин], так как, оказалось, сестра110 и не знакома с Петерб[ургом] и стеснена. Тв[ой] друг М.
ОР ГТГ. Ф. 62. Ед. хр. 62. Почтовая карточка (Carte postale). Автограф. На лицевой стороне фотографический вид: Photo Emil Jacob 4 bis Jmp. du maine Paris. На оборотной стороне адреса: Finlande / Mustamaki / Nevolа /J. Leino / pour A. Romm. ниже: Paris./ Impasse du Maine, 18 / M. Сhagall. Датируется по почтовому штемпелю: Mustamaki 17–12–11. Опубл.: Письма Ромму 2003. № 16. С. 597; Письма Ромму 2008. № 16. С. 68.
 Париж. Тупик Дю-Мен. Почтовая карточка
Париж. Тупик Дю-Мен. Почтовая карточка
36. Шагал – М.В. Добужинскому
[7 февраля н. ст. 1912 г. Париж]Paris 912 Глубокоуважаемый Мстислав Валерьянович. Позвольте М. В. обратиться к Вам с неск[олькими] воп[росами], изв[ините] за беспокойство. Мне б очень хотелось знать о судьбе моих бедных работ, котор[ые] теперь, наверно, в Петерб[урге], как написала мне одна знаком[ая] из Москвы111. Но пожалейте меня, и хоть самый жалостный результат и Ваш также суд пришлите мне, пожалуйста. Я знаю уже, что в Москве они были сняты112. Неужели в Петерб[урге] тоже беда (одно слово нрзб.) Если б я был в школе, как когда-то в Петербурге, я б мог узнать Ваше мнение, а теперь не знаю скажете ли мне и, м[ожет] б[ыть], недовольны мной. Но жалко мне, что З-я работа более последняя (авг[уст] 911) оставлена в Москве, и Вы и др[угие] знакомые не увидите – более нравящуюся мне113. Оставленная же, она была взята, как писали мне, Ларионовым в «Ослин[ый] хвост» (?)[39]114. К сожалению, в откр[ытом] нельзя написать более, чем мне хотелось б. Думаю: Вы будете любезны и напишите мне – и откр[ылся] ли «М[ир] Иск[усства]»115? Предан[ный] Шагал.
Частное собрание. Открытое письмо (Carte Postale). Автограф. Адреса – по краю письма: Impasse du maine 18 / M. Chagall. на оборотной стороне: С. Петербург / Дровяной пер. / д. 7 / художн. / М.В. Добужинскому / Russie. Датируется по почтовому штемпелю: Paris – 7 Febr. – 12.
37. М.Ф. Ларионов – Шагалу
[Апрель – май 1912 г. Тирасполь]Дорогой и уважаемый Господин Шагал! Я сейчас живу в г. Тирасполе, Херсонской губ[ернии], письма писать до востребования, так как я не знаю долго ли здесь пробуду. Ваших работ у меня только одна «Смерть»116. Ее мне госпожа Эренбург117 передала для отправки Вам. Эта работа и была (далее текст утрачен).
Музей Стеделик, Амстердам. Фонд Н.И. Харджиева. Автограф, черновик.
 Михаил Ларионов. Москва, 1909–1910
Михаил Ларионов. Москва, 1909–1910
38. Шагал – М.В. Добужинскому
[13(26) декабря 1912 г. Париж]Глубокоуважаемый Мстислав Валериянович. В ответ на любезное приглашение Ваше в «Мир Искусства», переданное мне г. Тугендхольтом118, посылаю неск[олько] работ. Я сделал их в Париже из желания вспомнить Россию. Эти раб[оты] не вполне характерны для меня: отобраны для русской выставки наиболее скромные. Позвольте от души поблагодарить Вас за внимание ко мне, которое, как сознаю, я далеко не заслужил. Уважающ[ий] В[ас] и преданный Вам Шагал. P.S. Рисунки прошу Вас пожалуйста поместить в каталоге под заглавием: Из цикла «Впечатления России». №.№. (рисунки). (№ 1 на обложке – не составляет моей собственности)119.
РО ГРМ. Ф. 115. Оп. 1. Ед. хр. 338. Л. 2. Автограф. Вверху рукой М.В. Добужинского(?) надпись: 912. Paris. Passage de Dantzig. 2. Chagall120. На конверте (Л. 3) рукой Шагала адреса: С. Петербург. Russie / Дровянной переулок. 4 / г-ну Мстиславу Валерияновичу Добужинскому. ниже: Exp. Paris. Passage de Dantzig. 2. / Chagall. Датируется по почтовому штемпелю: Paris. 26 dece 12. Опубл.: Chagall Martingny 1991. P. 238 (пер. на фр.); Chagall Frankfurt 1991. S. 47 (пер. на нем.); Harshav 2004. P. 203 (пер. на англ.).
39. Шагал – А.Н. Бенуа
[Осень 1914 г. Витебск]Глубокоуважаемый Александр Николаевич. Не сумею ли я прислать для Вашей уважаемой худож[ественной] выставки121 несколько работ (этюды сделаны в России122). Находясь по случаю войны здесь, достаточно скучая (о ужас в наше время!) был бы рад. – Вам, б[ыть] м[ожет], небезинтересно знать кратк[ую] истор[ию] моего житья. Вот лишь недавно перебрался из Берлина123, где, увы, была устроена (в июне-июле) моя выставка (200 раб[от]: 40 карт[ин], 160 рисунк[ов])124. Не могу выразить свою печаль. Все застряло там. Я так или иначе дорожу прежним, за них отвечаю перед «страшным» судом. Бог знает: увижу ли их, не говорю уж о получении следуемого от продажи вещей там125. Затем: застряли в Амстердаме в салоне 3 большие картины126. (Ах – м[ожет] б[ыть], Вы их не любите, но я не то что не люблю, но без головы от них). Еще до войны сообщил мне комитет, что они продались, но ничего не успел я получить уже после объявления войны. Затем застряли в Брюсселе 2 картины. Затем – все остальные работы у моего patron-a галлер[ист] Charles Malpel127, заключивший со мной контракт в мае с[его] г[ода], а разве он не убит? Затем… Довольно – будем ждать вестей Главнокомандующего, подвигов генералов Рузских128 (я Его люблю, непременно напишу Его портрет). Если можете меня приютить на выставке, приехал бы сам. Если только Вы признали во мне художественность, а ведь это и есть только: необходимое «сколько», за остальное позвольте мне ручаться рано или поздно моей кудрявой головой. С почтением Марк Шагал. Exp.: Витебск. Покровская. Соб[ственный] дом.
РО ГРМ. Ф. 137. Оп. 1. Ед. хр. 1721. Л. 7–8. Автограф. Опубл.: Chagall Martingny 1991. P. 235–236 (пер. на фр.); Chagall Frankfurt 1991. S. 147 (пер. на нем.); Chagall Paris 1995. P. 239 (пер. на фр.); Harshav 2004. P. 223 (пер. на англ.).
40. Шагал – А.Г. Ромму
[Апрель-май 1915 г. Витебск]Вит[ебск] 915 Дорогой Александр. Получил твое письмо. Только что приехал из деревни, где искал дачу и для мамы (она еще более больной приехала во время войны из немецк[ого] курорта), и для себя. От тебя же, по правде говоря, и не ждал письма129. Не знаю, чем это объяснить. Сам же я не писал, так как все равно письма более того, чем ты знаешь, не могли бы сказать: о всегдашнем моем неменяющемся отношении к тебе. Скорее всего я имел основание беспокоиться о тв[оем] здоровье, котор[ое] у кого нынче оно благополучно? Я здоров, но постарел как все, наверно. Работал до послед[него] времени «этюды»130, котор[ые] все сейчас и часть котор[ых] была, (а м[ожет] б[ыть], еще и теперь), на выставке «1915» в Москве131. Это тип средних и по работе, думаю, и по размеру работ «для отдыха», каков[ой] я считал нужным и приятным для себя делать после несколько бурной моей жизни заграницей. О судьбе моих же заграничных работ ничего еще неизвестно. Полагаю так или иначе что-ниб[удь] получить из своих вещей с выстав[ки] в Берлине, состоявшейся там в мае – июне пр[ошлого] г[ода], и также 3 больш[ие] карт[ины] с Амстердама и Парижа132. Посмотрим. Ничего заграничного вообще я с собой не забрал и даже ателье мое еще «за мной»133. Также неизвестна мне (или неизвестна будет) судьба француза содержат[еля] галереи, заключившего со мной контракт на определ[енное] время еще до войны134. Витебск обыкновенный скучный город, но близкий мне лишь потому, что в нем родился. Чувствуется война и здесь. Только мне бывает иногда грустно, что ни музыки, ни книг, ни картин здесь не видать. Вот уж год как я не видел ни одной русской картины со дня приезда135. Участвовать на русск[их], особенно молодых выставках я, по правде, боюсь. Насколько можно и нужно было участвовать рядом с европейцами модернистами, в крови котор[ых] струится кровь великих традиций, дерзаний и скромности, глубокой очищенной культуры, передающейся там от дедов к правнукам, настолько здесь часто видишь желание шутить и шутить, что не всегда мыслимо. Произведения искусства не могут служить орудием шуток, насмешек. Шутить не над кем, а только над самим собой. Вот почему так полезны и ценны все последние подвижнические течения в искусстве и футуризм в Италии. Лично я не хожу ни по одному из этих путей. Относит[ельно] приезда в Питер нужно было б к будущ[ей] осени, пожалуй136. Я хлопочу с «правами» и что касается выставлений в «общ. безпарт.»137, тогда же посмотрим. Как ты думаешь, приняли бы у меня рисунки черн[ые] с бел[ым] в «Сатирик[он]»?138 Вообще смог бы ли я в подобных где журналах посотрудничать? Здесь у меня нек[оторые] уроки, успехами которых я доволен, но они их не понимают. Пиши. Привет тв[оим] родным. Твой Моисей. P.S. Брат мой139 свобод[ен] – по болезни. Сестра, рисовавш[ая], замужем140 (одна в Питере замужем: Анна141. Мал. Подъяческ[ая] д. 14, кв. 21). Да и я, пожалуй, стану «мужем»142.
ОР ГТГ. Ф. 62. Ед. хр. 63. Автограф. Опубл.: Письма Ромму 2003. № 17. С. 598; Письма Ромму 2008. № 17. С. 68–70.
41. Шагал – А.Н. Бенуа
[Конец 1915 – начало 1916 г. Петроград]Дорогой Александр Николаевич Простите, что беспокаиваю Вас. Я был у Вас, но не застал, к сожалению, дома. Чувствуя себя еще не совсем здоровым после недавней болезни, я решаюсь написать Вам вместо изнуряющей меня ходьбы. Да и легче мне написать то, что с трудом могу сказать – положение мое делается все более невыносимым – то лежу (заболеваю) в кровати, то скитаюсь по улицам – бледнею на каждом углу. Ведь я совершенно один, и каждому проходящему ведь некогда – иногда – улыбнуться в знак согласия. – Повсюду та же участь что с А. Коровиным143. Повестка за повесткой извещают меня о скором выселении (куда? на Камчатку?) С Гаушем Бог знает что выйдет, боюсь к нему зайти, чтоб, б[ыть] м[ожет], не потерять последнюю надежду144. Но Вы поговорите с ним? Я послал Ему письмо на днях. Лишь после Вашего переговора с ним, я завтра же вечером зайду к нему. Простите мне мой несолидный, но естественный тон письма при моем глубоком почтении и любви к Вам Шагал. Надеждинск[ая] 18. 3145.
РО ГРМ. Ф. 137. Оп. 1. Ед. хр. 1721. Л. 5–6. Автограф. Опубл.: Chagall Martingny 1991. P. 235 (пер. на фр.); Chagall Frankfurt 1991. S. 148 (пер. на нем.)
 А.Ф. Гауш
А.Ф. Гауш
 К.В. Кандауров
К.В. Кандауров
 Санкт-Петербург. Шведская лютеранская церковь Св. Екатерины и дом Лидваля (справа) на Малой Конюшенной улице, 1, в котором проходила выставка «Мир искусства» (1913). Открытка начала ХХ в.
Санкт-Петербург. Шведская лютеранская церковь Св. Екатерины и дом Лидваля (справа) на Малой Конюшенной улице, 1, в котором проходила выставка «Мир искусства» (1913). Открытка начала ХХ в.
42. Шагал – С.К. Маковскому
[Начало 1916 г. Петроград]Глубокоуважаемый Сергей Константинович. За первый Ваш привет в Петрограде, за Ваше внимание, единственно Вами оказанное мне, примите мою сердечную благодарность. Мне всегда лишь светило французское солнце (о как!). Я привык «валандаться» по Парижскому асфальту, мечтая о 125-ти летней жизни, ничего не желая (вдали светился Лувр). Попав в провинцию, в Россию, «я решил умереть…» Спасибо за Ваш привет. Сердечно благодарный и преданный Марк Шагал. P.S. Добычина меня выставляет, начало апреля, я буду занимать отдельную клетку146. Прилагаю Список: № 1 Окрестность города Витебска (масло) – 1914 № 2 Часы (масло) 1914 г. № 3 Молящийся еврей (масло) 1914 г. № 4 Старик масло 1914 г. № 5 Дом в м[естечке] Лиозно Собств. Морозова Москва (масло) 1914 г. № 6 Парикмахерская Собств. Морозова Москва (масло) 1914147. № 7 В провинции (масло) 1914. Впрочем, многоуважаемые названия могут свободно подвергнуться изменению по Вашему усмотрению. Увы! Нет средь этих работ (серии работ, сделан[ных] по приезде из Парижа) ни одной заграничной вещи! С уважением Марк Шагал.
РО ГРМ. Ф. 97. Оп. 1. Ед. хр. 297. Л. 1–3. Автограф. Опубл.: Chagall Martigny 1991. P. 237 (пер. на фр.; датировано: 1915); Chagall Frankfurt 1991. S. 148 (пер. на нем.; датировано: 1915); Каменский 2005. С. 272. В РО ГРМ письмо датировано 1915 г. с пометой: Датировка Шагала в 1973 г. 12 VI. Однако правильнее датировать письмо началом 1916 г., когда художник готовился к открытию выставки «Современная русская живопись».
 М.В. Добужинский. Около 1908
М.В. Добужинский. Около 1908
 С.К. Маковский. 1900-е
С.К. Маковский. 1900-е
 Петроград. Дом Адамини (Марсово поле, 7), в котором размещалось Художественное бюро Н.Е. Добычиной. Современное фото
Петроград. Дом Адамини (Марсово поле, 7), в котором размещалось Художественное бюро Н.Е. Добычиной. Современное фото
43. Шагал – С.К. Маковскому
[Конец 1916 г. Петроград]Многоуважаемый Сергей Константинович. Последняя Ваша статья о выставке современной русской живописи148 доставила несколько горестных минут. Насколько я безразличен, презираю бульвар Искусства с его людьми, живущими Бог весть чем, но не запросами художества, настолько нехладнокровно, [с] требовательностью и любовью я отношусь к тем, кто Законом Божьим – Искусством живут. Видеть их случайную ошибку (с моей скромной точки зрения), слышать их не до конца пережитое суждение – мне больно. Их паденье – все тот же необъяснимый и ясный ужас. Естественно, не из эгоистических соображений мы жаждуем признания людей (2-го ранга) как по отношению к себе, своим делам, так и по отношению к другим. Мысль о том, что, м[ожет] б[ыть], я иду по ложному пути, мною никогда не допускается и допущена не может быть (мною). – Как не сожалеть, что Вы, один из уважаемых людей, замолчали меня (что важно не по частным, а более общим соображениям), оставив меня наедине с жестокой мыслию о колеблемой правде. С соверш[енным] почтением к Вам Шагал.
РО ГРМ. Ф. 97. Оп. 1. Ед. хр. 297. Л. 4–4 об. Автограф. Опубл.: Chagall Martingny 1991. P. 238 (пер. на фр.); Chagall Frankfurt 1991. S. 148 (пер. на нем.; датировано: сентябрь-октябрь 1916); Chagall Paris 1995. P. 239–240 (пер. на фр.); Каменский 2005. С. 272.
 Санкт-Петербург. Дом, в котором находилась квартира адвоката Г.А. Гольдберга (Надеждинская ул., 18). Современное фото
Санкт-Петербург. Дом, в котором находилась квартира адвоката Г.А. Гольдберга (Надеждинская ул., 18). Современное фото
 Петроград. Дом, в котором в 1915–1918 жил Марк Шагал (Перекупной пер., 7). Современное фото
Петроград. Дом, в котором в 1915–1918 жил Марк Шагал (Перекупной пер., 7). Современное фото
44. Шагал – А.Н. Бенуа
[6 декабря 1916 г. Петроград]Глубокоуважаемый Александр Николаевич. Еще в прошлом году я очень хотел «поблагодарить» Вас и в этом году мне хочется быть более тактичным и «выразить»… Трудно очень сказать хоть два «обыкновенных» слова, но без слов позвольте мне поблагодарить Вас за приветливость, слова любви. Ведь больше ничего не надо149. Глубоко уважающий Вас Шагал.
РО ГРМ. Ф. 137. Оп. 1. Ед. хр. 1721. Л. 11. Автограф. Внизу карандашом рукой А.Н. Бенуа (?) проставлена дата: 6/XII 1916. Опубл.: Chagall Martingny 1991. P. 236 (пер. на фр.).
45. Шагал – А.Н. Бенуа
1 октября 1917 г. Петроград1 / Х 1917 Глубокоуважаемый Александр Николаевич. Во-первых, я хотел бы сказать, что почему-то я никогда не имею счастья (в наши или мои лишь грустные минуты жизни) с Вами хоть немножко побеседовать, просто свидеться. Вы удивитесь? – Как «молодой» со «стариком» хочет беседовать, душу отводить? Да! Александр Николаевич, Вы сами прекрасно знаете, что такое «молодой» и что такое «старый» и главное то и другое у нас в России. Не думайте, что я Вас «хвалю». Ведь Вы, б[ыть] м[ожет], знаете мою черезчур искренность. Мне нечего бояться слов, легко бросаемых упреков. Увы и к счастью я «собаку» съел в вечно благодарной «загранице», да благословит ее, грешную, Господь – второй моей родине. Удивительно: отчего же те милые настоящие люди там за границей – как «на ладони» тебе близки и приближаются, а у нас как раз наоборот. И что же! Движение наше русское как раз обратного свойства. Ну простите, я заговорился. В данном случае у меня было дело… Признаюсь, неприятное дело для меня и, кто знает, может быть и не только для меня… Что скрывать? Я буду короток. Обстоятельства внешние, которым я не имею возможности с какой-либо стороны сочувствовать, заставили меня что-то делать, вот уже томительных 3 года служить в одном из отделов Центральн[ого] Военно-Промышленного Комитета. Естественно – эти 3 года мною почти ничего не было сделано (не считая Витебской серии конца и середины 1914 г. до службы). Как ни тяжела и ни бесплодна доля (и не моя только), я бы с ней примирился (надолго ли), но вот: эвакуация Комитета, сокращение отделов и штата служащих меня делает лишним человеком… Недавно мне сказали, что иметь честь выставлять в Вашей группе или более того: числиться в списке Вашем150, как и «Союза»151, вполне правильно освобождает от «самоуничтожения», возвращает человека из ненормальной среды к своим прямым обязанностям. Как ни мизерабельно мое обращение особенно в этой, мне кажется, письменной форме (не правда ли?), я по душе и только к Вам позволил себе обратиться за советом. «Возможно ли это?» Мне казалось бы, что если отбросить этот вынужденный временный мотив, «ходатайство мое неосуществимо» по той причине, что… я сам не знаю. Да и Вам я «ни к чему», ибо если судьба меня сохранит, гость российский я со своей семьей, б[ыть] м[ожет], не надолго. Да и потом я не хотел бы помешать, быть может, естественному процессу преодоления сомнений и недоверий к моей скромной личности со стороны Ваших уважаемых товарищей, в том числе моих учителей. Я хотел бы кстати Вам, Александр Николаевич, сказать еще два слова о наших молодых русск[их] обществах и их «союзах», их «энергии». Это по крайней мере очень потешное явление, и я «рад», что последние остатки их распались, развеялись, что сила все же за Вами. Не должно существовать то «молодое», в сердце которого нет хоть немного подлинной очищенной крови традиций, художественной безоглядности, скромности – и как бы я ни смотрел на «Мир искусства», но одно то, что там был слышен по временам человеческий язык, что задача была поставлена когда-то и решена, согласно духу времени и способностям – за это всегда ему будет уважение. Я опять заговорился… «не к делу». Так вот, Александр Николаевич, осудите или «несмело» предложите. Уж 3 года как ничего не делаю, по целым дням занят канцелярщиной, а теперь – в скором – и этого «блага» лишаюсь. Чтоб сделаться же исключительно художником – я готов на все. Если можете – придите навстречу, если нет – не обижусь. М[ожет] б[ыть], Вы мне напишете (адрес Перекупной пер[еулок] д. 7 кв. 20) или сообщите по телеф[ону] 575-20 (от 10–5 ч[асов] кроме воскрес[енья]. Можно встретиться и поговорить152. С глубоким уважением и любовью Шагал.
РО ГРМ. Ф. 137. Оп. 1. Ед. хр. 1721. Л. 12–13 об. Автограф. Опубл.: Chagall Martigny 1991. P. 236–237 (пер. на фр.); Chagall Frankfurt 1991. S. 148–149 (пер. на нем.); Harshav 2004. P. 229–230 (пер. на англ.).
46. Шагал – А.Н. Бенуа
[Февраль-март 1918 г. Витебск]Дорогой Александр Николаевич. Я получил Ваше письмо в Петрограде. Но вот скоро 2 месяца, как я здесь153, и мне хотелось все время выразить Вам благодарность. Радостно было, что Вы, именно Вы говорите просто и близким языком. Я так устал (извиняюсь) от «корсета», которого я лично никогда не носил, но которого люди думают одеть обязательно нужно когда-ниб[удь] в жизни. И, когда слушаешь (и видишь!) все это – ты со злости «вовсе» раздеваешься и работаешь «вот так». Дорогой, «болезненность» ли это? Или как Вы однажды, шутя, обвинили меня в «литературности»154. Я внутренно знал (не м[ожет] б[ыть] иначе), что Вы имели (для себя) в виду. Вот и есть – малейший уклон у нас «это уже литературность». Но я не боюсь ее: ведь я слава Богу воспитывался во Франции. Я не знаю ни одного художника в истории искусств, котор[ый] в конце концов не казался б «литературным». Ни одного. А если они уж таковыми не кажутся, то я их не знаю и Вы по крайней мере их не помните, ибо помнить нечего. Не относиться «критически» в работе – это не значит же не быть «литературным»? Чем виноват какой-ниб[удь] Монэ, что он, все-таки, «литературен», несмотря на то, что особенным критическим умом не обладал, а Одилон Редон, допустим, им да обладал и оба они как и десятки других одинаково литературны и наследие их, за вычетом исторической «сенсационности» первого, одинаково ценно. Или Вы сами не могли б завязнуть в «литературности» Леонардо д[а] Винчи, «поэзии» Рафаэля, «жестикуляции» Мозаччио. Горе только, если это все не имеет основ. Я бы хотел когда-ниб[удь] в самом деле увидеть «чистого» художника, но я даже во Франции его не находил. Беда, по-видимому, происходит от того, что к вещи подходят не «с той стороны», а слово «сюжет» заслонило смысл вещи. Однако и самый красивый и безсюжетный «сюжет» (яблоко, виноград иль какая-ниб[удь] «беспредметная живопись») не помогут если нет ни прирожденных, ни с трудом добытых основ.
 А.Н. Бенуа в своем кабинете. Санкт-Петербург, 1910. Фото К. Буллы
А.Н. Бенуа в своем кабинете. Санкт-Петербург, 1910. Фото К. Буллы
Или я не понимаю еще следующ[ее] в нашей «русской истории» – что такое «передвижничество» (и в смысле обобщения этого определения). Если это3/4 Сурикова, то я от него (передвижнич[ества]) в восторге, а все остальное д[олжно] б[ыть] и есть передвижничество, потому что не художественно, но тогда разве только передвижники на Морской живут? Их есть очень много и… в Швеции… иль это, м[ожет] б[ыть], «литературники», но не «передвижники»? Зачем же мы не даем себе свободу жить? Грызем и кушаем друг друга. Почему отчетливо не говорим: «вот свобода, а вот тюрьма» и всякому дереву свои ягоды, но будь же ты деревом, а не… ослом. Иль вся эта «канитель» нужна для «истории искусств»? Ах, нет, никогда. Если путем «конкуренции» создавались предметы, не стоило б нам жить – случайным капризным игрушкам средь них. Видно существует более величественная и более равнодушная и скромная Сила, но жить по ее законам нам то лень, то некогда, то слишком «больно». Дорогой Алекс[андр] Никол[аевич], простите мне мои разглагольствования, простите от души и как на чудака не смотрите. Избави Бог. Если б я был таковым, я бы им быть не пожелал. Я просто пользуюсь возможностью (и отчасти Вашим любезным позволением) говорить с художником на минуту закрывая рукой Ваше лицо, ибо я все же… стесняюсь. В эти длинные «звездные» вечера (нет менее отдаленных звезд, чем здесь), когда освобождаешь себя от работы и не споришь даже с женой (спорить нельзя – заранее согласна), места себе не находишь… и я не могу не извиниться поэтому, что письмо мое, в котором я хотел лишь поблагодарить Вас за Ваше внимание, растягивается и конца ему нет… Но я надеюсь, когда вернусь, б[ыть] м[ожет], в Петроград после работ с Божьей помощию и «поправки» к началу будущего года, ответить не словами, а усердной просьбой без слов полюбить целиком то, что увидите. Ведь я же никогда не имею намерения мериться с «титанами». Преклоняясь перед ними особо, я предпочитаю иногда петь даже заикающимся голоском, дабы даже иногда производить впечатление «не художника», а постороннего человека. Но подошедших раз ко мне я желал бы обратно не отпускать и им твердить с последней силой: «верьте, верьте, верьте». Как живется Вам? Голодаете, верно… Здесь несколько легче. Приезжайте в наши окрестности подкормиться. Привет Вашей семье. Что делается в мирах художественных[?] Газеты не доходят (буржуазные). Вот как! Ваш преданный Шагал. Витебск, Покровская ул. III часть соб[ственный] д[ом].
ОР ГРМ. Ф. 137. Оп. 1. Д. 1721. Л. 9–10 об. Автограф. Опубл.: Chagall Мartingny 1991. P. 236–237 (пер. на фр.); Chagall Frankfurt 1991. S. 149–150 (пер. на нем.; датировано: начало 1918); Harshav 2004. P. 236–238 (пер. на англ.; датировано: май 1918).
47. Шагал – Н.Е. Добычиной
12 марта 1918 г. Витебск12/III 1918. Витебск Дорогая Надежда Евсеевна. Пишу отсюда. Не успел Вас видеть до отъезда, спешил, волновался – как бы пешком не дойти… Теперь я здесь. Это мой город и моя могила… Здесь по вечерам и ночам как «табак» раскрываюсь я… Работаю. Пусть Бог поможет. Мне в конце концов кажется, что он есть. Он не оставит и в «последнюю минуту» выведет… Как живете? Привет Петру Петровичу155. Кланяется моя жена. Напишите вообще когда-нибудь. Я представляю себе – что время очень скверное и Вам, вероятно, очень трудно, но не падайте духом. Я же стараюсь жить «святым духом», как легко! Жму Вашу руку. Ваш Шагал.
ОР РГБ. Ф. 420. 15. 80. Почтовая карточка. Автограф. На оборотной стороне адреса: Петроград / Марсово поле 7 / г-же Н.Е. Добычиной. ниже: Exp. / Витебск Смоленская улица / Магазин Ш.Н. Розенфельда – М. Шагал. К почтовой карточке приложена визитная карточка: Marc Chagall. Опубл.: Chagall Paris 1995. P. 240 (пер. на фр.); Harshav 2004. P. 236 (пер. на англ.); Каменский 2005. С. 272–273.
 Н.Е. Добычина в Художественном бюро. Петроград, конец 1910-х
Н.Е. Добычина в Художественном бюро. Петроград, конец 1910-х
48. Шагал – И.Я. Гинцбургу
24 мая 1918 г. ВитебскГИНЦБУРГУ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ ПЕТРОГРАД В ЗНАК ПРИЗНАНИЯ ПРИВЕТСТВУЮ = ШАГАЛ156.
ЦГИА СПб. Ф. 1722. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 95. Телеграмма. Телеграфный бланк и лента. Опубл.: Брук 2011. С. 76.
49. Шагал – А.М. Брамсону
[Конец марта – начало апреля 1919 г. Витебск]Глубокоуважаемый доктор! Возможно, что Вы и получили мое письмо или затерялось оно, однако пишу вторично. В бытность свою в П[етрогра] де я Вам как-то сказал, что мною сделаны предварительные эскизы к таблицам-картинам для еврейских школ: «Сукес» и «Пурим», считаясь с Вашим сообщением, что таковые сюжеты свободны157. Я предполагал, что согласно Вашему обещанию доложить об этом Еврейскому Обществу и, доложив об этом, Вы известите меня, смогу ли я приступить к исполнению этих эскизов. Было бы печально, если бы Евр[ейское] О[бщест]во Поощр[ения] Худ[ожеств]отрицательно отнеслось к моему намерению исполнить любимые мною сюжеты, помимо эскиза «Дети в семье»158, находящегося в периоде исполнения и который я бы одновременно и представил. Будьте столь любезны сообщить мне, правильны ли эти мои предположения. В ожидании Вашего ответа уважающий Вас и преданный Марк Шагал Володарская 11.
ЦГИА СПб. Ф. 1722. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 62–62 об. Автограф. Опубл.: Орлова 2004. С. 200–201; Брук 2011. С. 85–86.
50. А.М. Брамсон – Шагалу
15 апреля 1919 г. ПетроградВитебск. Володарская, 11 Многоуважаемый Марк Захарович, Я получил Ваше письмо и спешу Вас уведомить, что до него я никаких весточек не получал, между тем я все время ждал от Вас ответа по поводу лекций по еврейскому искусству. Напоминаю Вам, что Правлением Общества было принято решение делегировать в Витебск для прочтения нескольких лекций по еврейскому искусству И.Я. Гинцбурга и Р.В. Вишницер, причем последняя предполагала организовать небольшой семинарий по еврейской орнаментике. Расходы по этой поездке в размере до трех тысяч рублей мы предполагали получить от Витебского подотдела159. Хотя ответа от Вас до сих пор не получено, но не исключена возможность, что при согласии Вашего отдела организация этих лекций еще вполне осуществима. Что касается интересующего Вас вопроса о картинах-пособиях, то я доложил комиссии о Вашей готовности взять на себя еще две темы, но оказалось, что Суккис и Пурим переданы другим художникам160. Комиссия [далее текст поврежден] возможности освободившаяся тема будет предоставлена Вам. Надеюсь, что Вы ускорите выполнение Вами принятого заказа и поставите нас в известность о конечном сроке Вашего выполнения.
 И.Я. Гинцбург. Конец 1910-х
И.Я. Гинцбург. Конец 1910-х
 А.М. Брамсон. Конец 1910-х
А.М. Брамсон. Конец 1910-х
 Санкт-Петербург. Дом Еврейской богадельни им. М.А. Гинсбурга (5-я линия Васильевского острова, 50), в котором размещалось Еврейское общество поощрения художеств. Современное фото
Санкт-Петербург. Дом Еврейской богадельни им. М.А. Гинсбурга (5-я линия Васильевского острова, 50), в котором размещалось Еврейское общество поощрения художеств. Современное фото
 Лазарь Лисицкий. Начало 1910-х
Лазарь Лисицкий. Начало 1910-х
 Рахель Вишницер-Бернштейн
Рахель Вишницер-Бернштейн
 На выставке коллекций иудаики, собранных экспедициями С. Анского, в залах Еврейского историко-этнографического общества (ЕИЭО). Петроград, 1914.
Слева направо: А. Рехтман, С. Юдовин, С. Анский, Шолом-Алейхем, О. Рабинович, М. Гинсбург
На выставке коллекций иудаики, собранных экспедициями С. Анского, в залах Еврейского историко-этнографического общества (ЕИЭО). Петроград, 1914.
Слева направо: А. Рехтман, С. Юдовин, С. Анский, Шолом-Алейхем, О. Рабинович, М. Гинсбург
Кстати, обращаю Ваше внимание, что одна серия картин уже утверждена, и что мы приступили к подготовительным работам по их печатанию. Было бы очень досадно, если в первую серию не попадет Ваша картина. Мы будем Вам очень признательны, если Вы не откажетесь сообщить нам место пребывания художника Быховского. Пользуюсь случаем передать товарищеский привет художнику Бразеру и Юдовину. В ожидании Вашего ответа сердечно жму Вашу руку. Брамсон
ЦГИА СПб. Ф. 1722. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 63–64. Машинописная копия. Опубл.: Орлова 2004. С. 201–202; Брук 2011. С. 86.
51. Шагал – М.В. Добужинскому
[Конец 1919 – начало 1920 г. Витебск]ДорогойМстислав Валер[ианович]. Извиняюсь, что пишу на грязной карт[очке]. Хочу воспользоваться случаем поездки т. Голубинского161 и передать Вам привет и… приглашение162. Для Вас всегда найдется у нас место. Напишите как живется Вам. Задуновская, 9163 Жму руку. Ваш Шагал.
РО ГРМ. Ф. 115. Оп. 1. Ед. хр. 338. Л. 1. Автограф. Текст написан на обороте визитной карточки: Мarc Chagall. Опубл.: Harshav 2004. P. 261 (пер. на англ.; датировано: 1918); Письма Добужинскому 2013. С. 85.
52. Шагал – П.Д. Эттингеру
2 апреля 1920 г. ВитебскЛюбезный Павел Давидович, Я очень благодарен Вам за Ваши письма и сердечно прошу извинить мне, что не тотчас же отвечаю. Виной этому лишь то, что я с одной стороны [не]вероятно рассеян, с другой, и занят. Но главное что-то такое еще, что не дает мне возможность взяться за перо вообще. Это, вероятно, имеет связь и с тем, что я с трудом берусь… и за кисть. Таково наше время и положение современного художника. Я очень рад, что Вы написали мне, а Вы сумеете убедиться, что гораздо больше я Вам напишу в ответ – стоит мне только засесть. Вы просите, во-первых, у меня материал [о] художественн[ом] Учил[ище], о художеств[енной] жизни здесь, в гор[оде] и губ[ернии]. Собрать Вам весь местный печатный материал, это вещь, я думаю, малоинтересная, но я поделюсь с Вами как заведующий Училищем и «возглавляющий» волей судеб местную худож[ественную] жизнь губ[ернии] кое-какими конкретными сведениями о худ[ожественной] жизни.
 П.Д. Эттингер. Москва, 1921. Фото Роберта Иохансона
П.Д. Эттингер. Москва, 1921. Фото Роберта Иохансона
Идея об организации Худ[ожественного] Учил[ища] пришла мне в голов[у] по приезде из-за границы, во время работы над «Витебской серией» этюдов. В Витебске еще тогда было много… столбов, свиней и заборов, а художественные дарования где-то дремали. Оторвавшись от палитры, я умчался в Питер, Москву, и Училище воздвигнуто в конце 1918 г.164 В стенах его около 500 юношей и девушек165 разных классов, разных дарований и уже… «направлений». Профессорствовали и руководят раньше: кроме меня, – Добужинский, Пуни, Богуславская, Любавина, Козлинская, Тильберг. Теперь: Малевич, Ермолаева, Коган, Лисицкий, Пен, Якерсон (скульпт[ор]) и я (кроме специальных инструкторов)166. Были уже 2 отчетные выставки167. Ныне группировки «направлений» достигли своей остроты; это: 1) молодежь кругом Малевича и 2) молодежь кругом меня. Оба мы, устремляясь одинаков[о] к левому кругу искусства, однако, различно смотрим на средства и цели его. Говорить сейчас об этом вопросе, конечно, очень долго сейчас. Это лучше лично говорить или специально писать. Я позволю себе, м[ожет] б[ыть], Вам прислать мои мысли об этом (о русск[ом] соврем[енном] иск[усстве]) отдельно. Одно скажу Вам: родившись хотя в России (и еще в «черте ее оседлости»), но воспитавшись за границей, я с особой чуткостью воспринимаю все то, что творится здесь в области иск[усства] (особенно изобразит[ельного]). Я слишком болезненно помню блеск оригинала… Продолжаю: Училище имеет библиотеку по иск[усству] (правда, еще небольшую), столярную показательную мастерскую, графическую, печатную мастерскую, декоративную, формовочную помимо нормально живописных и скульптурной, свой склад материалов, свою собственную… баню. Организуется школьный музей из работ, премированных на выставках учащихся и показательных учебных рисунков168. При Училище есть артель учащ[ихся] и драматическо-театр[альный] кружок, который недавно, м[ежду] пр[очим], поставил в гор[оде] «Победу над Солнцем» Крученых в исполнении и декорациях самих учащихся169. Готовится сейчас: «Повешенный на кресте»170. Готовится сборник У[чили]ща. Однако небольшая заминка с бумагой. Вот приблизительная жизнь Витебск[ого] Народ[ного] Худож[ественного] учил[ища]. Вне училища: Секц[ия] изобр[азительных] иск[усств]171 готовится к постановке 2-х памятников в Витебске: Карлу Либкнехту и Карлу Марксу (к 1-му мая)172; готовятся к украшению города к 1-му мая173, организовывается районная худож[ественная] школа, открывается «витрина искусств»174. Секция 10-го мая приступает к приобретению произведений местных художников для пополнения музея совр[еменного] иск[усства]175.
 Афиша вечера «Группа художников – неделе фронта», на котором была показана опера «Победа над солнцем». Витебск, 6 февраля 1920
Афиша вечера «Группа художников – неделе фронта», на котором была показана опера «Победа над солнцем». Витебск, 6 февраля 1920
 Трамвай, декорированный участниками объединения Уновис. Витебск, 1920
Трамвай, декорированный участниками объединения Уновис. Витебск, 1920
Еще в прошлом году положено начало городскому музею176, но пока, к сожалению, в нем еще преобладает художественно-археологический материал, чем картины, и в этом отношении я уже просил и музейный отд[ел], и отд[ел] изобр[азительных] иск[усств] Наркомпроса о присылке картин нам177. В уездных городах открыты художеств[енные] школы: в Невеле, Велиже, Лепеле. Существует и Госуд[арственная] декор[ативная] мастерск[ая] (по исполн[ению] всех заказов, где объединены все живописцы и худож[ники])178. С лекциями по иск[усству] слабо. Не приезжают лектора из столиц и нету присяжного лектора по искусству в Худож[ественном] Учил[ище]. Помогите, м[ожет] б[ыть], Вы найдете такого – сообщите, шлите его нам. Пока что все же неск[олько] митингов по иск[усству] были устроены своими силами179. В конечном итоге у нас теперь в городе «засилье художников…» Спорят об иск[усстве] с остервенением, а я переутомлен и… мечтаю о «загранице»… В конце концов для художника (во всяком случае для меня) нет более пристойного места как у мольберта, и я мечтаю как бы засесть исключительно за картинами. Конечно, рисуешь также понемногу, но это не то. Что касается Вашей просьбы прислать Вам различные отпечатки, то я постараюсь Вам лично кое-что из них привезти по возможности. Что касается моего личного рисунка для Вас, то мне очень неловко послать его, не знаю угожу ли. Это надо как-то лично сделать, чтоб был возможен выбор. Я надеюсь приехать в Москву (и Петроград). Меня же просили устроить выставку свою, но какой смысл имеет устроить выставку из старых работ до 1918 г. (и то мног[ие] проданы и рассеяны). Как Вы думаете: хочу также приехать по делам Учил[ища] и пр. и привезти из Питера кое-какие раб[оты] для продажи отделу, как уже просили. Письмо громадно. Хватит писать. Жду Вашего ответа. Лисицкого, к сожалению, не вижу и не могу передать Ваш привет, да и не смог бы… Об этом Вы можете справиться у Абрама Марковича180. Не приходилось ли Вам случайно услышать о судьбе моих картин в Берлине «Der Sturme». Ведь ехал туда Бер181 и согласно статье Луначарского182 привезены какие-то сведения. Бер, м[ежду] пр[очим], взял письмо от «Международного бюро» письмо к Вальдену (редактор и владелец «Der Sturme»)183. Писать можете и по адресу Художественное Учил[ище] и Задуновская 9184. С приветом. Жму Вашу руку 2/IV 192[0] Марк Шагал. [Приписка над первой строкой письма]: Издание наше (книжечка Малевича) будет Вам им же послана, я ему карточку Вашу передал185.
ОР ГМИИ. Ф. 29. Оп. ІІІ. Ед. хр. 4675. Автограф. Опубл.: Письма Эттингеру 1980. № 1. С. 192–195; Возвращение мастера 1988. С. 318–319; Эттингер П.Д. Статьи. Из переписки. Воспоминания современников / Сост. А.А. Демская, Н.Ю. Семенова. М., 1989. С. 166–168; Chagall Frankfurt 1991. S. 71–72 (пер. на нем.); Harshav 2004. P. 273–275 (пер. на англ.); Музей Павла Эттингера: Из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина. М., 2004. С. 73–74; Каменский 2005. С. 273–274; Chagall Paris 2018. P. 229–231 (пер. на фр.). Печатается по автографу.
53. Шагал – в Правление ГОСЕКТа
12 февраля 1921 г. МоскваВ Правление Госекта. Окончив работу, я полагал, как это и было обещано, что она будет публично выставлена как ряд моих последних вещей. Правление согласится, что я не могу как художник внутренно успокоиться до тех пор, пока «масса» ее не увидит и пр. Оказалось, что вещи как будто попали в «клетку» и их в тесноте (да не в обиде) может, если расположены, [видеть] 100 евреев. – Я очень люблю евреев («доказательств» много), но я люблю и русских и нек[оторых] др[угих] инородцев и привык серьезные работы писать для многих «народностей». Потому вполне естественно и законно мое требование и обращение к Театру с просьбой предоставить мне 28 час[ов] в течение 2 недель по 2 часа ежедневно для организации выставки и обзора работ всем желающ[им]. Причем расходы по организации выставки, как афиша и пр[очее], возьмет на себя ИЗО Н.К.П. или я сам. От этого требования отказаться не могу. Жду официального ответа186. Марк Шагал. 12/II 21.
ОР ГЦТМ. Ф. 584. Ед. хр. 99. Л. 57. Автограф. Опубл.: Chagall Frankfurt 1991. S. 88 (пер. на нем., воспр.); Harshav 2004. Р. 298–299 (пер. на англ.); Брук 2013. С. 47.
54. Шагал – А.В. Луначарскому
[Июнь 1921 г. Москва]Глубокоуважаемый Анатолий Васильевич. На будущей неделе числа 6, 7 устраивается сек[цией] ИЗО Н.К.П. выставка моих работ 1920 г. (роспись в помещ[ении] зрит[ельного] зала Г[осударственного] Евр[ейского] Кам[ерного] театра, Чернышев[ский пер.], 12). Я не говорю, чтоб эти рaботы были моим последним словом прошлого года. Но это было по крайней мере «первое слово» для еврейской улицы, что ли. И вообще так я мог написать только в России. Я бесконечно думал и думаю о судьбе Иск[усства] (особенно такого типа как я) в России. Имеет ли для кого-либо значение то, что я сделал (несмотря на то, что это слегка похоронено в наклонном зале). Кому это нужно? Правилен ли вообще мой путь[?]. Ведь нет же как будто более «индивидуалистического» (презренное слово) в свете, чем я… Что общего как будто имею я с «коллективом». Но неужели я, сын вечного бедного служащего-рабочего, не имею где-то кровного касательства к той массе… И ведь кроме того я неожиданно оказался волей судеб невольным виновником и участником того европейского «экспрессионизма», котор[ый] Вы, кажется, не выносите и о моем касательстве к которому я узнал здесь в России. Примите во внимание те «улыбки, гримасы и вражду», котор[ые] и не я один встречаем то из одного, то из другого лагеря художников. Впрочем и Вы, слава Богу, отметили все эти прелести на знаменитом собрании худ[ожников] в Больш[ом] театре недавно.
 А.В. Луначарский в своем рабочем кабинете в Наркомпросе. Москва, 1922
А.В. Луначарский в своем рабочем кабинете в Наркомпросе. Москва, 1922
Вы не любите Запад, Анатолий Васильевич. Но я его тоже не люблю. Но я люблю тех художников, у которых я могу учиться, которых я могу уважать, кои были на Западе до 1914 г., «улыбки и гримасы» коих я с любовью стерпел бы. Таковых у нас не было и с [1]914 г. по настоящее время. Но зато мы только грыземся, деремся, но во имя чего? Какие школы живописи и традиции оставили нам все прежние худож[ественные] распри кроме все же 2, 3 историческ[их] имен. Вот почему в беседе, котор[ая] будет устроена в день открытия выставки (день и час Вам сообщит Отдел), я хотел бы, чтоб Вы поставили свои точки над и в связи с таким несносным типом как я. Предан[ный] Марк Шагал
ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 2. Ед. хр. 795. Л. 43 об. – 44. Автограф. Опубл.: Harshav 2004. P. 299–300 (пер. на англ.).
55. Шагал – Ю.М. Пэну
14 сентября 1921 г. МоскваДорогой Юрий Моисеевич. Значит все-таки Витебск, для которого Вы много сделали, Вам устроил или устроит в скором юбилей187, и я к этому моменту не могу не послать Вам эти строки. Я вспоминаю себя мальчиком, когда я подымался на ступеньки Вашей мастерской. С каким трепетом я ждал Вас – Вы должны были решить мою судьбу в присутствии моей покойной матери. И я знаю, скольких еще в Витебске и всей губернии юношей Вы судьбы решали. Ваша именно мастерская первая в городе манила десятки лет. Вы первый в Витебске. Город не сумеет Вас забыть. Вы воспитали большое поколение еврейских художников. Еврейское о[бщест]во России должно это знать и будет знать. Я убежден, что Витебск, которому Вы отдали 25 лет жизни, по достоинству рано или поздно увековечит Ваш труд. Ваши лучшие работы, характеризующие определенную полосу жизни России и евреев, будут собраны в специальном месте в будущем музее г. Витебска, а некоторые из них отойдут в Центральный Еврейский музей, а мы одни из Ваших первых учеников будем особо помнить Вас. Мы не ослеплены. Какая бы крайность не кинула бы нас в области искусства далекого от Вас по направлению – Ваш образ честного труженика художника и первого учителя все-таки велик. Я люблю Вас за это. Целую Вас милый мой первый учитель ко дню Вашего 25-летнего юбилея – 25-летней деятельности в Витебске. Живите еще и продолжайте Вашу любимую деятельность и в новых условиях жизни. Ваш преданный Марк Шагал. Москва 14 сентября 1921 года.
ГАВО. Ф. 1947. Оп. 1. Ед. хр. 47. Л. 53. Машинописная копия. Опубл.: Chagall Frankfurt 1991. S. 61 (пер. на нем.); Шагаловские дни в Витебске. Специальный выпуск газеты «Витьбичи». 1992. 3–5 июля. С. 5 (публ. А. Подлипского); Наливайко 1994. С. 24; Шагаловский сборник 1996. С. 197–198 (публ. А. Подлипского); Шатских 2001. С. 169–170; Витебск: классика и авангард 2004. С. 127–128; Harshav 2004. P. 302 (пер. на англ.); Малевич. Классический авангард. Витебск-11. Минск, 2009. С. 12; Пэн 2017. С. 213–214.
56. Шагал – П.Д. Эттингеру
[Январь-март 1922 г. Москва.]Любезный Павел Давидович. Пересылаю Вам листок для пересылки в Берлин доктору Исид. Зах. Эльяшеву, еврейскому писателю-критику «Баал-Махшовесу»188 (как условились). Я надеюсь, Вы и лично попросите Ваших знакомых о содействии в отношении «визы» и пр., иначе беда. Оказывается, Кандинский ждал ее 4 месяца… Это мне не улыбается. Если у Вас будут какие-либо новости, напишите или сообщите мне. С приветом Жму руку Марк Шагал Москва Садов[ая]-Самот[ечная], д. 2 кв. 8
ОР ГМИИ. Ф. 29.Оп. ІІІ. Ед. хр. 4698. Автограф. Опубл.: Письма Эттингеру 1980. № 2. С. 198; Harshav 2004. P. 305 (пер. на англ.); Каменский 2005. С. 274.
57. Шагал – А.Н. Бенуа
[Первые числа мая 1922 г. Москва]Глубокоуважаемый Александр Николаевич! Только надеясь на то, что Вы искренно не подумаете и поверите: во мне не говорит ни «зависть», ни честолюбие и прочее. Я позволю себе в «последний раз» перед своим отъездом на 3–4 недели на родину189 написать, что неудержимо мне хочется сказать. Пусть Вы другая натура, Вы, я знаю, поверите, что во мне не говорит, в крайнем случае, «больной», не полубезумец. Нет! Я, к сожалению, очень здоров. Что я хотел у Вас спросить, Александр Николаевич, неужели в самом деле мне не нужно работать, бросить? Ведь «гордость» наша должна когда-нибудь смириться. Если не толпа, и нечто высшее толпы, и моя преданность учителю, ценимые мной, как все мое прошлое, и целое общество меня не признает. Вы скажете: некрасиво не иметь собственной веры в себя, какой же Вы художник. Нет! Я ее имею – боюсь даже, что уж в слишком большой степени, но это, может быть, еще более не позволяет мне относиться равнодушно к упомянутым голосам. Вы не подумайте, что я ищу одобрения или «похвалы» (я уже просил быть «самого лучшего мнения» о моих намерениях). Я говорю лишь – мы не вправе оставаться равнодушными вообще, во всех случаях, ни в чем и никогда, по наименее конкретным даже причинам. Вот почему я колеблюсь, вот почему я неспокоен и вот почему я пишу Вам. Теперь голые факты с наиболее конкретными «недоразумениями». Не то удивляет, что мы кое-какие друзья-художники, «горой» стоящие за свои молодые общества, но люди Вашего общества пустились в «бегство», оставив на произвол и гнев задорный «искания» других. Нет, Александр Николаевич, меня более удивляет то, что разрез с Вашими словами и мыслями в последнее время, например, выразил Лентулов. Он был все же приглашен и, по-видимому, помимо Вас, вероятно, с почтением к его годам190. С другой же стороны, сочувственные слова по моему адресу остались висеть в воздухе и остались непонятными по совершенно противоречивому результату, как, вероятно, для многих людей, так и для меня, сплошным недоразумением.
 А.Н. Бенуа. Петроград, около 1920
А.Н. Бенуа. Петроград, около 1920
Я признаюсь. Да! Я мечтал бы работать честно и с божьей помощью рядом с Вами. Я был бы слышнее, виднее, спокойнее душевно и не так страдал бы, как в других местах, около телячьих «молодых» без молодости и без бога (ведь у нас же нет тридцатилетних Салонов, Осенних, Независимых, у набережных Сены, только маленькие безлюдные балаганчики около могил). Работать с Вами хочется от того, что в Вашем обществе говорят, пусть дерзко, но членораздельным языком, и также потому, что это привязало бы меня к России – моей семье и не увлекло бы меня опять за границу в нынешнюю ее независимость и неизвестность. И если я один, почти последний из оставленных на посту за «бортом» с Вами, как это стало видно в этом году, то было бы весьма великодушно по смелости и простоте заявление Ваше: «Шагал, верно, нам действительно с Вами не по пути, не обижайтесь». Мне бы отсюда сделать надлежащее заключение, или в подтверждение Ваших сочувственных слов, когда-то сказанных Вами обо мне, – отойти в сторону. Ваше общество поступило бы наоборот. И было бы мне ясно. Дорогой Александр Николаевич, ради бога простите мою откровенность и, кажется, нескромность. Я такой, с чистой совестью без всяких примесей, люблю Вас, хотя мы и очень разные, чему Вы навряд ли поверите. Но я прошу Вас, не откажите сказать два слова по поводу моих сомнений и неясностей по доброте человеческой до снисхождений и резкостей. Весь преданный Марк Шагал. Печат. по: Бенуа А. Дневник. 1918–1924. М., 2010. С. 344–345. Текст письма включен в запись от 4 мая 1922 г: «Четверг, 4 мая. Неожиданно получил письмо от Шагала [далее следует текст цитируемого письма]. Краски как попало, а вдохновения хоть отбавляй. Пишет то, что в голову взбредет».
58. Шагал – П.Д. Эттингеру
[Начало мая 1922 г. Москва]Дорогой Павел Давидович. Получил Ваше письмо. Я благодарен Вам и за присылку письмеца Гарвенса191. Да с визой – срок не большой, уже давно получена. Но я надеюсь, что там мне продлят – так я думаю. Как Вы живете? С большим удовольствием увидел бы Вас, но как я «закрючен» (буквальный перевод одного еврейского словца), что вдоволь даже не выспишься. То квартира, то то, то се… Скоро, на днях, начнется особая горячка с визами и пр., ибо к числу 20, что ли, еду наверно. Семью оставляю – пока. А потом посмотрим. Мне жаль очень, что Вы, кажется, не были на «верниссаже» выставки192. Но поверьте, у меня слишком мало добрых и чутких людей, чтоб я не послал приглашения Вам, а дело в том, что к организации выставки я отношения не имел и вообще я не живу этими «верниссажами» и пр., да и сам еще на выставке своей вплоть до закрытия не был… Но я рад, что Вам нравятся мои рисунки… а мою роспись Вы, кажется, «не доценивете» пока… Посмотрим. Я бы с большим удовольствием Вам дал какой-либо черный рисунок, но вот эти рисунки, напр[имер], должны итти в печать там и на выставки еще. Но верьте мне – я достаточно уважаю и люблю Вас искренно, чтоб с удовольствием Вам при случае, м[ожет] б[ыть], после, прислать память о себе. Вот лишь бы успокоиться немного, притти в себя, и семья чтоб спокойнее была здесь. Я надеюсь, что мы с Вами еще свидимся, друг – Павел Давидович. М[ожет] б[ыть] зайдете или позвоните – сговоримся. Жму Вашу руку Преданный Марк Шагал. P.S. Если напишете пару писем кому хотите – возьму их с собой.
ОР ГМИИ. Ф. 29. Оп. ІІІ. Ед. хр. 4697. Автограф. Опубл.: Письма Эттингеру 1980. № 3. С. 199; Harshav 2004. P. 305 (пер. на англ.; датировано: май 1922); Каменский 2005. С. 274. Печатается по автографу.
59. Шагал – Д.Е. Аркину
[Не позже начала мая 1922 г. Москва]Любезный Давид Ефимович. Завтра в пятницу 8 час. вечера у меня соберется кое-кто. Приглашаю и Вас. Прочту и свои записки193. Будут свои. Приходите. С приветом. Марк Шагал Садовая-Самотечная, д. 2. кв. 8 Четверг [1]922.
Собрание семьи наследников Ю.А. Молока, Москва. Автограф. Опубл.: Chagall Paris 1995. P. 225 (воспр.), 227 (пер. на фр.); Письма Аркину 2018. С. 79.
 Д.Е. Аркин
Д.Е. Аркин
 Москва. Дом, в котором в 1921–1922 жил Марк Шагал (Садовая-Самотечная ул., 2/12). Современное фото
Москва. Дом, в котором в 1921–1922 жил Марк Шагал (Садовая-Самотечная ул., 2/12). Современное фото
60. Шагал – Ю.М. Пэну
8 июля 1922 г. Берлин.Берлин 8 июля 1922 г. Далекий, дорогой Юрий Моисеевич! Пишу вам из Берлина, где я уже полтора мес[яца]. Как живете? Очень жалко, что я не мог заехать в Витебск194. Ничего не поделаешь. О себе что писать? Вкратце: осенью открывается здесь моя первая выставка русских работ (неизвестных еще здесь) в одной крупной галерее195. Затем она переедет в Париж и в другие города. Графика же и мои записки (где много пишу и о вас) выйдут в галерее Каспрера196. Ввиду того, что издаются монографии, здесь были бы очень нужны снимки со всех работ, имеющихся в витебском музее, в частности, репродукции с вашего портрета (моей работы)197 – это важно. Конечно, нужно, чтобы снимки были хорошие. Деньги за них заплачу. Что вы поделываете? Даю вам идею: как бы вы не смотрели на себя – это не может помешать вам начать спокойно писать о своей жизни с момента рождения вашего до последних дней. Вы сможете это мне передать, я возьму на себя передачу издателю, это потом. Материальная сторона будет за вами обеспечена. Жизнь человека вообще интересна, тем более что он – один из первых евреев-художников, работавших на ниве просвещения и пр. Во всяком случае я на вас стихийно обратил внимание Европы, пусть пристрастно, я же искренен в своих чувствах. Итак, дорогой, работайте и займитесь честно и серьезно вашей автобиографией-жизнеописанием. Описывая не проходящее, конечно (как в себе, так и вне себя), а характерное и толкавшее в ту или иную сторону вашу жизнь и обстоятельства кругом вас198. Всего хорошего! Пишите мне, я буду очень рад. Пишите подробно, только не «шутя». Пришлите же снимки и фотографии ваши. М. Шагал.
Печатается по газетной публикации: Письмо Марка Шагала Ю.М. Пэну // Отклики (Витебск). 1922. № 13. 24 июля. С. 3. Перепечат.: Бюллетень Музея Марка Шагала. 2004. № 2 (12). С. 9; Harshav 2004. P. 312–313 (пер. на англ.); Изобразительное искусство Витебска 2010. С. 235; Пэн 2017. С. 81–82.
61. Шагал – Д.Е. Аркину
[Июль-сентябрь 1922 г. Берлин]Любезный Давид Ефимович. Уж сколько раз собирался Вам написать, но что-то всегда мешает, и день за днем проходит. А я так хочу знать, что у Вас там. Вы поймете, конечно, что меня интересует именно процесс творческой работы в России, а не то как грызутся между собой группы и художники… Перед отъездом я видел спект[акль] Меерх[ольда] (Кромелинка)199, и это радостное впечатление я увез с собою. Как живется Вам? Что пишете? Я буду рад, если Вы перешлете мне Ваши новости Иск[усства], а я с св[оей] стороны, право, не знаю с чего начать что интересует Вас. Книги тяжелые? и прочее в этом роде, но посылать это было бы возможно лишь оказией. Но что? Великолепное собрание литературы по Иск[усству] закупил здесь Гринберг200. Хорошее дело сделал он, что пришлет это хотя в немногих экземплярах. Это дорогие книги. Другой бы на его месте навряд ли удосужился бы это сделать. Со мной? Не знаешь раньше и куда к кому, собственно, подойти. Всякий из здешних галлерейщиков (и из Парижа) предлагает у него, у него… «У попа была собака, он ее любил…» Хочу я, наконец, быть «весьма» практичным и больше таких уроков как с Вальденом здесь не иметь201… По пути была моя выставка в Ковне (евреи поохали, литовцы недоумевали и прижали с гордостью к себе Чурляниса). В Берлине намечена моя выставка в октябре202, а в Париже после. Интерес к «русскому» Иск[усству] не надо преувеличивать и вообще если ценят то то, что навек «непроходимо». Впрочем, я обо многом не могу говорить, но получив от Вас письмецо и списавшись с Вами, побольше пооткровенничаю с Вами о разных вопросах отсюда, если расположен буду. А главного не сказал. Конечно, здесь затевают монографии (толст[ые], дорог[ие] и пр[очее]). Неизвестно еще кто изд[ательство] ли Эфрона203 (хорошо работает) или Касирер204. Конечно, как и для этой упомянутой цели, так и на всякие другие «темы», нужны будут тексты. И если у Вас будет что-либо – сообщите мне или даже копию на машинке перешлите, и это сумеет пойти. Более подробно – позже.
 Москва. Государственный театр имени Всеволода Мейерхольда (ГОСТиМ). Открытка, вторая половина 1920-х
Москва. Государственный театр имени Всеволода Мейерхольда (ГОСТиМ). Открытка, вторая половина 1920-х
 Попова Л.С. Плакат к спектаклю «Великодушный рогоносец» В. Мейерхольда. 1922
Попова Л.С. Плакат к спектаклю «Великодушный рогоносец» В. Мейерхольда. 1922
Итак, жду Ваших вестей. Привет не знаю кому, Москве, которую я чувствовал по-своему. А Вахтангов умер!205 Что сказать. Остался один Меерхольд (без окружающей его «своры»). Ваш Марк Шагал Berlin – Charlottenburg Niebuhrstr[asse]. 64 III P.S. Вы человек общественный, потому и прошу Вас, м[ежду] пр[очим], иметь в виду. Судьба Евр[ейского] Кам[ерного] Театра (вместе со студией) неизвестна. Возможно все положение его невыясненно. Но как бы я не оказался «виноватым», и мой адский труд 1920 не захирел бы там в темноте. Не предпримут ли выставку их вне Москвы заграницей и вообще во-время позаботиться. Ну пока МШ
Собрание семьи наследников Ю.А. Молока, Москва. Автограф. Опубл.: Chagall Paris 1995. P. 227–228 (пер. на фр.); Письма Аркину 2018. С. 80–84.
62. Шагал – П.Д. Эттингеру
18 февраля 1923 г. БерлинДорогой Павел Давидович. Шлю Вам привет. Как живется Вам. О себе [не]много. Сейчас закрылась моя выставка в Берлине, к котор[ой] готовил 6 месяцев206. Она, вероятно, будет после в Париже и в др[угих] городах. В изд[ательстве] Поль Kassirer (исключит[ельно] у них) выходят мои радирунги[40], литог[рафии] и гольцшнит[41] (здесь впервые начал) маппой[42] и отд[ельныe] лист[ы]. В этом же изд[ательстве] печ[атаются] мои зaписки «Моя жизнь»207. Как Вам, что нового? Буду рад, когда напишeте. Помню Вас с большой симпатией. Жму руку Марк Шагал 18/II 923
ОР ГМИИ. Ф. 29. Оп. IV. Ед. хр. 15. Л. 42–44. Автограф. Текст написан на страницах каталога Chagall Berlin 1923. Опубл.: Брук 2019. С. 337.
63. Шагал – сестрам
Май 1923 г. БерлинМай, 1923. Шагал. Это мы снялись совершенно случайно. Я, кажется, не так толст, каким кажусь, так как слишком плотно одеваюсь и потом «пиво» влияет… все остальные члены моей семьи как непьющие этого напитка хуже… Снимался я в др[угом] месте лучше. М[ожет] б[ыть] как-ниб[удь] пришлите Ваши физиономии. Если можно особенно[43] случайные, а не с ретушевкой у фотографа.
Частное собрание (ранее собр. семьи М.З. Грибовой, Л.). Автограф. Текст написан на обороте фотографии, на которой сняты Марк Шагал, Белла и Ида (Берлин, май 1923). (См. С. 352.) Опубл.: Петрова 1999. С. 57.
 Марк Шагал с Беллой и Идой. Берлин, май 1923
Марк Шагал с Беллой и Идой. Берлин, май 1923
64. Шагал – П.Д. Эттингеру
Август 1923 г. БерлинАвг. 1923. Berlin Дорогой Павел Давидович. Шлю Вам кое-что из прессы о выставке моей в Берлине208. Пусть и в России знают, о которой где бы ни был думаю. Сейчас я еду в Париж и там буду работать и выставлю с трепетом также209. От выставок по остальной Германии я отказался пока. Хотя Кас[с]ирер хочет этой зимой мою большую выставку опять сделать вместе с работами сделан[ными] раньше во Франции 210. Недавно я был в Bad. Blankenburg. В это время была выставка у Кассирера моей графики (которую я сам не видел), также и в других городах (Мюнхен, Вена, Дрезден и др.). Но это Кас[с]ирер сам дает без меня. Я жалею очень, что не удается переслать пока в Россию кое-что из графики. Пишите, как у Вас и что, что, что. Жаль мне, что русск[их] журналов не читаю (конеч[но], об иск[усстве]). Что Вы делаете. Сердечно кланяюсь Вам. По получении от Вас вестей из Парижа напишу. Пока здесь выходят 2 моногр[афии] обо мне у Bermana «Чiчероне»211 и в Петрополисе212.
ОР ГМИИ. Ф. 29. Оп. IV. Ед. хр. 15. Л. 45–47. Автограф. Текст написан на страницах каталога Chagall Berlin 1923.
65. Шагал – Л.С. Баксту
[Осень 1923 г. Париж].Дорогой Лев Самойлович. После 10-летнего перерыва я вновь в Париже. Был бы очень рад с Вами встретиться. Всегда преданный, помнящий и благодарный ученик Ваш Марк Шагал. Пока. Rue de Lambre, 15, Hotel des Ecoles.
ОР ГТГ. Ф. 111. Ед. хр. 2298. Автограф. Опубл.: Брук 2005. С. 84, 85 (воспр).
66. Шагал – Л.С. Баксту
[Конец 1923 г. Париж]Не принимайте во зло, что при встрече не подошел к Вам, желаю Вам добро.
ОР ГТГ. Ф. 111. Ед. хр. 2299. Автограф. Опубл.: Брук 2005. С. 84.
67. Шагал – П.Д. Эттингеру
10 марта 1924 г. Париж10/3 24. Дорогой Павел Давидович. Как видите: я не забываю Вас, и от времени до времени Вы слышите мой голос. Хоть боюсь, что «образ» мой понемногу… забывается… Не мудрено. Уже давно, как я здесь, на родине живописи213. Что сказать о себе. Можно много говорить, но нужно покороче все же. Постепенно начинают меня замечать здесь, во Франции, и мои работы фигурируют в передовых парижских галереях. Издатели коренные французски[е] приглашают постепенно для гравюрной работы так же. Недавно я участвовал на парижской выставке франц[узских] художников граверов214. Сейчас занят работой для Амбриозо Volard (друга Сезанна, Ренуара, Дега и др.), делаю для него «Мертвые души» Гоголя с 75 офортами большого размера. Печатается книга с новым переводом, книга люкс в Imprimerie Nationale215; и также сделал для него большой офорт для его альбома «30-ть художников»216, куда входят Матисс, Морис Дениc, Бонар, Руо, Утрилло, Пикассо и др.217 Нет времени, что-ниб[удь] делать для Кассирера, котор[ый], однако, выпускает скоро мои новые литографии, сделанные мною, будучи в Берлине. Мне очень жаль, что не попадают, может быть, в Россию мои графические работы. Полагаю, что по заказу, по требованию учреждения был бы послан комплект Кассирером как офортов, маппы «Моя жизнь» и литограф[ии]. Пусть и в России будет.
 Пауль Кассирер
Пауль Кассирер
 Амбруаз Воллар
Амбруаз Воллар
 Париж. Улица Лаффит, на которой находилась галерея А. Воллара. Открытка начала ХХ в.
Париж. Улица Лаффит, на которой находилась галерея А. Воллара. Открытка начала ХХ в.
Как живете? и что слышно в области искусства? Сейчас я выставляю отдельной выставкой в Брюсселе218. После в Вене219, а осенью в Париже220. В Москву пишу Вам почти одному, т. к. другие меня почти забыли и вряд ли мной интересуются… А я же не могу направлять свой «жар» к тому, кто равнодушен… Я буду очень рад, если Вы вздумаете когда проехаться. Примите мой привет и лучшие пожелания. Ваш преданный Марк Шагал.
ОР ГМИИ. Ф. 29. Оп. ІІІ. Ед. хр. 4676. Автограф. Опубл.: Письма Эттингеру 1980. № 4. С. 199–201; Возвращение мастера 1988. С. 319–320; Harshav 2004. P. 326–327 (пер. на англ.); Каменский 2005. С. 274–275. Печатается по автографу.
68. Шагал – Л.С. Баксту
[Апрель-май 1924 г. Париж.]Дорогой Лев Самойлович. Я получил свои работы. Если б хотели видеть – был бы рад Вас видеть у себя. В ожидании Вашего сообщения остаюсь преданный Марк Шагал. Avenue d’Оrlean, 110. Atelier 3.
ОР ГТГ. Ф. 111. Ед. хр. 2300. Автограф. Опубл.: Брук 2005. С. 85.
 Марк Шагал с Беллой и Идой в мастерской на авеню Орлеан, 110. Париж, 1924. Фото Терезы Бонне
Марк Шагал с Беллой и Идой в мастерской на авеню Орлеан, 110. Париж, 1924. Фото Терезы Бонне
69. Шагал – А. Лесину
22 мая 1924 г. ПарижParis. Avenue d’Оrleans 110. Marc Chagall. 22/V 924. Глубокоуважаемый г. Лесин. Вы знакомы мне по разсказам моего покойного друга Баал-Махшо-веса, по словам Номберга и Шолом Аша. Недавно Лейзерович по-еврейски Вам написал, а теперь позвольте мне по-русски самому обратиться к Вам – все о том же. Есть, значит, у меня написанная вещь221. Я не знаю – «профессиональная литература» ли это. Но это: я и так мне хотелось и необходимо было написать. Полагаю лишь, что всем («буржую», интел[ли]генту и рабочему) будет интересно прочесть этот кусок жизни тем более, что в еврействе в связи с еврейск[ими] художник[ами] такого рода вещь еще не появлялась. Впрочем, о себе говорить не могу. Она должна поздней осенью появиться с моими же 25 гравюрами на меди (специально сделанные) и другими снимками работ на немецком языке (изд. Paul Cassirer, Berlin), по-французски (изд. Ambroise Vollard, Paris) и по-русски. Она пока еще нигде не печаталась. Надеюсь однако, что Вы не откажете мне в максимальном гонораре и был бы благодарен Вам, если б сообщили мне – на сколько я могу разсчитывать. Размер ее около 80 страниц перепис[анных] на машинке на одной стороне (перевод Переца Маркиша). По получению Вашего ответа – вышлю рукопись. Хорошо было б если б одновременно Вы в «Zukunft» могли б печатать некоторые снимки222. C приветом Преданный Марк Шагал
YIVO. Автограф. Опубл.: Harshav 2004. P. 328–329 (пер. на англ.); Брук 2019. С. 340.
70. Шагал – Л. Кенигу
[24 октября 1924 г. Париж]Дорогой Кениг! Я хочу быть евреем во всем, в чем только можно. Я буду cтараться писать на идише. Я стеснялся писать на идише постоянно, так как заблуждения любят меня, или – наоборот. Извините меня, что отвечаю Вам с опозданием. Имеет ли это значение? Никакого. Вот, я совсем не писал Вам десять лет, но Ваш образ, как говорится, свеж в моей памяти. Я помню мастерские в Ля-Руш, нашего тоскливого гнезда. Так или иначе, только тоскливо там не было, это – другое… Теперь я иной, как и Вы. То есть Вы – отец семейства, и я тоже. Но, по правде, я не чувствую, что мне тяжелее. Не это создает тяжесть, я думаю (ведь еще и любят хоть как-то). Жизнь тяжелее семейства. Жизнь – что за жизнь! В Ля-Руш, как Вы помните, я был совершенно безумен. Правда, тогда это было ново и, возможно, необходимо. Но теперь – как бы я хотел не быть новым, но добрым, необходимым, подлинным… С 1914 года, когда я вернулся в Витебск-Лиозно и до сих пор, я хочу этого все сильнее и сильнее. Вы спрашиваете, каков Париж? Отвечу: ради него сегодня не стоит жить в Ля-Руш… Но Париж сокрыт, как всякая вещь в себе, и искать его в кафе – излишне. Сейчас необходимо чувствовать, видеть – недостаточно. Французское искусство уперлось в стену – я думаю, оно постепенно отступает от своей прежней сути. Напишите мне, каково Ваше мнение, о чем думаете. Не знаю, когда я смогу приехать в Лондон – однако нужно было бы когда-нибудь. На этом – будьте здоровы. Не забывайте. Ваш Марк Шагал 1924. Париж
Еврейский музей и центр толерантности, Москва. Автограф (идиш). Печатается по: «Я хочу быть евреем во всем, в чем только можно»: Неизвестное письмо Марка Шагала / Публ., пред. и пер. Г. Казовского // Лехаим (М.). 2004. № 12.
71. Шагал – А. Лесину
[Декабрь 1924 г. Париж – Булонь]Paris. – Boulogne. 3. Allee des Pins 223 Глубокоуважаемый коллега Я Вас прошу на меня не сердиться, что я до сих не давал о себе признаков жизни – не послал еще рукопись. Но виноваты в этом еврейские писатели (переводчики мои – Перец Маркиш и Варшавский), которые были вне Парижа и до сих пор не закончили со мной вместе редакцию вещи. Теперь они опять здесь, и я надеюсь, что это скоро кончится. Я надеюсь, что Вы не потеряли интерес к ней? Я буду рад получить от Вас слово. Прилагаю при сем каталог открывшейся на днях в Париже моей выставки224. С приветом преданный Марк Шагал.
YIVO. Автограф. Опубл.: Брук 2019. С. 340 (сокр.).
72. Шагал – П.Д. Эттингеру
[Вторая половина декабря 1924 г. Париж – Булонь].Paris. – Boulogne. 3. Allée des Pins. 1924 Дорогой Павел Давидович. Шлю Вам привет вместе с каталогом моей открывшейся на днях выставк[и] в самой лучшей и большой галлерее Парижа225. Она первая, да и вообще, после отсутствия 11–12 летнего. Все французск[ие] соврем[енные] художники, находящ[иеся] в Париже, начиная с Пикассо, Матисса, Сегонзак и др., были, но я о себе не намерен говорить.
 Советский павильон на Международной выставке декоративных искусств и художественной промышленности. Париж, 1925
Советский павильон на Международной выставке декоративных искусств и художественной промышленности. Париж, 1925
Трудно, Вы же знаете, что-ниб[удь] послать из печатного, где столько современных франц[узов] пишут. А, м[ожет] б[ыть], я такой лентяй… Я рад, что Вас вспоминают хорошие здесь люди; например, был у меня на днях заведующ[ий] издательством Morancе – издают чудесн[ые] журналы передовых художников, и он мне говорил о Вас. Я просил его Вас снабжать сведениями (У них готов № с моими снимками и пр.)226. М[ежду] пр[очим], Ваше письмо для Vollar-a я ему уже давно передал. Он мне обещал, что Вам напишет (?)[44]. Он же очень медлительный… И я, например, не знаю, когда выйдет в свет «Мертвые души», для которых я уже сделал около 60 гравюр (часть выставлена также). Ну что с Вами? Как живете? Работаете? Не думаете с’ездить сюда? Что нового? Что художники – все еще Родченко?.. или Малевич, или спокойно ищут. Будет здесь русск[ий] павильон на интернац[иональной] декор[ативной]227? М[ожет] б[ыть], возьмут тогда с собой мою роспись из евр[ейского] театра228 для выставки. Не повредит – думаю. Пишите. Я буду рад Вашему привету Ваш преданный Марк Шагал
ОР ГМИИ. Ф. 29. Оп. ІІІ. Ед. хр. 4677. Автограф. Опубл.: Письма Эттингеру 1980. № 5. С. 201–202; Harshav 2004. P. 331–332 (пер. на англ.). Печатается по автографу.
73. Шагал – Д.Е. Аркину
[Вторая половина декабря 1924 – январь 1925 г. Париж – Булонь]Дорогой Я шлю Вам вместе с каталогом229 свой привет. Простите, что до сих пор не давал знать о себе. Но и Вы тоже не давали признаков жизни. Я хотя, кажется, старше Вас и мне можно лениться… говорить о себе! Скажу лишь, что теперь я на устах современных франц[узских] художников, поэтов. И Матисс, и Пикассо, и Дерен, и Вламенк, [и] Сегонзак, у кого ноги работают, были на выставке. Не знаю с чего бы начать, чтоб послать Вам прочесть… Ссылаясь на свою «лень», Вы мне простите. Да, конечно, единственно, что может быть приятно, если такие «мэтры» как Матисс (не Щукинский он другой) признают Вас существующим. Экзамен? Да. Париж – самая тяжелая гиря для художников. Что у Вас? Я буду рад Вашему слову. С приветом преданный Марк Шагал
Paris. – Boulogne 3. Allee des Pins
Собрание семьи наследников Ю.А.Молока, Москва. Автограф. Опубл.: Chagall Paris 1995. P. 228 (пер. на фр.); Письма Аркину 2018. С. 84–85.
74. Шагал – А. Лесину
[20 января 1925 г. Париж – Булонь]20/I 925 Paris. – Boulogne. 3. Allee des Pins. (Parc des Princes) Глубокоуважаемый г. Лесин Наконец шлю Вам рукопись230. Вы мне простите, если я задержал. Виноваты писатели, что медлили. Она нигде не печаталась до сих пор несмотря на то, что просили. Но перевод ея немецкий и французский почти готовы, и я надеюсь, что пока выйдут эти книжки – она успеет у Вас уже пропечатать. Я надеюсь – Вы будете снисходительны к моему «произведению». Я же не претендую на литературу. Я только еврей в стиле наших отцов, и это мне достаточно. Мне кажется было бы хорошо, если б она печаталась во всю страницу, а не 2 столбцами. Если Вам кое-какие снимки нужны – я Вам смогу прислать. Конечно, если кое-какие слова Вам не понравятся, Вы можете их заменить более подходящими. Попрошу Вас также отметить в журнале, что перепечатка вещи или части кем-либо другим ни в коем случае не разрешается. Кланяюсь всем Вам и жму руку Марк Шагал.
YIVO. Автограф. Опубл.: Harshav 2004. P. 332 (пер. на англ.); Брук 2019. С. 341 (сокр.).
 Марк Шагал. Фотография (около 1924) с дарственной надписью: Милому Варшавскому – писателю-еврею с любовью и благодарностью /Марк Шагал / Paris 1925
Марк Шагал. Фотография (около 1924) с дарственной надписью: Милому Варшавскому – писателю-еврею с любовью и благодарностью /Марк Шагал / Paris 1925
75. Шагал – П.Д. Эттингеру
[Январь – февраль 1925 г. Париж – Булонь]Дорогой Павел Давидович. Спасибо за привет. Был у Воляра и вот он мне дал письмо для Вас с марками и конвертом. Вы не должны удивляться, что он до сих пор не отвечал. Но я ему о Вас говорил. Кстати, о его книгах. Я не думаю, чтоб было что-либо лучшее, чем его книги личные о Сезанне, Ренуаре и Дега, т. к. он их друг и первый marchand. Их бы надо было, конечно, на русский язык перевести. Сможете ли Вы об этом подумать[?] Ему будет приятно, если перевод в хороших руках. Можете теперь ему лично писать. Volard на редкость тип интересный, исторический. А мой Гоголь идет. Бумага уже есть, я за него спокоен. Сейчас выставка нашего общ[ества] независимых граверов-худож[ников]231. Это единств[енное] нов[ое] движение в обл[асти] гравюры (после академического)232. Насчет моей росписи театр[альной] на выст[авке] Декорац[ионных] иск[усств] в Париже не знаю. Как захотят в Москве233. Пишите. Привет Вам. Будьте бодры, насколько возможно. В следующий раз больше напишу. Предан[ный] Марк Шагал.
ОР ГМИИ. Ф. 29. Оп. ІІІ. Ед. хр. 4678. Автограф. Письмо написано на оборотной стороне пригласительного билета на вернисаж «Третьей выставки независимых художников-граверов». Опубл.: Письма Эттингеру 1980. № 6. С. 202; Harshav 2004. P. 332–333 (пер. на англ.). Печатается по автографу.
76. Шагал – А. Лесину
[23 апреля 1925 г. Париж – Булонь]Boulogne – Paris 23/ IV 25 Глубокоуважаемый коллега г. Лесин Мне сообщили здесь, что Вы начали печатать мою вещь234. Я был бы Вам благодарен, если б Вы распорядились, чтоб мне выслали неск[олько] №.№. – чтоб посмотреть, почитать. Сердечные приветы Вам и «Цукунфту». Марк Шагал
YIVO. Автограф.
77. Шагал – А. Лесину
[Июль 1925 г. Шамбон сюр Лак]Chambon sur Lac. (Pay de Dome.) Глубокоуважаемый коллега г. Лесин. Я получил последний № Цукунфта с окончанием моих записок235. Если Вам они доставили немного удовольствия – я был бы рад. Хотя многое переделывается мною и дополняется. Я получил после первых двух номеров по 50 долларов – всего 100 долларов. Думаю, что они от Вас. Из этой суммы я 1/2 отдал моему переводчику Перецу Маркишу. За остальные три номера я ничего не получил. Уступив Вам право первенства и помня Ваше обещание платить мне высший гонорар – я прошу Вас распорядиться отослать мне следуемое за остальные три номера. Заранее благодарен.
 Иосиф Опатошу
Иосиф Опатошу
 Авраам Лесин
Авраам Лесин
 Перец Маркиш
Перец Маркиш
 Ойзер Варшавский
Ойзер Варшавский
С дружеским приветом и искренним уважением Марк Шагал. P.S. Деньги можно выслать по моему: konto Marc Chagall / National City Bank / 39–41. Boulewad Haussmann / Paris.
YIVO. Автограф. Опубл.: Harshav 2004. P. 334 (пер. на англ); Брук 2019. С. 341 (сокр.).
78. Шагал – Л. Кенигу
[21 сентября 1925 г. Париж]Paris 21/September 1925 Любезный Лео Кениг. Я не забыл, что Вы хотели бы обратно получить Библию, раз я от Opatochi236 получил другую. Но… Ваша, к сожалению, имеет и древне еврейскую часть, а его нет. Приятно при работе посматривать на нее. Но как только минет надобность, я Вам ее перешлю с благодарностью. Согласны? Пророков буду делать (для изд. Vollard’ Paris)237 несмотря на то, что кругом «настроение» не пророческое… Наоборот… злодейское… Но надо же противостоять.Как ни странно в наше время, которое я считаю, несмотря на многие другие достижения – паскудным, – хочет[ся] удалить[ся] в другие планы и не забывать, что люди теряют образ веры какой-то религии. Искусство давно уже воняет, ибо чистота души заменена помойной ямой… Простите резкость. Что Вы думаете? Вы несомненно думаете. Вы всегда думали и производили на меня когда-то сильнейшее впечатление. Ну, будьте здоровы Ваш Марк Шагал P.S. Мои выставки в последнее время (кроме Парижа и Берлина) были недавно в Дрездене и Кельне238. А теперь американская галлерея ее тащит к январю 1926 в Америку239.
Рукописный отдел Еврейской Национальной и Университетской библиотеки, Иерусалим. Автограф. Опубл.: Harshav 2004. P. 337 (пер. на англ.).
79. Шагал – И. Опатошу
[24 декабря 1925 г. Париж – Булонь]3. Allee des Pins, Boulogne XII/24 – 1925 Дорогой Opatochu Уехали и плюнули на нас европейцев! Так нам и надо. А то ведь разные там Культур-Лигцы240 от нас требуют близости к народу, рабочим и еще куда! Так вот извещаем Ваше высокое благородие, что мы послали к Вам «буржуазное искусство», посмотрите там, чтоб народы и рабочие еврейск[ие] Ваши пошли толкаться около моих картин на 5 aven[ue] 730. Reinhardt241. Пусть ничего не понимают, но пусть не трогают руками. Вы уже объясните им… если Вы понимаете… Но наконец надеюсь, что после того как начитались (в Цукунфте)242 откуда я происхожу (мой ихес)[45] и пр., все же поймут. Ч[е]ркните как-ниб[удь] как живете. Аш243 уже здесь, но не наверно… Я ему предлагаю купить аэроплан и летать безпрерывно по линии: Польша, «ротонда», Америка и обратно. Привет Марк Шагал
YIVO. Автограф. Опубл.: Harshav 2004. P. 337–338 (пер. на англ.).
80. Шагал – П.Д. Эттингеру
[Январь 1926 г. Париж]Дорогой Павел Давидович. Получил Ваше письмо. Спасибо. Так редко получаешь слово из России, о которой думаю однако. Я считаю естественным молчание или даже игнорирование бывших друзей, знакомых. Жизнь! Но Вы не такой, и Ваши симпатии раз навсегда установлены. Мне поэтому было особо приятно передать для Вас несколько гравюр (из серии «Мертв[ые] души») через Марголина244 из студии имени Вахтангова, котор[ый] был в Париже. Надеюсь, Вы получите их, возьмете их. Конечно, я не думаю, чтоб отдельные экземпляры дали представление о целом – их 100 гравюр. Работа эта кончена, и Vollard должен сам показать свое искусство, заставив себя и Imprimerie Nationale поскорей издать. Но я Вам писал, что я завален др[угой] работой, часть от Vollard же (библию – книгу Пророков245 и La Fontaine (в красках, 50, 60 акварелей больш[их])246. Точно так же я делаю для edition Kra «7 главных грехов»247 и для «Nouvel Revu Françise»248 Appolinaire’a «Alcools»249. Однако я устал. Когда это все будет сделано, ибо я же должен и писать картины. Выставка моя сейчас открывается в Америке250. Как живете? Пишите. Не забывайте. Ваш преданный Марк Шагал.
ОР ГМИИ. Ф. 29. Оп. ІІІ. Ед. хр. 4695. Автограф. Опубл.: Письма Эттингеру 1980. № 7. С. 202–203; Harshav 2004. P. 344–345 (пер. на англ.; датировано: сентябрь 1926).
81. Шагал – В.В. Вейдле
1926 г. Париж – БулоньParis – Boulogne 926 Уважаемый г. Вейдле. Я читал заметку Вашу, где Вы со вниманием остановились на моей картине из Тюльери (1918 г. написанной в России). А я думал, что русские вообще не способны видеть живопись. Ваше писание, с которым я впервые столкнулся в Париже, показалось мне ответственным. Я так привык к непониманию в России, что я удивляюсь, когда русский (правда уже в Париже) начинает ценить живописные элементы в первую очередь вне «esprit»[46] и, может быть, такие как Вы могли б разсеять недоразумение в связи с русской несуществующей живописью, котор[ая] на протяжении веков – во всех положениях счастливо заблуждается. Да – французское иск[усство] в 1911 г. по приезде в Париж меня встрясло, и я тогда убедился, стоя в Лувре между Манэ и Делякруа, что живописи в России нет и никогда не будет, если … – Я так ценю остроту и точность Вашего анализа в подходах к искусству, что меня, видавшего уже всякие «писания», – действительно радует, что Вы немного оценили мои стремления в искусстве. С уважением Марк Шагал
Бахметевский архив. Автограф.
 Дарственная надпись на книге Вальдемара Жоржа «Марк Шагал» (Париж, 1928): Г. Вейдле – от офранцуженного, но всегда / русского художника пусть не люби/мого ни Россией в России, ни Россией / за границей. – уважение. / Марк Шагал / Paris 928
Дарственная надпись на книге Вальдемара Жоржа «Марк Шагал» (Париж, 1928): Г. Вейдле – от офранцуженного, но всегда / русского художника пусть не люби/мого ни Россией в России, ни Россией / за границей. – уважение. / Марк Шагал / Paris 928
82. Шагал – Ю.М. Пэну
[Конец 1926 – начало 1927 г. Париж]Дорогой Юрий Моисеевич. Как живете. Пишите. Пересылаю открытое с приветом Шульмана251, который был у меня. Впечатление на меня он произвел смешанное: он постарел и совсем не тот Лейба, который был когда-то живым парнем. Немного мещанин. О его искусстве ничего не знаю. Одним словом, дорогой Юрий Моисеевич, передайте потом моей сестре мои старые работы, сестре Зине252. Может быть, она сумеет их мне переслать. Как живете? Пишите обо всем. Высылайте или просите редакцию выслать Ваши записки мне253. Я Вам тоже вышлю и скоро дам эту же заметку в др[угой] журнал в Париже254. Очень много работы у меня. Очень занят. Привет от моих. Ваш Шагал.
Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства, Минск (ранее собр. С.Д. Палееса, Минск). Автограф. Опубл.: Запортыко А., Усова Н. Неизвестное письмо // Шагаловский ежегодник 2002. С. 88–91.
83. Шагал – П.Д. Эттингеру
[Декабрь 1926 – январь 1927 г. Париж]Дорогой Павел Давидович. Как живете? Вы знаете, что я почти оторван от России. Никто мне не пишет и мне «некому» писать. Как будто и не в России родился… Вы один, кому пишу слово русское. Неужели я «должен» стать французским (никогда и не подумал) художником. И кажется: ни к чему я там. А я не раз вспоминаю свой Витебск, свои поля… и особенное небо. Чтоб показать Вам, как ко мне относится Франция, я Вам хоть кусочек прилагаю прессы. Немыслимо послать более, но вот хотя бы по поводу моих 2-х послед[них] выставок гравюр и живописи255. А слышал, Бенуа, например, приезжал в Россию и писал о русских в Париже, даже не вспоминает меня. Мои картины по всему миру разошлись, а в России, верно, и не думают и не интересовались моей выставкой… Я для Франц[узских] изд[ательств] книги делаю, а русским моя работа не нужна… Так годы уходят. Даже «Мертвые души» в Россию не попадут. Потому что все под расписку. Так видите, я жалуюсь… Но на кого, на себя?.. Что делаю сейчас? Картины, котор[ые] уходят, как только подпись засыхает. И для Vollar’a книгу пророков со 100 грав[юрами]256, La Fontaine в красках более 100 акварелей больших257, «Цирк» более 100 рисунков все для Volar258. Для N[ouvelle] R[evue] F[rançaise] Appolinaire – «alcols»259. Голова ходит кругом от работы, вернее, от того, что делать нужно. Недавно в Антверпене имел заллу в Салоне Франц[узской] Живописи. Впрочем, хватит говорить о себе. Вышла «7 грехов», книга с моими гравюрами260 и «Материнство»261. Но как можно книги послать, котор[ые] уж трудно достать, через кого?? Хотел бы очень.
ОР ГМИИ. Ф. 29. Оп. ІІІ. Ед. хр. 496. Автограф. Опубл.: Письма Эттингеру 1980. № 8. С. 203–204; Возвращение мастера 1988. С. 320; Harshav 2004. P. 345–346 (пер. на англ.). Печатается по автографу.
84. Шагал – П.И. Шумову
[10 октября 1927 г. Париж]Многоуважаемый г. Шумов. Я не забуду, конечно, Вас благодарить за Ваши присланные фотопортреты с меня, полные жизни и экспрессии! Спасибо. С уважением, Марк Шагал
Частное собрание. Почтовая карточка. Автограф. На оборотной стороне справа адрес: Monsieur Choumoff, photographe. Faub. St. Jacque, 5. Paris, 14e, слева текст письма. Датируется по почтовому штемпелю: Paris XVI / 10 X 1927. Опубл.: Русский парижанин: Фотографии Петра Шумова / Сост.: С. Шумов, П. Гуревич, С. Некрасов, Э. Пинэ, Д. Дэсво / Пер. П. Гуревич. М., 2000. С. 21 (рус., фр.); Шагаловский ежегодник 2003. С. 158 (воспр.).
 Марк Шагал. Париж, 1927. Фото Петра Шумова
Марк Шагал. Париж, 1927. Фото Петра Шумова
85. Шагал – в комитет Третьяковской галереи
[Конец 1927 г. Париж – Булонь]Boulogne 4. 3. Allee de Pins 1927 Комитету Третьяковской Галлереи. Посылаю Вам через т. Мидлера262 мой дар – комплект 96-ти гравюр к Мертвым душам, сделанных в 1923 – 925 для Ambroise Vollard. Издание печатается в Национальной Типографии Франции и еще не вышло. Посылаю Вам свой комплект раньше, чем он увидел свет. Мне было б приятно, если б Вы выставили всю эту серию целиком в Москве и Ленинграде263. Мне казалось бы немного, что и я в России с Вами – Vollard присоединяется к этому моему пожеланию. Буду Вам благодарен, если пришлете для меня и Vollard каталоги. С глубоким уважением и преданностью Марк Шагал.
РГАЛИ. Ф. 990. Оп. 1. Ед. хр. 123. Л. 1–2. Автограф. На конверте (Л. 2) рукой Шагала надпись: Комитету / Третьяковской/ Галлереи / Москва. Опубл.: Брук 2017. С. 192.
 Марк Шагал. Въезд Чичикова в город NN. Офорт с дарственной надписью: Дарю Третьяковской Галлерее со всей моей любовью русскаго художника / к своей родине эту серию 96 гравюр, сделанных мною в 1923–925 / к Мертвым Душам Гоголя для издателя Аmbroise Vollard в Париже / Париж 1927. Марк Шагал
Марк Шагал. Въезд Чичикова в город NN. Офорт с дарственной надписью: Дарю Третьяковской Галлерее со всей моей любовью русскаго художника / к своей родине эту серию 96 гравюр, сделанных мною в 1923–925 / к Мертвым Душам Гоголя для издателя Аmbroise Vollard в Париже / Париж 1927. Марк Шагал
86. Шагал – Н.Г. Машковцеву
[Конец 1927 – начало 1928 г. Париж]Дорогой Николай Георгиевич Посылаю Вам обещанную Автобиографию – в том виде, в каком она вот уже лет пять маринуется в Комитете264. Это было так давно – и так быстро все меняется – что многое особенно в самом конце – я выразил бы теперь совсем иначе. А даю я автобиографию главным образом для тех ее частей, которые уже неизменны и кое в чем Вам помогут. Ваш Шагал
ОР ГТГ. Ф. 120. Ед. хр. 3833. Автограф. Опубл.: Брук 2017. С. 194; Брук 2019. С. 335, 345.
 В.М. Мидлер
В.М. Мидлер
 Н.Г. Машковцев
Н.Г. Машковцев
 Дарственная надпись на монографии: А. Сальмона «Шагал» (Париж, 1928): Для Третьяковской / Галлереи / с уважением / Marc Chagall / Paris 928
Дарственная надпись на монографии: А. Сальмона «Шагал» (Париж, 1928): Для Третьяковской / Галлереи / с уважением / Marc Chagall / Paris 928
87. Шагал – И. Опатошу
1 июля 1928 г. Париж – БулоньBoulogne 1 июль 928 Дорогой Opatochi. Надеюсь Вы в Польше. Получите эти картины. Недурно. Надеюсь, Вы увидели уже наши городки, пейзажи, евреи. Смотрите за меня… а когда будете в России, смотрите еще больше и тоже за меня. Как я Вам завидую… Ну всего хорошего. Не забывайте любящего Вас. Марк Шагал
YIVO. Автограф. Опубл.: Harshav 2004. P. 346 (пер. на англ.).
88. Шагал – А. Лесину
3 ноября 1928 г. Париж – Булонь3/ nov. 928 3. Allee des Pins Boulogne Дорогой г. Лесин Позвольте рекомендовать Вашему вниманию выдающегося французско-еврейского философа Henry Seronya – моего друга. Он известен в Париже и в кругах заграницей своими книгами, лекциями и глубокими оригинальными работами как: «Философия и действие», «Примитивная психология», «Бергсон», «Меерсон», «Философия войны и мира», «О еврейс[кой] кабале» (он уроженец Палестины и знает древне-евр[ейский] яз[ык]), «Философия иск[усства]», «Искусство и монотеизм» и «Искусство у евреев» и прочее. Он близкий человек философа Меерсона и философов Сорбоны здесь. Я буду рад и благодарен Вам, если Вы пригласите его для Вашего журнала. Его язык и мысль понятн[ы] и массам и полезны будут. Спасибо за журнал, который я получаю265. Благодаря ему я в курсе нашей культурной жизни. Преданный Вам Марк Шагал
YIVO. Автограф.
89. Шагал – А. Лесину
28 декабря 1928 г. Париж – БулоньFrance. Boulogne 3. Allee des Pins 28/ XII 928 Дорогой г. Лесин. Я получил Ваше письмо. Ваше сообщение Зеруья266 передал. На Ваш вопрос о рисунках для Вашей книги267 – могу Вам ответить, что несмотря на то что я завален франц[узскими] изд[ателями] и многим здесь отказываю – я же для Вас с удовольствием это сделаю. Чтоб этим показать Вам мое уважение к Вам и Вашей еврейской деятельности и о котором наш покойный друг Баал-Махшовес мне много говорил. Пришлите мне пожалуйста серию лучших Ваших стихов, Ваш портр[ет]-фото, размер страницы книги и как скоро рисунки нужны? В ожидании – Ваш преданный Марк Шагал P.S. Конечно, гонорар издателя 400 дол[ларов] невелик – я получаю гораздо больше.
YIVO. Автограф. Опубл.: Harshav 2004. P. 347 (пер. на англ.).
90. А.Б. Лаховский и Шагал – И.И. Бродскому
[Зима 1928/29 г. Межеве]Дорогой Исаак! Представь, встретил здесь Шагала – проводим вместе время268. Шлю тебе свой привет. Женя в Нице. Целую. Твой Арнольд. Через неделю еду в Париж. Пиши туда. Арнольд.
Шлю Вам привет. Встретил Ляховскаго здесь и вспоминали прежнее и Вас. Как поживаете? Жму крепко руку Марк Шагал.
РГАЛИ. Ф. 2020. Оп. 1. Ед. хр. 303. Л. 5. Почтовая карточка. Автограф. На лицевой стороне фотографический вид: Haute-Savoie. – Megeve. – Sous-Bois d Hiver. На оборотной стороне рукой А.Б. Лаховского адреса: U.R.S.S. // Leningrad // Художнику // И. Бродскому // Площадь Лассаля 3 // Ленинград. ниже: A. Lakhovsky // Villa Primevère Megeve
91. Шагал – А.Ф. Гринберг
[5 июля 1929 г. Париж]Дорогая Анна Гринберг269 (простите, забыл отчество). Сказать Вам, что я был рад получить Ваше письмо, – мало. Я был рад и огорчен. Почему Вы написали, что Ваше письмо «не нуждается в ответе»? Как это понять? Или что не особенно знать хотите такого, как я, живущего, увы, за границей, или еще что. Да я сам себя «презираю» за то, что я как художник еще принужден не жить, а работать здесь (это не одно и то же). А мало кому известно, что душа моя, если она еще теплится, – душа моя там, где Вы живете – на моей Родине. Дело в этой несчастной живописи, и больше ничего. Я достаточно поработал на моей Родине (если Вы знаете) во всех областях и кроме искусства, чтоб думали иначе обо мне. Увы, и дорогой Я.А. Тугендхольд думал тоже иначе в последнее время… Это не мешало, никогда не будет мешать любить его и помнить Вас. Спасибо, что написали пару слов. Конечно, я уже давно не тот. Не в том смысле, что я, кажется, «известность», а внутренне и… внешне. Есть у меня и дочь большая. Вы ничего не написали о своем муже270. Где он и что? Что Вы делаете, где работаете? Дети Ваши, наверно, большие271. Я мечтаю, как только смогу, съездить на Родину. Работ пока много. Пишите когда-нибудь. Я обещаю ответить – простите, что письмо задержалось. При сем прилагаю фото. Судите. Жму крепко Вашу руку, Марк Шагал.
Собрание семьи Гринберг, Москва. Автограф. Опубл.: Марк Шагал – московскому другу/ Публ. А.А. Гринберг // Медицинская газета (М.). 1989. № 90. 28 июля. С. 4.
92. Шагал – А. Лесину
[28 октября 1929 г. Сере]929. Ceret. Дорогой Лесин. Я возвращаюсь в Париж на днях отсюда (на границе Испании), где я работал, чтоб взяться за Ваши рисунки к Вашей поэзии, котор[ую] я получил и читал272. Я думаю, м[ожет] б[ыть], можно будет клише делать в Париже после, чтоб видеть их на месте и их отослать Вам. Но это мы еще посмотрим. Пока. Ваш пред[анный] Шагал.
YIVO. Почтовая карточка. Автограф. На лицевой стороне фотографический вид: La Roussillon / Port-Vendres (Рyr.-Or). /– L Eglise et le Monument aux Morts. Датируется по почтовому штемпелю: 28–10 – 29 Опубл.: Harshav 2004. P. 350 (пер. на англ.).
93. Шагал – П.Д. Эттингеру
10 февраля 1930 г. Париж – Булонь10/II 1930. Boulogne 5/3 Дорогой Павел Давидович. Мне было так приятно получить от Вас весточку. Я рад, что Вы здоровы. Как Вы поживаете? Я помню Вас философом в жизни – это хорошо и полезно. Пользуюсь случаем и прилагаю Вам в этом же письме каталог ля фонтеновской выставки273, в котором Вы увидите строки самого Vollard’a и перечень этого ужасного труда, котор[ый] я переодолел (а успешно ли – это другим виднее будет). Поверьте, мне было б очень приятно, чтоб мои редкие русск[ие] друзья их увидели раньше, чем они, увы, разбредутся по свету навсегда. Ибо Vollard продал всю коллекцию, 100 вещей, и теперь они выставляют[ся] поочередно в Париже, Брюсселе и Берлине274. Правда, они гравированы мною также275. Ну вот. Как раз сегодня вернисаж. И я, котор[ый] терпеть не могу эти дни и церемонии, не знаю, смогу ли остаться дома. Что Вы поделываете. Надеюсь, когда-ниб[удь] увидимся. Буду, конечно, рад Вас видеть. Моя общая выставка предполагалась устроить после Парижа и в Берлине в Националь Галлерее, но не знаю, когда и как соберут вещи, и по правде говоря… Вот удовольствие мне было б, если б они устроили на родине мою выставку, это другое дело, и хоть я вечное пятое колесо у себя – все равно… Не забывайте посылать нам привет иногда. Вы же знаете, каждое слово мне приятно. Я сделаю то же. Жму Ваши руки. Привет [от] жены. С приветом, преданный Марк Шагал.
ОР ГМИИ. Ф. 29. Оп. ІІІ. Ед. хр. 4679. Автограф. Опубл.: Письма Эттингеру 1980. № 9. С. 205–206; Harshav 2004. P. 353 (пер. на англ.). Печатается по автографу.
94. Шагал – А.А. Шику
[Март 1930 г. Париж]Любезный Шик. Я получил Ваше письмецо. Спасибо. Шлю Вам каталог выставки, устроенной в Париже и которая сейчас уже в Брюсселе, а в апреле откроется в Берлине в галерее Флехтгейма276. Это 100 акварелей для басен Ляфонтена, заказанных мне крупным лицом Vollard (его же префас[47]), открыватель Сезанна и Ренуара. После этой выставки вещи разойдутся, и я, конечно, и не мечтаю, что «родина» их увидит… Дайте знать хотя бы русским и евреям в Берлине, пусть пойдут посмотрят, и Вы тоже, и потом напишите. Как поживаете? Жму Вашу руку. Предан[ный] Шагал. Здесь эта выставка вызвала скандал: с какой стати обратились ко мне, иностранцу, делать «национального» француза277.
Архив наследников А.А. Шика, Париж. Автограф. Опубл.: Письма Шику 1996. № 4134. С. 11.
95. Шагал – П.Д. Эттингеру
[Апрель 1930 г. Париж]Дорогой Павел Давидович. Шлю Вам каталог немецкой выставки, котор[ая] в Берлине278 после Брюсселя и Парижа. Она там невероятный успех имеет. Жаль мне лишь одного – хотел бы лучше ее на своей родине показать, пусть даже без успеха. Но все разошлось навсегда по частным рукам. Хотел бы Вам с удовольствием послать нек[оторые] гравюры, если б был случай или как иначе уверенно. – Эти акварели мною гравированы отдельно также279. Адская работа. Все этот Vollard-мучитель. Как Вам живется? Привет сердечный. Ваш Марк Шагал. P.S. Еду в Берлин на неск[олько] дней для стенной живописи280.
ОР ГМИИ. Ф. 29. Оп. ІІІ. Ед. хр. 4699. Автограф. Опубл.: Письма Эттингеру 1980. № 10. С. 206.
96. Шагал – В.Э. Мейерхольду
[Апрель-май 1930 г. Париж – Булонь]Paris – Boulogne, 1930. Глубокоуважаемый Всеволод Эмильевич. Вы были правы. Театр Pigalle действительно занят. После Таирова идут венцы. Но я надеюсь, что Вы устроитесь и будете иметь заслуженный Вами успех в городе художников281. Привет Вам и Вашей жене от нас. Марк Шагал.
РГАЛИ. Ф. 998. Оп. 1. Ед. хр. 2602. Л. 1. Автограф. На обороте рукой Шагала адрес: Monsieur Vsevolod Meyerhold / Hotel Malherbe / 11 rue de Vaugirard / Paris ниже наклейка с печатным адресом: Marc Chagall / 3, Allée des Pins / Paris – Boulogne / Tel.: Boulogne 7–90. Опубл.: Мейерхольд В.Э. Переписка. 1896–1939 / Вст. ст. Ю.А. Завадского. Сост. В.П. Коршунова и М.М. Ситковецкая. М., 1976. С. 306; Каменский 2005. С. 275. В этом же архивном деле (Л. 2) находится печатная визитная карточка Шагала, переданная им Мейерхольду, по-видимому, в Петрограде в 1915–1917 гг.: Marc Chagall ниже карандашом рукой Шагала надпись: Марк Захарович / 575–20 / от 10 до 5/ Перекупной пер д. 7/ кв. 20.
97. Шагал – А. Лесину
[1930 г. Париж]1930 Paris Дорогой г. Лесин. Я получил Ваше письмо. Как я Вам писал, я читаю часто Ваши стихи и делаю наброски282. В Вашей поэзии я чувствую искренность, неподдельность и многие из них мне близки по духу, так как мы из одной родины (Литва). Вы мне не писали м[ежду] п[рочим] о количестве рисунков необходимых для Вашей книги. Имея в виду тот гонорар, котор[ый] Ваш издатель предлагал (500 дол[ларов]), я мог бы дать для Вас 4 или 5 рисунков, так как каждый рисунок требует с меня много работ и времени, и я получаю вообще больше. Напишите пожалуйста по этому поводу. Жму Вашу руку Преданный Марк Шагал.
YIVO. Автограф. Бумага с печатным адресом: 5. Avenue des Sycomores (XVI) / Villa Montmorency / Auteuil 22–69283. Опубл.: Harshav 2004. P. 360 (пер. на англ.).
98. Шагал – М. Дизенгофу
[Конец 1930 г. Париж]1930 Paris Дорогой гос. Дизенгоф. Я еще в Палестине не был, но я видел Вас284. В здешней гойской атмосфере – знакомство, встреча с Вами меня, нас всколыхнула. И я, как-то в последние годы отошедший от еврейской «общественной деятельности», зашевелился при виде Вас. И мы готовы помогать Вам. Я рад, что нашелся еврей, который хочет наконец основать музей еврейский, понял как он необходим (не только как полезный элемент туризма)285. Признаюсь, я был в отчаянии эти годы при виде еврейской незаинтересованности судьбой еврейского искусства, и я хуже всего боялся попыток антихудожественных (и потому вредных) в создании музея. Завистливые люди оспаривают у нас евреев право на государство, но не надо забывать, что у нас «за пазухом» еще другие государства: кроме духовной культуры еврейства есть еще возрождающееся искусство евреев. Я думаю нам нестыдно будет его показывать чужим и, может быть, они освежат немного свое уважение к нам… Евреи должны наконец начать собирать систематически и со строгим отбором искусство евреев (старое и новое). Когда-то впервые, когда я выступил на путь искусства, я был почти одинок – теперь меня окружает целая армия еврейских художников. Мне неудобно было б во избежание всяких страстей вмешиваться технически в это дело. Ведь я уже испытал раньше кое-что в этой области в России. Но… ради Вас и общего идеала я решился содействовать, как смогу. – Сегодня мы с Fleg’ом и Орловой обсудили Вашу записку. Она очень хороша так. Только конкретные пункты несколько видоизменены, а списка художников пока можно не публиковать. Мы решили, что в главных центрах Европы и Америки должны основаться общества друзей еврейского музея, имея в виду, что музей как таковой Вами уже основан (хоть и не открыт) и что жюри (секретное) уже существует. Остается этим друзьям, как и всему еврейству, пропагандировать, собирать деньги и художественный музейный материал и посылать 1-ое по текущ[им] счетам или Вам или нам сюда в Париж, и 2-ое сюда в отобранный специально локаль для жюрирования и отбора (можно по снимкам, если далеко). Я предвижу музей идеальный при условии доверия к жюри… и не навязывания нам вкусов. Я буду рад, что Вы не только первый новый еврейский город основали, но построите первый подлинный еврейский музей. За работу! Сердечно кланяется Вам моя жена, дочка. Мы часто думаем о Вас. Мы думаем также о поездке конечно. Я на днях поговорю с Ефройкиным об этом. Жмем Ваши руки. Ваш преданный Марк Шагал
Тель-Авивский музей изобразительных искусств. Автограф. Слева вверху рукой Дизенгофа (?) дата получения: 14/1/31. Бумага с печатным адресом: 5. Avenue des Sycomores (XVI) / Villa Montmorency / Auteuil 22–69. Опубл.: Harshav 2004. P. 367–368 (пер. на англ.).
 Меир Дизенгоф. 1930-е
Меир Дизенгоф. 1930-е
 Тель-Авив. Улица Дизенгоф. Открытка, вторая половина 1930-х
Тель-Авив. Улица Дизенгоф. Открытка, вторая половина 1930-х
99. Шагал – П.Д. Эттингеру
[Конец 1930 – начало 1931 г. Париж]1930–31 Paris Дорогой Павел Давидович. Как поживаете? Давно Вам не писал. Что поделываете? Пишите все же иногда, для меня слово (и редкое увы) с родины – удовольствие. Я думал и думаю Вас как-ниб[удь] увидеть. Вы же собирались в командировку, я бы воспользовался тогда Вам дать образцы моих гравюр разных периодов. Вы же страстный библиофил. Как жаль, что Вы сейчас в Париже не можете видеть выставку изданий Vollard’a286, где и фигурируют, м[ежду] пр[очим], и Гоголь, и Ляфонтен (мои эстампы к ним), наряду с Сезаном, Ренуаром, Бонар, Пикассо, Руо и др. Теперь вот что хотел Вас спросить. Я, правда, и Эфроса спросил об этом, но он неаккуратный на письма (и, м[ожет] б[ыть], и на «любовь»). Palais des Beaux-Arts в Брюсселе обратился ко мне с просьбой разрешить устроить у них мою «ретроспективную» выставку (в апреле 1931)287; я согласился и они заняты собиранием моих работ всех периодов с 1907. На родине в музеях, что ли, есть мои нек[оторые] работы 1914–1917. Может ли упомянутое официальное учреждение одолжить под всеми гарантиями (и их расходы) мои работы: вроде «Прогулка», над городом, венчание, видение, старик с красной бородой, зеркало, парикмахер, часы и др. Учреждение очень солидное; оно устроило недавно такие же выставки Родена, Майоля, Бурделя, Энсора. Но вот я чувствую, что я не «заслужил» ничем и боюсь, что откажут… Но я бы мог в благодарность предложить хотя бы в подарок какую-либо свою последнюю вещь. Могу ли я Вас, Павел Давидович, спросить от моего имени, не знаю кого, м[ожет] б[ыть], Третьяков[скую] Галлерею и Русск[ий] музей об этом; к кому также должен обратит[ься] «Palais des Beaux-Arts». В ожидании Вашего скорого ответа. Будьте здоровы и лучш[ие] пожелания к Нов[ому] году. Привет [от] семьи. Ваш Шагал.
ОР ГМИИ. Ф. 29. Оп. ІІІ. Ед. хр. 4680. Автограф. Бумага с печатным адресом: 5. Avenue des Sycomores (XVI) / Villa Montmorency / Auteuil 22–69. Конверт с печатным адресом: Le Portique / Tableaux / 99, Boulevard Raspail, Paris. На конверте рукой Шагала адреса: U.R.S.S. / Moscou / Москва / Новая Басманная / 10 кв. 22 / П.Д. Эттингеру ниже: M. Chagall / Villa Montmorency / 5 Avenue des Sycomores / Paris XVI Опубл.: Письма Эттингеру 1980. № 11. С. 206–207; Harshav 2004. P. 367 (пер. на англ.). Печатается по автографу.
100. Шагал – М. Дизенгофу
[Начало января 1931 г. Париж]Paris 1931 Дорогой господин Дизенгоф. Мы это время думаем о поездке, но вот мы узнали, что собирается конгресс чуть не в феврале288. Полагаем, что Вы и все палестинцы уедут из Палестины в Европу. Не следовало бы тогда нам отложить поездку? Или конгресс отложится? Ваше мнение? Между прочим узнал, что в Лондоне и Берлине круги собирают старинную археологическую часть еврейск[ого] музея для Ерусалима [два слова нрзб.] Не следовало б тогда заняться устройством для Тель-Авива музея лишь пластического искусства евреев 19 и 20 века? Это все же легче и соответствует духу нового города. Новому еврейскому городу – новое еврейск[ое] искусство. Примите наши пожелания к Новому году и приветы всей семьи Жмем Вашу руку В ожидании Преданный Марк Шагал
Тель-Авивский музей изобразительных искусств. Автограф. Бумага с печатным адресом: 5. Avenue des Sycomores (XVI) / Villa Montmorency / Auteuil 22–69. Опубл.: Harshav 2004. P. 369 (пер. на англ.).
101. Шагал – М. Дизенгофу
13 февраля 1931 г. Париж13 / II 1931 Paris Дорогой г. Дизенгоф. Спасибо за письмо. Извещаю Вас, что 3-го289 мы выезжаем из Марселя, нами уже заказаны 3 билета 1-го класса. Надеемся, что все будет благополучно. При выезде или в пути протелеграфируем еще. Я привезу с собой на всякий случай комплект моих гравюр «Мертвые души» и басни Ляфонтена и, м[ожет] б[ыть], их выставлю. Я имею в виду также написать книгу о Палестине или мое «путешествие в Палестину» по просьбе одного французского и немецкого издателя. Я думаю кроме того как-ниб[удь] в один вечер пpочесть отрывки из готовящейся книги «ma vie» и после, если это нужно будет, некот[орые] свои мысли о соврем[енном] искусстве. А затем думаю – «запереться» и работать – чтоб к концу апреля, началу мая вернуться в Париж, где жд[у]т меня в Брюсселе и Париже мои выставки и публикация моей книги «ma vie»290. Да и Вам, кажется, к тому времени нужно быть в Париже для евр[ейского] отд[ела] колониальной выставки291, где, я надеюсь, евреи в области иск[усства] кое-что покажут. Моя семья Вам сердечно кланяется и жмем Ваши руки. Мы будем рады Вас увидеть и новый мир. Весь Вам преданный Марк Шагал
Тель-Авивский музей изобразительных искусств. Автограф. Бумага с печатным адресом: 5. Avenue des Sycomores (XVI) / Villa Montmorency / Auteuil 22–69. Опубл.: Harshav 2004. P. 367–368 (пер. на англ.).
102. Шагал – А. Лесину
16 февраля 1931 г. Париж16/II 1931 Paris Дорогой г. Лесин. Ко мне зашел Аронсон от Вашего имени спросить по Вашему делу: иллюстрации Вашей книги. Это мне показало, что Вы, вероятно, не получили мое недавнее письмо, где я Вам писал об этом292. Пишу Вам поэтому еще раз. Несмотря на то, что я занят помимо картин – книгой пророков, баснями Ляфонтена – я из уважения к Вам как человеку и поэту согласился это сделать. Я имею в виду сделать серию 25–30 рисунков и сделать исключительно один из них в красках для обложки или «фронтиспис’а». Я имею в виду делать только такие рисунки, чтоб ни Вам ни мне не было стыдно… Но вместе с тем я хотел бы, чтоб мой труд был бы минимально оплачен, как это получают художники другие более молодые, чем я. Поэтому я хотел за серию 25–30 рисунков к Вашей книге получить 1000 долларов, при чем эти все рисунки по использовании Вами их остаются Вашей собственностью. Эти рисунки оригиналы Вы можете как приложение к «люксу» экземпляру Вашей книги продать несколько раз дороже, или как Вы найдете. Повторяю, что все это я делаю для Вас из уважения и помня по Вашим стихам, что мы из одного края… Итак, по этому вопросу я жду Вашего ответа, чтоб также успокоить бедного Аронсона, который очень волнуется… Я еду скоро в Палестину по приглашению мэра Тель-Авива, но возвращаемся через 1 1/2 месяца. Ваш преданный Марк Шагал. Адрес парижский или на 1 1/2 месяца: Tel-Aviv. Mr Dizengoff – a Mr Chagall с 2-го марта.
YIVO. Автограф. Бумага с печатным адресом: 5. Avenue des Sycomores (XVI) / Villa Montmorency / Auteuil 22–69. Опубл.: Harshav 2004. P. 371, 373 (пер. на англ.).
103. Шагал – П.Д. Эттингеру
18 февраля 1931 г. Париж18/II 1931. Paris. Дорогой Павел Давидович. Я очень рад дать Вашему человеку дать кое-что из образцов. Пусть только позвонит раньше, и Вы увидите, что я помню тех, увы, редких кто меня помнит. Я с 1-го марта еду в далекое путешествие, но к маю возвращаюсь, где должна «выставиться» моя книга293 + некотор[ые] новые картины, т. е. выставка по поводу книги «ma Vie»294, выходящей к моему возвращению в мае. Тогда, кстати, пусть он и появится ко мне. Я рад получать иногда вести с родины, ибо тоска моя велика и еще более, что у Вас думают, что я «чужой»; тогда в доказательство того, как меня здесь третируют, я посылаю Вам статью бывшего авторитета295 по поводу выставки Vollard’a296, где особенно я им, ему не даю спать. Вы увидите, что ни у Вас, ни здесь меня соотечественники не терпят… Хорошо было бы, если б Вы эту ст[атью] и это положение довели бы до сведения художест[венных] кругов на моей родине… Будьте здоровы. Пишите, не забывайте. Я всегда рад. P.S. О выставке в Брюсселе297. Там заняты. Я, однако, хотел бы, чтоб они оттянули до 1932, когда она сумеет, м[ожет] б[ыть], переехать и в Париж, ибо с 1907 года – 1932 будет… 25 лет, как Ваш покорный слуга занимается тем, что называют «Искусство» – Ваш преданный Марк Шагал.
ОР ГМИИ. Ф. 29. Оп. ІІІ. Ед. хр. 4681. Автограф. Бумага с печатным адресом: 5. Avenue des Sycomores (XVI) / Villa Montmorency / Auteuil 22–69. На конверте рукой Шагала адреса – на лицевой стороне: Moscou (66) U.R.S.S. / M-r P. Ettinger / Москва (66)/ Новая Басманная 10 кв. 22 / Павлу Давидовичу Эттингеру на оборотной: Villa Montmorency / 5 Av. des Sycomores / Paris XVI. Почтовые штемпели: Paris 19–2–31, Москва 24–2–31. Опубл.: Письма Эттингеру 1980. № 12. С. 207–208; Возвращение мастера 1988. С. 320; Harshav 2004. P. 373 (пер. на англ.). Печатается по автографу.
104. Шагал – Л. Кенигу
[Вторая половина 1931 г. Париж]Дорогой Кениг. Мне пришла в голову мысль. Не приняли ли на себя директорство еврейского музея в Тель-Авиве? Вам, конечно, известно о пертрубациях в связи с этим, и о моей поездке, и о моих хлопотах с Дизенгофом и пр.298 (Я адрес ему дал Ваш с тем, чтоб он Вас видел). Одним словом, что Вы думаете? Если Вы сочувствуете, я бы с своей стороны нажал и обратился, чтоб Вас пригласить. На этот раз, надеюсь, разговоры, хлопоты и даже «споры» между нами доведут до настоящего музея. Но считаю, что нужен раз навсегда «новый» директор, и я вспомнил Вас. Я нетерпелив. Жду Вашего ответа. Связаны ли Вы «кровно» с Лондоном. Я был в Палестине, там «чудно». Пишите скорей. Преданный Марк Шагал P.S. Я не могу Вас сейчас вводить в наши «контроверсы» в связи с музеем. Нужно «убить» Бецалель299 раз навсегда. Владеете ли Вы древ[не]-еврейск[им]? Имеете ли Вы «администр[ативный] талант»?
YIVO. Автограф. Бумага с печатным адресом: 5. Avenue des Sycomores (XVI) / Auteuil 22–69. Опубл.: Harshav 2004. P. 384 (пер. на англ.).
105. Шагал – П.Д. Эттингеру
2 апреля 1932 г. ПарижParis 2/IV 932 Дорогой Павел Давидович. Спасибо за письмецо. Как живете? Редко, совсем редко получаю привет с родины. Не забывайте же Вы. Хотел бы Вам дать мою книжку ma Vie. Не моя вина, если Вы ее еще не имеете – но она лежит для Вас всегда. – Как поживаете? Что поделываете? У нас по-старому, работаю, как могу. Сейчас в Голландии мои выставки открыты в Амстердаме300 (была раньше в Гааге301, и должна быть в Роттердаме302) в салонах Голландск[о-го] Общ[ества] Иск[усств]. Открытие было так официально (я был лично с женой туда приглашен), что во время их речей мне, как всегда, щемило сердце и думал о другом… Книги «Мертв[ые] души», «Ляфонтэн» я уж давно кончил, но, конечно, Vollard медлит. Такой у него характер. Делаю сейчас для него же другое303, но теперь я тяну. Будьте здоровы, с приветом [от] семьи. Ваш М. Шагал.
ОР ГМИИ. Ф. 29. Оп. ІІІ. Ед. хр. 4682. Автограф. Бумага с печатным адресом: 15. Avenue des Sycomores (XVIo) / Auteuil 22–69. На конверте рукой Шагала адрес: URSS / Soviet Russie / Moscou / Москва / Новая Басманная 10 кв. 22 / П.Д. Эттингеру. Почтовые штемпели: Paris 4–IV–32, Москва 9–4–32. Опубл.: Письма Эттингеру 1980. № 13. С. 208–209; Harshav 2004. P. 387 (пер. на англ.). Печатается по автографу.
106. Марк и Белла Шагалы – А. и К. Сахаровым
29 мая 1932 г. Париж29. V.32 Милые друзья. Вчера после спектакля не осмелились Вас больше беспокоить. Вы, наверное, были очень уставшие. Но хотели бы раз Вас горячо поблагодарить за огромное удовольствие, которое Вы нам обоим доставили Вашими танцами, тонко и остро продуманными, тепло прочувствованными и с большой, нежной поэзией переданными. Большое спасибо и будем всегда рады видеть Вас обоих. Ваши Marc Chagall et Bella.
Архив наследников А.С. Сахарова, Рим. Автограф. Бумага с печатным адресом: 15 Avenue des Sycomores / Villa Montmorency. XVIe / Аuteul. 22–69 Опубл.: Письма Сахарову 1991. С. 12.
 Александр и Клотильда Сахаровы
Александр и Клотильда Сахаровы
107. А.Б. Лаховский и Шагал – И.И. Бродскому
[1930–1933 г. Париж]Дорогой Исаак. Сидим у Шагала, вспоминаем старину и решили тебе черкнуть несколько слов. К[а]к ты там поживаешь? Вос махт аид?[48] Напиши о себе. Что Лидочка304 и жена305? Привет всем твоим и тов[арищам] художникам. Твой Арнольд.
Дорогой Бродский. Вспоминаем не раз Вас. Как живете. Не забыли ли Вы нас? Мы видим часто Лаховскаго и в голове перебираем все родные пейзажи и людей. Если Вам случится увидеть моих сестер, примите их хорошо. Будем рады Вашему привету. Преданный Марк Шагал. Paris. Avenu des Sycomores 5. / Villa Montmorensy.
РГАЛИ. Ф. 2020. Оп. 1. Ед. хр. 303. Л. 4–4 об. Почтовая карточка. Автограф. На оборотной стороне рукой Шагала приписка: Привет от Беллы / Шагал. Рукой А.Б. Лаховского адреса: U.R.S.S. / Г-ну художнику Исааку / Бродскому / Площадь Лассаля / № 3 / Ленинград / Leningrad. вверху: A. Lakhovsky / 11, rue des Sablons / Paris 16.
108. Шагал – И.И. Бродскому
1 сентября 1933 г. Верхняя Савойя3061/IX 1933 Дорогой Исаак Израилевич Вы удивитесь, наверное, получив от меня письмо. Мы здесь часто с Лаховским вспоминаем Вас и говорим о Вас. Я думаю, что Вы получили письмо от Музея Базельского (из Швейцарии) относительно большой моей выставки, которую они собираются устроить.
 И.И. Бродский в экспозиции Бердянского художественного музея. 1930
И.И. Бродский в экспозиции Бердянского художественного музея. 1930
 Ленинград. Улица И.И. Бродского. Открытка, 1955
Ленинград. Улица И.И. Бродского. Открытка, 1955
Я пишу Вам тоже об этом и надеюсь, что Вы, как товарищ, поймете меня и поможете мне, как всегда, своим личным и внимательным отношением. Дело в том, что этот Базельский Музей обратился ко мне устроить мою, как бы ретроспективную выставку за более чем 25 лет моей работы (с 1907–1933 гг.)307. Они на свой счет предпринимают все розыски моих работ у частных коллекционеров и в музеях тех стран, где эти работы находятся. В U.R.S.S. есть известное число моих старых работ еще с 1907–1910 гг. Их местонахождение мне совершенно неизвестно. А другие работы с 1914 по революции находятся, по моим сведениям в нескольких музеях (Третьяковка, Музей Алекс[андра] III, Музейный Фонд). Эта выставка в Базельском Музее очень серьезна и имеет большое значение для художника. Этот музей устраивает редкие выставки некоторых крупных французских художников308. И я бы очень хотел иметь для моей выставки несколько крупных вещей, что осталось на моей родине, как «Прогулка» (Музей Александра III), как «Видение» (не знаю где оно сейчас находится) и другие. Конечно, все расходы по транспорту, по страховке и все гарантии берет на себя Базельский музей. Если Вы имеете некоторые характерные мои работы, я был бы рад, если Вы бы их тоже одолжили309. Можно дать и цены, невысокие, конечно, если кто захочет продать. Я был бы Вам очень благодарен, если Вы помогли мне в этом Вашим чутким вниманием, одолжить хотя бы несколько но крупных вещей, которые я так хотел бы показать на моей общей выставке, чтобы заполнить пробел некоторых годов, все картины которых почти остались на родине. Я хочу надеяться на Ваше сочувствие и помощь. Напишите мне, пожалуйста. С искренним товарищеским приветом Марк Шагал. Лаховский просит Вам дружески кланяться.
РГАЛИ. Ф. 2020. Оп. 1. Ед. хр. 303. Л. 1–1 об. Автограф. Бумага с печатным адресом: 15. Av. des Sycomores / Villa Montmorency / Paris 16-e. Опубл: Каменский 2005. С. 275.
109. Шагал – в Третьяковскую галерею
Сентябрь 1933 г. ПарижСент. 1933 Третьяковской галлерее Москва Разрешите обратиться к Вам с настоящей просьбой. Я получил предложение от «Kunsthalle de Bâle» в Швейцарии устроить у них свою «ретроспективную» выставку работ с 1907 до 1933310. Они делают большие усилия, чтоб собрать мои работы всех периодов изо всех стран, где они находятся. Это официальное художественное учреждение Швейцарии сделало до сих пор лишь выставки крупных европейских художников. Так как на моей родине остались работы известного моего периода – я бы очень хотел бы, чтоб они тоже были представлены на моей выставке: во-первых, для того, чтоб выставка выиграла в полноте, и во-вторых, чтоб моя родина тоже бы участвовала в ряде стран, имеющих мои работы. Я не должен Вам сказать, как это было бы мне дорого, мне чувствующему все время невольную отдаленность мою от родины, к которой я органически привязан и в жизни и в искусстве. Я только как художник живу в Париже, в котором я жил еще с 1910 года311, но и как художник, как все это признали, я не потерял внутренней связи с моей родиной. Я полагаю, что директор «Kunsthalle» Вам написал подробности о каких картинах идет речь, о страховке, транспорте, расходах, котор[ые] они берут на себ[я]312. Я бы очень хотел надеяться, что Вы меня удостоите скорым ответом и Вашим согласием. Совершенно преданный Марк Шагал.
ОР ГТГ. Ф. 8. II. Ед. хр. 517. Л. 33–33 об. Автограф. Бумага с печатным адресом: 15. Av. des Sycomores / Villa Montnorency / Paris 16e / Auteuil 22–69. На л. 33 вверху – слева штамп с входящим номером: Государственная Третьяковская Галерея/ № 4/609 / 23.IX.1933 справа служебная помета: Пом[естить?] в дел[а?] Сов[етского] иск[усства] / Запроса не было / 2/XI.
 Москва. Государственная Третьяковская галерея. Открытка, середина 1930-х
Москва. Государственная Третьяковская галерея. Открытка, середина 1930-х
 Государственная Третьяковская галерея. Опытная комплексная марксистская экспозиция. Начало 1930-х
Государственная Третьяковская галерея. Опытная комплексная марксистская экспозиция. Начало 1930-х
110. Марк и Белла Шагалы – М. Дизенгофу
31 сентября 1933 г. ПарижParis 31/IX 33. Дорогой Мирон Яковлевич. Мы Вам писали месяца два тому назад. Получили это письмо? У нас хлопот, конечно, полон рот, а Вам не до письма. Мы даже не знаем, в Тель-Авиве ли Вы или в Праге313. И пишем Вам на всякий случай, все в связи с немецкими музыкальными силами, которых забросило во Францию и которые могли бы найти применение своим силам именно в Палестине. Вам Розовский314, как он Вам пишет, обо всем рассказал. Он пишет, что Вы близко стоите к Филармоническому[49] о[бщест]ву, возглавляемому одним молодым дирижером. Мы его не знаем, может быть, он человек талантливый, но, наверное, хотя бы уже по своей молодости, не такой опытный, как Oskar Friеd. Последний все равно хочет ехать в Палестину. Мы его очень уговариваем. Ему хоть 60 лет, но он еще в расцвете сил, которые он рвется отдать Палестине. И, право, было бы хорошо, если бы Палестина воспользовалась бы такой крупной силой. Хорошо и в смысле организации оркестров и в смысле пропаганды его концертов, которые во всем мире имели большой успех. Нам приходится иногда довольствоваться, что у нас есть под рукой, но почему не с самого начала созидания Филармонического о[бщест]ва не воспользоваться крупной силой, которая хочет ехать в Палестину, но, конечно, он был бы более ободрен, если бы знал, что едет не напрасно. Что останется ему, Фриду, делать в Палестине, если он найдет на свое место молодого дирижера. Достаточно, что музыканты будут молодые, организовать должна их более опытная рука. От силы и таланта дирижера-руководителя зависит весь успех и заслуги нашего музыкально о[бщест]ва, которое нам художникам издавна тоже дорого. Улучите минутку, дорогой Мирон Яковлевич, и напишите нам по этому поводу. Мы Вас целуем крепко, крепко. Марк Шагал, Bella Шагал
Тель-Авивский музей изобразительных искусств. Автограф. Опубл.: Топоровский 1996. С. 27.
111. Шагал – В.В. Вейдле
11 ноября 1933 г. ПарижГлубокоуважаемый г. Вейдле. Вернулся из Базеля315. Она прекрасно устроена. Развешано прекрасно (и без меня – слава Богу). Ходил по выставке и грустел – столько хлопот для одного города, но вместе с тем безпрерывно сомневался в себе… глядя на стены… Увы, чем старше, чем более люди уверяют в «благополучии», тем более ты колеблешься. Я жалею, что Вы не можете съездить посмотреть. Я не знаю переведут ли ее куда. Не забывайте. Ваш преданный Марк Шагал. 11 нояб[ря] 1933. Марк Шагал, Белла и директор Кунстхалле Вильгельм Барт на выставке. Базель, 1933
Бахметевский архив. Автограф Текст написан на обложке каталога выставки в Кунстхалле.
 Марк Шагал, Белла и директор Кунстхалле Вильгельм Барт на выставке. Базель, 1933
Марк Шагал, Белла и директор Кунстхалле Вильгельм Барт на выставке. Базель, 1933
 Дарственная надпись на каталоге выставки (Базель, 1933): Третьяковской Галлерее / Марк Шагал / со всеймоей любовью / к родине
Дарственная надпись на каталоге выставки (Базель, 1933): Третьяковской Галлерее / Марк Шагал / со всеймоей любовью / к родине
112. Шагал – И.И. Бродскому
Декабрь 1933 г. Париждек. 1933 Дорогой Исаак Израилевич. Я был рад получить от Вас словечко. Ведь я же редко получаю привет с родины. Мне не пишут, что я разве не русский. Ну не удалось получить нек[оторые] картины и до ноября мало времени было, чтоб лично хлопотать. Выставка была все же довольно полна и прошла с большим худож[ественным] успехом316. Но я жалею, что она в таком виде не может быть показана на родине… где только знают период 1914–1918. Вы спрашиваете о русских художниках некоторых здесь. Я больше всего вижу одного симпатичного Лаховскаго. С другими худож[никами] да и вообще со здешними русскими я не вижусь. Приедете ли Вы сюда на время. Будем рады. А уж я стосковался по своим краям… Иногда мои дома и заборы мне снятся. Здесь кризис большой вообще и в области искусства в частности. Спасибо Вам, что содействуете и видите моих бедных сестер. Я их люблю, но я далек, увы. Я посылаю Вам каталог моей выставки, единственный, увы… базельцы скупые больше мне не послали. Так что Вы уж покажите там сами кому интересно знать о выставке. Ну как живете и работаете? Хоть когда-нибудь послали б что-ниб[удь] из журналов и книг по иск[усству]. Ничего не знаю – что делается… Я бы с своей стороны послал бы здешнее – если можно. Моя жена (и дочь взрослая) Вам кланяются. Пишите все же – не забывайте. Ваш преданный Марк Шагал. Привет Лаховских Вам.
РГАЛИ. Ф. 2020. Оп. 1. Ед. хр. 303. Л. 2–2 об. Автограф. Бумага с печатным адресом: 15. Av. des Sycomores / Villa Montmorency / Paris 16-e. Опубл.: Каменский 2005. С. 275–276. Печатается по автографу.
113. Шагал – В.В. Вейдле
18 декабря 1933 г. ПарижParis 18 dec. 1933. Дорогой г. Вейдле (простите имя – отчество моя слабость). Получил вырезку франц[узскую] с Вашей заметкой о выставке в Бале. Правда, как мне приятно, что Вы – единственный русский сегодня говорите о моем искусстве – как бы убеждаете меня в моей некоей правоте, тогда как я с годами все более сомневаюсь. Спасибо. Ваш преданный Марк Шагал.
Бахметевский архив. Автограф.
114. Шагал – Ю.М. Пэну
1933 г. ПарижПариж 1933 г.
К юбилею Ю.М. Пэна317.
Дорогой Юрий Моисеевич. Ваш бывший ученик, которому уж самому исполнилось в прошлом году 25 лет худож[ественной] работы – шлет Вам сердечный привет к Вашему 50-тилетию художественной работы. Поверьте – я, который не завидую в жизни никому – будь то Рембрандт или Рафаэль – завидую лишь Вам, завидую оттого, что Вы живете на своей родине и Ваш город (мой город) Вас празднует, празднует вопреки поговорке, что «никто не пророк в своем отечестве», так уж праведно сложилась Ваша жизнь. Наш город может Вас считать своим самым преданным гражданином. Вы всегда на его улицах. Вас всюду там можно видеть. Счастливый человек. Возьмите Париж, дайте мне мой Витебск. Я мысленно уношусь к Вам. Я переживаю все близкие моменты моей юности близ Вас в своем городе, когда я ходил из Покровской улицы – дома своих родителей – к Вам и обратно. Я всегда себя успокаиваю, что живы Вы и что мне будет к кому заехать…, чтоб увидеть и свои старые «заборы», и как мой город вдруг устремился к новому. Может быть, мы опять начнем вместе с Вами ходить на этюды, окруженные глазами наших общих учеников… Но когда. Как я жалею, что в этот день, когда Вас чествуют, меня нет близ Вас – я бы хотел вместе с вами всмотреться на своих земляков, никому из них не известна моя тоска по моему городу, которому я недавно посвятил целую книгу (не говоря о своем искусстве). Но Вы и мой город – это уже стало одно и то же. Живите же долго и работайте и знайте, что, несмотря на то, что наши пути в искусстве розные, – я все же Вас люблю, люблю и всегда благодарен. Марк Шагал.
РГАЛИ. Ф. 672. Оп. 1. Ед. хр. 1004. Л. 9. Машинописная копия. Опубл.: Шишанов В. Материалы о Ю.М. Пэне в РГАЛИ // Бюллетень Музея Марка Шагала. 2004. № 2 (12). С. 8. Письмо Шагала находится в фонде газеты «Советское искусство», куда, вероятно, было передано Ю.М. Пэном для публикации.
115. Шагал – С. Розовскому
24 января 1934 г. ПарижParis 1934 24/I Любезный Розовский. Я виноват – я так давно не писал. Моим недостаткам нет конца. За них я разсчитаюсь, конечно, перед богом (как можно позже…). Знайте, на немцев я плюнул. Не стоило мне открещивать в еврейство Шенберга. Он взял и уехал в Америку318. Прав наш Дизенгоф… правы вы все… И Фрид… Ну их. Смотрите: берегите страну319 в чистом, нашем не немецком духе… Вы пишете, что будете скоро здесь. Заглянете, значит. А библия, спрашиваете Вы? «Ад рабе»[50] я Вас спрашиваю. Когда еврейская страна Вам и мне скажет: сделайте музыкально-художеств[енные] иллюстрации… Но нет, не дождусь… Да впрочем моя еврейская родина и простой еврейской сказки не поручила мне иллюстрировать… не то что библию… Впрочем, как знать…
Передайте направо и налево мои приветы и целуйте за меня каждый камешек… Конечно, если у Вас есть время… Моя жена кланяется. И я Вашей. Будьте здоровы. Пишите все же не забывайте. Ваш преданный Марк Шагал
Библиотека Еврейской теологической семинарии, Нью-Йорк. Автограф. Опубл.: Бланк Маргарита. Неизвестное письмо Шагала // «Форвертс», Нью-Йорк (еженедельник, русскоязычное издание). Печатается по газетной вырезке (Музей Марка Шагала в Витебске).
 Арнольд Шенберг
Арнольд Шенберг
 Соломон Розовский
Соломон Розовский
 Оскар Фрид
Оскар Фрид
 Макс Либерман
Макс Либерман
116. Шагал – А. Лесину
Февраль 1935 г. ПарижParis 1935. фев. Любезный г. Лесин Хотите ли Вы для ближайшего № «Цукунфта» (небольшие) воспоминания о Максе Либермане320. Отвечайте, пож[алуйста], поскорее. Я надеюсь в смысле гонорара на Вашу оценку, что не «обидите»321. Преданный Марк Шагал P.S. Кстати: я что-то давно Цукунф[т] не получил.
YIVO. Автограф.
117. Шагал – А.Н. Бенуа
Март 1935 г. ПарижParis 1935 mars Глубокоуважаемый Александр Николаевич. Я обыкновенно не имею привычки писать критикам322. Ведь критика «свободна». Но вот Вы русский – я тоже, и сразу этот вопрос принимает для меня «болезненный» оборот. Не думайте, что я жалуюсь на что-либо, хотя с годами и принимаю облик жалующегося. Но поверьте: я имею, м[ожет] б[ыть], на это внутренно нек[оторые] основания, котор[ые] Вам, человеку другого происхождения – не знакомы. И в сущности мы с Вами, кажется, не можем столковаться как люди и художники двух разных поколений и пластических мировоззрений. Можно было б сказать «разговоры коротки»… если б я не помнил те Ваши восхитительные строки когда-то – когда и вокруг нас и в нас все было восхитительно (и котор[ые] я растерял в России и был их рад перечесть на днях). Но с тех пор много воды утекло. Но ведь до того периода (1914 г.) я Вам был неизвестен, ибо все, что я делал за границей с 1908323 – до 1914 г., застряло за границей, и я тогда и там был «другой», котор[ого] Вы бы не «приняли». Мне одно больно, что Вы можете подумать только, что я не «серьезен» был или есть. Жаль, что я не имею при себе экземпляр своей книги «Ma vie» – Вы бы видели: родился ли я на свете, чтоб быть «не серьезным» и «блажить», «шутить»… Особенно когда я, будучи мальчиком, видел – химически нашу русскую живопись со времени Стасова, до революции и после ее. Нет, мы никогда, кажется, не столкуемся с русскими художниками на нашем художественном языке, а между тем я родился в России, а между тем я истекаю («не разделенной») любовью к ней и я всем режимам – старой России, Советской и эмиграции был и есть чужд. Но я не хочу кончить это письмо в «плентивном»[51] стиле. Наоборот: я благодарен Вам за многие нежные слова Вашей статьи. И я хочу надеяться, что когда-ниб[удь] в будущем возьмут всерьез работу некоторых русских за границей на пользу родины и ее Искусству. Остаюсь с глубоким уважением к Вам Жму руку Марк Шагал.
РГАЛИ. Ф. 938. Оп. 2. Ед. хр. 311. Л. 1–2. Автограф. На л. 1 вверху рукой А.Н. Бенуа помета: ответил 10 V 1935. Опубл.: Возвращение мастера 1988. С. 320–321; Harshav 2004. P. 440–441 (пер. на англ.); Каменский 2005. С. 276.
118. Белла и Марк Шагалы – М. Дизенгофу
1 мая 1935 г. ПарижParis 1 мая 1935 года Наш дорогой друг Как Вы поживаете? Здоровы ли Вы совсем? Вам некогда писать, а нам бы так хотелось знать, что с Вами, как Ваше здоровье, в полном ли Вы цвету, как Палестина теперь, и просто хотелось бы Вас обнять и поцеловать. Мы сейчас в деревне на пару недель. Болели тоже и устали очень. И вот здесь на просторе полей и лесов отдыхаем. Колесим все большие и малые дороги, как вечные Жиды, и когда смотрим на старые церкви, что высятся к небу, нам кажется, что небо, то, настоящее, с Богом, нам сияющим, находится-то у Вас. И мы часто думаем и грезим о Вас. Мы здесь вдвоем, дед с бабой, а дочка наша в Лондоне, там сейчас у нас выставка, только открылась (с 27 апр[еля] – 18 мая)324. По первым сведениям будто имеется большой успех. Выставку открыла и патронировала наш хороший друг, Lady Clerc, l’ambassadrice de la Grande-Bretagne a Paris[52]. Она приехала специально из своего имения открыть выставку. Нравится будто англичанам, и даже купили, и все, конечно, «гои»[53], а я так мечтал быть в «еврейских руках», но для этого (не для цены) нужно собрать а «pabr mignonent iden»[54], как это сделали для картины Либермана на его последней выставке, но которая была посмертной. Ну, когда же мы Вас опять увидим, приезжайте специально к нам, чтобы мы Вас крепко обняли и поцеловали. Ваши друзья / Bella Шагал и Марк Chagall Если к нам не приедете, пожалуй, соберемся к Вам, но это мечта, сладкая как Палестина mit mandeln und rosenkess[55].
Тель-Авивский музей изобразительных искусств. Автограф. Опубл.: Топоровский 1996. С. 27, 36.
 Марк Шагал, Белла и Ида. Париж, 1933. Фото Андре Кертеса
Марк Шагал, Белла и Ида. Париж, 1933. Фото Андре Кертеса
119. Шагал – А.Н. Бенуа
[Май 1935 г. Париж]Paris 1935 Дорогой Александр Николаевич. Ваше письмо меня «успокоило». И я уже начинаю сожалеть, почему я послал тогда такое воспаленное письмо325. Теперь я больше не буду «переубеждать» Вас что касается моей серьезности или несерьзености. Мне было приятно читать Ваше письмо. Оно мне напомнило немного родину. — Вы, кажется, живете близко около меня. Если Вам хотелось бы ко мне придти, я был бы очень рад Вас видеть у себя. Преданный Марк Шагал.
РГАЛИ. Ф. 938. Оп. 2. Ед. хр. 311. Л. 4–4 об. Автограф. На л. 4 рукой А.Н. Бенуа помета: получено 27.V Опубл.: Каменский 2005. С. 276.
120. Шагал – П.Д. Эттингеру
[Февраль 1936 г. Везле]Paris. 1936. Vezelay. Дорогой Павел Давидович. Рад был получить Вашу весточку… хоть редко. Я, правда, тоже «разленился», хотя часто я где-то начинаю писать, и все эти начатые письма – где-то спят «вечным сном». Ваше слово получилось как раз ко времени выставки моей в «Beaux Art» Этапы истор[ии] иск[усства]: «экспрессионизм»326. Думал даже послать Вам иллюстр[ированный] каталог… Кстати, в 1935 я имел свои выставки: в Kunsthalle Цюриха (раньше в базельской327), в Праге328, в Petit-Palais de Paris329, залла в Лондоне330 и в Амстердамме. По размеру это 1/2 Европы. Надеюсь: когда-ниб[удь] и 2-я половина Европы, наиболее близкая моему сердцу, захочет видеть мою выставку… «пой, ласточка, пой»… Что касается моих книг, то есть гравюр, котор[ые] я сделал для издателя Vollard, то они спят непробудно в его складе сладким сном… Там лежит 100 грав[юр] «Мертв[ых] душ» Гоголя (комплект их я подарил в свое время Третьяковск[ой] Галлерее)331, 100 грав[юр] для фабль Ля Фонтен332, 40 грав[юр] для Библии и продолжение их… Не знаю, как его раскачать, чтоб он их издал… Знатоки, кои их видали, помня мои первые гравюры, сделанные для Кассирера в Берлине в 1923 «Ma vie»333, хвалят их. А еще о моей жизни Вы знаете немного, кажется, от Л.О.334 Моя дочка с ними породнилась335. Хороший парень. Помните ли Вы мою жену, с которой Вы, кажется, познакомились в Москве? Пишите все же когда-ниб[удь]. Приятно подумать, что тебя кто-то помнит на родине. Что нового, как живете. Преданный Вам Марк Шагал.
ОР ГМИИ. Ф. 29. Оп. ІІІ. Ед. хр. 4687. Автограф. На конверте рукою Шагала адрес: U.R.S.S./ Moscou / Москва / Новая Басманная 10 к. 22/ Павлу Давидовичу Эттингеру, ниже карандашом рукой сотрудника почты помета: В квартире № 22 таких нет и не было (цифра 22 исправлена красными чернилами: кв. 92). Датируется по почтовому штемпелю: Москва 13.2.36. Опубл.: Письма Эттингеру 1980. № 15. С. 209–210; Harshav 2004. P. 447 (пер. на англ). Печатается по автографу.
121. Шагал – П.Д. Эттингеру
29 августа 1936 г. Ой-и-Пале1936. авг. 29. Дорогой Павел Давидович. Сижу «на даче»336 и вспомнил Вас. Вообще в этой деревне вспоминаешь все время нашу родину. Видишь дерево и думаешь: а наше дерево другое, небо другое, все не то, и с годами эти сравнения, как говорится, действуют тебе на нервы… С годами все более и более чувствуешь, что ты сам «дерево», которому нужны своя земля, свой дождь, свой воздух… И я начинаю думать, что я как-нибудь, надеюсь, в скором выберусь приехать, освежиться на родину и поработать в искусстве. Хочу я главное покончить с Vollar’d-ом. Ведь мои книги «Мертвые души», басни Ляфонтена, сделанные мною давно, еще им не изданы, а библия, начатая давно, еще в работе… Ну что с Вами? Что нового? Как в области искусства на родине? Хотел бы журнал искусства, какой, получать. – Иметь какой-нибудь контакт, а то уж я через чур и забыт и отчужден… Пишите когда-нибудь. Никто мне не пишет, кроме Вас. Жму Вашу руку. Ваш преданный Марк Шагал.
ОР ГМИИ. Ф. 29. Оп. ІІІ. Ед. хр. 4684. Автограф. На конверте рукой Шагала адрес: Moscou / Гр. П.Д.Эттингеру / Новая Басманная 10, к. 22 / Москва, на оборотной стороне конверта печатная наклейка: 15 Avenue des Sycomores / Paris XVI. Почтовые штемпели: Oуe-et-Pallete Doubs 29–8–36; Москва 3–9–36. Опубл.: Письма Эттингеру 1980. № 16. С. 210; Возвращение мастера 1988. С. 321; Harshav 2004. P. 440–441 (пер. на англ.).
122. Шагалы – А. и К. Сахаровым
[Август 1936 г. Ой-и-Пале]Hôtel Parnet Oye-et-Pallet (Douvr)337 Спасибо, милые, за Ваши приветы. Очень рады, что Вы отдыхаете средь таких ясных, ослепительных гор. А мы во Франции, тоже в горах, в деревушке милой и простой. Будем в сентябре в Paris и будем, как всегда, рады Вас видеть, даже не танцующими – нам будет казаться, что Вы танцуете. С самыми искренними приветами Les Chagalls.
Архив наследников А.С. Сахарова, Рим. Автограф. Опубл.: Письма Сахарову 1991. С. 12.
123. Шагал – П.Д. Эттингеру
4 октября 1936 г. Париж1936. Paris. 4 окт. Дорогой Павел Давидович. Я был так рад получить от Вас письмецо и книжки – журналы об иск[усстве], давшие мне представление о том, что делается в области иск[усства] на моей любимой родине. Спасибо. Ну как мне быть Вам благодарным? Этот Волар же из рук ничего не выпускает, чтоб Вам что-либо послал. Интересуют ли Вас какие-ниб[удь] книги, вышедшие здесь, или журналы? Я бы Вам с удовольствием послал. Вы пишете, что Вам в скором (?) исполняется 70 лет. Когда же? Сообщите мне, чтоб я «во время» послал Вам свое сердечное приветствие… Мне уж самому в будущем году исполнится 50 лет и 30 лет работы. И если что согревает меня при мысли об этом, так моя страсть к моей родине, которая по-своему купалась в моем искусстве и о которой я все время думаю. Меня хоть в мире и считают «интернац[иональным?]» и французы берут в свои отделы, но я себя считаю русским художником и мне это так приятно. Будьте здоровы. Спасибо, что не забываете. Моя поездка зреет во мне постепенно. Она, надеюсь, освежит или обновит мое искусство. Но я не поеду, как другие, из-за «кризиса»…Не хлеб, а сердце… Будьте здоровы и не забывайте. Ваш преданный Марк Шагал. Нов[ый] адрес: 4, Villa Eugene Man[u]el, Paris XVI338.
ОР ГМИИ. Ф. 29. Оп. ІІІ. Ед. хр. 4685. Автограф. На конверте рукой Шагала адреса – на лицевой стороне: Moscou URSS / П.Д. Эттингеру/ Н.Басманная 10, кв. 22 / Москва, на оборотной стороне: M-r Chagall / 4, Villa Eugene Manuel, / Paris XVI. Почтовые штемпели: Paris 4–Х–1936; Москва 9–10–36. Опубл.: Письма Эттингеру 1980. № 17. С. 210; Возвращение мастера 1988. С. 321; Harshav 2004. P. 450–451 (пер. на англ.).
124. Шагал – П.Д. Эттингеру
[Октябрь 1936 г. Париж]Paris. 1936. Дорогой Павел Давидович. Мне приятно Вам послать эти строки к Вашему 70-ти летию339. Хоть, правда, мы с Вами так мало встречались, к сожалению, Вы, правда, обо мне почти никогда не писали, я Вас даже, увы, так мало читал и все же – Вы мне так близки – отчего это? Я ценю в Вас человека и человека любящего искусство. Я Вам кроме того благодарен за то, что Вы почти единственный посылаете мне от времени до времени пару слов из родины, без воздуха которой мне трудно жить и работать. Шлю Вам сердечные мои пожелания, и крепко, крепко жму Вашу руку. Искренне преданный Вам Марк Шагал. P.S. Я высылаю Вам скоро книжечки по иск[усству].
ОР ГМИИ. Ф. 29. Оп. ІІІ. Ед. хр. 4686. Автограф. Опубл.: Письма Эттингеру 1980. № 18. С. 211; Harshav 2004. P. 481 (пер. на англ.).
 Михаил Поляков. Экслибрис П.Д. Эттингера «Вот пещера Эттингера». 1936. Ксилография. 8,5 х 8,3, ГМИИ
Михаил Поляков. Экслибрис П.Д. Эттингера «Вот пещера Эттингера». 1936. Ксилография. 8,5 х 8,3, ГМИИ
125. Шагал – Ю.М. Пэну
7 января 1937 г., Париж7 янв. 1937 Дорогой Юрий Моис[еевич]. как Вы живете? Уж давно от Вас слова не имел. Правда, я и сам не писал. Вы мне платите тем же. Я так интересуюсь знать: что с Вами, со здоровьем Вашим, как работаете и как поживает мой любимый город. Я бы, конечно, теперь не узнал его. И, м[ожет] б[ыть], моя Покровская ул[ица] уже изменилась, и как поживают мои домики, в которых я детство провел и котор[ые] мы вместе с Вами когда-то писали. Как был бы я счастлив к моим (увы) 50-ти годам, которые скоро уже исполнятся в середине этого года, – хоть часок присесть с Вами на крылечке писать этюд. Обязательно напишите. Когда помру – помяните. Жду от Вас письмо. Напишу тогда больше. Обещаю Вам340. Преданный Марк Шагал
ВОКМ. Почтовая карточка (угол оторван). Автограф. На лицевой стороне рукой Шагала адреса – справа: U. R. S. S. / Witebsk / Витебск / худ. Ю.М. Пену / Собор[ная] Площ[адь]. слева внизу: Exp. (нов[ый] адрес) / Paris. 16e / 4, Villa Eugene Manuel. Опубл.: Возвращение мастера 1988. С. 322 (воспр.); Шагаловские дни в Витебске (приложение к газете «Витебский курьер»). 1992. № 2. 3 июля. С. 2; Рывкин, Шульман 1994. С. 17 (воспр.); Шагаловский сборник 1996. С. 155 (публ. Е.М. Кичиной); Harshav 2004. P. 453–454 (пер. на англ.). Печатается по: Шагаловский сборник 1996.
 Париж. Отель Клюни. Почтовая карточка (письмо Марка Шагала к Ю.М. Пэну. Париж, 7 января 1937)
Париж. Отель Клюни. Почтовая карточка (письмо Марка Шагала к Ю.М. Пэну. Париж, 7 января 1937)
126. Шагал – А.Н. Бенуа
1937 г. Парижtro 37–07 Дорогой Александр Николаевич. Давно уж хотел Вас видеть, а вот никак не приходится – и время проходит. На днях прочел Вашу ст[атью] о Петербурге (о Пушкине)341 и стало грустно… Приходите, будем вместе «вздыхать» (а я еще о Витебске…). М[ожет] б[ыть], Вы позвоните, или напишете – когда Вам удобнее зайти, (у меня уж новый адрес) чаю выпить и «поболтать» немного. С приветом преданный Марк Шагал. 1937 воскресенье.
РГАЛИ. Ф. 938. Оп. 2. Ед. хр. 311. Л. 5. Автограф. Бумага с печатным адресом: 4. Villa Eugene Manuel XVI-e. Опубл.: Каменский 2005. С. 276.
127. Шагал – П.Д. Эттингеру
[7 августа 1937 г. Париж]Paris, 1937 Дорогой Павел Давидович. Давно от Вас не имел словечка. Как живете? Я Вам послал недавно 2 книжечки искусства изд. Брауна. Надеюсь, получили. Сейчас, как Вы знаете, здесь международная выставка342, чтоб ее видеть прилично, надо изнести пару сапог. Мой первый визит был, конечно, Совет[ский] Павильон и каждый раз, когда я хочу понюхать родину, я иду туда[56]… Я ничего не сделал в смысле декоратив[ных] панно для выставки. Я же «иностранец». Испанский павильон пригласил испанцев Пикассо и Миро, живущих в Париже всегда. Их павильон прекрасен в смысле иск[усства]. В связи с междунар[одной] выставкой я как-то много выставляю в разных местах. В октябре у меня будет и отдельн[ая] выставка акварелей343. А знаете, Вашему «покорному слуге» в этом году исполнилось по паспорту целых 50 лет, а в будущем году будет 30 лет раб[оты], если считать с карт[ины] («Смерть» – улица 1908.). В такие минуты (невеселые) я только и думаю о моей прекрасной родине – так как всю мою жизнь я то и делал, что передавал ее в своем иск[усстве], как умел. Счастливы будут когда-ниб[удь] будущие Шагалы, когда столицей живописи, м[ожет] б[ыть], станет Москва, а не Париж. Их жизнь тогда не будет тогда расколота на 2 части. Кстати: передайте, м[ожет] б[ыть], для тех, кого это интересует: в Витебске умер мой престарелый учитель худ[ожник] Пен; у него хранились мои неск[олько] штук работ (живопись, акв[арели], рисунки и, м[ежду] пр[очим], портрет Пена моей работы344). Пусть возьмет музей, что ли, если хотят. Будьте здоровы. Предан[ный] Марк Шагал.
ОР ГМИИ. Ф. 29. Оп. ІІІ. Ед. хр. 4688. Автограф. На конверте рукой Шагала адреса – на лицевой стороне: URSS/ Moscou / Гр. П.Д. Эттингеру/ Новая Басманная 10, кв. 22 / Москва, на оборотной стороне: Ехр. M. Ch.l / 4, Villa Eugene Mannel, / Paris XVI. Почтовые штемпели: Paris XVI 4–VIII–1937; Москва 66 12–8–37 Опубл.: Письма Эттингеру 1980. № 19. С. 211–212; Возвращение мастера 1988. С. 321–323; Harshav 2004. P. 469 (пер. на англ.).
 Марк Шагал и Белла на Всемирной выставке. Париж, 1937
Марк Шагал и Белла на Всемирной выставке. Париж, 1937
128. Шагал – А.Н. Бенуа
[Начало февраля 1938 г. Париж]1938 Paris Дорогой Александр Николаевич. Посылаю Вам этот мал[енький] каталог345 как одному из бывших свидетелей моего пути… И поверьте, как было б приятней к моим 50-ти годам и 30-ти годам работы быть на родине, там выставить, работать немного, и это несмотря на то, что в Иск[усстве] я имел в виду общ[ие] интересы Иск[усства] (и помимо моей воли). Тому свидетель экспрессионизм в Германии когда-то и позже «отрицающий» меня здешний суреализм Бретона и Ко (как и я его). Надеюсь Вы здоровы Преданный Марк Шагал P.S. Как Вы правы, что «они» в сущности ни черта не умеют устраивать. На выставке Гойа есть 4, 5 картин346.
РГАЛИ. Ф. 938. Оп. 2. Ед. хр. 311. Л. 6–7. Автограф. На л. 6 вверху рукой А.Н. Бенуа надписи – слева: Не мог и не хотел ответить [два слова нрзб] не имея адреса; справа под датой: начало февраля. Опубл.: Возвращение мастера 1988. С. 323; Каменский 2005. С. 276.
129. Шагал – А.Н. Бенуа
6 февраля 1940 г., ПарижParis 6/II 1940 Дорогой Александр Николаевич. Как был я тронут Вашей статьей347. Никогда писания какого-бы то ни было иностранца за границей меня так не трогало. Слава Богу, что Вы страстны, пристрастны даже и кто знает – Вы, м[ожет] б[ыть], единственный сейчас такой в области Искусства. Вот почему я горд, что Вы обо мне написали. Дай Бог, чтоб я только оправдал это. – Я рад, что Вы признали, что я не «ломаюсь», не «снобичен» и пр. Ведь я же выходец из беднаго народа. Я помню слишком мозоли моего отца и безнадежность его жизни и труда. Как же мне, занимаясь таким «легким трудом», еще «ломаться». Я, кажется, много требую от себя… как и от других, впрочем. Вы допускаете, что я немного и сознателен в обл[асти] «метье»[57] в Иск[усстве]. Да, да. Но, как Вы заметили – невозможно найти «законов и правил» у меня. Тем хуже и больнее мне. Я все же чувствую себя не «ребенком», а вполне сознательным. Много верного Вы сказали, потому что искренно. В нынешнее время, когда у нас отняли (пока!) нашу родину и не пускают нас подышать его воздухом и я, который несмотря на все муки, не порвал внутренние связи с ней за столько лет, – меня ободрили Ваши русские глубокие слова и поверьте – я совсем редко пишу другим такие ответные письма. Сердечно преданный и благодарный Марк Шагал.
РГАЛИ. Ф. 938. Оп. 2. Ед. хр. 311. Л. 8–10. Автограф. На л. 8 слева вверху рукой А.Н. Бенуа надпись: Шагал. Опубл.: Возвращение мастера 1988. С. 323; Каменский 2005. С. 277. Печатается по автографу.
 А.Н. Бенуа. Париж, октябрь 1946
А.Н. Бенуа. Париж, октябрь 1946
130. Шагал – А. Седых и в редакцию газеты «Новое русское слово»
1943 г., Нью-ЙоркN.Y. 1943. Милый Седых и редакция. Если уж Вы хотите обязательно пару моих глупых слов для анкеты – так вот они. Если Вы найдете, что это «не к делу», так бросьте в корзину… Я жалею, что не мог быть на концерте Вашей жены – (в другой раз). Привет. Марк Шагал
 Андрей Седых в редакции газеты «Новое русское слово». Нью-Йорк. 1940-е
Андрей Седых в редакции газеты «Новое русское слово». Нью-Йорк. 1940-е
Все теперь поют хвалу России. Но мне ли кричать со всеми? Это же хвалят моих родных. Но я к стыду моему им не помогал в критическую минуту – не я брал вместе с ними Ростов, Харьков… Разве лишь, что как художник в своем Искусстве – я носился как одержимый вот уж 35 лет с моей любовью к моей родине как носится влюбленный за луной… Марк Шагал 1943. N.Y.
Йельский университет, Нью-Хевен. Coll. Gen. Mss. 100. Series № I. Box № I. Folder № 19. Автограф. Опубл.: Наrshav 2004. P. 535–536 (пер. на англ.).
131. Шагал – П.Д. Эттингеру
30 апреля 1945 г. Нью-Йорк4/2. Riverside dr. New-York 30/IV 1945. Дорогой Павел Давидович. Я был так рад получить Ваше письмо. Здесь так трудно притти в себя, взять перо. Пользуюсь дружеским случаем, пишу эти строки. Вы, наверно, знаете мою личную трагедию – я потерял 2 сент[ября] 1944 ту, кто была – смысл моей жизни, моя вдохновительница348. Теперь – насколько раньше моя жизнь была «легка» и облачна теперь – полна трагедий. Я пропал. Хоть я держусь еще на ногах и продолжаю работать и, как говорят, имею «успех». Я пока здесь в Америке – «спасся». Я выставлял в гал[ерее] «Pierre Matisse» кажд[ый] год. Книги мои иллюстриров[анные] с сотнями гравюр: «Мертв[ые] Души» Гоголя, Fables La Fontaine и Библия, хоть тираж гравюр был сделан, но не были при жизни Vollard изданы. Он не оставил завещания. Не знаю еще, что с ними в Париже теперь. Музей of Modern Art Нью-Yorka и музей из Чикаго готовят к будущему сезону в ноябре большую мою ретроспективную выставку349. Кроме нек[оторых] малых, вышедших раньше, выходит большая по-английски книга – монография в изд[ательстве] Pierre Matisse с текстом Lionello Venturi с 100 репродукц[иями]350. Я иллюстриров[ал] ряд книг и, между прочим, книгу моей жены, выходящей сначала по-еврейски, с 25 рисунками моими351. Я живу теперь с моей дочкой, Ида Gordey, которая сама очень тонкий живописец и совсем, к ее счастью, не похожа на папу… Славный муж ее Мишель Rappaport-Gordey теперь едет на пару месяцев по службе в Париж. Родители его спаслись, слава Богу, также как его милая тетя Лия Бернштейн352 и дядя Осип353. Но сын в плену… Что и как с Вами? Я рад Вашим вестям, и я буду рад, если дальше не забудете. Жму сердечно руку Вашу и желаю Вам, как и всей родине, счастья. Преданный Марк Шагал. Я раньше здесь сделал балет (декорации, костюмы и сценарио) «Алеко» по Пушкину с музыкой Чайковского. Ставили в Opera здесь354.
ОР ГМИИ. Ф. 29. Оп. ІІІ. Ед. хр. 4689. Автограф. На конверте рукой Шагала адрес: Гр. П.Д. Эттингеру / Ново-Басманная 10, кв. 92. Москва (66). Почтовых штемпелей нет – возможно, письмо было отправлено не по почте. Опубл.: Письма Эттингеру 1980. № 20. С. 212; Возвращение мастера 1988. С. 323–324; Harshav 2004. P. 556–557 (пер. на англ.). Печатается по автографу.
132. Шагал – И.Г. Эренбургу
30 апреля 1945 г., Нью-ЙоркNew York. 42. Riverside dr. 1945 30/IV Дорогой Илья Эренбург. Я пользуюсь случаем и пишу Вам эти неск[олько] слов, слова, которые, читая Вас, я хотел Вам давно и так часто сказать. Слова радости за Вас… и поверьте – за себя. Ведь Ваша «биография» мне кажется – это же частично и моя. Разве мы не жили когда-то и воспитывались в том Париже и работая на чужбине вздыхали в Искусстве каждый по своему – о родине. Ну вот не в пример мне – Вы таки вздохнули полной грудью и воздухом и духом величия страны. Стали ей так полезны, что полезны! Вы принесли ей активную, большую пользу в этой отчаянной, навязанной войне, войне поднявшей однако родину на невероятную высоту и спасшую мир. Позвольте мне одновременно с этим приветом Вам передать через Вас мой сердечный привет родине с моей любовью к ней и всегдашней преданностью. Марк Шагал
РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 2364. Автограф. Опубл.: Письма Эренбургу 1984. С. 343–344; Возвращение мастера 1988. С. 324; Письма Эренбургу 2002. С. 418; Каменский 2005. С. 277.
133. Шагал – А.М. Эфросу
[30 апреля(?) 1945 г. Нью-Йорк]Дорогой Абрам Маркович. Я пользуюсь дружеским случаем и пишу Вам этот привет. Что я могу сказать в этих кратких строках. Если я от Вас не имел слова, как и Вы от меня, это не значит, что я не помню Вас всегда – близких. Ведь я же неисправимый «помнящий» и в искусстве и в жизни. Мое искусство носит десятки лет на своей спине «мешок воспоминаний», как тот блуждающий еврей с мешком с моей картины. И моя жизнь горбится и наклоняется к земле от этих же воспоминаний. И жизнь прибавляет еще и еще. Вы, верно, знаете, что та, которая была вместе с моей родиной – мой смысл жизни – моя вдохновительница – больше нет на земле (2/9 1944). Я не знаю, как и почему я живу. Я разбит, хоть люди видят на моем лице еще отражение улыбки.
 А.М. Эфрос. 1947
А.М. Эфрос. 1947
Ну скажите мне что с Вами? С семьей, с работой. Галерея «Pierre Matisse» выставляла меня здесь каждый год. Музей of Modern Art в Нью Yorke и Музей Чикаго готовят к будущему сезону большую ретроспективную выставку мою вместе с гравюрами355. Книги мои: Мерт[вые] Души Гоголя, Фабле La Fountaine, и библия (больше 300 грав[юр]), хоть тираж гравюр был сдел[ан] Vollar-ом, но не были изданы. Он умер не оставив завещания. Не знаю еще что с ними в Париже. Изд[ательство] Pierre Matisse выпускает через месяц большую книгу – монографию по-английски обо мне с сотней репродукциями с текстом Lionello Venturi356. Я живу с дочкой, которая сама очень тонкий живописец и, слава Богу, совсем не похожа на папу. Будьте здоровы и, если Вы меня помните и дадите [о] себе знать, буду счастлив. Привет Вам, как и моей героической родине. Всегда преданный Марк Шагал. 42 Riverside dr. New-York. P.S. Я сделал между прочим здесь раньше балет «Алеко» (по Пушкину с музыкой Чайковского)357.
ОР РГБ. Ф. 589. 22. 28. Автограф.
134. Шагал – П. Новику и в редакцию газеты «Моргн фрайхайт»
[Октябрь 1945. Нью-Йорк]Дорогой Новик. Посылаю тебе с наилучшими пожеланиями эти несколько слов. И хотя я погружен в работу над «Птицей, которая должна лететь» и которая увидит свет 24 числа в Метрополитен Опера, пусть эти слова станут моим приветствием (ах, если бы я смог), исполненным любви и печали. Твой Шагал Пусть моя «Жар-птица», которой я занят сейчас, и полетит с моим приветом.
К 28-й годовщине Октябрьской революции Я хотел бы прожить не только 28 лет, но дважды, трижды 28, чтоб еще яснее видеть чудо и величие Советской революции. В окно смотрит на меня – печального – гигантское солнце, которое опускается на другой стороне моря. А там солнце сияет для всех, чтобы сделать жизнь раем на земле. Марк Шагал. 1945. Нью-Йорк.
YIVO. Автограф (идиш). Опубл.: Наrshav 2004. P. 558–559 (пер. на англ.). Печатается: пер. с идиша Б. Харшева, письмо – пер с англ. М. Саар.
 Дарственная надпись на книге Л. Вентури «Живопись и живописцы» (Нью Йорк, 1944): Третьяковской / галлерее. Марк Шагал / New-York, 1945
Дарственная надпись на книге Л. Вентури «Живопись и живописцы» (Нью Йорк, 1944): Третьяковской / галлерее. Марк Шагал / New-York, 1945
135. Шагал – А.А. Шику
Январь 1946 г. Нью-Йоркjanvier 1946 N.Y. Дорогой Алекс[андр] Шик. Простите, что так обращаюсь. Я счастлив, что Вы живы. Получил Ваше письмо, и Вы мне простите, что так долго не отвечал. Вы же знаете меня. Холодный ли я, теплый ли я, не знаю. Вы не сомневаетесь в моих теплых чувствах к Вам. Вы уж знаете о моем постигшем горе. Нет слов и нет красок у меня. Но я стараюсь хоть в иск[усстве] передать ее жизнь – мою с нею жизнь. Она же была все для меня. Она сама писала. И я Вам пришлю ее книгу (по-английски, перевод с идиш)358. Теперь моя дочка временно в Париже. Ее адрес у mme Bernstein Lia – rue de Marronniers № 10, 16-è. М[ожет] б[ыть], увидите ее. Она Вам расскажет что-либо. Она в Париже для того, чтоб толкать мои картины [нрзб.] для ретроспективной выставки, которую Музей of Modern Art устраивает с 5 апр[еля] до 15 июля359. Жаль, что не увидите. Как и что с Вами? Привет Вашей жене и дочке. Помню, как в «хорошее» далекое время мы у Вас пили чай… Дай Бог, чтоб мы свиделись. Я надеюсь. С приветом преданный Марк Шагал. Пишите. 42 River Side Dr[ive]. N.Y.
Архив наследников А.А. Шика, Париж. Опубл.: Письма Шику 1996. № 4134. С. 11.
136. Шагал – П.Д. Эттингеру
15 февраля 1946 г. Нью-Йорк42. Riverside dr. New-York. 15/II 1946. Дорогой друг. Был так рад получить Ваше письмецо. Я шлю Вам сейчас, как Вы не раз просили, несколько каталогов моих выставок, почти ежегодных в галлерее «Pierre Matisse», так как у меня их мало осталось – Вы можете, если хотите, их показать другим. В настоящее время, как видите из последнего каталога, устроена моя выставка «последних работ»360, а 9 апреля открывается моя большая ретроспективная выставка с 1908 года до 1946 в «Музее of Modern Atr» Нью-Yorka, которая продолжится несколько месяцев. Осенью она целиком перенесется в Музей Чикаго. Подготавливают 2 каталога-книги: одна – живопись, другая – гравюры (около 350)361. Посколько это возможно, Музей получает по его просьбе ряд моих картин с других стран, музеев и коллекционеров. Музей Modern Atr также обратился с такой просьбой и на нашу родину. Как Вы поживаете? Я рад, что Вы здоровы и работаете в интересах искусства. Я, увы, конечно, один сейчас, но люди говорят, что я делаю все же немного прогресса в искусстве. Моя дочка Ида – сама хорошая художница. Мои книги, котор[ые] я делал для Vollard, еще у брата Vollard. Но думаю, что в конце концов – их другие издатели француз[ские] их издадут. Здесь вышла недавно обо мне книга L. Venturi изд. Матиса N. Y.J362, а в Париже выходит большой альбом в красках с картин моих363. Крепко жму Вашу руку. Преданный Марк Шагал.
ОР ГМИИ. Ф. 29. Оп. ІІІ. Ед. хр. 4690. Автограф. На лицевой стороне конверта рукой Иды Шагал (?) адрес: П. Эттингер / Н. Басманная 10, кв. 92 / P. Ettinger / Novo-Basmannaya 10, кв. 92 / Moscow U.S.S.R. Почтовые штемпели: New York – 26 Feb —1946; Москва 18. 5. 46 Опубл.: Письма Эттингеру 1980. № 21. С. 212–213. Печатается по автографу.
137. Марк и Ида Шагал – И.Г. Эренбургу
[Весна 1946 г. Нью-Йорк]NEW YORK 25 12 46 ILYA EHRENBURG = HOTEL WALDORF ASTORIA FOR YEARS YOU WERE CLOSE TO MI IN PARIS NOW I LOVE YOU AS PART OF MY MOTHERLAND HEARTIEST WISHES = MARC CHAGALL AND IDA
Перевод: Илье Эренбургу ОТЕЛЬ УОЛДОРФ-АСТОРИЯ ГОДЫ ВЫ БЫЛИ БЛИЗКИ МНЕ В ПАРИЖЕ. ТЕПЕРЬ Я ЛЮБЛЮ ВАС КАК ЧАСТЬ МОЕЙ ОТЧИЗНЫ. САМЫЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ. МАРК ШАГАЛ И ИДА.
ОР ГМИИ. Ф. 41. Оп. 1. Ед. хр. 79. Телеграфный бланк и лента. Опубл.: Возвращение мастера. 1988. С. 326 (датировано: 25 декабря 1949); Письма Эренбургу 2002. С. 419.
 И.Г. Эренбург. Москва, 1946
И.Г. Эренбург. Москва, 1946
138. Шагал – И.Г. Эренбургу
[27 июля 1946 г. Париж]47. Avenue de’ Jéna Paris 27/7 1946 Дорогой Эренбург. Когда у Вас будет минута свободная – может быть дадите знать: когда и где можем встретиться (а, м[ожет] б[ыть], пообедать или поужинать вместе). Я в Париже до 20-го авг[уста]. Но в апреле – мае приеду обратно. К тому времени здешний французский Музей Modern Art решил устроить мою ретроспективную выставку364 – приблизительно такую, какая была в Музее New-York и которая с ноября откроется в Музее Чикаго365. Пока до свидания Ваш преданный Марк Шагал Tel. Pas. 52–20
ОР ГМИИ. Ф. 41. Оп. 1. Ед. хр. 70. Автограф. Опубл.: Письма Эренбургу 2002. С. 420.
139. Шагал – И.Г. Эренбургу
15 августа 1946 г. ПарижParis 1946 15/8 Дорогой Эренбург. Жаль, что Вас не увижу. Уезжаю, как писал, в Америку около 20–22366. Вернусь обратно к весне – моменту устраиваемой Музеем Modern Art в Париже моей ретроспективной (1908–1947) выставки. Скажу к Вашему сведению – что на все просьбы телеграфные и прочие директора Музея of Modern Art N. Y. об одолжении моих нек[оторых] старых (других нет) картин с родины – не было ответа. Таким образом моя родина не фигурирует в каталоге ни Музея of Modern Art Nью-Yorkа, ни теперь в Музее Чикаго (ноябрь – январь). Я не знаю, ответят ли таким же молчанием на ближайшие запросы директоров Музея Парижа об одолжении упомянутых картин (о чем Вас и предупреждаю, если замолвите слово где надо). Обратится наверно Jean Cassou. Кстати – к началу войны – я подарил картину для русско-американской помощи, а года 2 назад я подарил еще 2 картины (эпохи «война») через друзей Михоэльса и Фефера, когда они были в N.Y., и консула Е. Киселева. Они были посланы в Москву. Я не получил никакого ответа и ничего о судьбе их. Я послал в свое время письмо в «Комитет по дел[ам] Иск[усств]» и др. и, наконец, на имя Председателя367 (через [фамилия нрзб]), в котором я выразил желание в свое время (сейчас мое здоровье слабее) с’ездить поработать «по новому» и это выставить здесь и там после выставок ретроспективных – я не получил ответа. Вот почему, несмотря на мою всегдашнюю любовь и преданность, я считаю себя незаслуженно обиженным. Обнимаю Вас крепко. Сердечный привет Вашей жене. Марк Шагал.
ОР ГМИИ. Ф. 41. Оп. 1. Ед. Хр. 71. Автограф. Опубл.: Возвращение мастера 1988. С. 324 (с ошибочным указанием, что письмо отправлено из Нью-Йорка); Письма Эренбургу 2002. С. 420–421; Каменский 2005. С. 277 (c cокр.). Печатается по автографу.
140. Шагал – А.А. Шику
Сентябрь 1946 г. Хай-Фоллз, Нью-ЙоркBox 108 sept. 1946 High-Falls. New-York. Дорогие друзья. Спешно шлю Вам привет этот. Как Вы живете? Я бы Вам еще раньше писал, но моя «адресная книжка» еще осталась на корабле (где еще багаж), точно не знаю адреса Вашего. Поездка была (15 дней) совсем неважная. «Спекулятивный» корабль с видениями и «призраками», с полуболями в животе. Наконец, приехал. Больше не поеду на таких кораблях. Что с Вами? Я думаю, что Вы оба поправились. Но что Ваша милая жена368 не так утомляется, принимая гостей и готовя чудные ужины… Я был так рад бывать у Вас – жаль, что «режим». Спасибо за письмецо с вырезкой о «свободе искусства». Ничего не поделаешь. Я убежден теперь, что без «полной» свободы нельзя ни одного штриха делать и слова написать. Ида получила письмецо от Мишеля, что [нрзб.] Люсьен V. принял Мишеля и Lassaigne369 и опять что-то готов менять, продать. Я только не знаю, как и что. С Teriade370 я виделся в Marseille перед отъездом. Видели ли Вы Michel? Наверно, Берес’у не удалось с Люсьеном договорить[ся?], и нам предлагает что-то новое, а, м[ожет] б[ыть], старик опять крутит; я в деревне, стараюсь работать – и надо. Но должен часто ехать в N[ew] Y[ork], отрываться. И к доктору, и к издателю («1001 ночь»)371, а выставка в Чикаго будет 15 нояб[ря]372 (а насчет выставки в Париже в музее373 не знаю наверно – отсутствие организации там смажет выставку там м[ожет] б[ыть]). По получении письма от Вас я Вам напишу подробней (надеюсь, Ваш почерк будет четче моего…), а пока шлю Вам сердечные приветы обоим, и кланяйтесь Вашей дочке с мужем374. Ваш преданный Марк Шагал.
Архив наследников А.А. Шика, Париж. Автограф. Опубл.: Письма Шику 1996. № 4134. С. 11–12.
141. Шагал – А.А. Шику
[Ноябрь 1946 г., Чикаго?]Дорогие друзья. Как живете? Это карточка выставки в Чикаго375, которая лучше устроена, чем выставка в N[ew] Y[ork]. Спасибо за присылку Вашей книги о Гоголе376. Я рад, что пишете и можно у Вас поучиться чему-[то]. Я собираюсь Вам послать книги музея обо мне, и надеюсь, скоро. Вы, наверно, знаете, что Мишелю удалось добыть у Vollard (вместе с Lassaigne). Это нелегкая работа была. Ида надеется приехать в Париж месяца через 2. Я лично хочу только, чтоб она с мужем были счастливы и (о наследстве и пр.) пусть сделают, как она найдет лучшим и правильным. Я ей доверяюсь и в смысле книг, и в наследстве. Хочу только заниматься искусством, и это так трудно уже. Хоть Вы мне пишите иногда. Я все же хотел бы, чтоб Вы мне писали почаще о Вас, жене, детей.
Архив наследников А.А. Шика, Париж. Автограф. Опубл.: Письма Шику 1996. № 4134. С. 12.
142. Шагал – П.Д. Эттингеру
[Начало 1947 г. Нью-Йорк]1947 N-Yorke Дорогой Павел Давидович. Как живете? Надеюсь, Вы получили мои посланные Вам книги: 1) Venturi изд. Matisse377 2) и Swiney, книга-каталог в связи с выставкой в Музее Mod[ern] Art New-York’a378. Интересно, получили ли другие эти книги: напр[имер] Третьяковская Галлерея?379 Чтоб знать, надо ли послать другие, не теряется ли. Эта карточка с выставки в Чикаго380. Она была еще лучше устроена, чем в Музее New-Yorkа – в 9 залах больших и имела очень большой успех. Я собираюсь переехать во Францию, где в Париже в «Музее Modern Art» должна быть моя большая выставка381. «Tate Gallerey» из Лондона тоже приглашает меня устроить у них выставку382. Будьте здоровы. Ваш Шагал.
ОР ГМИИ. Ф. 29. Оп. ІІІ. Ед. хр. 4693. Автограф. Опубл.: Письма Эттингеру 1980. № 22. С. 213.
143. Шагал – П.Д. Эттингеру
12 апреля 1947 г. Нью-Йорк12 апреля 1947. № 7 Дорогой Павел Давидович. Я Вам шлю сердечный привет. Шлю также каталог выставки моей, устроенной галл[ереей] Р[ierre] Матис383, где выставлены нек[оторые] «1001 ночь», а также фото личное, которое Вы просили, но которое я стеснялся прислать, ибо я же не «актер»… Как Вы? Недавно приехали сюда Bernstein’ы384 и мы говорили много о Вас. Они хорошо. Их сын с женой тоже здесь. Моя выставка ретроспектив[ная] предполагается в Музее Парижа и Лондона385. Жму Вашу руку. Ваш Шагал.
ОР ГМИИ. Ф. 29. Оп. ІІІ. Ед. хр. 4691. Автограф. Опубл.: Письма Эттингеру 1980. № 23. С. 213, 215 (датировано: 1 апреля 1947). Печатается по автографу.
144. Шагал – А.А. Шику
16 сентября 1947 г. Нью-ЙоркNew York 16/9 1947 Дорогие друзья. Спасибо за письмо. Рад, что у Вас все благополучно. Я, к сожалению, был немного нездоров. Себе, кроме прочего, испортил спину. Теперь, слава Богу, прошло. Ну пишу Вам, что еду 8 окт[ября] в Париж, где будет моя выст[авка] в окт[ябре] в музее, и я Вас увижу с Божьей помощью. Дам Вам знать. Как жена? Как дочь и муж, дети? Я, конечно, волнуюсь из-за моих картин. Они 13-го уехали из Америки в музей Парижа. Выставка после музея Парижа переедет в музей Амстердама, а в феврале будет в музее Лондона «Tate Gallery». Будьте здоровы. Ваш преданный Марк Шагал.
Архив наследников А.А. Шика, Париж. Автограф. Опубл.: Письма Шику 1996. № 4135. С. 11.
145. Шагал – в дирекцию Третьяковской галереи
7 октября 1947 г. Пакетбот «Мавритания»7/okt 1947 Третьяковской Галлерее. Уважаемые. По пути в Париж из Америки мне хотелось бы сообщить Вам кое-что о себе. Еду в Париж, гдеоткрывается 17 окт[ября] моя ретроспективная выставка в Музее d’art modern386. Эта выставка устраивается французским министерством искусств. С декабря с[его] г[ода] эта выставка устраивается в Музее гор. Амстердама387, а с февраля 194[8][58] «Britich Consul» ее переводит в Музей Лондона (Tate Gallery)388. Для этих выставок упомянутые музеи одолжили картины с музеев и частн[ых] коллекций Америки, Англии, Швейцарии, Голландии, Бельгии, Франции. Эта выставка в прошлом году была в Музее of Modern Art New-Yorka и в «Art Institut» – Чикаго389.
 Москва. Государственная Третьяковская галерея. Открытка, 1940-е
Москва. Государственная Третьяковская галерея. Открытка, 1940-е
 Титульный лист каталога «Государственная Третьяковская галерея. Живопись XVIII – начале XX века (до 1917 года)». (Москва, 1952)
Титульный лист каталога «Государственная Третьяковская галерея. Живопись XVIII – начале XX века (до 1917 года)». (Москва, 1952)
Сообщая это, я думаю, что на родине будут, быть может, рады этому, а я лично доволен, что хоть малую пользу смог принести – за почти 40 лет работы – своей родине, которой я всегда был предан в жизни и искусстве. С приветом Марк Шагал.
ОР ГТГ. Ф. 4. Ед. хр. 142. Автограф. Бумага с печатным обозначением: Cunard White Star / RMS «Mauretania». На конверте рукой Шагала надписи – на лицевой стороне: Третьяковская Галлерея / Москва Moscou / USSR; на оборотной стороне: Дирекция/ Третьяковская Галлерея /Москва 17/ Moscou USSR Почтовый штемпель: posted at Sea; 9 oct 1947 paquebot
146. Шагал – П.Д. Эттингеру
22 ноября 1947 г. Пакетбот «Мавритания»22/nov. 1947 на корабле Дорогой Павел Давидович. Как Вы поживаете? Пишу на корабле, который везет меня обратно в Америку, куда я еду «ликвидировать» все, чтоб вернуться через несколько месяцев окончательно во Францию. В Париже сейчас в «Музее d’Art Moderne» происходит моя большая ретроспективная выставка за почти 40 лет работы, 1908–1947. Успех, как пишет пресса, громадный. Это первый раз, как делают выставку живого художника в официальном Музее вообще и в частности русского. И хоть я вынужденно жил и работал вдали от родины, я остался душевно верным ей. Я рад, что мог таким образом быть ей немного полезным. И я надеюсь, меня на родине не считают чужим. Не верно ли? Эта выставка в конце декабря состоится в Музее Амстердамма, а с февраля 1948 в Музее г. Лондона (Tate Gallery). Раньше она была в Америке. Передайте это письмо на моей родине. Там, вероятно, будут довольны этим. Излишне Вам сказать, что для меня был бы большой праздник, если б таковая выставка была б на моей родине. Правда,3/4 картин принадлежат музеям разных стран и коллекций. 42. Riverside dr. New-York C. U. S. A. P.S. Получили ли Вы на родине большой альбом в красках с 17 моих картин Edition du Chene Paris с поэмой Paul Eluard? изд[ание] 1947390. Между прочим. Книги мои иллюстрированные: 1) Гоголь и Fables de la Fontaine (бывш[ие] изд[ания] Vollard) выйдут в свет в ближайшие годы в изд[ательстве] «Verve» Paris391. Я должен делать еще целый ряд друг[их] книг, в том числе одну русскую392. Пишите мне как-нибудь. Будьте здоровы. Ваш преданный Марк Шагал.
ОР ГМИИ. Ф. 29. Оп. ІІІ. Ед. хр. 4692. Автограф. Бумага с печатным обозначением: Cunard White Star / RMS «Mauretania». На конверте рукой Шагала адреса – на лицевой стороне: Mr П.Д. Эттингеру / Новая Басманная 10, кв. 92 / Москва Moscou / USSR; на оборотной стороне: Exp. Chagall. 42. Riverside dr. / New-York / USA. Почтовые штемпели: New York. nov 24. 1947; Москва 4.12.47 Опубл.: Письма Эттингеру 1980. № 24. С. 215–216; Возвращение мастера 1988. С. 324, 326; Harshav 2004. P. 627–628 (пер. на англ). Печатается по автографу.
147. Шагал – в Еврейский антифашистский комитет и в Государственный Еврейский театр
15 января 1948 г. Нью-ЙоркВашему Комитету и Еврейскому театру выражаю свои чувства скорби и боли по поводу постигшего нас несчастья – смерти нашего дорогого друга Михоэлса. Он был самой блестящей фигурой в нашем еврейском искусстве. Преданный Вам Марк Шагал. 15 января 1948 г.
Печатается по: Соломон Михоэлс. 1890–1990. Телеграммы из Нью-Йорка / Публ. М. Гольденберга // Театр (М.). 1990. № 4. С. 35; Вовси-Михоэлс Н.С. Мой отец Соломон Михоэлс: Воспоминания о жизни и гибели. М., 1997. С. 236.
 Вынос гроба с телом С.М. Михоэлса на Белорусском вокзале в Москве. Январь, 1948
Вынос гроба с телом С.М. Михоэлса на Белорусском вокзале в Москве. Январь, 1948
148. Шагал – А.А. Шику
[Начало 1948 г. Нью-Йорк]…я думаю о книге «Ma vie» в Чехословакии393. Жаль, хорошая страна. М[ожет] б[ыть], им написать, что Вы довели до моего сведения «об условиях» и я все же им уступаю делать книгу на условиях ихних, в их стране, принимая во внимание мои симпатии к их стране и т. д. Я думаю, в конце концов, к апрелю, маю приехать во Фр[анцию]394, и Бог знает, найду ли я «крышу» в деревне. Но я знаю, Ваша чудная жена и Ваши дети, м[ожет] б[ыть], подумают обо мне… Обнимаю Вас обоих. Ваш Шагал.
Архив наследников А.А. Шика, Париж. Автограф. Первая страница письма утрачена. Опубл.: Письма Шику 1996. № 4135. С. 11.
149. Шагал – А.А. Шику
7 июля 1948 г., Нью-ЙоркHigh-Falls. N[ew] Y[ork] 7 июля 1948 Дорогой друг. Я рад был получить Ваши письма (хоть не всегда разбираю почерк). Доволен, что Вы здоровы. А жена все так же улыбчива? Спасибо за присланную заметку Вашу о книге Беллы395. Книга действительно хорошо издана, и дочка хорошо перевела, а рисунки мои, я думаю, некоторые чересчур черны вышли. Но я придираюсь. Я рад, что Вы видите в книге много качеств. Я люблю ее талант простоты, чистоты и глубины, что редко у «профессионалов», но профессионалом вообще не надо быть. Она оставила еще одну книгу, и я надеюсь, дочка ее как-ниб[удь] переведет (по-еврейски она уж вышла здесь тоже с моими рисунками)396. О том, что Вы мне писали раньше, о рисунке-акварели, которая здесь у Perle была, то я ее у него взял с его согласия и ему даю другую на его выбор. Он 10-го августа вернется с ваканс[59] и он выберет другую вещь, т. к. та уж больно старая была. Я Вам еще раз дам знать, когда он эту вещь по приезде возьмет. Спасибо Вам за «поздравление», в связи с моим полученным призом за гравюры в Biennale de Venice397. Мне они там (впрочем, [как в] Paris) оказали слишком большую честь, дав залу целую. Бог с ними. Только на бывшей родине я «собака», и 40 лет работы для них – это прошлогодний снег, и кто там нас знает и когда видел. Я надеюсь скоро приехать во Францию – не один. Попробую жить и работать, если смогу. Вы же знаете, я «мнящий». Все недостатки «человеческие» во мне (особенно по части боязни). Я устал быть персонажем летающим с моих картин. Хорошо «гоим», которые всегда сидят на чем-то – на одном месте. Привет сердечный Вашей жене. Преданный Марк Шагал и дочке.
Архив наследников А. Шика, Париж. Автограф. Опубл.: Письма Шику 1996. № 4135. С. 11.
150. Шагал – П.Д. Эттингеру
12 июля 1948 г. Нью-Йорк1948. 12 июля. High-Falls. N.Y. Дорогой Павел Давидович. Как Вы поживаете? Я был так рад полу чить от Вас письмецо несколько месяцев назад и знать, что Вы здоровы Вы единственный кто мне пишете с родины, и я каждый раз рад. Я был недавно в Париже. Вы же получили каталог выставки моей ретроспек тивной, которая была устроена в Национальном Музее Современного Искусства. Были выставлены картины, гравюры и театральные эскизы с 1908 – до 1947. Эта же выставка была переведена и устроена затем в Му зее города Амстердама и наконец недавно в Музее Лондона (Tate Gallery). Они сделали приличные каталоги. Сейчас по приглашению я выставляю в «Bienale Венеции», где мне предоставлена большая залла. Мне сообщили, что я там получил интернациональный приз за гравюры (к Мертв[ым] Душам и др[угим] книгам). В августе я уезжаю во Францию398.
 Владимир Фаворский. Портрет П.Д. Эттингера. 1945 Б., кар. 61, 5х38. ГМИИ
Владимир Фаворский. Портрет П.Д. Эттингера. 1945 Б., кар. 61, 5х38. ГМИИ
Я рад, что по мере моих сил я все же хоть вдали приношу пользу моей родине, которой я вот уж сорок лет был и остался предан в своем искусстве, ибо, мне кажется, никогда еще не делали русскому художнику и еще при жизни выставки в Музеях Америки и Европы. Не думайте, что это дает мне больше уверенности в моем искусстве. Нет – я как начинающий каждый раз подхожу к работе, – хоть, увы, мне уж, кажется, 60 лет. Дорогой Павел Давидович. Пишите как-нибудь о себе, по получении письма. Желаю Вам всего хорошего. Ваш преданный Марк Шагал. P.S. В Париже в Национальной Типографии, изд[ательство] «Verve», выйдет «Мертвые Души» с 100 грав[юрами]. Надеюсь, хоть экземпляр попадет и на родину. В Нью-Yorke [в] изд[ательстве] «Panteon» осенью выйдут альбом-книга «1001 ночь» [с] красоч[ными] литогр[афиями]399.
ОР ГМИИ. Ф. 29. Оп. ІІІ. Ед. хр. 4694. Автограф. На конверте рукой Шагала адреса: Chagall High-Falls / New-York / Box 108; ниже: Мr. P. Ettinger / П.Д. Эттингеру / Ново-Басманная 10, кв. 92 / Moscow USSR. Почтовый штемпель: Москва 22—7—48 Опубл.: Письма Эттингеру 1980. № 25. С. 216; Возвращение мастера 1988. С. 326; Harshav 2004. P. 642–644 (пер. на англ.). Печатается по автографу.
151. Шагал – Г.Я. Аронсону
[Начало лета 1948 г. Нью-Йорк]N.Y. 1948 Дорогой Аронсон. Спасибо за письмо. Она400 всегда с большой симпатией говорила о Вас. Я чувствую Вашу искренность всегда. Буду рад Вас видеть у себя когда-нибудь. Я послал Вам книгу ее401. Ее скромность мешала ей дать знать о себе раньше. Какая она была в жизни – такая она в своем искусстве с ее прозрачностью, стилем и пластичностью вместе с ее глубокими корнями. Увы, она не увидела ни книги и не услышала ничего кроме некрологов. Будьте здоровы с приветом Марк Шагал P.S. Вы наверно знали ее семью, родню, братьев, сестру с ее мужем Абрам[ом] Гинзб[ургом]402. От нее осталась еще одна книга и кое-что из документов.
Бахметевский архив. Автограф.
152. Шагал – Г.Я. Аронсону
[Июль 1948 г. Хай-Фоллз]High – Falls N.Y. 1948 Box 108 Любезный Аронсон (простите, что так «просто» обращаюсь). Спасибо за Вашу присылку ст[атьи], где бедный Д.П. из Мюнхена нашел мои картины в руках моих, наших врагов-немцев, м[ожет] б[ыть], даже «любящих». Этого (слово на идише нрзб.), я знаю, и то, что он сохранил и прибавил как-то еще и еще мои картины для себя, говорит все же об их тайном «чувстве». Это не значит, что я (бедный художник «без родины») не был бы рад, если б кто (?)[60] искупил мои картины, находящиеся десятками (с 1908) в Германии. Голос вопиющий в пустыне… Остается работать и надеяться лишь на «качество», которое родины не имеет, хоть «дух» – да. Я скоро уезжаю (в авг[усте]) во Францию, м[ожет] б[ыть], в пучину близкой – неблизкой войны. Не знаю, когда вернусь. Однако я всегда с Вами рад встретиться и поболтать, скорее поговорить, ибо в разговоре с Вами есть что послушать. Будьте здоровы, с приветом Марк Шагал
Бахметевский архив. Автограф.
153. Ида Шагал – И.Г. Эренбургу
21 августа 1948 г. ПарижПариж 21/8 1948 Дорогой Илья Григорьевич. Мы думаем о Вас все время. Вспоминаем и хотели бы быть с Вами. Наш близкий друг Susanna [фамилия нрзб.] Вам передаст наш привет. Она, может быть, самый тонкий художественный критик в Париже. – Вас любит и уважает. Она большой друг не только наш, а также всего за что Вы боретесь. – и, может быть, немножко и мы. – До скорого, да? От всего сердца от папы (еще на море)403 и от Иды Шагал.
ОР ГМИИ. Ф. 41. Оп 1. Ед. хр. 74. Автограф.
154. Шагал – А.А. Шику
[27 сентября 1948 г. Оржеваль]«L’Aulnette» S[eine] et O[ise] Orgeval 1948 Дорогие Шики. Приехал404. Был как-то все время занят. Как живете? Живем здесь. Прекрасное место – деревня. Еду на неделю в Венецию видеть Bienale, где выставляю – целую залу. По приезде я рад вас видеть. М[ожет] б[ыть], позвонимся. Orgeval «L’Aulnette» S[eine] et O[ise]. Tel. 108.
Архив наследников А.А. Шика, Париж. Автограф. Почтовая открытка с фотографическим видом Оржеваля. Датируется по почтовому штемпелю: 27.09.48. Опубл.: Письма Шику 1996. № 4135. С. 11.
155. Шагал – М.А. Алданову
[Конец сентября 1948 г. Оржеваль]L’ Aulnette Orgeval (Set.O.) Любезные Алдановы. Как Вы живете? Мы здесь устроились. Чудный дом и сад, но и юг манит. Во вторник едем в Венецию405 на дней 8. Когда будете в Париже, дайте знать. Если мы будем около Вас406, дадим знать. Но думаю, что Вы уедете, верно. Что нового? Помним дни на корабле и встречу с Вами. Привет от Virginia407 и детей. С приветом Марк Шагал.
Бахметевский архив. Почтовая открытка с фотографическим видом Оржеваля. Автограф.
156. Шагал – М.А. Алданову
[Ноябрь – декабрь 1948 г. Оржеваль]Дорогой Алданов. Почему о Вас не слыхать? Как Вы живете. Бывают моменты, когда с Вами хочется говорить о «вест-проблемах» и даже об искусстве, хоть Вы предполагаете, что мало понимаете в искусстве. Я Вам говорил в таких случаях, что Вы слишком русский, хоть и вдали от «передвижничества» и «Мира искусства». Как Вы поживаете, наверно не дурно в этой Ницце, где всегда сине, солнечно и цветасто. Здесь тоже хорошо в моей деревне Orgeval, но серо, т. е. знаменитая французская серизна, годная для Коро и других великих импрессионистов. Но я мечтаю о солнце… Думаем, т. е. особенно Virginiа приехать на пару, 3 недели на юг, м[ожет] б[ыть], с детьми ее, м[ожет] б[ыть], на автомобиле искать что-либо и отдохнуть. И мы надеем[ся] Вас увидим. Но Вы можете уж на всякий случай пронюхивать для нас что-либо (домик, дом с садом в районе Ниц[ц]ы, ибо я думаю. хоть мой дом в Orgeval прекрасен – все же 2-ую зиму здесь не жить. Возня с углями, хоть они и есть, но 1/2 камни. Все же постепенно привыкаю к Франции, и если не очень слушать и читать фр[анцузские] газеты – Франция хорошая страна. Я стараюсь в ней вжиться и, кажется, мне немного это удается. Был в Венеции, где мне дали во франц[узском] павильоне целую заллу рядом с залами Брака и Руо и даже prix. Меня Франция, значит, считает кем-то. Это очень мило с их стороны. Надо работать, чтоб заслужить. Даvid малый растет408. Он похож на короля Даvidа – пока. Пишите когда-ниб[удь]. Привет сердечный Вашей жене. С сердечным приветом Марк Шагал Привет Virginia
Бахметевский архив. Автограф.
 Марк Шагал и Вирджиния Мак-Нил с детьми Джин и Давидом. Оржеваль, около 1949
Марк Шагал и Вирджиния Мак-Нил с детьми Джин и Давидом. Оржеваль, около 1949
 М.А. Алданов
М.А. Алданов
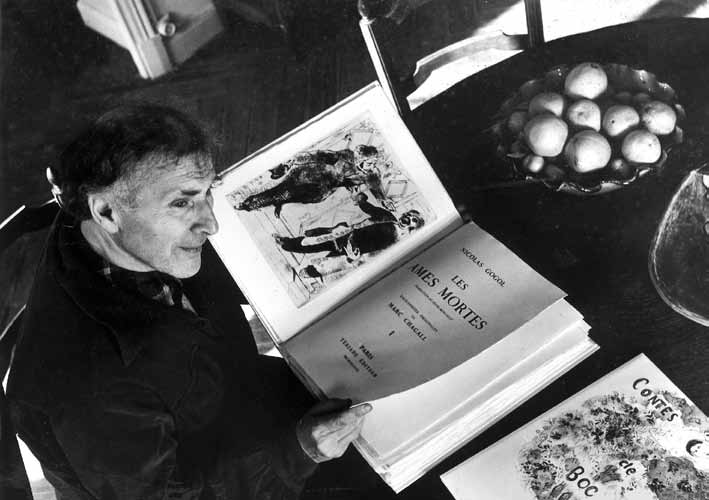 Марк Шагал с экземпляром издания «Мертвые души». Оржеваль, около 1950
Марк Шагал с экземпляром издания «Мертвые души». Оржеваль, около 1950
157. М.А. Алданов – Шагалу
19 декабря 1948 г. Ницца19 декабря 1948 Дорогой Шагал, простите, пожалуйста, что отвечаю Вам не сразу: я был в отъезде и только вчера вернулся в Ниццу. Однако Вы напрасно пишете: «почему о Вас не слыхать?», – ведь последнее письмецо было от меня. Надеюсь, Вы его получили, хотя уезжали тогда в Италию. Послали мы Вам и пачку номеров «Н[ового] Р[усского] Слова»409. Мне тоже очень хотелось бы повидать Вас и поговорить об искусстве. Вашу мысль переехать на Ривьеру очень приветствуем. Я ничего для Вас не искал и не мог искать, так как определенных директив от Вас не имел. Ведь надо знать, где именно Вы хотите виллу (на море или подальше), сколько комнат, на какой срок, сколько Вы готовы платить, и т. д. Думаю, что Вы легко виллу найдете: здесь их много. А так как заочно заключить контракт едва ли возможно, то самое лучшее будет, если Вы приедете на автомобиле и на автомобиле же будете осматривать разные виллы, – для этого необходимо поездить, не очень полагаясь на агентства. Сейчас хорошие гостинницы переполнены из-за праздников, но через две недели комнат будет сколько угодно. Из хороших гостинниц рекомендую вам Отель Люксембург на Променад дез-Англэ, т. е. на море. Там комната стоит франков 600–700 в день. В двух самых лучших гостиницах, Рюль и Негреско, немного дороже: франков 800–1000. Есть и множество более скромных гостинниц, не на море, с ценами в 300–400 франков, например Отель де Лозанн. С удовольствием снимем Вам заранее, если Вы хотите. Повторяю, в январе комнат будет множество. О вашем триумфе мы слышали, сердечно поздравляем410. Оба шлем сердечный привет Вам, Вашей жене и детям.
Бахметевский архив. Машинопись.
158. Шагал – М.А. Алданову
10 января 1949 г. Оржеваль949 Orgeval 10/1 Дорогие. Спасибо за письмо. Выезжаем с семьей, кажется, в воскресенье в St Jean Cap Ferrat411. Дадим Вам знать. К Новому году лучшие пожелания и приветы от Virg[inia] и Шагала.
Бахметевский архив. Почтовая открытка с репродукцией картины Шагала «Дом с зеленым глазом (The Green Eye)». Автограф. На оборотной стороне рукой Вирджинии Мак-Нил (?) адрес: Monsieur M.Aldanoff / 16 Avenue Georges / Clemenceau / Nice / Alpes Maritimes.
159. Шагал – А.А. Шику
[7 апреля 1949 г. Сен-Жан-Кап-Ферра]St Jean-Cap-Ferrat A[lpes] M[aritimes] 1949 Дорогие друзья. Как вы живете, как поживаете? Давно о Вас не слыхал. Я здесь (с семьей) уже 2 1/2 месяца. Работал и убежал от холода зимы в Orgeval-е теперь к концу месяца возвращаемся. Надеюсь, вас увижу. Ваш преданный Шагал. Привет от моей англичанки и детей.
Архив наследников А. Шика, Париж. Автограф. Датируется по почтовому штемпелю: 7.04.49. Опубл.: Письма Шику 1996. № 4135. С. 11.
160. Шагал – М.Л. Каган-Шабшай
[7 апреля 1949 г. Сен-Жан-Кап-Ферра]St. Jean Cap-ferrat (A[lpes] M[aritimes]) Комитет Архива – Музея412 Многоуважаемая madame Шабшай. Я не знаю – я думаю это Вы – видев подпись413. – Я очень рад, что организовывается нечто вроде музея – архива евр[ейского] народного иск[усства]. – Давно пора. Сколько потеряно! Я сейчас вдали от Парижа, вернусь в конце месяца (Orgeval. S. et O.). Но моя дочка в Париже, она возвращается из Америки скоро. (Villa Leandre 8ter (Montmarte). Лучше через нее, м[ожет] б[ыть], об этом сговоримся. Идея и цели Ваши меня очень интересуют. С искренним приветом. Марк Шагал.
MAHJ. Библиотека. DD 617. Автограф. На конверте рукой Шагала адрес: Madame M. Shabchai / Archives et Musée d’Art Populaire Juif / 70 Rue Cortambert / Paris 16e. Датируется по двум идентичным почтовым штемпелям: 7–4 1949 Beaulieu s/mer alpes-maritimes. Опубл.: Гузевич 2001. С. 335–336.
161. Шагал – А.А. Шику
26 июля 1949 г. ОржевальOrgeval 1949 26/7 Дорогие друзья. Спасибо за фото, за письма, сведения, за все. Рад, что Вы поехали в Doville414 – отдыхать. Virginia уехала на время в Лондон, скоро, надеюсь, приедет. Ида идет лучше. Фото с акварели – это к сожалению – моя. Хоть трудно видеть по малому фото, что это такое. Спасибо за варение, которое облизывался. Спасибо за вырезку [из газеты], которую имел415. До свидания. Вам обоим сердечный привет. Шагал. Ида благодарит, но дом купить не собирается, только кв[артиру] хочет.
Архив наследников А.А. Шика, Париж. Автограф. Опубл.: Письма Шику 1996. № 4135. С. 11.
162. Шагал – М.А. Алданову
22 августа 1949 г. ОржевальOrgeval Set. O 1949 22/8 Дорогой Алданов. Как Вы поживаете? Давно не слыхал о Вас. Работаете много. Как жена? А мы опять хотим поехать на юг. С нашей мечтой вообще поселиться там, хоть пока снять что-либо. И вот, зная, что Вы знаете художника Маки, который так любезно когда-то даже нашел для нас целую кв[артиру] с ателье, хотел бы, чтоб Вы, м[ожет] б[ыть], просили бы его найти для нас что-либо домик 6, 7 комнат, т. е. 2 для работы и остальные для семьи. С садом, спокойно не на дороге, не в Ниц[ц]е и даже километров 10, 12 от моря. Хорошо бы около Vence… Ну вот, даю Вам работы. Хотим в сентябре быть на юге. Что с Вами? М[ожет] б[ыть], напишете. Лишь бы здоровье и угол
Бахметевский архив. Автограф.
163. Шагал – М.Л. Каган-Шабшай
1 октября 1949 г. Ванс1е oct[obre], 1949 Vence (A[lpes] M[aritimes]) Route de St. Paul “Le Studio” Многоуважаемая М[adame] Каган-Шабшай (простите забыл имя отчество). Как видите, я не в Orgeval-e. Я получил Ваше письмо – спасибо. Жалею, что таким образом не могу с Вами и с М[onsieur] Френкелем свидеться. – Жаль. Думаю, что это не очень существенно и начинание музея будет продолжаться. Мне вообще было б интересно выслушать Ваше мнение и М. Френкеля о проэктах и будущности музея еврейского. Надеюсь как-нибудь через неск[олько] месяцев быть в Париже. Моя дочка живет в Париже. Желаю Вам всего хорошего. С приветом Марк Шагал.
MAHJ. Библиотека. DD 617. Автограф. На конверте рукой Шагала адрес: Mme K. Chabchay 24 / rue Desbordes Valmore / Paris 16e. Почтовые штемпели: 17 30 12–11 1949 vence alpes-maritimes. Опубл.: Гузевич 2001. С. 333 (воспр.), 336–337.
 М.Л. Каган-Шабшай в своей парижской квартире (на стене картины Шагала). 1930-е
М.Л. Каган-Шабшай в своей парижской квартире (на стене картины Шагала). 1930-е
 Париж. Музей искусства и истории иудаизма. Современное фото
Париж. Музей искусства и истории иудаизма. Современное фото
164. Шагал – А.А. Шику
13 ноября 1949 г. ВансVence (A[lpes] M[aritimes] «Le Studio» Route de St. Paul. Дорогие друзья. Как поживаете. Давно собирался Вам написать. Но солнце, хлопоты, работы. Дни проходят. Шлю Вам сердечные приветы. Ищу здесь пристанище. Что у Вас – как здоровье? Virg[inia] сердечно кланяется, и David улыбается. Преданный 13 nov. 1949 Marc Chagall. [Приписка слева вверху]: Amitiés vous deux. Virginia[61].
Архив наследников А.А. Шика, Париж. Почтовая открытка с фотографическим видом Ванса. Автограф. Опубл.: Письма Шику 1996. № 4136. С. 11.
165. Шагал – А.А. Шику
[16 апреля 1950 г. Ванс]Vence 1950 416 Милые друзья. Спасибо. Скоро приеду в Париж – к моей выставке 21/4 (gal. Maeght)417 так называемых «последних работ» (надеюсь, вас увижу). Боюсь, как всегда. Хотя после «собственной» залы в музее – пора «не бояться». Остановлюсь у дочки на неделю – думаю. Orgeval ликвидирован. После – обратно в Vence. С Богом – надеюсь. С приветом Вам обоим от занятой Virginia. Марк Шагал.
Архив наследников А.А. Шика, Париж. Автограф. Датируется по почтовому штемпелю: 16.04.50. Опубл.: Письма Шику 1996. № 4136. С. 11.
 Вилла «Ле Коллин». Ванс, около 1955
Вилла «Ле Коллин». Ванс, около 1955
166. Шагал – А.А. Шику
25 октября 1950 г. Ванс25 oct[obre] 1950 Дорогие друзья. Спасибо за Ваши письма. Простите, не отвечаю сразу. Картины, работы разные и разные мысли о здоровье – не дают мне возможности взяться за перо. Я вам послал вчера «Verve»418. Наслаждайтесь или ругайте. Все равно я ничего не понимаю «в себе». М[ожет] б[ыть], я даже «не умею рисовать» или писать. Надо было б начать учиться всему этому, но поздно. Вот думаю ехать скоро, кажется, оперироваться от «простат». Но не беспокойтесь – я верю не в себя, но в мольбы других, святых – защитников. Был недавно в Италии, где выставляю (Bergamo)419. Слушайте, начиная с каждой пятницы 27 (как мне сообщают), я буду балакать в какую-то пятницу, как и др[угие], об иск[усстве] – 22 h 30. Сердечный привет Вашей жене. Ваш преданный Марк Шагал.
Архив наследников А.А. Шика, Париж. Автограф. Опубл.: Письма Шику 1996. № 4136. С. 11.
167. Шагал – А.А. Шику
28 января 1954 г. ВансVence 1954. 28/I Дорогие друзья. Спасибо за письмо, где Вы пишете, что имеется каталог из Третьяков[ской] гал[ереи], где помещены мои 2 картины420. (Это не гуаши, а живопись на бумаге, такого же характера, как Ваша421). Те вещи были куплены Морозовым422. В то же время, как Вы, я думаю, что «Парикмахера» имеется репродукция в книге Тугендхольда – Эфроса423. Я очень был бы рад, если книжная лавка мне послала бы этот каталог наложенным платежом незамедля. Увы, должны были бы быть где-то в музеях большие картины мои периода, кажется, 1915–1917–[19]19. Бог весть, где они все. Мы надеемся быть в феврале в Париже, и тогда буду рад вас видеть. Надеюсь, жена Ваша хороша – как и Ваше здоровье. А я все тот же – неисправимый тип – Бог с ним. Преданный Марк Шагал. «Stock» хочет издать снова «Ma vie», другое издание424.
Архив наследников А.А. Шика, Париж. Автограф. Опубл.: Письма Шику 1996. № 4136. С. 11.
168. Шагал – Г.Я. Аронсону
9 сентября 1954 г. ВансVence 9/9 1954. Дорогой Григорий Аронсон (простите, что так обращаюсь к Вам): знаете ли Вы, [что я] самый неаккуратный писец писем и с годами становлюсь еще более неаккуратным (тем хуже для меня). Между тем меня так интересует, даже волнует книга-«монумент» Витебск 425. Это ведь «мы» последние его помним, каким он был. Теперь так: Вы просите мое имя для Комитета – конечно – с удовольствием (если не поздно). Я бы хотел знать каков «макет», содержание будущей этой книги. Надеюсь, в ней будет материал не только научный – документальный (и у Вас такие уважаемые специалисты), но и элементы «лирические – художественные». Наш город мне казался таким: не мне одному, конечно.
 Титульный лист книги «Однажды в Витебске» (Нью-Йорк,1956, идиш)
Титульный лист книги «Однажды в Витебске» (Нью-Йорк,1956, идиш)
 Обложка книги Г. Аронсона «Россия накануне революции» (Нью-Йорк, 1962)
Обложка книги Г. Аронсона «Россия накануне революции» (Нью-Йорк, 1962)
 Обложка книги М. Вейнбаума «На разные темы» (Нью-Йорк, 1956)
Обложка книги М. Вейнбаума «На разные темы» (Нью-Йорк, 1956)
Я, конечно, имел бы в виду Вам дать кое-что (когда я преодолею свою «лень»), хотя я когда-то в 1931 (изд. Stok Paris) написал «Ma vie» и кое-что когда-то печаталось по-еврейски в «Цукунфте»[62] при Абр[аме] Лесине – редак[торе]. Также имел бы в виду послать серию репродукций с моих картин, которые в сущности продукт все Витебской земли. Но я хотел бы напомнить, что Белла, моя первая жена, написав свои 2 книги: они есть по-еврейски: «Горящие свечи», «Первая встреча»426 – представляют в сущности живопись в словах витебского дома, улицы, людей, как это видела витебская девушка, женщина, артистка. Мне кажется, хорошо взять что-либо из этих очерков вместе с моими штриховыми иллюстрациями. Но, конечно, не надо, чтоб книга была «вся» шагаловская… Ну вот, я Вам написал. Это начало. Надеюсь, Вы мне напишите и, м[ежду] пр[очим], кое-что о себе, как Вам живется и другим. Прошу кланяться и друзьям и знакомым, кто помнит меня. А Витеблянам отдельно. Сердечно преданный Вам Марк Шагал P.S. Кстати, книга «Витебск», которую готовят в Израеле427, это та же самая? Кстати, в сент[ябре] с.г. 10 лет со дня смерти Беллы, бедная лежит одна в N.Y.
Бахметевский архив. Автограф.
169. Шагал – Г.Я. Аронсону
19 августа 1955 г. Ванс19/8 1955. France Дорогой Аронсон (простите, что так обращаюсь). Давно хотел Вам писать, но мечты одно, а дело другое. Стал очень уж давно разсеянный и кроме того – работа. Я просил мою дочку Вам послать фото с нек[оторых] моих картин «Витебск». Надеюсь, Вы получили? (просьба потом их переслать). Я послал на адрес Rippin428 в ответ на их письма: 2 книги Беллы «Горящие огни» и «Первая встреча»[63] и им сказал, что могут взять, что они хотят из ее текста, а также рисунки – мои иллюстраци[и], какие подходит. Если хотите, можете столковаться с ними насчет клише. Надеюсь, что в общем иллюстрации художественные – документальные будут выглядеть хорошо. Я послал в Израель – все Rippin – редкие личные фото: родители Беллы, Пэн, кое-что Витебск, ателье. Вы просите в Вашем письме «разрешение» от это[го] «ордена», чтоб взять текст[ы] из книги Беллы – я Вам это право даю. Я от них никаких денег не получал за книги Беллы, которые были изданы в эпоху «патриотической» войны. Кстати, я пишу в письме в Израель предложение издать для Израель книги Беллы с моими иллюстрациями, т[ак] к[ак] это в своем роде «памятник» нашему городу. Пишите мне как-нибудь, и я сердечно кланяюсь всем и особенно витеблянам. Был бы рад как-нибудь свидеться. Ваш преданный Марк Шагал. P.S. Я недавно видел здесь милого Венбаума, и он мне обещал, что пошлет мне для сведения воскресные № газеты, чтоб знать, что делает[ся] у Вас немного.
Бахметевский архив. Автограф. Бумага с печатным адресом: «Les Collines» / Vence (A.M).
170. Шагал – Лео Кенигу
18 сентября 1955 г. Ванс18 / Sept. 1955 Дорогой Кениг! Получил Ваше письмо. Порадовался – во-первых, оттого, что получил от Вас весточку, а во-вторых – что Вы уже в стране429. Я всегда полагал, что еврей может быть свободным только в своей стране (хотя по паспорту, к сожалению, у него есть многие страны), хотя там и трудно привыкнуть к некоторым вещам. Ничего не поделаешь. Привыкнуть к некоторым гойским физиономиям тоже нелегко. (Не сравнивать). Я помню, как когда-то я рекомендовал Вас Дизенгофу на должность директора музея430, но место уже оказалось «захваченным» по-еврейски. Ну, мне, тем не менее ясно, что как все делается на свете – так и должно быть. А я, несмотря ни на что, должен работать. Хоть и стареешь, но все равно вынужден, как тогда, когда я, мы были молоды и прекрасны… И это (что касается меня) заставляет меня быть лучше. Я тогда вел себя, как старый дурень. Но с возрастом – все наоборот. А теперь, вот что: если Вам для праздника требуется мое имя – для Вас, с удовольствием. Ведь Вам кое-что причитается, хоть Вы и немножко «пессимист» (возможно, это следствие лондонского воспитания). Ну, ничего. Я бы хотел, чтобы евреи все-таки знали о том, что Вы в «Ла Рюш» потихоньку, и даже совсем не тихо «разворошили» мир для еврейства в слове и красках431, и поэтому Вы мне были тогда близки, так как «Ла Рюш» был гойским (в «искусстве», которого в «Ла Рюш» почти не существовало, и во-вторых – мне казалось, что Вы как будто ощущаете в себе «дикость», что, в сущности, такой же «дикий», какими были наши отцы или некоторые евреи в Тель-Авиве). Вы были своего рода контрастом по отношению к Сendrars432, который был блистательный гой, поэт-космополит, он меня по-своему любил. Мне ясно, что Вы были единственным, кто мечтал о новом стиле в искусстве для евреев. Когда-то я был с Вами в «ссоре», так это потому, что обычно встречал Вас в комнате, словно Вы только что вскочили со сна и выглядели не наевшимся и не напившимся, к тому же Вы постоянно были «скептиком», чего я не признаю. Ну, я Вам все-таки написал, так как завтра я уезжаю на пару недель в Париж. Работа зовет меня. Библия, над которой я работал 25 лет, будет закончена в этом году и выйдет весной 1956 433. И еще проекты. И среди этих «проектов» у меня есть один – приехать (я надеюсь) в Израиль на Песах впервые с моей новой женой (она из Бродских, родом из Киева)434 показать ей страну и немного проветриться перед моими будущими библейскими живописными работами, которые я предполагаю исполнить. Наверное, тогда и поговорим. Я же желаю Вам бодрости и здоровья. Я знаю, что есть не много евреев, сработанных не по новой, а золотой пробе. Но мне легко отказаться от претензий из своей дали. Но я всегда говорил всем – и евреям и всем (не всем) гоям, что у нас есть Библия, а вместе с ней целый мир, с любовью – без любви, с плачем – без слез. Вы просили меня что-нибудь написать, и, если Вы захотите, можете использовать все то, что у меня сейчас выплеснулось. Поздравляю Вас, как и всех в Израиле, с новым годом435. Преданный Марк Шагал. P.S. Я послал Вам раньше некоторые материалы, как Вы просили. Вы их случайно не получили?
YIVO. Автограф (идиш). Бумага с печатным адресом: «Les Collinеs» / Vence (A.M.). Опубл.: Вестник Еврейского университета. История. Культура. Цивилизация. № 2(20). 1999. М-Иерусалим, 1999. С. 353–354 / Пер. пред. публ. и комм. Г. Казовского.
171. Шагал – Г.Я. Аронсону
[Сентябрь 1955 г. Ванс]Дорогой Аронсон. Простите, что так обращаюсь. Спасибо за письмо от 9 / 16. Спешу вам ответить, т. к. сейчас собираюсь на пару недель в Париж и не хочу откладывать. Вот фото Абрама Гинзбурга436, когда он к нам приехал в гости, его последняя поездка через Францию в Америку и обратно перед «процессом» и, увы, концом. Это, кажется, было в двадцатых годах 1924-5? Были у нас, м[ожет] б[ыть], еще фото с него в архиве Беллы, но сейчас не могу найти. Техник может несколько увеличить его фигуру, если найдете нужным. Я беру с собой переписанное на машинке[64] и присланное Вами, наверно, перепис[ано] из Цукунфта437. Текст с тех пор немного переменился. Но я его в Париже пересмотрю и перешлю. Что у Вас с текстом Беллы? Я Вам писал, что Вы можете от моего имени вполне свободно взять, что хотите, для «Витебска» из ее текста. Ну, шлю Вам пока лучшие пожелания и жму сердечно Вашу руку и всех других друзей. Я буду счастлив, если удастся быть на минуту в Америке, видеть. Преданный Марк Шагал Конечно, фото это, как другие, Вы мне сохраните для возвращения. Спасибо за приложенную статью В. – Привет.
Бахметевской архив. Автограф. Бумага с печатным адресом: «Les Collines» / Vence (A.M.).
172. Шагал – И.Г. Эренбургу
[Лето (?) 1955 г. Париж]Дорогой Илья Григорьевич. Я Вам звонил сегодня утром, но Вас уже не было. Позвоните мне, если можете, комната № 106. Я бы очень хотел Вас еще раз повидать. Марк Шагал
ОР ГМИИ. Ф. 41. Оп. 1. Ед. хр. 76. Автограф. Бумага с печатным адресом гостиницы: Pont Royal / Paris/ Ermitage du Riou / La Napoule/ Message Telephone. Опубл.: Письма Эренбургу 2002. С. 424.
173. Шагал – И.Г. Эренбургу
Октябрь 1955 г. Париж1955, Octob. Дорогой Илья Григорьевич. Спасибо большое за фото438. Да, это мой автопортрет, я думаю 1914–1915 годов, когда я был в Витебске после Парижа. 2-ая «сестра» тоже. Я еще здесь. Я был рад Вас видеть. Ваш преданный Марк Шагал.
ОР ГМИИ. Ф. 41. Оп. 1. Ед. хр. 72. Автограф. Бумага с печатным адресом гостиницы: Pont – Royal – Hotel / 7. Rue Montalembert. Paris / meme direction / Ermitage du Riou La Napole / (cote d Azzur). Опубл.: Возвращение мастера 1988. С. 326; Письма Эренбургу 2002. С. 425; Каменский 2005. С. 278.
174. Шагал – Г.Д. Костаки
26 июля 1956 г. ВансFrance. 1956. 26/juile Дорогой Костаки. Я был очень рад получить Ваш подарок – я Вам очень благодарен. Я храню впечатление от нашей встречи439 – я [и] моя жена. И я надеюсь, что обстоятельства когда-нибудь позволят еще раз встретиться. Главное здоровье. Я сейчас так занят. В августе готовится моя выставка в музее Базеля440, потом она переезжает в музеи Берна441, Амстердамма и Брюсселя442. В этом же году выходят моя «библия» после 25 лет работы443 и отдельный №. «Verve»444, не говоря о книгах (м[ежду] пр[очим] у «Sкira»445 и др.) Я всегда буду рад от Вас иметь весточку, ибо ценю Вас и Вашу симпатию к моему искусству. Привет от моей жены. Ваш преданный Марк Шагал
Собрание семьи Костаки, Афины. Автограф. Бумага с печатным адресом: «Les Collinеs» / Vence (A.M.)
 Г.Д. Костаки. Москва, 1960-е
Г.Д. Костаки. Москва, 1960-е
175. Шагал – А.А. Шику
10 декабря 1956 г. Ванс10 décembre 1956 Любезные друзья. Я шлю Вам этот «Verve» библейский446. Как вы этого хотели и я сам тоже хотел послать Вам. Хоть, видит Бог, у меня их так мало, но я хочу Вам дать по старой памяти. Я рад, очень если можно, что этот (25 лет) труд появился. Люкс появится (если он уже на свете) отдельно. Я бы вас просил, если сумеете, послать моему издателю Вашу статью, ему будет приятно тоже. Но Вы же знаете историю ее – Библии. Ее заказал Vollard. Он умер, и после войны и nazi с трудом удалось пластинки получить. Но главная сущность техники, и это без Франции и Vollar (и Teriade) я бы не сделал. Я думаю, что Bible, говорят, теперь актуальная книга (не моя…). Поэтому мы живем в эпоху Хрущ[ева] и Булг[анина], что удивляешься, что еще живем. Я кланяюсь сердечно Вашей семье, жене. Преданный, но сумбурный Шагал. Спасибо за газету.
Архив наследников А.А. Шика. Париж. Автограф. Опубл.: Письма Шику 1996. № 4136. С. 11.
176. Шагал – Г.Д. Костаки
27 марта 1957 г. Ванс27/3 1957. Дорогой друг. Я был так рад получить от вас весточку и даже подарок вкусный через ваших друзей таких милых. А я безпокоился не понимал, отчего нет новостей – думал боитесь мне сообщить правду о моих сестрах. Я все равно не имею много иллюзий – и к правде даже горькой – мы привыкли. Но раньше всего я был рад, что Вы здоровы. Спасибо за фото, где Вы сидите у Шагаловской стенки – я сохраню ее для архива моего. Ну вот «к делу» Увы, я пришел к заключению, что все присланные Вами мне «рисунки» просто фальшивые. Большинство их сделаны так, я думаю: размер их точно как в книжке (Тугендхольд, Эфрос) или с других книг, например, «Курящий» из немецкой книжки (Bucheim Verlag Германия)447. Я никогда не рисовал рисунки точно таких размеров, особенно тогда. Потом большинство этих «рисунков» присланных я имею оригиналы или имел другие, но проданы были за границей. № 6. Оригинал (и, думаю, большего размера) был с некотор[ыми] другими куплен музейным фондом и должен быть где-то в музее. Эта же козочка просто копия из книжки с клише. Я думаю, что где-то валялись такие клише, когда готовится книга; возможно что у Эфроса, когда он готовил книжку обо мне, были такие клише для его статей. Он же писал о моей графике. Оригиналы я получил, правда, за очень малым исключением, один или два остались у него. Опять-таки эти оригиналы должны быть большего размера чем клише в книге. Поэтому пришлите мне фото или ориг[иналы] посмотреть, и я их перешлю обратно. Конечно, важна правда. Я думаю, Вы сделаете все, чтоб уничтожить эти, я не осмеливаюсь сам это сделать. Но не надо оставить опять в заблуждение. О других рисунках (прилагаю страницы вашего письма) я отметил сбоку примечания. Фото с женщины с корзинкой448 – это я, это моя видимо «реалистическая» манера, я ее забыл. Я покажу ее для тех, кто готовит здесь большую книгу со многими снимкам[и] всех эпох449. Чтоб Вам было немного легче на душе – я Вам присылаю другой мой оригинал – гуашь «Художник» приблизительно 1949–50. Старайтесь мне чаще писать и, если что надо, не стесняйтесь. Спасибо большое, что Ваша милая жена поехала в Ленинград искать моих бедных сестер. М[ежду] про[чим] я знаю, что одна дочка Анны Грибов[ой], моей сестры, замужем за одним доктором Шварцман, но сама эта Анна умерла как ее муж и сын 450… а другие сестры как в воду канули – а я чувствую – плохой брат… Спасибо за новости о моих картинах. Некотор[ые] др[угие] иностранц[ы] видел[и] в «погребе Третьяковской Галереи» мои картины: как «Зеркало», «Окно», где сбоку я и Белла. Думаю, также большая «Над городом – любовники», «Венчание», «Парикмахер – дядя», домик с парикмахерской на улице. Говорят, что видели «Прогулку»[65] в музее «русском», бывш[ем] «Алекс[андра] III», а Вы пишете, что кто-[то] видел чуть не 100 (?), но это фантастично: неужели нашлись с чердаков то, что когда-то некий Антокольский (магаз[ин] увелич[енных] портретов)451 у меня забрал – 1907–1908 годов? Что бы я дал, чтоб иметь хоть плохие фото с них там, и это так необходимо для готовящейся книги. Мне кто-то сказал, что мои большие вещи, сделанные для Евр[ейского] госуд[арственного] театра, – есть будто в музее Пушкина в погребе – не знаю, верно ли. Что Вы писали мне о двух вещах «военных», данные в Америке через Михоэльса в свое время, – целы, я рад452. (тоже нет фото). Конечно, я не имею права просить кого-нибудь заняться поисками моих картин и особенно их фотографированием, которые здесь издатели ищут для их книг особенно к моим 70 годам. Кстати, Национальная библиотека здесь в Париже делает большую выставку моих всех гравюр (Гоголь, Lafontane и библию и др.)453, а Galerie Megte отдельно454. Ну будьте здоровы. Привет Вашей жене. Преданный Марк Шагал. Шлю Вам некотор[ые] каталоги и книжки и оригинал. Надеюсь, получите. Посылаю Вам для Вашего архива некотор[ые] каталоги, у меня мало других, и некоторые книжки: 1) Lionello Venturi (Skira) 2) 46 рисунков (изд. «Buchheim» Германия). 3) Emily Genauer (изд. Флаmarion) 4) 1001 (арабск [ие] ночи) изд. Piper Мюнхен 5) B. Myorick (голандск[ое] изд. люкс с моей оригин[альной] литограф[ией] любительское издание там 6) и пару каталог[ов] с послед[них] выставок 7) мой оригинал – гуашь. Библию изд. «Verve» – Вы писали – Вы получили от кого-то. 8) и обратно Ваши репродукции мне посланны[е] Вами.
Собрание семьи Костаки, Афины. Автограф. Бумага с печатным адресом: «Les Collinеs» / Vence (A.M.)
177. Шагал – Г.Д. Костаки
17 мая 1957 г. Ванс17 / mai 1957 Дорогой Костаки. Спасибо за Ваше письмо. Вы приложили «рисунки». Но как видите: они фальшивые. Все, включая подписи и надпись на обороте. Но Вы хорошо делаете, что посылаете раньше мне. Но что делать? Как можно это запретить? чтоб дальше это не повторялось. Жаль. Подумайте, как поступить. Я во всяком случае как всегда благодарен Вам за Вашу любовь ко мне. Я всегда буду стараться заслуживать это. Вы мне как-то писали, что будто кто-то видел чуть не сотню моих работ в музее (или где) в Ленинграде. Если это верно, я себя спрашиваю, не есть ли это тоже те вещи моей юности, когда некий рамочный и фотографии магазин (Антокольский в S.t. Петербурге)455 забрал у меня сотни вещей годов 1908–1907?[66] где была подпись по-русски. Любопытно. И было б так хорошо иметь снимки, ибо это было б полезно для готовящейся здесь книги. Ну будьте здоровы. Я всегда рад Вашим вестям. Здесь в Париже в «Библиотек натiональ» готовится большая выставка моих гравюр, а в галлерее «Megthe» живопись456. Будьте здоровы. Ваш преданный Марк Шагал.
Собрание семьи Костаки, Афины. Автограф. Бумага с печатным адресом: «Les Collinеs» / Vence (A.M.)
178. Шагал – А.А. Шику
[17 мая 1957 г. Ванс]Дорогие друзья. Я был рад видеть Вашу чудную жену в Nice. Она помолодела. Я тоже люблю с Вами балакать. Но вот я еще здесь… Но думаю, буду в Париже скоро. Я хочу просить у Skira, этого большого издателя, книгу Lionello Venturi обо мне457, чтобы Вам ее послать. Мне кажется, он как спокойный профессор хорошо написал о таком «сумасшедшем», как я, который не знает, на каком он свете! Что я! Мой багаж… это только… любовь. Сегодня это плохой товар. Будьте здоровы, до свидания. Преданный Марк Шагал. P.S. Я надеюсь, впрочем, что Вы не имеете еще книгу эту?
Архив наследников А.А. Шика, Париж. Автограф. Датируется по почтовому штемпелю: Ванс, 17.5.57. Опубл.: Письма Шику 1996. № 4136. С. 11.
179. Шагал – Г.Д. Костаки
[Май – июнь 1957 г. Ванс]Любезный Георгий Костаки. Я так рад получить Ваше письмо (оно было получено в Vence). Я был временно в Париже и в Лондоне, и поэтому задержался мой ответ. Пока я получил одно письмецо, что Вы будто будете во Франции, и я боюсь, что я Вас пока не видел. Теперь опять я в Vence и буду здесь до конца июня и потом вернусь в июл[e] сюда же. Но, конечно, лучше мне тогда позвонить. (А в Париже мой адрес: 15 quai Bourbon458. tel. 92–14). Я очень благодарен Вам за Вашу симпатию к моему искусству. Вы не знаете, как я сомневаюсь в себе. А я уже столько лет работаю. Мне будет приятно с Вами говорить. Я хочу Вам послать нек[оторые] снимки (взятые с репродукций картин) вещей, находящихся на родине. Я Вам благодарен сердечно за то, что Вы интересуетесь судьбой моих вещей, лишь они не пропали. Поехал сейчас в Москву один приятель – Morabini, вероятно, он Вас увидит и многое скажет. Он тоже интересуется моими картинами, ибо здесь готовятся большие ретроспективные выставки в Музее Базеля459 и Амстердамма, кроме того делается фильм и книга, для которой ищется материал прежних лет460. Как много хлопот. Правда, не я этим занимаюсь. Работа так трудна, а [ч]ем старше становишься, тем труднее. Одно я спокоен – я всегдалюбил и был предан своей родине и в своем искусстве как мог это передал. Хотя бы вдали. Еще раз спасибо Вам за Вашу любовь. Искренно преданный Марк Шагал. Я буду рад, если мне будете писать от времени до времени.
Собрание семьи Костаки, Афины. Автограф. Бумага с печатным адресом: «Les Collinеs» / Vence (A.M.). Справа вверху рукой Шагала приписка: tel. 613.
180. М.Г. Гордеев – Шагалу
28 марта 1958 г. МоскваУважаемый Марк Захарович! Лиля Юрьевна Брик и Василий Абг[а]рович Катанян просили переслать Вам фото с четырех произведений Ваших, находящихся в моем собрании. Охотно выполняю эту просьбу. Пересылаю Вам: 1. «Видение». Этот холст воспроизведен в журнале «Жар-птица» № 11. В свое время он был приобретен Шимановским (кажется, у Добычиной). Я его приобрел у вдовы Шимановского461. 2. Вид из окна. После дождя. Не то Витебск, не то Лиозно. Был в собрании Рыбакова. 3. Солдат с хлебцами. 4. Еврейская свадьба. Размеры произведений – на обороте фотографии. Несколько Ваших произведений находятся в собрании Г.Д. Костаки. В Ленинграде имеется несколько Ваших произведений. В случае необходимости, при желании, можно будет получить с них фотоизображение. Если речь идет об издании полного собрания Ваших произведений, любая находка представляет для Вас интерес. Пользуюсь случаем, чтобы поздравить Вас с минувшим семидесятилетием и, вероятно, пятидесятилетием творческого пути. От всей души желаю Вам здоровья и успехов. Независимо от того, где Вы живете и работаете, мы считаем Вас своим, русским художником. Это не только моя, личная точка зрения. В каталоге Госуд[арственной] Третьяк[овской] галлереи (Живопись XVIII–XX века), изданно[м] в 1952 г.462, на стр. 464 Вы найдете свою фамилию и перечень произведений, хранящихся в Третьяковской галлерее. С нетерпением буду ждать выхода в свет монографий о Вашем творчестве463. Уваж[ающий] Вас М. Гордеев. Мой адрес: Москва, Кропоткинский пер[еулок] 25 кв. 23. Гордееву Мих[аилу] Григор[ьевичу] тел. Г 668–4 28 марта 1958.
ОР ГРМ. Ф. 242. Оп. 1. Ед. хр. 9. Автограф. Опубл.: Письма Гордееву 2005. № 1. С. 33.
181. Шагал – Г.Д. Костаки
1 апреля 1958 г. Ванс1–4–1958 Vence (A.M.) France Дорогой друг. Как я был рад получить от Вас письма. Я плакал от счастья и печали. Вы были так хороши и Ваша жена так прекрасна. Но я был очень огорчен, что Вы были нездоровы. Вы же молодой, не то что я. И я тоже еще должен жить – хочу еще поработать. Я был так благодарен Вам и Вашей жене за розыски сестер. Это чудо. И я так много грустного узнал. Остались только 2 сестры с их детьми. Другие умерли от последствий войны и пр. Бог знает, когда я смогу кого-либо из них увидеть. Я же самый старший. Они от меня ничего не имели, не имеют, и я думаю как бы им быть полезным – я надеюсь Вы мне посоветуйте в этом смысле. Дочка Марьяск[и] рвется в Париж съездить – она архитектор464. Я по просьбе Марьяски шлю ей письмо – вызов для ея дочки – Софочка. Марьяска кроме писем ея и Лизы, которые Вы мне послали, – написала мне недавно лично небольшое письмецо – я его получил. Я только несколько здесь как вернулся из Америки, где был шесть недель465, и здесь встретил мою дочку Иду, которая имеет в виду съездить со своим мужем «интуристом» на пару недель к Вам в Москву и Ленинград. Надеется получить визу. Она, конечно, увидит Вас и хотела бы знать приблизительно «форму, объем» сестер, чтоб принести им что-либо из платий – блузки и проч. Я рад, что Вы находите мои работы. Хорошо бы иметь фото с них (хорошие) для книги готовящейся, но, конечно, надо видеть фото раньше. Я буду рад, если Вы нам напишете. Я всегда так рад. Сердечно жму Ваши руки Преданный Шагал. Я все же шлю письмо моим сестрам через Вас…. Адрес Марьяски Шагал – Грибова М.З. Ленинград Вас[ильевский] остров 15 лин[ия] д. 72 кв. 105.
Собрание семьи Костаки, Афины. Автограф.
 Марк Шагал, Ида и Франц Мейер. Париж, 1952
Марк Шагал, Ида и Франц Мейер. Париж, 1952
182. Шагал – Г.Д. Костаки
7 мая 1958 г. Ванс7 mai 1958 Дорогой друг. Как я рад всегда получать Ваши письма. Вы почти единственный, кто пишет, а теперь я узнал через Вас о сестрах. Но вот пишу Вам, что моя дочь, к сожалению, не может пока поехать. Мои сестры, вероятно, будут огорчены, но она не может сейчас отлучиться. Но я бы хотел все же помочь – как и чем можно моим сестрам. М[ожет] б[ыть], я смог бы, как Вы писали, передать какому-ниб[удь] Вашему другу во Франции – деньги для Вас с тем, чтоб Вы с своей стороны дали б их моим сестрам. М[ожет] б[ыть], спросить их, что им нужно и как им это послать и пр. Я извиняюсь, что даю Вам хлопоты. Но бедные там так надеются на меня и так давно и все это так медленно. Лишь бы здоровье. Храните себя. Я через Кремье получил 4 фото с моих картин старых. Особенно «Визiон» 1917466, которая когда-то была у художника Бродского, и также окно с букетом на фоне Витебска (кажется 1908 года)467. Очень странно. Был удивлен. Я хочу надеяться, что г. Гордеев (Вы знаете его? это владелец этих картин) одолжит их, особенно большую Визiон (видение), для выставок за границей. Я буду рад получить фото, как Вы пишите, Ваших картин. В этом году и к началу будущего готовятся очень большие ретроспективные выставки мои в музеях Мюнхена Гамбурга и Парижа468. Я мечтал, чтоб родина послала туда лучшие мои картины, находящиеся в музеях Ленинграда, в Москве (в резервах). Было б так хорошо. Но не знаю, как и что делать для этого? Директора упомянутых музеев, вероятно, обратятся, если не обратились. Я жду от Вас письмецо относительно сестер, до сих пор не знаю могу ли я свободно им писать. Будьте здоровы. Привет Вашей жене. В ожидании Ваш преданный Шагал
Собрание семьи Костаки, Афины. Автограф. Бумага с печатным адресом: «Les Collinеs» / Vence (A.M.).
183. Шагал – М.Г. Гордееву
7 мая 1958 г. Ванс7 mai 1958 Уважаемый Мих[аил] Григорьевич Я был так удивлен и обрадован получить через Кремье Ваши фото с моих старых картин – (целая жизнь моя). Особен[но] был потрясен увидеть, наконец, это «Видение», кажется, 1916–17 г. Она была сначала у художника Бродского, и я ее потерял из виду после. Наконец, она нашлась. и 2) вид из окна. Это окно из моей «комнаты» в Витебске с букетом принесенным моей Беллой, кажется, 1908 и 3) солдат с хлебами 1914. «Евр[ейская] свадьба» меня удивила, так хотел бы ее собственными глазами разсмотреть ее технику. – Но я должен Вас благодарить за Ваше внимание, любовь к моему искусству. Я же думал, что мало кто меня помнит, знает на моей родине, но она всегда на моих картинах. Я бы мечтал, если б можно было одолжить Ваши (мои) вещи для готовящихся крупных выставок в музеях Германии и Парижа! Так же как нек[оторые] вещи из музеев Москвы и Ленинграда. Они – говорят, в резерве музеев. Я рад, что Вы мне написали. Не прерывайте со мной контакта. Я так рад и благодарен, и если увидите мои картины где-либо мне неизвестные – буду я рад получить фото с них. Это необходимо также для готовящейся крупной книги обо мне в Германии, Франции и Америке. Ваш преданный и благодарный Марк Шагал.
ОР ГРМ Ф. 242. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1. Автограф. Бумага с печатным адресом: «Les Collines» // Vence (A.M.) правее рукой Шагала приписка: France. На конверте (л. 2) рукой Шагала адрес: Гр. Мих. Гр. Гордеев / Кропоткинский пер № 25 / Москва/ Moscou URSS Опубл.: Письма Гордееву 2005. № 2. С. 34 (воспр.).
184. Шагал – Б.А. Рейн
16 мая 1958 г. Ванс16 mai 1958 Уважаемая мадмуазель Рейн, Извините, что пишу Вам по-французски и со столь большим опозданием. Но Вы та, кто танцует Шагалов и кто немного занимается «Шагализмом», Вы поймете… Часто я на луне: это и причина моего опоздания. Я рад, что Вы меня танцуете. Я хотел бы видеть… И если Вы имеете успех с моим номером, тем лучше для Вас и для меня. С выражением всех самых лучших комплиментов и с моей симпатией, Марк Шагал.
РГАЛИ. Ф. 2656. Оп. 1. Ед. хр. 17 (фр.). Машинопись; подпись – автограф. Бумага с печатным адресом: «Les Collines» / Vence (A.M.). Пер. Е. Ге.
185. Шагал – М.Г. Гордееву
10 сентября 1958 г. Ванс10 / сент 1958 Милый г. Гордеев простите, что так просто пишу (память неважна.) Я был так рад получить от Вас письмо и Вы даже приложили большое фото с картины (в другой хорошо вложить картонку, чтоб фото в дороге не сломалось), Но должен, к сожалению, сказать, что картина не моя. Если она не имеет подпись мою – это малая беда, а если да – ее надо уничтожить. Вы хорошо делаете, что посылаете раньше фото. Есть и фальшивые. Сейчас в музеях Гамбурга, Мюнхена, а после в Музее Дворца Лувра готовятся большие ретроспективные мои выставки (1908–1958). Здесь директора (и я) обратились к официальным представителям советским насчет возможности одолжить нек[оторые] вещи, находящиеся на родине в резервах музеев Ленинграда и Москвы, а также нек[оторых] частных коллекциях. Не знаю, получится ли положительный ответ. Это – было б так интересно. Одалживаются вещи с Америки и Европы – музеев и частных коллекц[ий]. Я буду думать Вам послать книги и пр. для Вас и, конечно, этот большой каталог, который готовится. Так хотел бы, чтоб в нем можно было б включить нек[оторые] вещи с родины – а также Ваши. Мало времени осталось. 1-ая выставка будет в январе в музее Гамбурга, потом в музее Мюнхена и в конце в Дворце Лувра. Я рад, когда Вы мне пишете, спасибо за поиски моих картин. (Но их должно быть мало! кроме тех, котор[ые] у меня забрал один фотограф – рамочник некий Антокольский в Петербурге в 1907–8 год!). Сердечно преданный Вам Марк Шагал.
ОР ГРМ. Ф. 242. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 1. Автограф. Бумага с печатным адресом: «Les Collines» / Vence (A.M.). На конверте (л. 2) рукой Шагала адрес: M r. Гордеев М.Г. / Кропоткинский пер. / 25 кв. 23 / Москва/ URRS. Почтовые штемпели: Paris 15–9. 1958; Москва 20–9. 1958
186. Шагал – Г.Д. Костаки
2 декабря 1958 г. Ванс2 дек. 1958 Дорогой Костаки. Я был рад получить Ваше письмо через г. Моллет и даже сегодня икру пакет. Моя жена и я были особенно тронуты, будем это кушать с гостьми к Нов[ому] Году. Спасибо сердечное. Спасибо также, что дадите немного денег сестре и заодно мне сообщите, как их нашли. Маруся хочет все для св[оей] дочки (архитектор)469 съездить ко мне. Она хочет, чтоб я «официально» их вызвал письмом – по правде не знаю какую форму должно носить мое письмо к ним, для этого нужно ли кем-либо «официально» подтвердить? – Я, конечно, был бы рад, если б они могли б к моменту моей большой выставки в Париже в [П]авильон Marsah в Лувре – быть здесь. – Кстати, спасибо Вам, что готовы послать мои – Ваши картины Вашей коллекции, но я не знаю, как лучше это делать. D?[67] A. Hentzen470, директор музея Гамбурга собирает сначала у себя все картины. Они сначала будут выставлены в музее Гамбурга (начало февраля 1959), потом в музее в Мюнхене, а потом лишь в музее в Париже (Pavilion Marsah de Louvre). Но Вы пошлете, как Вы думаете, лучшее. Конечно, директор отберет наиболее подходящее и характерное для выставки. Конечно, я с удовольствием посмотрел бы раньше Ваши вещи и какие наиболее подходящие для выставок. Я, кстати, пишу письмо Д-ру Hentzen о Ваших картинах и, м[ожет] б[ыть], если можно, напишет Вам. (его адрес:[68]) Но я не знаю Ваш личный адрес. Дело в том, что если Ваши вещи сумеют фигурировать, нужны будут для каталога сведения. Это, конечно, зависит от Др. Hentzen для Гамбурга. В Мюнхене будет тот же каталог. В Париже другой. Я пишу г. Гордееву, который имеет 2 значительные вещи мои, особенно «Видение» с 1915–1916471. М[ожет] б[ыть], он сумеет послать (адрес Гордеева: Кропоткинский пер. 25 кв. 23). Я написал по совету аташе культурель Сов[етского] Амб[асада] в Париже министру культуры Михайлову472 – с просьбой одолжить картины (что они могут) для выставок, хотя бы для Парижа. Но я не имел еще ответа. А время идет. Не будет, мне кажется, скоро такого случая, чтоб представить вещи старые – здесь, если не будет решения теперь. Теперь случай и место в большом музее их показать вместе с другими. Если б они одолжили бы, я бы подарил им с удовольствием из моих люксовых книг с гравюрами Fable La fontaine, Библию, др[угие] литографии и документы. Кстати, спасибо за сведения картин, находящ[ихся] в Третьяковской гал[ерее], но те, что Вы писали: 1) Часы 48 х 36. 2) Парикмахерская 49 х 37.3) Дом в местечке Лиозно 37 х 49. 4) Вид из окна Витебск 36 х 49 это не гуаши, а живопись масло на бумаге и их можно «натянуть» на полотно, но не надо вернировать «rentonaler»[69]. Эти ошибочные сведения, т. е. «гуашь», я видел в каталоге «Гос. Третьяковской галлереи» от 1952473, который мне один друг в Париже купил для меня. Хорошо бы это сообщить для исправления. Я думаю вообще вместо того, что картины лежат в резерве, они могли б быть выставлены. Тем более никакого риска не будет. Все гарантии могут быть получены от дирекции музеев в Германии и Париже. В Ленинграде в музее имеются также особенно «Прогулка», «Зеркало», «Старик сидящий». Ну пока шлю Вам сердечный привет и спасибо за Ваши хлопоты и заботы. Будьте здоровы. Моя жена кланяется и я также Вашей. Ваш преданный Марк Шагал
Эренбург тоже имеет старый «автопортрет» мой474 и было б хорошо, если б он его одолжил для выставок.
Собрание семьи Костаки, Афины. Автограф. Бумага с печатным адресом: «Les Collinеs» / Vence (A.M.).
187. Шагал – М.Г. Гордееву
[Начало декабря 1958 г. Ванс]Любезный Михаил Григорьевич. Я был так рад получить от Вас письмецо. Вы были любезны мне вложить 2 фотогр[афии], но эти рисунки совершенно фальшивы. Это кто-то подделывает с репродукций моих книг (например, старая монография «Тугендхольд и Эфрос», сказка Переца и вообще другие книги обо мне). М. Костаки (работает в Канадском амбасаде в Москве), имеющий много моих работ, тоже купил чуть не 10 таких подделок – рисунков, но он послал мне фото с них, и я ему ответил. Надо бы «напугать», чтоб больше этих фальшивых вещей не делать и не продавать… Но Вы хорошо делаете, что мне раньше посылаете фото. Теперь так: Вы знаете, м[ожет] б[ыть]: Музеи Гамбурга, Мюнхена и Pavilion de Marsah – Лувр в Париже делают мои крупные выставки (вероятно, в связи с 70 лет и 50 лет работы). Если Вы не прочь участвовать Вашими картинами (особенно «Видение» и «Окно в Витебске»), я могу написать директор[у] музея Гамбурга Д-р Hentzen (начинается выставка с Гамбурга), и он Вам напишет, м[ожет] б[ыть][70]. Дело в том, что я уже по просьбе аташе культурнель Советск[ого] Амбасада в Париже написал письмо министру культуры Михайлову. Я думаю вопрос об одолжении картин там рассматривается. Конечно, времени мало осталось. Они готовят крупные каталоги и нужны сведения. Я пишу также об этом Костаки о участьи его картинам, хоть у него нет таких, как Ваше «Видение». Он хотел бы их послать. Я попрошу Д-ра Hentzen директор Музея (ибо он собирает первый картины; все гарантии, расходы и страховки берутся на счет их). Знаете ли Вы Эренбурга? У него есть мой старый «автопортрет» и было б хорошо его тоже иметь для выставок. Я жду, кстати, ответа от министра культуры. Было б важно, конечно, чтоб фигурировали на этих «ретроспективных» выставках 1908–1958 вещи старые, находящиеся на родине в резервах Третьяков[ской галереи] в Москве и Ленинграда. Напишите мне как, по какому адресу я смог бы Вам послать для Вашего архива нек[оторые] книги, каталоги обо мне? С сердечным приветом преданный Марк Шагал P.S. Между прочим, муж моей дочки д-р историк искусства Franz Meyer – адрес: 23 Herrengasse Berne Suisse – в Швейцарии готовит крупную книгу с почти 1000 снимками работ всех годов, и если Вы имеете и будете иметь снимки (конечно, хорошие), можете ему послать и писать. М[ежду] пр[очим], в конверте хорошо вложить картонку, чтоб фото не сломалось – в дороге. Костаки готов мне послать для выставок моих картин всю коллекцию его.
ОР ГРМ. Ф. 242. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 1–2. Автограф. На конверте (л. 3) рукой Шагала адрес: Гр. М. Гордеев/ Кропоткинский пер. 25, кв. 23. Москва. Moscou. Почтовые штемпели: Москва почтамт 17–2–59; Москва Г-34 18–2–59. Датируется по содержанию (в ОР ГРМ письмо датировано 16 февраля 1959 – по почтовому штемпелю). Опубл.: Отчет ГРМ за 2012 г.; выставка «Новые поступления 1998–2014. [СПб.], 2015.
188. Шагал – Г.Д. Костаки
[Конец декабря 1958 г. Ванс]Дорогой друг Костаки. Спасибо за письмо от 3-го нояб[ря] (кажется, по ошибке написали «января»). Я счастлив, что имею такого друга как Вы, и я знаю, что Вы меня любите. Поверьте, я много сомневаюсь в себе, что я всегда удивляюсь за что любить мое иск[усство], которым я так безнадежно не доволен и в моем возрасте. Теперь в Германии и главное в Париже в Palais de Louvre – Pavilion de Marsah делают мои выставки. Они там собирают вещи где можно (и где дают – с трудом) и, конечно, если были б некотор[ые] вещи из Родины, я был бы рад (эпоха 1914–1919. И даже есть еще раньше кое у кого.) В Третьяковке есть: «Над городом – любовники», «Венчание с красн[ым] ангелом», большое «Окно» с занавеской и наши головы сбоку, Парикмахер – дядя и др. Не говоря о панно. В Ленинграде особенно должна быть «Прогулка»[71] и, кажет[ся], «Старик сидящий». Здесь[72] музеи официально писали через Амбасадера здесь (и я приложил тоже личное письмецо) о просьбе картин. Конечно, важно, чтоб они были в каталоге, если во время. Но я Вам благодарен сердечно и будьте спокойны. Г. Гордеев М.Г. (Кропоткинский пер. 25) имеет тоже, кажется, значит[ельные] мои вещи: «Видение», где художник сидит, и «Окно» (из Витебска, кажет[ся], 1908), а Эренбург имеет тоже старый «автопортрет». Я Вам недавно написал в ответ на Ваше письмо о Коварских475, и вот теперь я получил от Вас эти фото [одно слово нрзб.], которые меня так волнуют, кроме одно (ее бюст) я др[угие] знал. (Если Вы хотите кое-что иметь от них, я могу Вам дать.) Я жду фото той вещи, котор[ую] она (Коварская) имеет. Сердечно жму Вашу руку. Ваш преданный Марк Шагал
Собрание семьи Костаки, Афины. Автограф. Бумага с печатным адресом: «Les Collinеs» / Vence (A.M.).
189. Шагал – И.Г. Эренбургу
12 января 1959 г. Ванс12/I 1959 Любезный Илья Григорьевич. Надеюсь, Вы здоровы. Вы и Ваша семья. Я позволяю себе Вам написать. Вы мне однажды сказали и даже послали снимок картины «автопортрет» мой, находящийся в Вашей коллекции. Директора музеев Гамбурга, Мюнхена и «Musée des arts decoratifs» (в Pavilion Marsah в Лувре), которые устраивают мои выставки, ищут мои старые картины для этих выставок. Эти выставки устраиваются под эгидой «Unesco», вероятно, в связи с моим возрастом и 50лет[ием] с 1908 – работы. Я Вас хотел бы просить, если можете, одолжить Вашу картину для этих выставок или хотя бы для Paris. Если Вы согласитесь – директора Вам пошлют официальное письмо и все гарантии. Я, кстати, сам тоже буду рад его (портрет) увидеть, чтоб решить его дату (до 1911 или после 1914…) Между прочим, один московский частный коллекционер получил разрешение послать и выставить свою коллекцию моих вещей на этих выставках. Думаю, что и Вы получите. Арагон и посольство в Париже просили в Москве послать к этим упомянутым выставкам мои старые картины, находящиеся в музеях Москвы и Ленинграда. Пока еще нет ответа. В ожидании Вашего ответа остаюсь с искренним приветом Марк Шагал. P.S. Ваш[у] картин[у] было б интересно выставить, ибо я очень редко писал их. Кстати, если Вы можете попросить кого следует, чтоб одолжили мои картины для выставок – я был бы очень благодарен. Но мало времени осталось, сведения нужны для каталогов, где будут воспроизведены все выставленные картины. М.Ш.
ОР ГМИИ. Ф. 41. Оп. 1 Ед. хр. 73. Автограф. Бумага с печатным адресом: «Les Collines» / Vence (A.M.). Опубл.: Письма Эренбургу 2002. С. 425–426.
190. И.Г. Эренбург – Шагалу
3 февраля 1959 г. МоскваМосква, 3 февраля 1959 Дорогой Марк Шагал! Рад был получить от Вас письмо. Охотно предоставлю для Вашей выставки Ваш автопортрет. Для того, чтобы оформить это, нужно, чтобы директор музея обратился ко мне с соответствующим письмом. В письме надо указать кто займется упаковкой и пересылкой картины. Я убежден, что Ваша выставка будет очень интересной, может быть, мне удастся где-нибудь ее повидать. От души желаю Вам здоровья и сил. Любовь Михайловна476 шлет Вам сердечный привет.
ОР ГМИИ. Ф. 41. Оп. 1. Ед. хр. 106. Машинописная копия. Опубл.: Письма Эренбургу 2002. С. 426.
 И.Г. Эренбург в своей московской квартире (на мольберте «Автопортрет с палитрой» Шагала). 1950-е
И.Г. Эренбург в своей московской квартире (на мольберте «Автопортрет с палитрой» Шагала). 1950-е
191. Шагал – М.Г. Гордееву
[6–7 февраля 1959 г. Ванс]Глубокоуважаемый Мих[аил] Григорьевич. Опять пишу Вам, ибо чувствую Вашу симпатию ко мне. Надеюсь, Вы вернулись и отдохнули. Как Вам изв[естно], 6 февраля (т. е. сегодня) открывается в Гамбурге моя выставка в музее города. Несмотря на просьбы официальных людей музеев Парижа и Германии пока еще не получено ответа на просьбу одолжить мои картины, находящиеся в Третьяковской галлерее и в Ленинграде. Я хочу надеяться, что будет положительный ответ хотя бы для выставки в Париже в музее Art Decoratif (Pavilion Marsah). Один лишь частный коллекционер Костаки из Москвы принес лично свои вещи к моей выставке в Гамбурге477, и если он получил разрешение, я думаю, что, м[ожет] б[ыть], Вы тоже могли б послать Ваши вещи – особенно Художник – Видение и Окно в Витебске. И если это прибудет раньше, они могли бы быть напечатаны в каталоге, ибо все картины воспроизведены в каталоге, и если это возможно будет – Вы мне напишете раньше – я сообщу консерватору музея и организатору этой выставки в Париже: Fransois Mathey478. Выставка в Париже будет в начале июня. Она приедет после Гамбурга и Мюнхена, где она будет в апреле479. Если Вам удастся их послать для Мюнхена, тоже будет очень хорошо. Я извиняюсь, что пишу так. Я буду рад получить от Вас весточку. Я, конечно, огорчаюсь, что с родины не послали к выставкам моим (которые в таком виде навряд ли повторятся при жизни). Я не знаю, чем я провинился, когда я в своем иск[усстве] был только всегда предан духу Родины. Будьте здоровы. С сердечным приветом преданный Марк Шагал.
ОР ГРМ. Ф. 242. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 1. Бумага с печатным адресом: «Les Collines» // Vence (A.M.). На конверте (л. 2) рукой Шагала адрес: Гр. М.Г. Гордееву / Кропоткинский пер. 25, кв. 23. / Москва Moscou URRS Почтовый штемпель: Vence 7–2–1959 Опубл.: Письма Гордееву 2005. С. 34 (датировано: 1958).
192. Шагал – М.Г. Гордееву
[Начало февраля 1959 г. Ванс]Глубокоуважаемый Мих[аил] Григорьевич. Шлю Вам эту карточку. Мне передали здесь, будто все же думают послать – одолжить мои нек[оторые] картины для выставок. Если это верно, Вы, м[ожет] б[ыть], сумеете приложить и Ваши. Конечно, я буду рад, если это будет верно. После Гамбурга выставка будет в Мюнхене и, наконец, в Париже. Было б интересно, ecли б попросили каталог у них. С сердечным приветом пред[анный] Марк Шагал
ОР ГРМ. Ф. 242. Оп. 1. Ед. хр. 6. Автограф. Текст написан на пригласительном билете на открытие выставки Шагала в Гамбургском Кунстхалле 6 февраля 1959 г. Опубл.: Отчет ГРМ за 2012 г.; выставка «Новые поступления 1998–2014». [СПб.], 2015.
 Титульный лист каталога выставки «Марк Шагал» (Гамбург, Мюнхен, Париж, 1959)
Титульный лист каталога выставки «Марк Шагал» (Гамбург, Мюнхен, Париж, 1959)
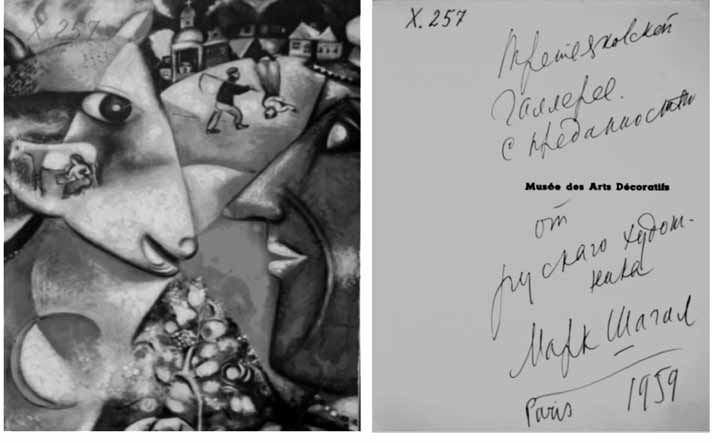 Дарственная надпись на каталоге выставки «Марк Шагал» (Музей декоративного искусства, Париж, 1959): Третьяковской / Галлерее / с преданностью / от / русского художника / Марк Шагал / Paris 1959
Дарственная надпись на каталоге выставки «Марк Шагал» (Музей декоративного искусства, Париж, 1959): Третьяковской / Галлерее / с преданностью / от / русского художника / Марк Шагал / Paris 1959
193. Шагал – И.Г. Эренбургу
[Начало февраля 1959. Ванс]Vence 1959 Спасибо, любезный Эренбург, за Ваш ответ быстрый. Я, конечно, хотел бы, чтоб Ваш (мой) автопортрет был бы на выставках (я написал об этом Francois Mathey, conservateur de Musee des Arts Decoratifs, Paris). М[ожет] б[ыть], Вы напишете Direktor der Hamburger Kunsthalle Prof. D. Alfred Hentzen, и он Вам ответит о формальностях. Вот из Москвы лично привез м. Костаки свою коллекцию моих вещей, немного с опозданием, чтоб быть в каталоге Гамбурга, но будут в каталог Мюнхена и в Париже. Заодно попросите каталог у Dr. Hentzen, а, м[ожет] б[ыть], сумеете лично подъехать туда… Кстати, будто мне сказали здесь, что из Москвы думают все же одолжить, послать мои старые вещи, находящ[иеся] (в резервах) Третьяков[ской галереи] в Москве, в Ленинграде, в том числе кое-что из стенной живописи бывш[его] Евр[ейского] театра. Тогда можно и Ваш портрет приложить… Еще раз спасибо за Ваше внимание. С cердечным приветом преданный Марк Шагал
ОР ГМИИ. Ф. 41. Оп. 1. Ед. хр. 75. Л. 1–2. Автограф. Текст написан на пригласительном билете на открытие выставки Шагала в Гамбургском Кунстхалле 6 февраля 1959 г. Опубл: Письма Эренбургу 2002. С. 426–427.
194. Шагал – Э. Триоле
[11 февраля 1959 г. Ванс]февраль 1959 Cher Elsa. Были в Париже. Часто звонили. Не нашли дома. Теперь едем отдыхать. Особенно Вава. Я посылаю Вам на память рисунок, сделанный специально для Вас и мужа. Чтоб не откладывать – посылаю его, не успев лично передать. Когда вернем[ся] в Париж приблизительно в марте – опять позвоним. С сердечным приветом Les Шагал
РГАЛИ. Ф. 2577. Оп. 1. Ед. хр. 1429. Автограф (ксерокопия). Бумага с печатным адресом: «Les Collinеs» / Vence (A.M.). Вверху рукой Эльзы Триоле помета: 11 fevrier 1959
 Марк и Валентина Шагалы. 1950-е
Марк и Валентина Шагалы. 1950-е
195. Шагал – М.Г. Гордееву
[6 июня 1959 г. Париж]КРОПОТКИНСКИЙ ПЕР 25 КВ 23 / ГОРДЕЕВ =GORDEEV / KROPOTKINSKI PEREULOK 25 APPARTMENT 23 MOSCOU EXTREMEMENT HEUREUX APPRENDRE AUTORISATION CORDIALEMENT MERCI MARK CHAGALL Внизу карандашом рукой М.Г. Гордеева(?) перевод: ОЧЕНЬ РАД УЗНАТЬ О РАЗРЕШЕНИИ480 С СЕРДЕЧНЫМ ПРИВЕТОМ М.Ш.
ОР ГРМ. Ф. 242. Оп. 1. Ед. хр. 7. Международная телеграмма. Телеграфный бланк и лента.
196. Шагал – А.Н. Бенуа
[25 июня 1959 г. Ванс]Paris 1959 Глубокоуважаемы[й] Александр Николаевич. Не удивляйтесь, что вдруг Вам пишу. Из-за моего странного характера Вам стеснялся раньше написать. Хотел Вас поздравить и вообще поговорить. Но вот характер мой. Я недавно наткнулся на копии писем моих к Вам (присланных из России) и мне стало неловко, что так давно Вас не видел. Все то же стеснение, даже боязнь. Вспомнил, как Вы когда-то почти из первых так тепло обо мне писали… говорили. Да я и вообще любил Ваш стиль. Ах, это время… Где оно! Наверно Вы не узнаете того когда-то молодого, кудрявого Марка из Витебска, Петербурга, ученика («рыжего» Бакста) без «права жительства». Теперь он «висит» в Palais du Louvre[73]481 (до октября), но я такой же бледный, пугливый как раньше и вспоминаю Вас как и родину с благодарностью. Желаю Вам здоровья! С приветом – преданный Марк Шагал.
РГАЛИ. Ф. 938. Оп. 2. Ед. хр. 311. Л. 11–11 об. Автограф. Бумага с печатным адресом: 13, Quai d’Anjou / Odéon 32–20. На л. 11 вверху рукой А.Н. Бенуа (?) помета: Vence 25–6. На конверте (л. 12) рукой Шагала адреса: Monsier A. Benoit / 15 Rue Auquste Vi Fu / Paris (15), ниже: Exh Marc Chagall Vence (A.M.). Опубл.: Каменский 2005. С. 277.
 А.Н. Бенуа. Париж, январь 1960. Фото Мишеля Бродского
А.Н. Бенуа. Париж, январь 1960. Фото Мишеля Бродского
197. Шагал – Г.Д. Костаки
5 ноября 1959 г. Ванс5 nov. 1959. Дорогой Костаки. Вы мне простите (как всегда за мою неаккуратность в письмах. Так занят всячески.) А между тем Вы были так любезны ко мне и даже больше. Никогда не забуду, как Вы поспешили одолжили Ваши вещи на мою выставку и даже сами приехали. Я Вам писал, что я подписал нек[оторые] Ваши вещи как мог и сейчас еду в Париж и посмотрю, что еще есть в музее. Но не думайте, что я Вас забыл. Я не знаю: послать ли Вам картинку мою или когда Вы сами приедете – Вы выберете? Пишите мне насчет этого. Как Вы хотите. Я давно не получил от моей сестры Маруси письма, хотя я ей послал 2 письма – официальное приглашение приехать на время ко мне… Что с ней! Я спешу эти строки Вам послать. В надежде, что Вы здоровы и Ваша жена, и знайте и верьте моим лучшим чувствам к Вам. Ваш преданный Марк Шагал Моя жена сердечно кланяется. P.S. Всегда хочу знать, что делается у Вас в искусстве. Я был поражен как свежи были картины, которые были одолжены с родины! Воздух прозрачный. Я не знаю, как благодарить Третьяковскую гал[ерею] за их милый жест482.
Собрание семьи Костаки, Афины. Автограф. Бумага с печатным адресом: «Les Collinеs» / Vence (A.M.).
198. М.Г. Гордеев – Шагалу
2 декабря 1959 г. МоскваУважаемый Марк Захарович! Произведения Ваши, находящиеся в моем собрании, я никогда не рассматривал как некую валютную ценность. Они мне просто очень нравятся, и я не настолько толстокож, чтобы не прочувствовать глубокие эмоциональные силы, заложенные в таких произведениях как «Окно» или «Видение». Они меня волнуют и своим содержанием и живописной техникой. Я понимаю, Вы, вероятно, в какой-то мере обижены на меня за то, что эти вещи не оказались на выставке в Париже. В какой-то мере я виновен перед Вами. Но я не был бы виноват, если бы к вопросу отправки Ваших произведений Ида Марковна483 не привлекла бы в качестве посредника Зильберштейна. В самом деле, зачем потребовалось посредничество, да еще лишенное элементарного такта, если у нас с Вами задолго до этого случая был установлен, я бы сказал, обоюдно приятный контакт. Мне казалось, что Ваше внимание ко мне было продиктовано тем, что целый ряд Ваших работ, имеющих историческое значение, были мною разысканы, приведены в порядок и сохраняются в отличных условиях для н[аших] потомков, что они будут включены в каталоги и станут достоянием ценителей Вашего искусства во всем мире и что отсутствие одной вещи на выставке не может нарушить наши добрых отношений тем более, что я продолжаю поиски, и небезуспешно, целого ряда Ваших ранних работ. Я не знаю какую цель преследовал Зильберштейн своей, как я полагаю, не совсем объективной информацией, но я хочу заверить Вас в своем самом искреннем уважении к Вам. От всего сердца желаю Вам здоровья и успеха Ваш М. Гордеев Москва 2 декабря 1959 г. P.S. Я рассчитываю получить индульгенцию от Вашего преосвященства из Венсе и несколько благосклонных строк, подтверждающих сохранение Вашего дружелюбия к автору этого письма.
ОР ГРМ. Ф. 242. Ф. 242. Оп. 13. Ед. хр. 10. Л. 1–2. Автограф.
199. Шагал – М.Г. Гордееву
2 января 1960 г. Ванс2/1 1960 Многоуважаем[ый] г. Гордеев[74] Получил Ваше письмо. Но я хочу Вас успокоить, что я совсем не обижаюсь на Вас в связи с картинами Вашими (мои), что не были посланы на выставку в Париж. Конечно, жалко, что я их не увидел после стольких лет, и люди бы видели и в каталоге были б. Это и хорошо для «биографии» самых картин. Но в конце концов это не очень важно. Я как всегдa благодарен и признателен людям, котор[ые] собирают мои работы и в особенности на родине и Вам тоже и пожалуйста не сомневайтесь в моих чувствах. И если где увидите мои старые (других, новых же нет) где вещи, пошлите фото. (Кстати, Вы же знаете, муж моей дочки готовит большую книгу484). Я желаю сердечно Вам и всем на родине счастья и к новому году. Остаюсь преданный Марк Шагал
ОР ГРМ. Ф. 242. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 1. Автограф. На конверте (л. 2) почтовый штемпель: Москва 22.I.1960.
200. Шагал – Ежи Фицовскому
[1960 г. Ванс]Vence 1960 Любезный Jerzy Ficowsci Я извиняюсь, что пишу Вам по-русски. Я был очень тронут Вашим письмом и поэмой «письмо – мне»…485 Я чувcтвую очень хорошо Ваши переживания. Я тронут, что Вы думали обо мне. Я бы хотел очень заслужить Ваше доверие ко мне как художнику. Меня это очень енкуражирует[75]. Но я главное желаю Вам счастье, работать и найти свое personalite[76]. Вы на пути. С сердечным приветом Marc Chagall
Частное собрание. Автограф. Опубл.: Письма Фицовскому 1996. С. 211–212.
201. Шагал – И.С. Зильберштейну
2 февраля 1961 г. Ванс2/2 1961. Дорогой Илья Самойлович. Простите, если я не так быстро отвечаю на письма. Это моя болезнь такая. Откладываю все и – но мысли мои другие. Кроме того, всегда чем-то занят и так время уходит. Спасибо сердечное Вам за Ваши дружеские поиски. Если бы я был «уверен» больше в себе. Во всяком случае моя дочка очень заботится обо мне и Вы, дорогой, ей помогаете. Я Вам послал 2 книги: «Chagall. Littografe»486 и библия (2)487, надеюсь получили. Я рад Вашим письмам. Не забывайте меня. Дай бог, чтоб мы когда-нибудь встретились. Ваш преданный и благодарный Марк Шагал P.S. Есть, к сожалению, и «фальшивые» картины и рисунки. Лучше мне увидеть их фото и не надо забывать ту «эпопею», когда некий Антокольский – рамочник и пр.488 забрал у меня сотню вещей периода 907–908 (до Бакста). Где они? Или на них подпись других «знаменитых» русских художников? Тогда это я сам могу узнать…
Частное собрание. Автограф.
 Рисунок и дарственная надпись на обложке журнала «Verve» (vol. VIII, № 33–34): Для / Ильи Самойловича / Зильберштейн / с / благодарностью / и сердечным / приветом / Марк Шагал / Vence / 1959
Рисунок и дарственная надпись на обложке журнала «Verve» (vol. VIII, № 33–34): Для / Ильи Самойловича / Зильберштейн / с / благодарностью / и сердечным / приветом / Марк Шагал / Vence / 1959
 И.С. Зильберштейн в своем рабочем кабинете. 1950-е
И.С. Зильберштейн в своем рабочем кабинете. 1950-е
202. Шагал – Г.Д. Костаки
3 февраля 1961 г. Ванс3/2 Vence 1961 Дорогой Костаки. Простите мне, что запоздал Вам ответить на Вашу любезность вообще и в частности – вот недавно к Новому Году Вы мне прислали подарок – икру, которой я и моя жена и даже приглашенный к столу недавно Ваш земляк с Греции издатель Териад – облизывались. – Я думал как-то Вас увидеть, но вот разошлись. Хочу надеяться, что все же увидимся. К тому же я Вам что-то должен – и время идет, но я буду так рад Вас когда-нибудь увидеть. Уж не знаю, буду ли я иметь силы когда-ниб[удь] сам приехать. Я хотел и даже послал бумаги раз, чтоб сестра, как она хотела, одна приехала ко мне на месяц, но не смогла. – Что у Вас нового: я Вам послал книгу новую. Вышла: «Chagall Litographe» и 2. Библия «Verve».
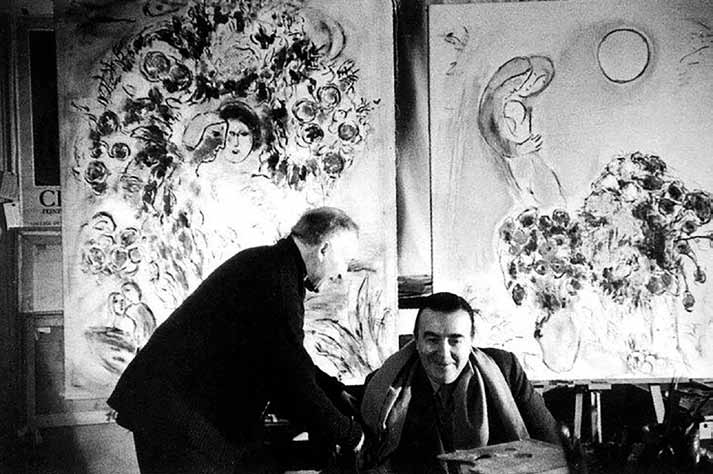 Марк Шагал и Эжен Териад. 1950-е
Марк Шагал и Эжен Териад. 1950-е
Муж моей дочки готовит уж давно большую книгу489. Как Ваше здоровье? И что нового в обл[асти] искусства на родине? Пишите когда-ниб[удь]. Я так рад получать. Ваш сердечно преданный Марк Шагал
Собрание семьи Костаки, Афины. Автограф.
203. Шагал – А.А. Шику
2 июля 1961 г. Ванс2/7 1961 Любезный друг Шик. Спасибо за статью Вашу о витражах для Ерусалима. Я немножко, чуть-чуть «начинаю» верить в себя490. Лишь бы русские шли смотреть и судить хотя бы вдали [от] родины (м[ежду] пр[очим], по последним сведениям, на французской готовящейся выставке в Москве491 «предложено» «нашими» меня не выставлять… там…). С сердечным приветом Вам обоим Шагал.
Архив наследников А.А. Шика, Париж. Автограф. Опубл.: Письма Шику 1996. № 4136. С. 11.
 Первая Французская национальная выставка в Москве. Парк Сокольники, 1961
Первая Французская национальная выставка в Москве. Парк Сокольники, 1961
204. Шагал – Г.Д. Костаки
31 января 1963 г. Ванс31/1 1963 Дорогой Костаки. Я давно Вам не писал. Простите. Но жизнь здесь у меня такая разсеянная. Работаю и сомневаюсь как всегда в работе. Такова жизнь. Что у Вас и здоровье? Я давно не имел новостей от Вас. В этом году готовится большая выставка моя в Японии, и ее организаторы хотели бы (и я) одолжить с родины некоторые картины. Не знаю будут ли успешны хлопоты. Выставка устраивается правительством Франции и Японии в музеях Токио492. Пишите чаще обо всем, собираетесь ли Вы приехать и как здоровье. Не мог Вам послать то что обещал, т[ак] к[ак] отсюда надо делать мне разные бумаги. Лучше дам лично. Ваш преданный Шагал Сердечно кланяется Вам моя жена.
Собрание семьи Костаки, Афины. Автограф. Бумага с печатным адресом: «Les Collines» / Vence (A.M.).
205. Шагал – Ежи Фицовскому
[17 мая 1965 г. Ванс]<…> Я тронут симпатией ко мне с Вашей стороны и со стороны некоторых польских поэтов. Кто знает – заслуживаю ли я этого. Моя «заслуга», очевидно, только в том, что я хотел быть простым и честным, как и страна, где я родился, как и наши родители… Если Вам хочется работать над такой книгой, как Вы пишете, польских стихов493, то для меня это большая честь, возможно, слишком большая, потому что иногда мне кажется, что я только начинаю работать… <…>
Частное собрание. Автограф. Опубл.: Письма Фицовскому 1996. С. 215.
206. Шагал – А.А. Вергелису
[Сентябрь 1965 г. Ванс]Уважаемые друзья! Вы не представляете, как я был тронут, получив Ваше письмо (с журналами). Вы можете представить себе мои чувства, потому что евреи и с моей родины мне очень близки, я ведь остался преданным своему народу. Вы просите, чтобы я Вам послал кое-что из написанного мною. Мне думается, что есть у меня некоторые стихи и выступления, и даже книга «Моя жизнь», и это может для Вас представлять интерес. Кое-что было тут и там напечатано, но я плохой «секретарь» и не знаю, где и что лежит, так как, в основном, я занят моей «мазней».
 Арон Вергелис. 1960-е
Арон Вергелис. 1960-е
Тем не менее, однажды еврей должен сосредоточиться и собрать все воедино. Но где и когда – я не знаю. Но я благодарю Вас от всего сердца. Я бы мечтал, чтобы меня видели (мое искусство) и читали. Может, когда-нибудь это время придет. Что представляет собой сейчас мой Витебск? Я приветствую Вас всех – и, конечно, молодежь. С уважением, Марк Шагал.
Архив Хаима Бейдера, Нью-Йорк. Автограф (идиш). Опубл.: Письма Вергелису 2008. С. 55–56.
 Москва. Дом, в котором находилась редакция журнала «Советиш Геймланд» (ул. Кирова, 17). Фото А. Мирошкина
Москва. Дом, в котором находилась редакция журнала «Советиш Геймланд» (ул. Кирова, 17). Фото А. Мирошкина
207. А.А. Вергелис – Шагалу
[3 апреля 1966 г. Москва]Дорогой и любимый всеми нами Марк Шагал! Я не уверен, получен ли Вами февральский номер «Советиш гейм-ланд», в котором мы снова сделали то, что мы можем: еще раз оповестили наших читателей, что есть на свете великое чудо – Марк Шагал, что он один из нас, живет в нас и будет жить в нас. Естественно, мы, быть может, смогли бы для наших нескольких десятков тысяч еврейских читателей сказать что-то более значительное о Вашем творчестве, но для этого мы должны быть более информированы, в связи с чем хотели бы установить с Вами контакт лично. Мое первое письмо к Вам и Ваш ответ, к сожалению, остались, как говорят, висеть в воздухе. Я думаю, что есть смысл со всех точек зрения, чтоб мы взялись за руки и попробовали использовать возможности, которые у нас есть сейчас, для того, чтобы выходец из Витебска вновь дошел до Витебска. Может быть, давая Вашу публикацию в марте, «Советиш геймланд» немного рановато взялся праздновать Ваш юбилей, но мы это делаем один раз, и два раза, и десять раз, независимо от юбилеев. Я прошу Вас о следующем: 1. Пришлите нам все, что Вы можете, из Ваших неопубликованных рукописей: стихи, учительские воспоминания, высказывания об искусстве; я понимаю, дорогой Шагал, что Вы «плохой секретарь», даже совсем плохой, «никудышнер», как русские выражаются, но «Советиш геймланд» – самое большое литературное издание у евреев в мире, и я прошу Вас, пришлите все, что можете принести читателю, и мы все опубликуем. 2. Может быть, Вы что-то из нарисованного Вами нам подарите. Я понимаю, что мое предложение жжет сильнее огня, даже произнести эти слова губами – надо иметь много сил. И тем не менее, я их произношу. На Ваш вопрос, что слышно в Витебске, непросто ответить одним-двумя словами, потому что Витебск сейчас очень большой город, скоро у нас там будет встреча еврейских писателей с читателями, и, если Вы разрешите, мы передадим от Вас персональный привет. Вы спрашиваете также, молоды ли мы, – а что же, старые? Мы имеем, слава богу, девяностолетнего молодого прозаика (З. Вендров) и 25-летнего поэта (В. Данко), и между этими юными творцами есть плеяда – свыше ста молодых, понятно! Это еврейские прозаики, поэты, эссеисты, исследователи, фольклористы, лингвисты, художники, композиторы. Все они, и я от их имени, шлем Вам наилучшие пожелания! И обнимаем Вас! Ваш Арон Вергелис.
Архив Хаима Бейдера, Нью-Йорк. Оригинал (идиш). Опубл.: Письма Вергелису 2008. С. 56–57.
208. А.М. Нюренберг – Шагалу
[Весна 1966 г. Москва]Дорогой старый друг! Недавно я был в редакции «Советская Родина» и мне редактор т. Вергелис прочел Ваше письмо494, которое меня очень взволновало. Я вспомнил наше романтическое прошлое. Наши первые пробы жизни и искусства. Вспоминаю в 1912 году Вы писали, кажется, картину «Рождение», потом участие в Салоне независимых, ярким полотном495. Затем 1928 г., когда я бывал у Вас со своей женой и дочкой. Тогда была еще жива Ваша первая [ж]ена. Я написал о Вас статью, помещенную в журнале «Прожектор»496. Вы тогда работали для Воллара. Недавно я видел большую книгу «Образы Монпарнаса» и под Вашей редакцией. Я очень рад всем Вашим успехам, но я не в курсе последних Ваших достижений. Здесь у Вас много друзей, но очень мало литературы о Вас. У Вас был какой-то юбилей и какая-то годовщина. Напишите мне какие. Я теперь пишу книгу «Записки художника»497 и, конечно, напишу о Вас, как о выдающемся художнике нашей современности. По-моему, история живописи не знает второго Шагала. Если не трудно, напишите в каком году Вы впервые выставлялись в Париже и что выставляли? Последние отзывы всемирной критики о Вас. В каких музеях наибольшее количество Ваших работ. Если можно, пришлите последние каталоги. Тоскуете ли Вы по-прежнему по Вашим витебским [з]аборам. Обнимаю Вас крепко, крепко и жду от Вас скорого ответа. Сердечный привет от моей жены498 и дочки певицы Нелиной, которая проработала в Большом театре 13 лет. Амшей Нюренберг. Адрес: Москва 252, Вторая Песчаная, д. 8, кв. 11 Трифонову Ю.В. для А.М. Нюренберга.
ОР ГТГ. Ф. 34. Ед. хр. 284. Машинописная копия.
 А.М. Нюренберг
А.М. Нюренберг
 А.И. Дейч
А.И. Дейч
209. Шагал – Ю.В. Адамчуку
19 июня 1966 г. ВансVence (A.M.) France 1966 19/6 Многоуважаемый Юрий Владимирович Я получил Ваше письмо. Я был очень тронут, что Вы – Ваш институт атомной энергии499 – хотите устроить выставку хотя бы репродукций моих работ. Вы мне просите прислать их Вам. Я бы с большим удовольствием послал бы Вам и вдобавок некоторые книги, каталоги, но вот мне это физически немного трудно это сделать. Было б лучше, если б от Вашего имени пришел бы ко мне доверенный Вами человек, которому я бы мог все что мог бы ему для Вас передать. Для этого надо бы мне предварительно написать или позвонить по телефону. Я живу в Vence и иногда в Париже. Я думаю кстати в амбасаде знают и мой адрес и телефон. Еще раз спасибо Вам за Ваше внимание ко мне. Мне же тем более приятно, ибо я всегда остался кажется верен духу своей родины, хотя, как многие другие художники мира 20 века, жил в Париже почти всю жизнь – вдали от родины. Сердечно преданный Вам Марк Шагал.
Частноесобрание (ранее собр. Ю.В. Адамчука, М.). Автограф. Опубл.: Возвращение мастера 1988. С. 326–327.
210. Шагал – Г.Д. Костаки
[Июнь 1966 г. Сен-Поль-де-Ванс]St. Paul 1966 Дорогой Костаки. Спасибо за письмо. Давно не имел новостей от Вас. Лишь бы здоровье. Жаль, что Вы не можете доехать до нас. Мы теперь в новом доме, правда, не далеко от Vence500. Я очень занят последнее время. Вы, конечно, знаете м[ожет] б[ыть], получили книгу «плафон d’l’opera»501, и в Америке, куда я опять вынужден поехать из-за opera Mozart и витражей502. В Париже готовят выставку моего «месаж библик» в Лувре503, что они говорят первый раз для живого после Брака. Теперь так я рад, что у Вас имеются мои картины, которые Вы достаете с любовью. Картину около печки504 – я помню хорошо: это когда я жил с Белой в годы войны, кажется 1915, 16. (хорошо бы иметь фото – она, кажется, не воспроизведена в книге Франца505.) Да, 2 гуаши «война» я в Америке «подарил»506. Я понимаю Вас, любящего искусство, что Вас этот вопрос волнует. Я думаю, что, м[ожет] б[ыть], можно будет одолжить также картины: у печки и 2 гуаши война, не говоря о других, для ретроспективной моей выставки, готовящейся в Цюрихе в музее507. Ида была, Вы знаете, недавно в Москве и думает, что пошлют оттуда серию картин для этой выставки. Как Вы живете? Если можете, пишите чаще – я буду рад. Иногда мы видим здесь у нас некоторых русских. Я Вам желаю, дорогой Костаки, здоровья. Моя жена, которая, бедная, так занята мной и я сердечно кланяемся. Видите ли иногда мою сестру какую-нибудь? Ваш преданный Шагал
Собрание семьи Костаки, Афины. Автограф.
211. Шагал – В.В. Одинокову
[Июнь-июль 1966 г. Сен-Поль-де-Ванс]Дорогой Одиноков. Я надеюсь, у Вас все благополучно. И Вы завалены работой, но как-нибудь после возьмете ваканс тоже. Я Вам в этом конверте шлю все материалы, когда мы вначале с Ренертом обсуждали и даже с Вами я рисовал и снимки делали общего характера508. Когда все надо и прочее разставляется на сцене в 2-х актах. Это Вам даст еще большую ясность. Храните их и, конечно, «изучайте». Ренерт пишет, что скоро в [и]юле в конце он приедет в Н[ью]-Й[орк], и я надеюсь я Божьей помощью тоже приехать как-нибудь позже. Я надеюсь, что Вы «пожертвуйте» всем нашему Моцарт. Дать все «привелегии», и я думаю, что дирекция будет согласна. Я рад, если Вы мне напишете, как «висят» мюрали509. Много ли «пыли» вокруг них. Как занавесы и проч. Буду рад, когда напишете. У нас теперь полный «кавардак» в связи с переездом в Ст. Паул510. Кланяйтесь всем. Как у Вас? Я буду рад быть в Н[ью]-Й[орке] и быть у Вас на квартире «покушать» и видеть, что делается, и «критиковать» (это моя специальность). Будьте здоровы. Жена кланяется. Марк Шагал. П.С. Как-нибудь после сохраните для меня эти мелкие документы. Это Вам поможет делать макеты.
Частное собрание (ранее собр. Э.А. Штейна), США. Автограф. Опубл.: Письма Одинокову 1998. С. 58. Письмо первое.
212. Шагал – А.М. Нюренбергу
30 августа 1966 г. Сен-Поль-де-ВансSt. Paul de Vense (А.М.) Franсe 1966 30/8 Дорогой Амшей Нюренберг. Спасибо за письмо Ваше и фото и рисунки. Смотрел, вспоминал. «Минувшее проходит перед мною…» Но моя «совесть» чиста… Я работал, оставаясь «по своему» преданным моему городу… В этом слове весь мой «колорит», все мечты. Я «люблю» и не слышу «ответа». Ответ этот внутри меня. Долго, давно Вас не видел. Но я помню все. Мне трудно писать, что я делал все это время. Я думаю, если у Вас есть где-либо какие-нибудь книги обо мне – Вы увидите. Я жалею, что не видел Вашу дочь с ее мужем… В другой раз, надеюсь. Ваш преданный Марк Шагал.
ОР ГТГ. Ф. 34. Ед. хр. 283. Л.1–2. Автограф. На конверте (л. 2) рукой Шагала адрес: А. Нюренбергу / 2-ая Песчанная, дом № 6, кв. 187 / Москва А-252 / Moscou URSS. Опубл.: Нюренберг 2010. С. 339. Печать по автографу.
213. Шагал – В.В. Одинокову
[21 сентября 1966 г. Сен-Поль-де-Ванс]Дорогой Одиноков. Я Вас мало видел в Н[ью]-Й[орке] на этот раз511. Но я понимаю, как Вы загружены работой и еще какой! Но я надеюсь, что у Вас помощники, которые помогают. Я уезжаю, все же волновался всячески. Но я должен приехать в январе (если Бог даст силы) и это будет окончательно. [К] тому времени Вы и Ваши помощники, надеюсь, покроются крыльями достойные Mоцарт. Бог музыки на этой земле… Все должно петь и сиять как не от мира сего. И это есть реализм. Я думаю, к приезду буд[у]т приблизительно все декор[ации] и костюмы на месте. Ренерт, наверно, тоже будет. Кривитц512 и Тинг513 помогут во всем, надеюсь. Пишите мне пожалуйста немного обо всем. Всего хорошего. Будьте здоровы. Привет жены. Марк Шагал.
Частное собрание (ранее собр. Э.А. Штейна), США. Автограф. Опубл.: Письма Одинокову 1998. С. 59. Письмо второе.
214. Шагал – И.Г. Эренбургу
[Январь 1967 г. Сен-Поль-де-Ванс]St Paul de Vence 1967 Спасибо Вам за Ваше поздравление Bonne Année, всего лучшего желаю Вам обоим Марк Шагал
ОР ГМИИ. Ф. 41. Оп. 1. Ед. хр. 78. Л. 1–2. Автограф. Опубл.: Возвращение мастера 1988. № 283; Письма Эренбургу 2002. С. 429.
215. Шагал – А.А. Шику
[Апрель 1967 г. Сен-Поль-де-Ванс]1967. St. Paul de Vence Дорогой Шик. Простите, пожалуйста, что так долго не ответил на письмо. Надеюсь, Вы здоровы и жена тоже. Простите, я не очень понял Ваш почерк, но я думаю, что Вы хотели знать о моей работе в Нью-Йорке, о «мюраль» в Metropolitan Opere514 и Opere Mozart. Да, была пресса и хорошо очень приняли515, но не удобно мне об этом говорить. М[ожет] б[ыть], Ваша газета попросит г. Свет, который живет в N[ew] Y[ork], и он сообщит, может быть, о том, что он знает и видел. Во всяком случае скажу Вам, что я [нрзб.] много работал. В Цюрихе в музее там будет, откроется 6 мая ретроспективная выставка516. В Лувре в конце июня откроется выставка «Мессаж библик», котор[ую] я подарил Франции, и они построят в Nice специальный дом – музей «Мессаж библик»517. Пусть, конечно, русская колония пойдет на эту выставку в Лувр… Сердечно кланяюсь Вам. Преданный Марк Шагал.
Архив наследников А.А. Шика, Париж. Автограф. Опубл.: Письма Шику 1996. № 4136. С. 11.
216. Шагал – Л.М. Эренбургу
[2 сентября 1967 г. Сен-Поль-де-Ванc]EHRENBURG 84 RUE GORKI MOSKAU. JE VIENS D APPRENDRE LA TRES TRISE NOUVELLE JE VOUDRAT VOUS TRANSMETTRE TOUTE MA PROFONDE SYMPATHIE MARC CHAGALL
Перевод: ЭРЕНБУРГ 84 УЛ. ГОРЬКОГО МОСКВА ТОЛЬКО ЧТО ПОЛУЧИЛ УЖАСНО ПЕЧАЛЬНУЮ ВЕСТЬ518. ХОТЕЛ БЫ ВАМ ПЕРЕДАТЬ ВСЮ МОЮ ГЛУБОКУЮ СИМПАТИЮ. МАРК ШАГАЛ
ОР ГМИИ. Ф. 41. Оп. 1. Ед. хр. 80. Международная телеграмма. Телеграфный бланк и лента. Опубл.: Письма Эренбургу 2002. С. 431.
217. Шагал – М.Я. Макаренко
6 февраля 1968 г. Сен-Поль-де-Ванс6–2–1968 «La colline» St. Paul de Vence Глубокоуважаемый М. Макаренко Я узнал, что Вы собираетесь устроить мою выставку, чему я очень рад и очень тронут. Конечно, я с удовольствием присутствовал [бы] на моей выставке, но в виду моего возраста мне кажется трудновато добраться до самой Сибири. Но я все же мысленно и душевно с Вами. Конечно, если бы был подходящий случай – я мог бы дать здесь что-либо из моей графики. Но я хочу еще раз Вас поблагодарить и передать всем мои чувства преданности. Марк Шагал519.
ОР ГРМ. Ф. 100. Ед. хр. 480. Л. 1–2. Автограф (ксерокопия). Автограф включон в оформление пригласительного билета на выставку. На л. 1 надписи – вверху: Картинная галерея СО АН СССР внизу: Академгородок; на л. 1 об. зеленым фломастером надпись: Marc Chagall / вернисаж 12 мая / в Картинной галерее / Сибирского отделения АН СССР. В оформлении использованы черно-белые литографии Шагала. В ОР ГРМ документ поступил в 1980 г. Опубл.: Каменский 2005. С. 278. Печатается по автографу.
 Л.М. Козинцева-Эренбург и И.Г. Эренбург на даче в Истре, 1966
Л.М. Козинцева-Эренбург и И.Г. Эренбург на даче в Истре, 1966
 Мемориальная доска И.Г. Эренбургу (Москва. Тверская ул., 8)
Мемориальная доска И.Г. Эренбургу (Москва. Тверская ул., 8)
218. Шагал – С.З. Грибовой
6 февраля 1968 г. Се-Поль-де-Ванс6–2–1968 Дорогая племянница Я так рад получить от тебя весточку и даже диск, который я слушал несколько раз. Такой чудный, четкий голос. Спасибо. Я жалею, что редко пишу. Не обращайте внимания. Я просто разсеян. Вава сердечно кланяется. Пишите обо всем. Целую всех Вас. Ваш преданный Дядя Марк
Частное собрание (ранее собр. семьи М.З. Грибовой, Л.). Автограф.
219. Шагал – в редакцию журнала «Декоративное искусство СССР»
[Февраль 1968 г. Сен-Поль-де-Ванс]Милые друзья. Спасибо сердечное за присылку номера «Декоративное искусство» со статьей обо мне520. Я этого не ожидал. Тем более было так приятно чувствовать Вашу близость ко мне и моей работе. Журнал производит хорошее впечатление вообще и дает идею о декоративном искусстве на родине, где техника играет и должна играть большую роль… Еще раз спасибо. Марк Шагал
Печатается по: Возвращаясь к напечатанному // Декоративное искусство СССР. М, 1968. № 9. С. 46.
 Новосибирск, Академгородок. Дом ученых Сибирского отделения АН СССР. 1960-е
Новосибирск, Академгородок. Дом ученых Сибирского отделения АН СССР. 1960-е
220. Шагал – В.А. Пушкареву
17 марта 1968 г. Сен-Поль-де-Ванс17/III 1968 Дорогой Василий Алексеевич Я помню так хорошо Ваш сердечный визит у меня521. И теперь я спешу Вас благодарить за альбом акварелей и рисунков музея522. Мне очень интересно видеть там людей и пейзажи моей родины. Не забывайте меня. И, как знать, м[ожет] б[ыть], когда-нибудь я увижу и Невский проспект, на котором мальчиком я гулял и мечтал недалеко от школы общ[ества] просв[ещения] иск[усств]523, и увижу Ваши заллы. Привет сердечный от меня и моей жены преданный Марк Шагал
ОР ГРМ. Автограф. Бумага с печатным адресом: «La Colline» / St. Paul de Vence. Опубл.: Письма Пушкареву 1995. С. 86.
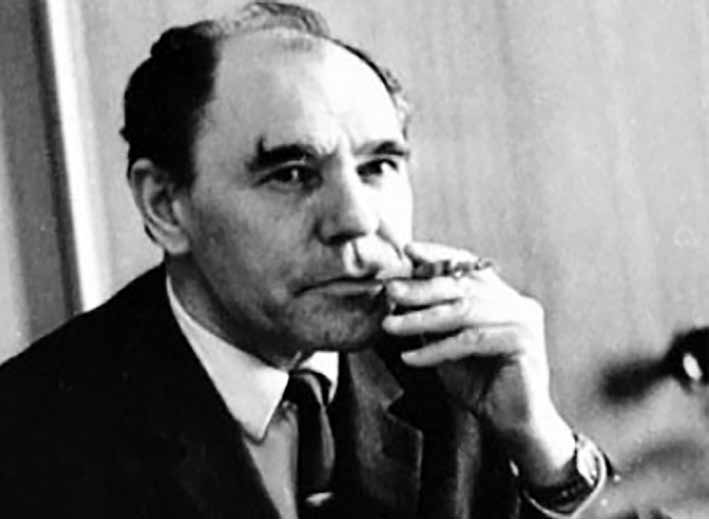 В.А. Пушкарев. 1960-е
В.А. Пушкарев. 1960-е
 Ленинград. Государственный Русский музей. Открытка, 1954
Ленинград. Государственный Русский музей. Открытка, 1954
221. А.И. Дейч – Шагалу
19 апреля 1968 г. Москва (?)19. IV.68 Дорогой Марк Захарович. Не думайте, что я забыл свое обещание прислать Вам книгу524. Ждали, что Вы с Валентиной Григорьевной приедете в Париж, но вчера Леонидов мне сказал, что Ваша поездка не состоится. Поэтому передаю книгу через M-lle Гуту Зискинд, которую также горячо рекомендуем Вам в помощь при работе над мемуарами. Никто лучше, чем она, не расскажет Вам и Валентине Григорьевне о себе и своих возможностях. С большим удовольствием вспоминаем о пребывании в гостеприимном Вашем доме с [его][77] обворожительными хозяевами. Будьте здоровы и счастливы. Не огорчайтесь по пустякам и верьте в победу добра. Мы с Евгенией Кузьминичной525 нежно кланяемся Валентине Григорьевне. Обнимаю Дружески Ваш А. Дейч
РГАЛИ. Ф. 2837. Оп. 1. Ед. хр. 453. Машинопись; подпись и дата – автограф. На обороте черновик дарственной надписи А.И. Дейча Шагалу: Дорогому / М.З.Ш. / навсегда покорившему меня/ своим волшебством /низкий поклон / Валентине Григорьевне / 19.IV.68
222. Шагал – В.М. Володарскому
25 апреля 1968 г. Сен-Поль-де Ванс25/4 1968 Многоуважаемый В. Володарский (простите, что так обращаюсь к Вам) – Я получил Ваше письмо и я Вам благодарен за Ваше внимание ко мне. Я очень рад, что Вы хотите купить для Вашего музея мою картину, к сожалению, она фальшивая также, конечно, как и подпись. Я надеюсь, что Вы постараетесь, чтоб эта работа не осталась цыркулировать дальше. У Вас целый ряд моих работ моей молодости – я, кстати, благодарен, что Вы мне их одолжили для выставок526. Спасибо Вам, что Вы меня запросили. Сердечно преданный Марк Шагал
ОР ГТГ. Ф. 4. Ед. хр. 1448. Л. 1–5. Автограф. Бумага с печатным адресом: «La Colline» / St. Paul de Vence. На конверте (л. 2) рукой Шагала адрес: Мr В. Володарский / Лаврушинский пер. 10 / Государственная Третьяковская галерея / Москва / Moscou / URSS Почтовый штемпель: Vence 26–4–1968. На фотографии рисунка «Двое» (л. 3) справа внизу рукой Шагала надпись: оригинал этого рисунка у меня Marc Chagall.
223. С.М. Яковлев – Шагалу
6 мая 1968 г. Ленинград6/V. 1968 Глубокоуважаемый Марк Захарович! Мой покойный друг и земляк скульптор Осип Алексеевич Цадкин однажды прислал мне монографию о нем, изданную в Париже в 1964 году527. Автор этой монографии Ионель Жиану (Ionel Jianou) на страницах 28– 29-й пишет: «Zadkine fut content de rentrer à Smolensk au début de l’été 1909. Le peintre Michel Penn, qu’il connut à Vitebsk, l’emmena chez Marc Chagall, rentré depuis peu de Saint-Pétersbourg. La mere de Chagall tenait une épicerie près de la gare et le peintre habitait au rez-de-chaussée une pièce sur la cour, remplie de ses tableaux. “Chagall était peu loquace et ne parlait guère de sa peinture, raconte Zadkine. Il y avait dans ses tableaux quelque chose qui rappelait les enseignes des boutiques où l’on vendait des cigarettes, ou de celles des coiffeurs ou des tailleurs, quelque chose à la fois de primitive, de malhabile et en même temps de touchant, qu’on voyait depuis la plus tender enfance et qui étonnait et faisait sourire, l’oeil vierge des tout petits”. Il se sentit attiré par cette peinture qui avait le courage et la candeur de la franchise, la poésie veloutée du rêve et le charme insidieux d’un conte issu d’une réalité fantastique»[78].
Таким образом, если верить приведенной цитате, получается, что Вы какое-то время жили и работали в Смоленске. Так ли это? Отвечает ли истине приведенное сообщение Жиану? Это мне очень важно знать, так как я работаю над книгой о творчестве художников, родившихся или живших в моем родном Смоленске528, и я не хочу вводить моих читателей в заблуждение. Пожалуйста, ответьте мне поскорей (по-русски или по-французски). Желаю Вам долгих радостных лет и счастливого творчества! С глубоким уважением С. Яковлев. Мой адрес: URSS – СССР / Ленинград С–144 / 9-я Советская ул./ дом 39/24, кв. 19 / Сергею Малахиевичу Яковлеву. P.S. Беседовавший со мной Ваш витебский земляк и ученик Михаил Кунин шлет Вам свои лучшие чувства уважения и благодарности!
Государственный архив Смоленской области. Ф. 1063. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 172. Копия.
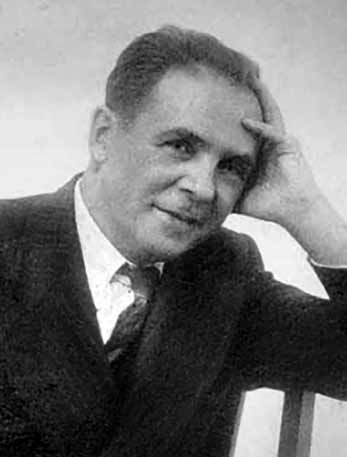 С.М. Яковлев
С.М. Яковлев
 М.А. Кунин
М.А. Кунин
224. Шагал – С.М. Яковлеву
17 июня 1968 г. Сен-Поль-де-Ванс«La Colline» / St. Paul de Vence. 17/6–1968 Уважаемый Сергей Малахиевич Спасибо за Ваше письмо. Рад был узнать, что на родине интересуются жизнью художников в других городах и Вы пишете книгу. В ответ на Ваше письмо: Я родился в Витебске. Никогда, к сожалению, в Смоленске не был. Художник Пен (мой первый учитель) не приводил ко мне людей. Я же был начинающий. Цадкина я знал как ученика городского училища, где я был с ним в одном классе. По его просьбе, я был у него раза два дома, где он жил у своих родителей недалеко от моей улицы. Он хотел мне показать свои работы529. Желаю Вам успеха. С приветом Марк Шагал. P.S. Если у Вас будет такая книга – я буду рад ее получить. Привет, если увидите, Кунину.
Государственный архив Смоленской области. Ф. 1063. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 173. Копия, снятая С.М. Яковлевым. Опубл.: Лисов А. Цадкин и Витебск // Шагаловский сборник 1996. С. 180 (в сокр.).
225. Кадиш Луз – Шагалу
25 ноября 1968 г. Иерусалим25.11.1968 Дорогой друг Марк Шагал. Я очень сожалел, что мне не удалось свидеться с Вами во время моего пребывания в Франции. Еще будучи в Израиле я получил известие, что Вы уехали в Америку530.. Все члены нашей делегации посетили «Гобелен» и долгий час смотрели и восхищались Вашими гобеленами531. Я беседовал с г-ном Антониоз, и он мне рассказал о затруднениях передачи нам Гобеленов для кнессета. Я попросил посла Эйтана позаботиться о свидании с министром Мальро. Перед отъездом я встретился с Мальро, и он рассказал мне, что во время переговоров с Вами им было ясно, что картоны перейдут в собственность Франции и это будет компенсацией за стоимость работы и материалов. Французский закон запрещает дарить гобелены. Им выяснилось, что картоны не будут их собственностью и потому они требуют денежную плату, которая суммируется в 250.000 долларов. Он добавил, что теоретически есть возможность одолжить нам гобелены как депозит, так что они останутся собственностью Французского правительства, но это зависит от министра финансов, и он не советует при данных обстоятельствах обратиться к нему. Мой ответ был: с возвращением в Израиль я предложу нашему премьеру Эшколу и министру финансов Шерфу включить в бюджет требуемую сумму, и я надеюсь, что это будет выполнено, несмотря на финансовые трудности. Надеюсь вскорости мы сможем праздновать большое событие – прибытие Ваших гобеленов в Кнессет. Это будет для Вас и для нас большой праздник. Желаю Вам здоровья и творческого удовлетворенья. Привет и лучшие пожелания Вашей супруге Ваве. Моя жена Рахиль приветствует Вас и Ваву. Ваш Кадиш.
Частное собрание. Автограф. Опубл.: Harshav 2004. P. 924–925 (пер. на англ.).
226. Шагал – Кадишу Лузу
11 декабря 1968 г. ПарижParis 1968 11/XII Дорогой друг Кадиш Люц. Вернувшись из Америки, я застал Ваше письмо о положении сдачи гобеленов – Вам. Можете себе представить мое удивление и огорчение, когда я узнал от Вас, а также теперь от Мr Антониоса, что они должны Вам считать за изготовление гобеленов. Я не знаю, что Вам сказать. Могу Вас только уверить, что я никогда об этом не знал. Мне всегда, с самого начала, еще до того, когда я хотел мои гобелены Вам в подарок дать, – говорили, что мне полагается один экземпляр (т. е. триптих). Поверьте мне, что я здесь ни при чем, что [меня] это страшно огорчает, и я видел нашего посла г. Eitan по этому поводу и передал ему все мои чувства и мое мнение по этому поводу. Надеюсь в скором Вам написать еще. Будьте здоровы. Сердечно кланяюсь Вашей жене. Привет от моей. Ваш преданный Марк Шагал.
Частное собрание. Автограф. Опубл.: Топоровский 1996. С. 36; Harschav 2004. P. 925 (пер. на англ.).
 Марк Шагал и Голда Меир на открытии нового здания Кнессета. Иерусалим, июнь 1969. Фото Давида Рубингера
Марк Шагал и Голда Меир на открытии нового здания Кнессета. Иерусалим, июнь 1969. Фото Давида Рубингера
227. Шагал – В.А. Пушкареву
1 марта 1969 г. Сен-Поль-де-Ванс1 mars 1969 Любезный Пушкарев Вы мне простите, что так просто обращаюсь к Вам (к тому же я не силен на имя-отечество). Но я помню Ваш визит и этот час, проведенный с Вами в St. Paul532. Нам было очень приятно видеть и слышать привет от родины. Не знаю как выразить Вам благодарность за прялку – подарок, которую мне передали. – Я надеюсь как-нибудь мы будем иметь еще возможность с Вами встретиться и в ожидании этого удовольствия остаюсь преданный с приветом от меня и моей жены Марк Шагал. P.S. Спасибо Вам за Ваше поздравление к Новому Году. Я чувствую Вашу симпатию. Как бы я мечтал блуждать по заллам Вашего Музея, где я мальчиком «блуждал» и всматривался в картины.
ОР ГРМ. Автограф. Бумага с печатным адресом: «La Colline» / St. Paul de Vence. Опубл.: Письма Пушкареву 1995. С. 87.
228. Шагал – А.А. Каменскому
[20 марта 1969 г. Сен-Поль-де-Ванс]St. Paul France 1969 Многоуважаемый Александр Каменский (простите, что так обращаюсь) Я был очень тронут получить от Вас книгу о худ[ожнике] Сарьяне533. Я Вам очень благодарен за Ваше внимание. Мне приятно видеть Ваш глубокий интерес к Искусству. Буду рад Вас видеть, если Вы будете во Франции. С искренним приветом Марк Шагал.
Собрание семьи Каменских, Москва. Автограф. Датируется по почтовому штемпелю: St. Paul 20–3–69. Опубл.: Каменский 2005. № 1. С. 279.
229. Шагал – А.А. Вергелису
[Весна 1969 г. Сен-Поль-де-Ванс]St. Paul France 1969 Дорогой друг Вергелис! Я получил «Советиш Геймланд» № 2 и фотографии Витебска. Не знаю, как вас благодарить. Несколько дней пролежало ваше письмо на столе, прежде чем я решился взяться за перо, чтобы благодарить вас. Я помню ваш визит ко мне в Сен-Поль534 и ваше большое чувство (если можно так сказать) ко мне. Через вас я могу ощутить отношение ко мне многих евреев на моей родине. Ваши страницы, посвященные мне, написаны действительно (если можно так сказать) по-шагаловски. Вы разорились[79] – сделали цветные клише с моих редких картин, а как мне благодарить вас за фотографии моей бедной улицы в Витебске! Она теперь кажется еще более фантастичной, чем на моих картинах. Но еще дороже для меня любовь людей, сделавших эти снимки. Спасибо вам и им. Хотел бы надеяться, что когда-нибудь мы увидимся. Поверьте, что мой привет к вам – привет самой моей души, хотя и начертанный чернилами. Преданный вам Марк Шагал П.С. Привет от Вавы.
Печатается по: Ангел над крышами 1989. С. 177.
230. Шагал – А.А. Вергелису
13 июня 1969 г. Сен-Поль-де-Ванс13–6–1969 St. Paul de Vence Дорогой друг! Спасибо за присланный № «Геймланд». Я прочитал там ваши шагаловские стихи535. Я ощущаю вашу симпатию – если бы я заслужил ее! А строки про «березку» – как это трогательно. Но мне не к лицу «в мои годы» лить слезы… Слава Богу, рядом со мной Вава – Valentine. Она «затушевывает» своим обаянием всех витебских!
 Обложка журнала «Советиш Геймланд» (1969, № 2) с автографом Марка Шагала на идише
Обложка журнала «Советиш Геймланд» (1969, № 2) с автографом Марка Шагала на идише
А здесь правительство готовит большую выставку (мою) в Grand Palais ко 2 декабря536, и я надеюсь, что моя родина не поскупится и пришлет мои картины на выставку. В Москву, кажется, поедет директор парижского музея537 – просить их, а мне будет казаться, что все жители Витебска и окрестностей смотрят издали на то, что я намалевал за свою жизнь. Читая ваш журнал – я издали вижу, как вы живете и творите. С сердечным приветом Марк Шагал П.С. Спасибо за книгу Шолом-Алейхема, я дам ее читать Ваве.
Печатается по: Ангел над крышами 1989. С. 181.
231. Шагал – Г.Д. Костаки
13 июня 1969 г. Сен-Поль-де-Ванс13–6–1969 St. Paul de Vence Дорогой Костаки. Я был рад получить Ваше письмо (давно не имел писем от Вас.) У нас все по-старому. Я как всегда работаю, а министр538 здесь готовит мою выставку в «Grand Palais»539. Открытье полагает 2 го декабря этого года. Она будет на трех этажах этого Palais, гравюры и литографии предполагается устроить отдельно в Библиотек нацiональ540. Ну, я надеюсь Вас тогда, м[ожет] б[ыть], увидеть здесь. Вы мне пишете о каком-то альбоме с 30 репродук[циями] и с обложкой даже «по еврейски». Cтранно! Не помню, чтоб я это делал. Но теперь такая пора. Бог их знает. Также я не могу высказаться по поводу рисунка будто эпохи Евр[ейского] театра в Москве 1919–1920. Надо это видеть лично. И вот когда, Бог даст, Вы приедете сюда, захватите с собой, если нетрудно (с альбома можете даже не все страницы – привезти.) Я думаю, что директор Музея Modern Парижа – Жан Лемари – он же назначен комиссаром моей выставки в Grand Palais – приедет на несколько дней в Москву, чтоб просить одолжить мои картины для выставки541. М[ожет] б[ыть], Вы его увидите (и, м[ожет] б[ыть], что-либо из Ваших ему дадите.) Кстати, м[ожет] б[ыть], Вы укажете, где картина, котор[ая] был[а] у Гордеев[а], (кажется) котор[ый] умер. Хорошо бы ее одолжить542. Я мечтаю и Lemary будет просить росписи Евр[ейского] театра. Как Вы живете и Ваша семья? Я буду рад Вас увидеть, а пока шлю Вам наши сердечные приветы. Преданный Марк Шагал
Собрание семьи Костаки, Афины. Автограф.
232. Кадиш Луз – Валентине и Марку Шагал
8 августа 1969 г. Дгания8.8.1969 Дорогие Вава и Марк Шагал. Извиняюсь, что так долго не писал. Последние недели кнессета я был очень занят и не хотелось ограничиться оффициальным письмом. Мое сердце было полно от встреч с Вами543, от огромного впечатления произведенного гобеленами, от [здешней] церемонии и Вашей речи, от восторга публики. После роспуска кнессета я был еще занят несколько недель ликвидацией разных дел, а теперь я провожу первую неделю моего отдыха в Дгании544. Кнессет теперь открыта для публики пять дней в неделю. Каждый день проходят от четырех до пяти тысяч посетителей. Многие спрашивают, можно ли купить открытки или альбом. Я вспомнил Ваш совет. Я думаю обратиться к книгоиздательству министерства обороны и предложить им издать альбом Ваших творений что в кнес[сете], а также открытки. Это одно из больших и лучших книгоиздательств в нашей стране. Оно издает все правительственные издания, беллетристику для солдат по дешевым ценам, а также альбомы. В таком случае я должен дать им исключительное право. Я хочу знать Ваше мнение. Будьте здоровы и счастливы. Ваш Кадиш
Частное собрание. Автограф.
233. Шагал – Н.Д. Эфрос
10 октября 1969 г. Сен-Поль-де-Ванс10/10 1969. Дорогая Н. Эфрос Я был тронут получить книжечку А.М.545, и я вспомнил наши годы дружбы. Это было так давно. Я все помню и никогда не забуду его внимания к моей жизни и искусству. Сейчас в Париже готовится большая выставка моя в Grand Palais на 3-х этажах546. Я мечтаю, что с моей родины пошлют картины мои. Открытие 5 декабря с. г. С сердечным приветом Ваш преданный Марк Шагал
P.S. Пишу на адрес «Искусства», я не разобрал хорошо Ваш почерк.
P.S. У Вас, кажется, есть моя картина синяя «Любовники»547. Хорошо бы ее вместе с другими картинами (а также картина «Художник за работой» (1917)548, бывша[я] коллекци[я] Гордеев[а] (говорят она теперь в Третьяковской галлерее), послать на адрес Лувр Париж для этой единственной в жизни выставки. В виду моего возраста мне не придется больше обращаться за посылкой картин. – Как живется Вам? Ваш М.Ш.
ОР РГБ. Ф. 589. 22. 29. Л. 1–2. Автограф. На конверте (л. 2) рукой Шагала адреса: Гр N. Эфрос // с/о Издательство «Искусство» // Цветной бульвар // Москва К-51 // URRS Moscou, ниже: Exh Marc Chagall // St. Paul // (06) France. Почтовый штемпель: Москва К-51 16.10.69.
234. Шагал – в дирекцию Третьяковской галереи
13 октября 1969 г. Париж13/10 1969. Paris Глубокоуважаемая Дирекция. Я позволяю себе обратиться к Вам с этим письмом. Министерство Искусства и Вы часто оказывали мне внимание, одалживая для нек[оторых] выставок мои старые картины. Я не знаю – как мне благодарить. Но вот открывается 5-го декабря с. г. крупнейшая выставка, которая устраивается французским правительством в Grand Palais на 3-х этажах549. Такая выставка делается, конечно, раз в жизни и в виду моего возраста. Я думаю, что Вы обратите Ваше внимание на эту выставку – художника, который всю жизнь остался верен духу своей родины. И Вы примите большое участие в этой выставке, одолжив все, что Вы можете, и, м[ежду] пр[очим], также живопись, которую я сделал в годы 1919 – 20 для театра в Москве. Я, кстати, мог бы тогда иметь возможность лично их исправить, если нужно, и подписать их. Я знаю, что в это время будет гастролировать Московский Большой театр в Opera de Paris550 (где есть мой плафон). Это согласование было б, м[ожет] б[ыть], приятно. Кстати в Grand Palais есть большая залла для музыки и там готовятся концерты во время выставк[и], специально приготовленны[е] нек[оторыми] больш[ими] композиторами. Там можно будет исполнить и музыку нек[оторых] композиторов Советской России. Я хочу надеяться, что Вы сделаете все, что можно, чтоб поднять престиж этой выставк[и], одолжив не откладывая большое количество картин из Москвы, Ленинград[а] и нек[оторых] частных коллекционеров551. Надеюсь встретить Вас, м[ожет] б[ыть], на вернисаже 5-го декабря, чтоб Вас лично благодарить. В виду того, что осталось мало времени (названи[я] картин должны войти в готовящийся каталог) – было б хорошо поскорей уведомить Mr. Chatelain552 – Directeur des Musee de France Palais du Louvre Paris Ie и Jean Leymarie553 Musee National d`art Moderne – 2rue Manutention – комиссар выставки. С благодарностью и с сердечным приветом преданный Марк Шагал
ОР ГТГ. Ф. 4. Ед. хр. 1496. Л. 1–4. Автограф. На конверте (л. 4) рукой Шагала адреса: Дирекция / Третьяковская галлерея / Москва / Moscou / URSS, на обороте: Exp Marc Chagall / 13, quai d. Ausou / Paris (4.e) / France. Почтовые штемпели: Paris 13.X.69 Москва 18.10.69 Опубл.: Брук Я. К истории госетовских панно Марка Шагала // Бюллетень Музея Марка Шагала. Вып. 21. Витебск, 2013. С. 44–45 (в сокр.)
 Москва. Государственная Третьяковская галерея. 1960-е
Москва. Государственная Третьяковская галерея. 1960-е
 Письмо Марка Шагала в Государственную Третьяковскую галерею. Париж, 13 октября 1969. Конверт
Письмо Марка Шагала в Государственную Третьяковскую галерею. Париж, 13 октября 1969. Конверт
 Дарственная надпись на монографии Франца Мейера «Шагал» (Кёльн, 1961): Для / библиотеки / Третьяковской / галереи / с сердечным / приветом / преданный / Марк Шагал / Zürich. 1967
Дарственная надпись на монографии Франца Мейера «Шагал» (Кёльн, 1961): Для / библиотеки / Третьяковской / галереи / с сердечным / приветом / преданный / Марк Шагал / Zürich. 1967
 Дарственная надпись Иды Мейер-Шагал на книге Беллы Шагал «Горящие огни» (Гамбург, 1966): Мама / Белла / была счастлива / и горда, если ея / книга была бы в / Библиотеке. / Ваша Ида Мейер-Шагал
Дарственная надпись Иды Мейер-Шагал на книге Беллы Шагал «Горящие огни» (Гамбург, 1966): Мама / Белла / была счастлива / и горда, если ея / книга была бы в / Библиотеке. / Ваша Ида Мейер-Шагал
235. Н.Д. Эфрос – Шагалу
27 ноября 1969 г. Москва27 ноября 1969 года. Глубокоуважаемый и дорогой Марк Захарович! Ваше письмо пришло, когда меня не было в Москве, и я получила его с большим запозданием. Вот почему только сейчас откликаюсь на него. Большое, большое Вам спасибо за теплые слова об Абраме Марковиче. На днях исполнилось 15 лет, как его нет. Судьба оборвала его жизнь внезапно, как бы на полуслове, не дав ему осуществить многое начатое и задуманное. Несколько его работ, как и «Два века»554, увидело свет за последние 10–15 лет, но уже без него. Очень хотелось бы издать статьи Абрама Марковича о новом русском и советском искусстве. Но успею ли и удастся ли – в мои-то годы – сделать это? В такую книгу, разумеется, должно войти и то, что он писал о Вас. Ваши «Синие любовники»555 бессменно висят у нас уже свыше полувека и все мы их очень любим и расставаться с ними даже на время было бы грустно, но, конечно, я с радостью послала бы картину на Вашу большую выставку, о которой Вы пишете. В последний свой приезд в Москву по аналогичному поводу ко мне обращалась Ида Марковна. Я дала согласие и картина должна была идти в Париж вместе с Вашими работами из Третьяковской галереи, о чем у Иды Марковны была договоренность с галереей. Но оттуда ко мне никто не обратился, за картиной не прислали и она не была отправлена. То же и сейчас. Меня крайне огорчает, что я не могу исполнить Вашу просьбу, но посылать частным образом, не через учреждение, работу Шагала было бы по меньшей мере неосторожно и я не решаюсь это сделать. Вы спрашиваете как я живу. Вокруг меня есть молодежь – есть кого любить и есть кое-какие силы работать еще – значит нельзя роптать. Еще раз спасибо за письмо. Услышать Вас было для меня большой радостью. Всего, всего Вам хорошего. Будьте здоровы и благополучны. Передайте пожалуйста мой поклон и лучшие пожелания Иде Марковне. С искренним приветом. P.S. Простите, что пишу не от руки, но не хочу затруднять Вас своим неразборчивым почерком.
ОР РГБ. Ф. 589. 22. 52. Л. 1–2. Машинопись.
236. Шагал – М.А. Кунину
[Конец 1960-х гг.]Дорогой Кунин Вы можете себе представить как я был тронут, когда мне передали о Вас и что Вы интересуетесь моей судьбой556. Вы помните, как я Вас любил557, Кунин, и я желаю Вам счастья. Я о себе не могу много здесь говорить. Но я целую Вас крепко. Ваш преданный Марк Шагал.
Собрание семьи Куниных. Автограф. Опубл.: Шатских 2001. С. 40; Кунин М.М. Феномен Михаила Куни. М., 2003. С. 136–137 (воспр.).
237. Шагал – А.А. Каменскому
[Январь – февраль 1970 г. Сен-Поль-де-Ванс]1970 Любезный Александр Абрамович (я редко помню имя отчество, но я вижу Ваше письмо). Спасибо сердечное за присылку Вашей книги об Искусстве на родине558. К сожалению, я по-болгарски не читаю. Но читая Ваше письмо, я представляю себе Ваш стиль. Сейчас у меня в Париже в Grand Pale большая выставка559. Из Родины послали 4 картины560. Конечно, я был бы рад, если б [Вы] ее здесь видели. Мои сердечные приветы Марк Шагал.
P.S. Если Вы видели мои картины (кроме музея Третьякова или Рус[ского] музея в Ленинграде, кроме коллекц[ии] Коsтаки, Eренбурга, быв. Гордеев[а] или M-м Eфрос), я буду рад иметь снимки.
Собрание семьи Каменских, Москва. Автограф. Текст написан на автолитографии «Влюбленные», на обороте – литографированное приветствие: «Bonne Année». Опубл.: Kamenski 1988. P. 356 (воспр.); Возвращение мастера 1989. С. 327; Каменский 2005. № 30. С. 284.
238. Шагал – А.М. Нюренбергу
6 марта 1970 г. Сен-Поль-де-Ванс6/III 1970 St. Paul Дорогой Нюренберг. Да, я редко пишу – время, годы проходят. Но я не забываю. Как можно забыть те годы, когда мы были так молоды. Спасибо за присланную книжечку мемуаров с репродукциями картин561. Мне было приятно читать о том времени, (когда я сам тоже был в Витебске и после в Москве). Мне было приятно читать где ты говоришь об этих старых художниках в Одессе – вроде: Костанда… Я вспоминаю как мне всегда любопытно было смотреть на картины старых художников. Это было до Парижа, но и после Парижа на родине я также люби[л] смотреть на картины многих русских художников. Это – что-то прирожденное. Послезавтра закрывается здесь в Grand Palais моя большая выставка. Она переходит часть в музей Копенгаген и после в Royal Academie в Лондон. Я был рад, что с родины послали нек[оторые] мои старые картины для выставки. Я тебе постараюсь послать каталог. Прости, что не сразу послал[80] тебе письмо с благодарностью за твою статью в евре[й]ск[ом] журнале обо мне. Прости. Спасибо. Я часто разсеянный и с годами не становлюсь лучше… Ну, крепко сердечно жму руку. Спасибо, что не забываешь. Пиши иногда и что в области искусства на родине. С приветом. Преданный Марк Шагал.
ОР ГТГ. Ф. 34. Ед. хр. 129. Автограф.
239. Шагал – В.А. Пушкареву
6 марта 1970 г. Сен-Поль-де-ВансSt. Paul 1979 6/III Дорогой Пушкарев Я был так рад Вас видеть у нас562. Спасибо Вам за присланные фото – я Вам посылаю нек[оторые] с моей подписью563. Я также послал Вам каталог выставки в Grand Palais, которая закрывается в воскресение. Спасибо, что послали с родины некоторые картины564. Часть выставки идет теперь в Музей Копенgаgена и после в Royal Akademie Londona. Будем рады, как знать, Вас видеть еще раз у нас. Моя жена и я кланяемся Вам. Сердечно пред[анный] Марк Шагал P.S. Мне кажется, как я Вам как-то сказал, что средь тысяч рисунков в Вашем музее где-то, м[ожет] б[ыть], лежат мои рисунки для детской сказки «черно[е] и белое», кажется там «петушок, козлик и пр…565
ОР ГРМ. Автограф. Опубл.: Письма Пушкареву 1995. С. 87.
240. Шагал – М.З. Грибовой
29 июня 1970 г. Сен-Поль-де-Ванс(06) St. Paul. 29 июнь. 1970 Дорогая Маруся. Спасибо тебе за твои письма. Я был очень рад, что ты посетила наш город Витебск. Удивительно, что сохранился кусок нашего дома. Как ты поживаешь, дорогая, и все твои? У нас все по старому. Я работаю как всегда, и Вава тоже имеет много работы вокруг меня. Не обращайте внимания, если мои письма редки. Вы же знаете, я такой разсеянный – все вокруг работ[а]. Вы видели недавно Иду с ее сыном566. Я жалею, что у нее так сложилась семейная жизнь. Но дети у нее хорошие. Ну, дорогая, я тебя крепко целую. Пиши. Твой любящий брат Марк.
Частное собрание (ранее собр. семьи М.З. Грибовой, Л.) Автограф. Опубл.: Петрова 1999. С. 57 (фрагмент текста), 58 (воспр.).
241. К. Луз – Шагалу
14 декабря 1970 г. Иерусалим14.12.1970 Дорогой друг Марк Шагал. Несколько дней назад я писал Вам о себе. Теперь я пишу о предстоящей Всемирной конференции евреев для выражения солидарности с Советским еврейством. Я вчера возвратился из Тель-Авива, где участвовал в заседании Подготовительной Комиссии. Было рассказано в подробности о десятках тысяч евреев, подавших заявления на выезд в Израиль, о сотнях подписавших свои имена и адреса под коллективными обращениями, требуя разрешения выезда в Израиль, несмотря на антисемитскую травлю. Те немногие, которым удалось приехать сюда, рассказывают, что не только в Прибалтике и Бессарабии, но и в Москве, Ленинграде, Харькове, Минске и т. д. еврейская молодежь, до сих пор отчужденная от еврейства, возвращается духовно к своему народу, обучается в полуподпольных условиях еврейскому языку и истории. Учебники по этим предметам переписываются от руки и берутся нарасхват. Начался небывалый ренессанс еврейства в России, несмотря на репрессии и арест[ы].
 Кадиш Луз
Кадиш Луз
Долг еврейского народа, в частности выходцев из России, сделать все от них зависящее, чтобы весь мир, и в первую очередь советские власти, знали, что мы будем добиваться, чтобы наши братья могли жить как евреи, воспитать детей евреями и объединиться с нами в Израиле. Единогласная просьба всех участников совещания, чтобы Вы согласились участвовать в конференции, которая состоится в Брюсселе 23-го февраля 1971-го года567. В конференции будут участвовать виднейшие представители еврейства в общественной жизни, науки и искусства. Возложили на меня также поручение просить Вас дать этому необычайному явлению – возрождению еврейства в России – графический образ-символ, который будет возноситься во всех общественных событиях, связанных с положением еврейского народа в Советском Союзе. Кому как не Вам увековечить возрождение еврейства России, которому так дорого Ваше имя. Жду Вашего ответа. Преданный Вам Кадыш Луз.
Частное собрание. Автограф. Опубл.: Топоровский 1996. С. 36; Harshav 2004. P. 936–937 (пер. на англ.).
 Марк Шагал. 1960-е
Марк Шагал. 1960-е
242. Шагал – К. Лузу
18 декабря 1970 г. Сен-Поль-де-ВансSt. Paul de Vence 18/XII 1970 Дорогой друг. Я получил Ваши оба письма, как только я вернулся из Парижа. Спасибо. Я всегда так рад получать от Вас весточку. Я хотел бы раньше всего ответить Вам на второе письмо, полученное сегодня – что касается несчастных евреев в России… Но вот беда моя – я там имею несколько сестер с их семьями – живут в Ленинграде, и Вы понимаете, как я должен – увы – всячески воздержаться, чтоб им не «повредить»… Так я «воздержался» почти 50 лет, что делать! Меня уже об этом и тут просили, и я им ответил то же самое. Не надо, конечно, чтоб эти мои слова попали в прессу… Но я надеюсь на силу мирового еврейства. Я как-то мечтаю как-то иметь возможность съездить к Вам. Это дало бы мне немного силы видеть то, что близко моей душе. Я к «гойскому» Новому году желаю Вам и Вашей жене и семье и Израилю всего лучшего и здоровья. Моя жена сердечно кланяется. Ваш преданный Марк Шагал [Приписка (пер. с идиша Я. Топоровского):] Извините, что пишу по-русски. Главное состоит в том, что о такой ужасной проблеме невозможно писать на идиш.
Частное собрание. Автограф. Опубл.: Топоровский 1996. С. 36; Harshav 2004. P. 938 (пер. на англ.).
 А.М. Каменский. 1971. Фото В.И. Костина
А.М. Каменский. 1971. Фото В.И. Костина
243. Шагал – А.А. Каменскому
[30 января 1971 г., Сен-Поль-де-Ванс]Я вспоминаю мою родину и с новым годом преданный Шагал
Собрание семьи Каменских, Москва. Автограф. Текст написан на автолитографии «Автопортрет с петухом». Датируется по почтовому штемпелю: St. Paul 30–1–71. Опубл.: Каменский 2005. № 3. С. 279.
244. Шагал – А.А. Каменскому
12 ноября 1971 г. ПарижParis, 12/11 1971 Любезный Александр Каменский (простите, что так обращаюсь) я получил Ваше письмо. Большое спасибо Вам. Всегда рад получать Ваши письма – недавно получил Вашу книгу568. Благодарен Вам, что желаете писать обо мне. Да, на родине была издана когда-то обо мне книжка Тугендхольда и Эфроса, кажется в 1919–1920 гг.569 Я благодарен Вам за Ваше доброе намерение и шлю Вам мои сердечные приветы. Марк Шагал.
Собрание семьи Каменских, Москва. Автограф. Опубл.: Каменский 2005. № 2. С. 279.
245. Шагал – В.В. Одинокову
[11 мая 1972 г. Сен-Поль-де-Ванс]Дорогой Одиноков. Спасибо за письмецо. Рад всегда получить от Вас весточку. Ну, теперь Тинг570 уходит, и я не могу себе представить, как будет дальше у Вас. Но вы очень толковый человек – Вы будете чувствовать, как Вам поступить. Правда, Вы «завалены» работой. Это не шутка. Тут у нас «двигается» музей Ницца, но как трудно с этим архитектором571. Если Вы будете опять здесь на юге, мы, конечно, будем рады. Вы, кажется, любите здешние местечки и рисуете, и я «критикую». Как мои бедные роспись у Вас572? И будут ли давать когда-ниб[удь] «Флют»573. Дорогой мой, обнимаю Вас и моя жена. Ваш преданный Шагал. Сейчас еще выставка моя у Матисса в Н[ью-]Й[орке]574. Сердечный привет вокруг Вас.
Частное собрание (ранее собр. Э.А. Штейна), США. Автограф. Опубл.: Письма Одинокову 1998. С. 59. Письмо третье.
 Владимир Одиноков и Марк Шагал. 1967
Владимир Одиноков и Марк Шагал. 1967
246. Шагал – Р.А. Гилиловой
5 июля 1972 г. Сен-Поль-де-Ванс5–7–1972 Дорогая Розачка Я не знаю, как тебя благодарить за твое сердечное внимание. Получил и звуковое письмо и прочее. Спасибо сердечное. Вы же знаете, как я Вас люблю всех и никогда Вас не забываю и Вавочка тоже. Не обращайте внимания, что я так редко пишу. Я просто всегда разсеян – такой у меня характер, и время уходит, вот я уже «старый» по паспорту – но без той «солидности», как полагается этому возрасту. Слава Богу, близ меня Вавочка – она также думает о Вас. Ну, целую Вас крепко. Пиши когда-ниб[удь] подробно, как все другие родные живут. Целую крепко. Ваш дядя Марк. и Вава.
Частное собрание (ранее собр. семьи Гилиловых, Л.). Автограф. Бумага с печатным адресом: «Les Collinеs» / St Paul de Vence. Печатается по фотовоспроизведению из архива А.А. Каменского (Музей Марка Шагала в Витебске).
247. Шагал – Ю. Стукаличу
[1972 г. Сен-Поль-де-Ванс]Многоуважаемый г. Юрий Стукалич! М.Е. Вейнбаум мне прислал Ваше такое трогательное письмо о моем бедном предке575. Я читал и перечитывал с большим волнением. Я чувствую Ваш глубокий интерес. Это очень большая потеря, ибо я как-то видел снимки в люкс-журнале еврейском (издание в Берлине в годы 1923–1924. Кажется, м-м Вишнецер редакторша)576 и был удивлен. Очень уж похож… на меня. Спасибо Вам за Ваше внимание ко мне, а Ваша преданность к нашей бывшей родине сердечно трогает577. С искренним уважением Марк Шагал.
Печатается по: Пранчак Л. «Ваша преданность к нашей бывшей родине сердечно трогает…» Марк Шагал і Юрка Віцьбіч // Пранчак Л. Беларуская Амерыка. Мінск, 1994. С. 258.
248. Шагал – Г.Д. Костаки
[Май(?) 1973 г. Сен-Поль-де-Ванс]St. Paul 1973 Дорогой Кастаки. Спасибо за письмо Ваше. [одно слово нрзб.] был рад. Хорошо вспоминаю Ваш визит с Вашей семьей ко мне. Вы как всегда бодры и любите искусство. Что касается рисунка, фото [которого] Вы мне прислали, это фальшивая вещь. К сожалению, это так часто кем-то фабрикуется. Не можете ли Вы это прекратить. Что касается моей поездки578, я надеюсь, что я смогу эту поездку сделать… В ближайшее время 7 июля открывается здесь музей в Nice579 – много хлопот и волнений. И я уже не такой«молодой». – Сердечно кланяюсь Вашей жене и семье. Привет от моей жены. Ваш преданный Марк Шагал
Собрание семьи Костаки, Афины. Автограф.
 Юрий Стукалич
Юрий Стукалич
 В.И. Малышев
В.И. Малышев
 Ю.А. Молок
Ю.А. Молок
 Б.Е. Галанов
Б.Е. Галанов
249. Шагал – А.А. Каменскому
[11 июля 1973 г. Сен-Поль-де-Ванс]1973. St. Paul Дорогой А. Каменский простите, что так обращаюсь (у меня память плохая). Спасибо Вам за Ваши хлопоты, получили большую Вашу статью580. И я вполне с ней согласен – спасибо. Вы сами лучше пишете, чем interview; и с чувством – мне было так приятно с Вами лично познакомиться, и я чувствую Ваш пыл к истории Иск[усства], а как иначе. Я был счастлив быть у себя на родине – видеть так много хороших людей, и пейзажи меня очаровали. Как жаль, что я не мог сейчас же на месте их рисовать. Еще раз Вам спасибо за Вашу симпатию и любовь ко мне. Привет моей жены. Преданный Марк Шагал.
Собрание семьи Каменских, Москва. Автограф. Датируется по почтовому штемпелю: St. Paul 11–7–73 Опубл.: Kamenski 1988. Р. 366 (пер. на англ.); Каменский 2005. № 4. С. 279.
250. Шагал – В.В. Одинокову
[Июль 1973 г. Сен-Поль-де-Ванс]Cт. Паул 1973. Дорогой Одиноков. Я был так рад получить Вашу телеграмму к открытию музея581. Но я был грустен все же, что Вас не было тут же. Да, говорят, что архитектура все же гармонирует. Но мы будем рады, когда Вы будете здесь. Думаете ли Вы приехать во Францию? И что вообще у Вас? Много ли работаете Вы и над чем? И мечтаете ли Вы работать для себя в Вашем доме? Я вспоминаю всегда с удовольствием, когда я был около Вас и вместе с Вами работали. И я надеюсь, что Вы с Вашим дружеским глазом и душой наблюдаете за моей стенной росписью и также за декорациями и костюмами Волшебной флейты, если ее дают еще582. Напишите мне подробнее о себе и обо всем. Как дирекция? Теперь? И что с Вами. Как Ваши сотрудники? Дорогой мой, я целую Вас и Вава тоже сердечно кланяется. Ваш преданный Марк Шагал.
Частное собрание (ранее собр. Э.А. Штейна), США. Автограф. Опубл.: Письма Одинокову 1998. С. 59. Письмо четвертое.
251. Шагал – В.В. Одинокову
[5 октября 1973 г. Сен-Поль-де-Ванс]Дорогой Одиноков, спасибо за письмо. Как Вы поживаете. Я знаю, что у Вас много работ. И когда мне хотелось посмотреть в «моем» театре, как все идет, иногда я жалею, что я ничего не делал еще для опера, например, «Орфей»583, как я мечтал, но теперь уже поздно. Ну, как шла наша «Флейта»? Вы, наверно, исправили все, что надо. Я знаю, какой Вы любовный друг. Отчего мне посылают программу и Вы наверно смотрите за 2 росписями – картины и что Вы делаете сами? Будете ли Вы во Фр[анции]? Вы же любите здешние углы и заодно посмотрите музей584. Вскоре у Матисса будет осенью моя выставка585, и я «боюсь». Мне кажется американцы, т. е. «Критика», меня, м[ожет] б[ыть], «кол[е]т». Бог с ними. Как Вам живется. Хорош ли новый директор? М[ожет] б[ыть], переведете в опера Париж «Флейту»? Фантазия! Здесь новый директор – Либерман. Старается в Париже делать на высоте. Привет сердечный от Вавы. Преданный Шагал. Дает ли Баланчин «Жар-птицу»586?
Частное собрание (ранее собр. Э.А. Штейна), США. Автограф. Опубл.: Письма Одинокову 1998. С. 59. Письмо пятое.
252. Шагал – А.А. Каменскому
[Вторая половина 1973 г. Сен-Поль-де-Ванс]Любезный Александр Каменский Я рад был Вас видеть и говорить. Спасибо за присланные письма и Ваше писание. Теперь у меня к Вам большая душевная просьба. Я тогда очень много разговорился, но я Вас прошу душевно не писать обо мне в виде «interview»587. Это не мой характер или я должен заниматься этим долгие дни. Кусок, как Вы видите, начало я позволил себе с Вашего согласия кое-что исправить «по моему», но дальше тем дальше это уже не «мой дух». Поэтому я Вас сердечно прошу этот первый кусочек «interview» можете, м[ожет] б[ыть], взять. Но все же я Вас прошу в общем писать как статью Вашу, но без моих «ответов» и вопросов. Писатель имеет право писать как он чувствует, но ради бога, чтоб я сам не отвечал и не говорил… Я Вас прошу, значит, дать моим ответам очень маленькое место, если Вам нужно это (с самого начала) и потом, если хотите, Вы определенно говорите сами, что Вы находите как историк нужным сказать, но без вопросов и без ответов. Вы это сделаете, я Вас прошу, для моего спокойствия и в положен[ии?] во Франции, особенно начиная со стр[аницы] № 9 и дальше до конца. Мне кажется хорошо взять, м[ожет] б[ыть], что-то с самого начала, а потом Вы сами как историк пишите Ваши мнения, но без моих ответов. Я боюсь и не люблю «interview». Я Вас прошу, если хотите, не беседа и не interview, а просто Шагал в Москве его выставка в Третьяковской галер[ее]. Вы сами пишите статью, все от Вашего имени. То, что Вы чувствуете в связи с моим приездом в Москву и выставке в Третьяковской Галере[е], без вопросов и ответов. По многим соображениям я не могу и не должен дать в настоящее время «interview» или «беседы». Я Вас усердно прошу об этом. Я в редких случаях могу иногда письменно ответить на заданные мне письменно вопросы и тогда отвечать за их точную редакцию. М[ожет] б[ыть], в будущем я Вам сумею так ответить на Ваши письменные вопросы, но не сейчас.
Собрание семьи Каменских, Москва. Автограф. Опубл.: Каменский М.А. Александр Каменский пишет о Шагале (к 90-летию Александра Абрамовича Каменского) // Шагал и Петербург 2013. С. 180–181.
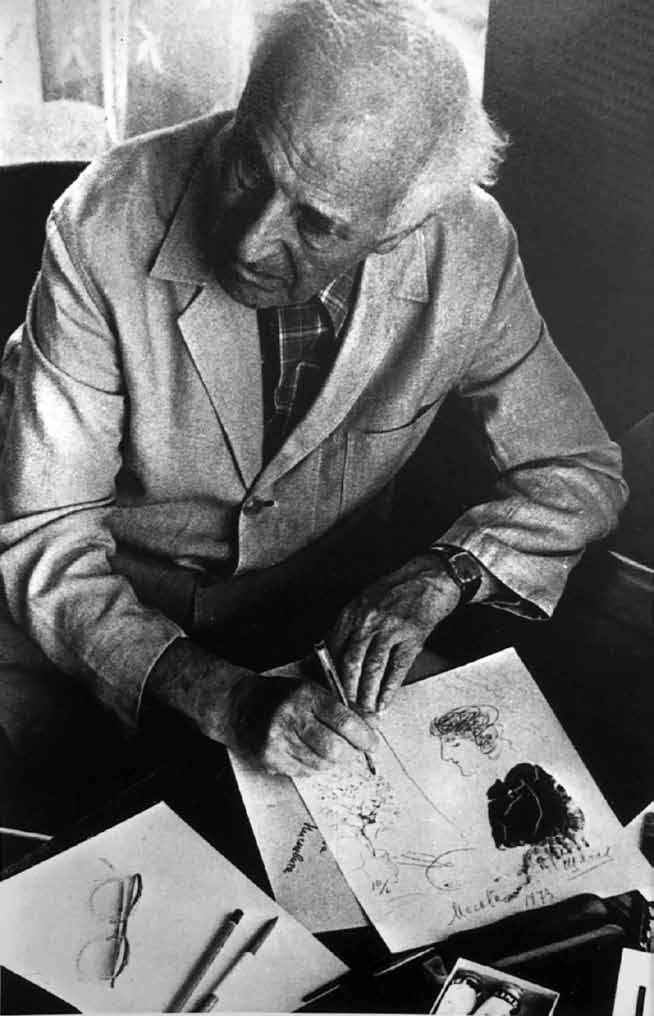 Марк Шагал рисует «Лирический автопортрет». Москва, 1973
Марк Шагал рисует «Лирический автопортрет». Москва, 1973
253. Шагал – А.А. Каменскому
[10 января 1974 г. Сен-Поль-де-Ванс]1974 St. Paul Любезный Каменский Я так рад получить от Вас Ваши письма и теперь статью из Румынии588. Спасибо – лишь бы я чувствовал, что заслуживаю все это внимание. Но я чувствую Вашу близость и я успокаиваюсь немного. Я никогда не забуду мое пребывание в Москве. Как будто – я никогда оттуда не уезжал. Получил также журнал со статьей Молока589. Передайте ему спасибо. Я также напишу. Да, здесь кажется готовится большой журнал – книга обо мне и я им предложу, когда до этого дойдет, взять Вашу статью (но надо на французский перевод)590. Я еще увижу, когда они придут ко мне. Сердечно преданный Марк Шагал.
Собрание семьи Каменских, Москва. Автограф. Датируется по почтовому штемпелю: S.Paul 10–1—1974. Опубл.: Каменский 2005. № 5 (датировано: 1974). С. 279.
254. Шагал – Ю.А. Молоку
10 января 1974 г. Сен-Поль-де-ВансSt.Paul 10/1 1974 Любезный Ю.А. Молок Как мило с Вашей стороны послать мне журнал с Вашей сердечной статьей обо мне591. Спасибо. Я приехал в свою страну после 50 лет, но я все равно душевно там каждый день. Спасибо за Ваше внимание и чуткость Вашу. С сердечным приветом преданный Марк Шагал
Собрание семьи наследников Ю.А. Молока, Москва. Автограф. Опубл.: Письма Аркину 2018. С. 76 (воспр.)
255. Шагал – В.А. Пушкареву
[24 апреля 1974 г. Сен-Поль-де-Ванс]24/4 1974 Дорогой Пушкарев Я был рад получить от Вас эти фото с моих старых рисунков, хранящихся в Русском музее592. – Музей, кажется, единственный, который имеет столько моих старых рисунков. Спасибо Вам большое. Мы, конечно, будем рады видеть Вас у нас, когда Вы будете во Франции. Всего хорошего Вам моя жена кланяется. Марк Шагал
ОР ГРМ. Автограф. Бумага с печатным адресом: «La Colline» / St. Paul de Vence. Опубл.: Письма Пушкареву 1995. С. 89.
256. Шагал – Р.А. Гилиловой
7 июня 1974 г. Сен-Поль-де-Ванс7/6 1974 Дорогая Розачка. Спасибо за твои письма, которые ты мне посылаешь. Но Вы не безпокойтесь, если я редко пишу. Такая уже у меня натура. Много работаю, но также Вава. Как Вы все поживаете? Мне кажется, я недавно Вас видел с таким удовольствием, хоть мало времени – остался. Сердечный привет всем. Целую Вас Ваш любящий дядя Марк. [Приписка рукой В.Г. Шагал: ] Целую крепко Вава.
Частное собрание (ранее собр. семьи Гилиловых, Л.). Автограф. Печатается по фотовоспроизведению из архива А.А. Каменского (Музей Марка Шагала в Витебске).
257. Шагал – Б.Е. Галанову
[Июль-август 1974 г. Сен-Поль-де-Ванс]Уважаемый Борис Ефимович. Я был так рад получить от Вас газету литературную с Вашей теплой статьей обо мне593. Спасибо сердечное Вам и редакции. Моя жена сердечно кланяется. М[ожет] б[ыть], еще увидимся594. С искренним приветом. Марк Шагал. St. Paul 1974
РГАЛИ. Ф. 3240. Оп. 1. Ед. хр. 72. Л. 1–2. Автограф (ксерокопия). Текст написан на оборотной стороне почтовой открытки с фотографическим видом Национального музея «Библейское послание Марка Шагала» в Ницце (южная терраса). В конверт вложена также цветная открытка с репродукцией картины Шагала «Зима». На конверте (л. 2) рукой Шагала адрес: Гр. Борис Галанов / Редакция «Литературная газета» / 30 Цветной бульвар Москва / Moscou / URSS.
258. В.И. Малышев – Шагалу
6 августа 1974 г. Ленинград6/VIII – 74 г. Глубокоуважаемый Марк Захарович! Обращаюсь к Вам с большой просьбой. Я собираю материалы по иконографии протопопа Аввакума, часть их уже опубликовал, а часть готовлю к печати. Несколько лет назад кто-то из моих зарубежных знакомых, то ли Сергей Михайлович Лифарь, то ли ныне покойный академик Георгий Владимирович Вернадский, сообщил мне, что Вы иллюстрировали поэму Абрама Лесина «Иоанн Креститель и протопоп Аввакум»595. Я просмотрел все доступные мне издания Лесина, но рисунков Ваших Аввакума не нашел. А мне очень хотелось бы иметь в каталоге имя такого большого художника как Вы. Верны ли эти сведения, а если да, то где, когда и в каком издании были опубликованы эти рисунки? Можно ли получить с них фотографии? Буду Вам очень и очень благодарен за ответ. Посылаю Вам в этом конверте два буклета нашего Пушкинского дома. Желаю Вам здоровья и всего хорошего. Простите за беспокойство. С истинным почтением В.И. Малышев, доктор филологических наук, заслуженный деятель науки РСФСР. [Внизу обратный адрес: ] Малышев Владимир Иванович. 119164 Ленинград, В–164. наб. Макарова, 4. Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР.
Печатается по машинописной копии.
259. Шагал – В.А. Пушкареву
18 августа 1974 г. Сен-Поль-де-ВансSt. Paul 18/8 1974 Дорогой Пушкарев Я был тронут Вашим письмом и присылкой раньше фото моих старых рисунков (кажется, редкие для эпохи)596 и теперь фото нашего визита в Вашем (нашем) Русском музее597, где когда-то я так часто блуждал, смотрел, изучал – спасибо Вам. Я чувствую Ваш интерес ко мне. И я был счастлив моим визитом на родине. Шлю Вам сердечные приветы и также моя жена и благодарность. Марк Шагал
ОР ГРМ. Автограф. Опубл.: Письма Пушкареву 1995. С. 89.
260. Шагал – А.А. Каменскому
19 декабря 1974 г. Сен-Поль-де-Ванс1974 St. Paul Любезный Каменский (простите, что так «просто» к Вам обращаюсь) Уж давно хотел Вам написать, я же так хорошо помню нашу встречу с Вами в Москве. И вот уже давно получил Вашу книгу «вернисажи»598, которая дает мне историю искусства на родине за последние годы. Хорошо Вас читать, так как Вы переживаете все. Я рад, что Вас напечатали. И вот наступает новый год. Пожелаю Вам всего лучшего и всем нам. С сердечным приветом Марк Шагал. Привет моей жены 19 дек[абря] 1974
Собрание семьи Каменских, Москва. Автограф. Опубл.: Каменский 2005. № 6. С. 279–280.
261. Шагал – А.А. Каменскому
[24 марта 1975 г. Сен-Поль-де-Ванс]1975 St. Paul Дорогой Каменский как мило с Вашей стороны – не забываете меня. Вашу статью я получил599, хотя не понимаю эстонский язык, но я все равно чувствую Ваше сердечное отношение ко мне. Я уже Вам писал раньше, что я получил Вашу книгу об искусстве на родине600. Это хорошо – у Вас много есть, что сказать. С сердечным приветом Марк Шагал. Привет жены.
Собрание семьи Каменских, Москва. Автограф. Датируется по почтовому штемпелю: Vence 24–3—1975. Опубл.: Каменский 2005. № 7. С. 280.
262. Шагал – А.А. Каменскому
[9 июня 1975 г. Сен-Поль-де-Ванс]St. Paul de Vence. 1975 Дорогой Каменский Я был рад получить Ваше письмо. Я так хорошо вспоминаю нашу встречу, когда я был недавно в Москве и Ваш интерес к моей жизни и искусству меня трогают. Спасибо за интерес к «подлинности» моих картин. Да, очень много фальшивых картин циркулирует. И фото, которое Вы мне послали, ничего общего со мной не имеет601. Надеюсь, что Вы позаботитесь дать знать об этом 602. Я постараюсь Вам послать скоро книгу обо мне, издание Maeght. Автор Andre Pieyre de Mandiargue603. Я стараюсь, как можно больше работать. Как Вы? Я был очень рад получить Вашу книгу604. Хорошо – у Вас есть, что сказать и всегда с чувством. Моя жена Вам кланяется. Вам преданный Марк Шагал.
Собрание семьи Каменских, Москва. Автограф. Датируется по почтовому штемпелю: St. Paul 9–6–75. Опубл.: Каменский 2005. № 8. С. 280.
263. Шагал – А.А. Каменскому
26 июня 1975 г. Сен-Поль-де-ВансSt. Paul de Vence 26/6 1975 Дорогой Каменский Спасибо за Ваше письмо со статьей605. Я очень признателен Вам за Ваше сердечное отношение ко мне, к моему искусству. Раз это написано с любовью – уже хорошо. И, как я сказал, у Вас много есть, что сказать. Говорите себе, как Ваше чувство Вам подсказывает. Я постараюсь Вам послать книгу обо мне, издания Maeght в Париже606. Вы, может быть, видали книгу изд[анную] в Германии из[дательством] Дюмон (Кельн)607. Спасибо Вам еще раз. Моя жена Вам кланяется. С сердечным приветом Марк Шагал.
Собрание семьи Каменских, Москва. Автограф. Опубл.: Каменский 2005. № 9. С. 280.
264. Шагал – В.В. Одинокову
[24 октября 1975 г. Сен-Поль-де-Ванс]Дорогой Одиноков. Как Вы живете? Давно не имел весточки от Вас. Работаете ли Вы еще в опера? Как живете? Напишите. Я Вас так помню хорошо и что нового. Как Ваша работа. У нас все по-старому (только что стали все старше и капризней) – но продолжаю как-нибудь работать и музей здесь продолжается608. Надеюсь, Вы как-нибудь приедете сюда и сообщите мне также в каком виде мои 2 картины в фойе театра609? Милый Одиноков, пишите. Моя жена – эта прекрасная женщина Вам кланяется. Будьте здоровы. Ваш преданный Шагал. Что в опера? Дают ли когда-нибудь «Флют» Моцарта? И что Вы делаете?
Частное собрание (ранее собр. Э.А. Штейна), США. Автограф. Опубл.: Письма Одинокову 1998. С. 59. Письмо шестое.
265. Шагал – М.З. Грибовой
1975 г. Сен-Поль-де-ВансSt. Paul. 1975 Дорогая Маруся. Я всегда рад получать письма от тебя и других… Но как всегда пишу – не огорчайтесь, если я сам редко пишу. Такой уж у меня характер – разсеянный. Но, слава богу, близ меня моя дорогая Вава, которая имеет так много работ и хлопот. Мне сообщили о Лизе610 – такова судьба – Я счастлив, что я успел быть среди Вас недавно – я целую Вас всех со всей моей любовью и преданностью к Вам – передай дочке Лизы мой поцелуй и ее сыну611. Я как всегда стараюсь работать. Я надеюсь, что Ида Вам иногда пишет. Она разведена со своим мужем, но у нее хорошие дети. Крепко целую Вас всех Ваш брат Марк
Частное собрание (ранее собр. семьи М.З. Грибовой, Л.). Автограф. На конверте печатный адрес: «La Colline» / St. Paul de Vence.
266. А.С. Шатских – Шагалу
25 ноября 1976 г. МоскваГлубокоуважаемый Марк Захарович! К Вам обращается московский искусствовед Александра Шатских. Ваше творчество вот уже несколько лет составляет предмет моего глубокого поклонения и изучения. Диплом, защищенный мной на кафедре истории искусства Московского Государственного университета, был посвящен Вашим иллюстрациям к роману «Мертвые души» Н.В. Гоголя. Я имела счастье подробно и обстоятельно изучить этот цикл офортов, подаренный Вами в 1927 году Государственной Третьяковской галерее. В ходе моей работы над материалами, связанными с Вашей биографией русского периода, мне довелось беседовать с людьми, знающими Вас по Витебску, по Вашему преподаванию в Витебском Народном художественном училище. В частности, я общалась с Еленой Аркадьевной Кабищер (Леночкой Кабищер), входившей в состав ученического комитета школы (впоследствии она стала женой Давида Ароновича Якерсона, преподававшего у Вас скульптуру). У нее хранятся эскизы декоративных панно Д. Якерсона для украшения города к празднествам, где Вы как комиссар искусств в Витебске ставили свою визу «Утверждаю Марк Шагал» и печать612. Елена Аркадьевна много рассказывала мне о Вашей деятельности в школе и городе Витебске. В архиве Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве хранится сокровище – целый ряд писем, написанных Вами искусствоведу Павлу Давыдовичу Эттингеру в 1920– 1940-е годы. Они представляют большой интерес для всех, кому дорого Ваше творчество. Музей очень бы хотел опубликовать эти письма в своем периодическом сборнике. Мне было предложено начать работу по публикации и комментированию этих посланий. В связи с этим позволю себе обратиться к Вам с большой просьбой разрешить публикацию Ваших писем к Павлу Давыдовичу Эттингеру. Если у Вас не будет возражений по поводу публикации писем, то позволю себе еще один вопрос к Вам – не будете ли Вы так добры сообщить о некоторых лицах, упоминаемых Вами в одном из писем: речь идет о «тете Лии Бернштейн и дяде Осипе», родственниках Мишеля Раппапорта. Глубокоуважаемый Марк Захарович, я очень верю, что когда-нибудь смогу выразить все мои чувства и мысли в крупной работе, посвященной Вашему творчеству. Хочется еще раз сказать Вам, что Вас знают, изучают и очень любят на родине, и надеются, что еще много лет Вы будете жить и работать во славу искусства. Поздравляю Вас и Вашу семью с приближающимся Новым годом, пусть он будет наполнен для Вас радостью творчества и хорошим самочувствием. С искренним почитанием Александра Шатских 25 ноября 1976 года, Москва.
Частное собрание. Машинописная копия.
267. Шагал – А.А. Каменскому
[20 декабря 1976 г. Сен-Поль-де-Ванс]St. Paul Дорогой Каменский Спасибо за Ваше милое письмо. Вы всегда мне пишете милые, добрые письма. И я извиняюсь, что редко пишу вообще. Да, возраст мой меня, пожалуй, «беспокоит», что делать, я всегда работаю, чтобы забыть и боль «некоторую» в теле и проч. Вы пишете о моей выставке в Берлине613, она эта выставка была переведена из Дрездена в музей, где ее особенно хорошо устроил М. Шмид614, директор. А тут в Париже наверно опять […] из-за моего «возраста» собирают[ся] устроить мою выставку в Лувре615. Это уже для меня слишком… И я впадаю в грусть и также титулы, которые мне прислали на днях официально616. Ну, хватит, будьте здоровы как всегда с сердечным приветом Марк Шагал.
Собрание семьи Каменских, Москва. Автограф. Датируется по почтовому штемпелю: St. Paul 20–12–76. В конверт вложена также открытка с изображением плафона ГрандОпера; рукой Шагала надпись: Для Каменского. С нов[ым] годом. Шагал. 1976–1977. Опубл.: Каменский 2005. № 10 (не датировано). С. 280.
268. Шагал – М.З. Грибовой
1976 г. Сен-Поль-де-ВансSt. Paul de Vence 1976 Моя дорогая Маруся. Я всегда рад получать твои письма и мне сообщаешь, как живут наши родные. Увы, многие отошли. Я был счастлив Вас видеть всех, когда я был в Ленинграде с Вавой. Ты у меня «умница» и справедливая. Я это помню – моя дорогая. Если я редко пишу, не безпокойтесь. Я и Вава не забываем Вас, а просто я всегда немного «разсеян» и работаю то и се. Но я рад, когда Вы и Розачка пишите. У нас все по-старому. Вава имеет много хлопот. В Японии скоро откроется в музеях там моя большая выставка617. Когда я получу каталоги, я постараюсь Вам послать. Ты же знаешь, наверное, Ида развелась со своим мужем. Дети у нее хорошие. Я целую Вас всех. И всегда думаю о Вас. Целую крепко Вас. Преданный Марк.
Частное собрание (ранее собр. семьи М.З. Грибовой, Л.) Автограф. Опубл.: Петрова 1999. С. 57.
 Л.З. Шуб и М.З. Грибова. Ленинград, 1973
Л.З. Шуб и М.З. Грибова. Ленинград, 1973
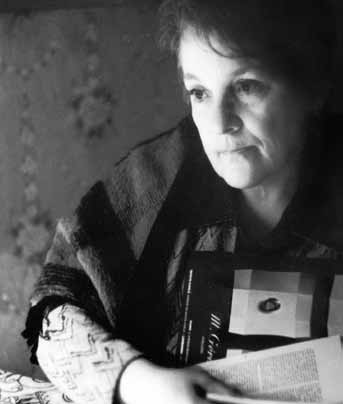 Р.А. Гилилова
Р.А. Гилилова
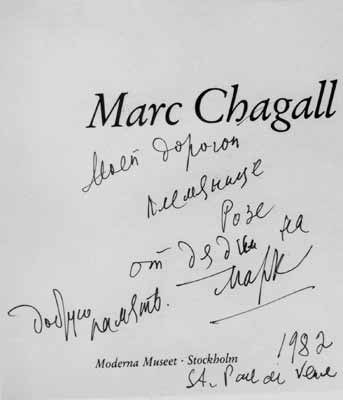 Дарственная надпись на каталоге выставки «Марк Шагал» (Стокгольм, 1982): Моей дорогой / племяннице / Розе / от дяди / на добрую память / Марк / 1982 / St. Paul de Vence
Дарственная надпись на каталоге выставки «Марк Шагал» (Стокгольм, 1982): Моей дорогой / племяннице / Розе / от дяди / на добрую память / Марк / 1982 / St. Paul de Vence
269. Шагал – А.А. Каменскому
[21 февраля 1977 г. Сен-Поль-де-Ванс]St. Paul de Vence 1977 Дорогой Каменский Спасибо за книгу: худож[ественный] календарь с Вашей статьей обо мне618. Интересная книга много сведений, котор[ых] я не знал – спасибо. Здесь готовится выставка619. С сердечным приветом Пред[анный] Марк Шагал.
Собрание семьи Каменских, Москва. Автограф. Датируется по почтовому штемпелю: St. Paul 21–2–77. Текст написан на открытке с репродукцией витража Шагала в здании ООН в Нью-Йорке. Опубл.: Каменский 2005. № 11. С. 280–281.
270. Шагал – А.С. Шатских
8 марта 1977 г. Сен-Поль-де-Ванс«La Colline» St. Paul de Vence 8/3 1977 Любезная Александра Шатских Ваше письмо получил620. Спасибо за Ваше внимание. Я помню, когда я был в Москве, мне показали некоторые мои письма. Я был удивлен… Этот милый человек Эт[т]ингер – я его почитал. Вы можете их печатать, если Вам это интересно. Вы спрашиваете о Лии Осиповне Бернштейн – она была тетя первого мужа моей дочери – Иды, то есть сестра отца ее мужа. А сам муж Лии Осиповны был известный чемпион шахматной игры621. Я буду рад, если смогу получить копии моих писем и позже Ваш журнал. С сердечным приветом Марк Шагал
Частное собрание. Машинописная копия
271. Шагал – И.И. Эренбург
30 июля 1977 г. Сен-Поль-де-Ванс30.7.1977 Милая Ирина, сердечное спасибо Вам за теплое поздравление ко дню моего рождения. Шлю Вам мой искренний привет и лучшие пожелания. Марк Шагал
Печатается по: Письма Эренбургу 2002. С. 415.
272. И.В. Щеголева-Альтман – Шагалу
1 августа 1977 г. Ленинград1 VIII 77. Глубокоуважаемый Марк Захарович! Когда скончался мой муж Натан Альтман, Вы через журнал «Советская родина» в 1971 году выразили сочувствие по этому поводу622, за что я Вам очень благодарна и была этим глубоко тронута.
 И.В. Щеголева-Альтман
И.В. Щеголева-Альтман
 И.И. Эренбург
И.И. Эренбург
 С.М. Гершов
С.М. Гершов
 Н.Д. Эфрос
Н.Д. Эфрос
Теперь, в свою очередь, мне от всего сердца хочется поздравить Вас с девяностолетием и всеми высокими наградами и почестями, воздаваемыми Вам как величайшему художнику современности. Я была бы счастлива пожать Вашу руку, когда Вы были у нас в Ленинграде, но об этом я узнала, когда Вы, побывав в Русском музее, уехали обратно во Францию. На наших выставках Шагал и Альтман обычно экспонируются рядом, и это мне доставляет большую радость. Я прочитала Вашу автобиографию до 22-ого года. Она так прекрасна, так талантливо написана, что я не раз ее перечитывала и каждый раз с восхищением. Когда Вы были у нас в Советском Союзе, сколько мне известно, Вы не побывали в Витебске, а жаль! Там, наверное, все-таки хоть что-то сохранилось на окраинах от города Вашего детства и юности, ну хотя бы воздух, деревья и не застроенная земля… Я ездила недавно в Винницу на родину Альтмана. Там тоже современное строительство вытеснило старую Винницу, но даже война и созидательный мир не изменил[и] воздуха, зеленых берегов Буга, а воображение мое наполнило улицы, переулки и базар тем давно прошедшим, когда здесь жил Натан. Скоро должна состояться в Москве персональная выставка Альтмана623. Как только выйдет ее каталог, если позволите, я его Вам пришлю. От всей души желаю Вам еще долго быть здоровым и счастливым от своего творчества. С уважением Ирина Валентиновна Щеголева-Альтман.
ОР РНБ. Ф. 1126. Оп. 2. Ед. хр. 84. Автограф, черновик.
273. Шагал – А.А. Каменскому
[4 августа 1977 г. Сен-Поль-де-Ванс]St. Paul 1977 Дорогой Каменский Я не знаю, как Вас благодарить за Ваше внимание ко дню моего рождения. Я получил раньше Ваше стихотворение обо мне624 и на днях статью большую в журнале «Heimland»625, очень внимательно и душевно написано, что очень редко. Вы чувствуете сюжет и у Вас есть, что сказать. Несмотря на мои годы я все же еще полн сомнений и надо сказать, что только далекое будущее может сказать свое слово – но это не грустно. Такова жизнь. С сердечным приветом Марк Шагал.
Собрание семьи Каменских, Москва. Автограф. Датируется по почтовому штемпелю: St. Paul 4–8–77. Опубл.: Каменский 2005. № 12. С. 281.
274. Шагал – В.В. Одинокову
[24 октября 1977 г. Сен-Поль-де-Ванс]Дорогой Одиноков! Спасибо за письмо Ваше. Я всегда рад получить от Вас весточку. Вспоминая прошлое, где мы с Вами работали вместе. Ну, как Вы? Вы думаете приехать во Францию? Буду рад Вас видеть тогда Я тот же, но не так молод и проворен как раньше – далеко. Я с Вами любил «болтать». Вы любите искусство, буду рад увидеть что делаете. Искусство – трудная вещь. Бываете ли в Н[ью-]Й[орке]626, видели ли Вы мои живопись там627. Еще цело? Кажется, они дали «Флейту» еще раз, говорят, ничего себе было. – Пишите и будьте здоровы С сердечным приветом от нас Шагал
Частное собрание (ранее собр. Э.А. Штейна), США. Автограф. Опубл.: Письма Одинокову 1998. С. 59. Письмо седьмое.
275. Шагал – А.А. Каменскому
25 декабря 1977 г. Сен-Поль-де-Ванс25/XII 977 Дорогой Каменский В свое время я получил от Вас книжечку словарь иск[усства]628 и другие письма, я хотел Вас благодарить сердечно за это. Как Вы поживаете? Я становлюсь «старше» и здесь в Лувре устроили мою выставку629. Жаль, что Вы не видели. Я буду рад получить от Вас словечко. Шлю Вам мои сердечные приветы к Новому году. Марк Шагал.
Собрание семьи Каменских, Москва. Автограф. Опубл.: Каменский 2005. № 13. С. 281.
276. Шагал – А.А. Каменскому
27 июня 1979 г. Сен-Поль-де-Ванс27 juin 1979 Дорогой Каменский Спасибо за Ваши письма, в свое время получил каталог Альтмана630. Мне всегда приятно читать Вас. Я продолжаю работать, недавно была моя выставка в Лувре в Париже и музее Piti в Флоренции631. Я думаю Вы получили каталог. Спасибо Вам за Ваше внимание ко мне. Шлю сердечный привет. Моя жена тоже кланяется. Преданный Марк Шагал.
Собрание семьи Каменских, Москва. Автограф. Опубл.: Каменский 2005. № 14. С. 281.
277. Шагал – С.М. Гершову
4 августа 1979 г. Сен-Поль-де-Ванс4/8 1979 Дорогой Гершов Я был рад получить от Вас письмецо и пакет Ваших фото. Вы были в школе Витебска, мне трудно это вспомнить. Вы были такой мо[ло]дой. Как только я получил Ваше письмо и просил найти каталог моей выставки в Лувре или во Флоренции632, чтоб Вам послать, как Вы просили. Надеюсь – найдут какой-ниб[удь] ехземпляр, чтоб Вам послать. Мне приятно было получить Ваши фото с Ваших работ в Витебске. Конечно, мне трудно узнать, но прият[н]о Витебск видеть. Я вижу по фото, что Вы искренно ищете правду в искусстве, и это главное важно. Я рад, что Вы видите моих родных иногда. Я недавно был на родине – года 3, 4 назад. Жаль, что Вас не видел. Сердечный привет Вам, всего хорошего. Предан[н]ый Марк Шагал.
ЦГАЛИ СПб. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 54. Л. 1. Автограф. Бумага с печатным адресом: «La Colline» // St Paul de Vence. Опубл.: Письмо Марка Шагала к Соломону Гершову / Вступ. и публ. В. Шишанова // Бюллетень Музея Марка Шагала. 2003. № 2 (10). С. 11; Соломон Гершов. СПб., 2004 (Серия «Авангард на Неве»). С. 6–7 (воспр.).
278. Шагал – А.А. Каменскому
22 сентября 1979 г. Сен-Поль-де-ВансSt. Paul de Vence 22 sept[embre] 1979 Дорогой Каменский Я всегда рад получить от вас весточку и теперь – недавно Вашу книжку о Голубкиной633. О ней говорили (когда я был еще на родине) в кругу «Мир Искусства». Вы, наверное, получили в свое время каталоги из Лувра и Флоренции634. Ну, я продолжаю как-нибудь работать, но и «старше» становлюсь… Но моя любовь к родине всегда велика. Жму крепко Вашу руку преданный Марк Шагал.
Собрание семьи Каменских, Москва. Автограф. Опубл.: Каменский 2005. № 15. С. 281.
279. Шагал – Р.А. Гилиловой
6 октября 1979 г. Сен-Поль-де-Ванс6 / oct. 1979. Дорогая Розачка Спасибо за твои письма, я чувствую твою любовь ко мне, как же иначе, я так любил твою мамочку635. Наших так мало осталось. Все Вы в моей душе. И я не забываю, хоть я так разсеян и работаю, работаю. Около меня прекрасное существо – Вава, и я работаю, и она так много хлопот имеет. Я надеюсь, что твоя жизнь наладится, и дети твои дадут тебе радость636. Поцелуй их от меня. – Как живут дети Лизочки637 и как семья Маруси638. Я целую тебя и всех твоих. Твой преданный дядя Марк. [Ниже приписка: ] Спасибо за подарок. Целую Вава.
Частное собрание (ранее собр. семьи Гилиловых, Л.). Автограф. Печатается по фотовоспроизведению из архива А.А. Каменского (Музей Марка Шагала в Витебске).
280. Шагал – А.А. Каменскому
[28 декабря 1979 г. Сен-Поль-де-Ванс]St/ Paul de Vence 1979—80 Дорогой Каменский Спасибо Вам за Ваше письмо и приветы. Наступает через несколько дней новый год. Я желаю Вам, всем и моей родине-счастье. Вы мне пишете, что пишете новую книгу639. Желаю успеха Вам. Моя жена тоже кланяется. С сердечным приветом Марк Шагал.
Собрание семьи Каменских, Москва. Автограф. Текст написан на развороте автолитографии, изображающей лирический автопортрет Шагала с букетом в руке, на обороте – литографированное приветствие: Bonne Année. Датируется по почтовому штемпелю: St. Paul 28–12–79. Опубл.: Возвращение мастера 1988. С. 327; Каменский 2005. № 16. С. 281.
281. Шагал – А.А. Каменскому
15 января 1980 г. Сен-Поль-де-Ванс15/1 1980 Дорогой Каменский Спасибо за письмо. Вы спрашиваете меня о картине, которая называется «N’importe ou hors du Monde» 1915 – 19 640, она у одного коллекц[ионера] в Чикаго, она снята в книге Verlag M. Dumont-Schauberg автор Franz Meyer641, бывший муж моей дочери – он же директор Музея в Базеле. Желаю Вам успеха в Вашей работе и всего лучшего к Новому году. Жена тоже кланяется. С сердечным приветом Марк Шагал.
Собрание семьи Каменских, Москва. Автограф. Опубл.: Каменский 2005. № 17. С. 281.
282. Шагал – А.А. Каменскому
3 марта 1980 г. Сен-Поль-де-Ванс3/3 1980 «La colline» St. Paul de Vence Дорогой Каменский Я получил Ваше письмо и текст обо мне642. Я благодарен Вам за Ваше сердечное отношение к моему Искусству – я чувствую Вашу искренность и с какой любовью Вы вообще говорите об Искусстве. Желаю Вам успеха от всей души. Преданный Марк Шагал. Моя жена сердечно кланяется.
Собрание семьи Каменских, Москва. Автограф. Опубл.: Kamenski 1988. P. 367 (воспр.); Каменский 2005. № 18. С. 282.
283. Шагал – А.А. Каменскому
[11 июля 1980 г. Сен-Поль-де-Ванс]St. Paul, 1980 Дорогой Каменский Спасибо за книгу643 и за добрые пожелания. Сердечно жму Вашу руку преданный Марк Шагал.
Собрание семьи Каменских, Москва. Автограф. Текст написан на открытке с репродукцией картины Шагала «Жизнь» (1964). Датируется по почтовому штемпелю: St. Paul 11–7–80. Опубл.: Каменский 2005. № 19. С. 282.
284. Шагал – А.А. Каменскому
[12 ноября 1980 г. Сен-Поль-де-Ванс]St. Paul de Vence 1980 Дорогой Каменский Я рад всегда получать Ваши письма. Спасибо большое. Да, я всегда вспоминаю мой город, и он почти на всех моих картинах644. Я рад, что приняли Ваш текст645. Все, что Вы говорите, проникнуто любовью. Я продолжаю работать [нрзб] мы продолжаем любить все то, что в нашей душе. С искренним приветом Преданный Шагал. Вава сердечно кланяется.
Собрание семьи Каменских, Москва. Автограф. Датируется по почтовому штемпелю: St. Paul 12–11–80. Опубл.: Каменский 2005. № 20 (датировано: 1980). С. 282.
285. Шагал – А.А. Каменскому
24 марта 1981 г. Сен-Поль-де-Ванс«La colline» St. Paul de Vence 24/III 1981 Дорогой Каменский Как-то уж давно я получил Ваш привет на страницах журнала646, хоть поздно, я все же хочу послать Вам Спасибо и мои сердечные пожелания. Как вы живете, моя жена сердечно кланяется. Ваш Марк Шагал.
Собрание семьи Каменских, Москва. Автограф. Опубл.: Каменский 2005. № 21. С. 282.
286. Шагал – А.А. Каменскому
[4 августа 1981 г. Сен-Поль-де-Ванс]St. Paul de Vence 1981 Дорогой Каменский Я всегда рад получить от Вас весточку. Я вам послал эту книжечку моих первых рисунков647, это издание всегда хорошо печатает. Я тоже рад, что в Москве есть эта выставка «Paris – Москва»648, и спасибо Вам, что Вы собираетесь на ней говорить649. Как я был бы рад быть, видеть и слушать Вас, хотя я стесняюсь. Я жалею, что не вижу эту выставку, ее же организовала Антонова650, ученица А. Эфроса, который вместе с Тугендхольдом когда-то написали первую книжку обо мне. Сердечный ей привет и Вам желаю от всей души всего хорошего за те слова и чувства, которые Вы скажете на Вашем докладе. Сердечно жму Вашу руку Моя жена сердечно кланяется Ваш Марк Шагал.
Собрание семьи Каменских, Москва. Автограф. Датируется по почтовому штемпелю: St. Paul 4–8–81. Опубл.: Каменский 2005. № 22 (датировано: 1981). С. 282.
 Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев с делегацией и И.А. Антонова на выставке «Москва – Париж». Октябрь 1981
Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев с делегацией и И.А. Антонова на выставке «Москва – Париж». Октябрь 1981
 Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Очередь на выставку «Москва – Париж». Июнь – октябрь 1981
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Очередь на выставку «Москва – Париж». Июнь – октябрь 1981
287. Шагал – А.А. Каменскому
28 октября 1981 г. Сен-Поль-де-ВансSt. Paul de Vence 28 oct[obre] 1981 Милый друг Каменский Получил Ваше письмо, где Вы мне пишете о выставке в Москве (Paris – Москва) и о Вашей лекции обо мне. Я сердечно Вам благодарен и стараюсь немного меньше сомневаться в себе. Я буду рад ее получить. Жму сердечно Вашу руку. Моя жена также кланяется Вам. Ваш преданный Марк Шагал.
Собрание семьи Каменских, Москва. Автограф. Опубл.: Каменский 2005. № 23. С. 282.
288. Шагал – А.А. Каменскому
1 декабря 1981 г. Сен-Поль-де-Ванс1 дек[абря] 1981 Дорогой друг Каменский Большое спасибо за присланный Ваш доклад обо мне на выставке в Москве – (Paris). Будущее скажет заслуживаю ли я. К Вашему 60-летию я сердечно поздравляю Вас. Я могу сказать, что Вы один из редких, который смотрит вообще на жизнь и Искусство с любовью. У Вас такая натура редкая и это важно. Вы ищите в Искусстве и в жизни признаки любви. Спасибо Вам еще раз. Моя жена сердечно кланяется и я Марк Шагал.
Собрание семьи Каменских, Москва. Автограф. Опубл.: Каменский 2005. № 24. С. 283.
289. Шагал – А.А. Каменскому
10 июля 1982 г. Сен-Поль-де-Ванс10/7 1982 Дорогой Каменский Простите пожалуйста, что я так медленно отвечаю Вам на Ваше милое письмо. Я рад всегда получать от Вас письмецо. Я как всегда работаю, а как иначе – но сижу в St. Paul, не выезжаю почти в другие города. Но моя родина всегда на моих картинах. Вы это всегда чувствуете. Жму сердечно Вашу рук[у] Марк Шагал. Привет жены.
Собрание семьи Каменских, Москва. Автограф. Опубл.: Каменский 2005. № 25. С. 283.
290. Шагал – А.А. Каменскому
[9 ноября 1982 г. Сен-Поль-де-Ванс]St. Paul de Vence 1982 Дорогой Каменский Как мило с Вашей стороны, что не забываете меня и я получаю Ваши письма. Я чувствую Вашу любовь и Вы дружески понимаете мое Искусство. Сейчас в Стокгольме моя выставка большая и там фигурируют нек[оторые] картины, присланные из Родины, одолженные 651. Я Вам вышлю каталог. Она – выставка потом поедет в Копенгаген. Но я хотел бы знать, как Вы. Я чувствую, что любовь к Искусству вам дает особый смысл. Как это прекрасно. Я работаю все время и около меня прекрасная Вава, которая дает мне особый Смысл жизни.
 Марк и Валентина Шагалы. Сен-Поль-де-Ванс, начало 1980-х
Марк и Валентина Шагалы. Сен-Поль-де-Ванс, начало 1980-х
Желаю Вам здоровья и продолжайте любить и писать. Ваш преданный Марк Шагал. Моя жена сердечно кланяется.
Собрание семьи Каменских, Москва. Автограф. Датируется по почтовому штемпелю: St. Paul 9–11–82. Опубл.: Каменский 2005. № 26. С. 283.
291. Шагал – А.А. Каменскому
13 декабря 1982 г. Сен-Поль-де-Ванс13/XII 1982 Дорогой Каменский Получил Ваше письмо. Спасибо большое. Я посылаю Вам бумажку, которую Вы просили652. Мне здесь говорили, что Вам был послан мой каталог выставки в Музее Швеции, которая должна по окончании ее в Швеции быть перевезена в Музей Копенгагена. Интересно, что там фигурируют такие картины, одолженные с родины. Ну, дорогой друг, спасибо Вам за Ваше внимание, за Ваши письма. Моя жена сердечно кланяется, крепко жму Вашу руку. Ваш преданный Марк Шагал.
Собрание семьи Каменских, Москва. Автограф. Опубл.: Каменский 2005. № 27. С. 283.
292. Шагал – А.А. Каменскому
[11 апреля 1983 г. Сен-Поль-де-Ванс]1983 Дорогой Каменский Я всегда рад получать от Вас весточку. И я Вам пишу с удовольствием. Недавно была в Стокгольме в Швеции моя большая выставка и там были вещи одолженные музеем с родины, м[ожет] б[ыть], Вы получили каталог. Сейчас они переведены в Данемарк653. И там тоже фигурируют картины с Родины одолженные. Вы пишите мне, что будто M-me Леже подарила картины – это она послала «репродукции» в красках654. В свое время. Спасибо Вам за то, что пишите обо мне. Надеюсь, как-нибудь я это прочту. Но как всегда сердечно благодарю. Я как всегда работаю, как могу. Моя любовь к Ваве и моя работа – мое утешение. Спасибо Вам сердечное, что так часто сердечно пишите мне. Я чувствую Вашу близость и чувствую сколько близости Вы вкладываете в Ваши писания обо мне. Сердечно жму Вашу руку Ваш преданный Марк Шагал.
Собрание семьи Каменских, Москва. Автограф. Датируется по почтовому штемпелю: St. Paul 11–4–83. Опубл.: Каменский 2005. № 28. С. 283.
293. Шагал – М.З. Грибовой
19 мая 1983 г. Сен-Поль-де-Ванс19/mai 1983 Дорогая Марусенка Я давно Вам не писал, но это ничего не значит, просто время проходит, и я всегда чем-то занят, и так время проходит. Но не безпокойтесь, я всегда рад получать от Вас письма. Не безпокойтесь. В музее Эрмитаж будут мои другие гравюры. Наверно, они будут выставлены как-нибудь655. Узнайте. Ну, дорогие, не безпокойтесь, когда не так часто от меня письма. Передай мои поцелуи другим родным. Пишите. Ваш брат и дядя Марк.
Частное собрание (ранее собр. семьи М.З. Грибовой, Л.) Автограф. На конверте рукой Шагала адреса – на лицевой стороне: Шагал М.З. / Московский пр. 182 кв. 50 / 196105 Ленинград / URSS на оборотной стороне: M. Chagall «Lа Colline» F06570 St Paul Vence.
294. Шагал – А.А. Каменскому
12 сентября 1983 г. Сен-Поль-де-Ванс12/9 1983 Дорогой Каменский Каждый раз получая письмо от Вас – я так рад. Но Вы извините, что я редко пишу. Я всегда думаю о Вас, о родине, и это, я думаю, отражается в моих работах. Вы все же один, кто мне пишет. Я это сильно ценю. Продолжайте мне писать, чтоб я знал, что и как делается на родине. Я доволен, что Вы пишете, что появилась большая статья обо мне656. Я заранее рад и Вам сильно благодарен. Я продолжаю работать, как могу. Продолжай[те] и Вы мне писать. Шлем Вам сердечный привет и также моя жена Ваш преданный друг Марк Шагал.
Собрание семьи Каменских, Москва. Автограф. Опубл.: Каменский 2005. № 29. С. 283–284.
 Марк Шагал. Сен-Поль-де-Ванс, начало 1980-х
Марк Шагал. Сен-Поль-де-Ванс, начало 1980-х
Часть IV Критика (Избранное)
1. А. Луначарский. Молодая Россия в Париже. Марк Шагал. 1914
В том же самом живописном и убогом «Рюш», в огромном коллективном гнезде художников, где живет Штеренберг, о котором я писал в прошлый раз1, проживает и работает молодой Марк Шагал. Его знают уже недурно в Париже. Его безумные полотна, с их нарочито детской манерой, капризной и богатой фантазией, с присущей им гримасой ужаса и значительной долей юмора, невольно останавливают на себе внимание в салонах; внимание, далеко не всегда, впрочем, лестное. Сандрар, прославившийся в настоящее время изобретением симультанизма, т. е. сопровождения текста красочным аккомпанементом, посвятил Шагалу два курьезных стихотворения в немецком «ультра-передовом» журнале “Der Sturm”2. Шагал, молодой человек, лет 24-х, сам живописный, со странными широкими глазами, смотрящими из-под буйных кудрей, охотно показывает мне бесчисленное количество своих полотен и рисунков, торопясь заявить, что у него есть еще другие в Петербурге, в Берлине, в салоне. По-видимому, он работает много. Но работа его не так уж трудна. В конце концов все это беглые фантазии, и искусство его лишено серьезной технической опоры. А.В. Луначарский. 1917
А.В. Луначарский. 1917
 Париж. Ла Рюш (Улей)
Париж. Ла Рюш (Улей)
Шагал – витебский уроженец. Его родители где-то на окраине торговали рыбой или чем-то в этом роде. Потом он попал в школу Общества поощрения художеств. Уже тут картины его были странны по своей загадочной психологической содержательности и по своему наклону к деформации; но они лишены были красочности. Восторженную любовь к пестроте вызвал у Шагала другой учитель его – Бакст. Но теперь Шагалу кажется, что он давно перешагнул через Бакста. Жанр, который он себе выбрал, – безумие. И что оправдывает его, так это то, что он выбрал его невольно. Его голова полна курьезов, кошмаров и карикатур. Он не может иначе. Когда он работает, непостижимым для него образом его капризы или вкусы, если хотите, – нечто подсознательное подталкивает его: «Почему нельзя? – Отчего нет?» Почему не сделать фиолетовую корову? Почему не изобразить человека ходящим по потолку? Почему не разбить небо на несколько неравных треугольников и не закрасить каждый, как на душу взойдет? Шагал капризничает, играет, но ему кажется, что он не может иначе. – Зачем у вас то и то? – спрашиваете вы. Торопясь, художник бормочет: – Мне, видите ли, необходимо было так сделать. С первого взгляда – необузданная капризность. А на деле – одержимость. Не Шагал капризничает, а демон, который в нем. Вот небольшая картина. Человек сидит на крыше дома и ест, другой в одной рубашке идет по улице. – Видите ли, – говорит Шагал своими детскими словами, – тут вся моя биография: моего дедушку часто находили на крыше, он любил есть там цимес. А мой дядя любил ходить по улице в одной рубашке. Нашасемья, наша зала, наша столовая, наша улица – это часто повторяется у Шагала. Все элементы его фантазии заимствованы из скучной, пришибленной, неуклюжей жизни пригородного мелкого люда на Литве. И, словно рванувшись из тисков серых людей, Шагал все это перемешал и перепутал: тогда, по его мнению, вышло смешно и забавно. Иногда, однако, страшно. Черные окна, наполовину завешенные занавесками, искривленные лица, странные, косые какие-то лампы, размахивающиеся маятники, неуклюжие позы, проза пополам с кошмаром. Дух сатирический и пьяный носится над почти хаотическими композициями Шагала. Среди необычайного разнообразия придумываемых им курьезов замечаются и навязчивые идеи. Постоянно фигурируют телята, солдат с девицей, неестественно крутые горы, по которым едут лошадки с телегами, какой-то козел на небе и тому подобное. Любовь к красоте, любовь к сказке сказываются порою в какой-нибудь ветке, одетой цветами или фруктами, и больше всего в красках. Абсолютно не считаясь с реальной окраской вещей, Шагал делает малиновые улицы, коричневое небо, синих коров и т. д. Краски он выбирает почти чистые, красивые сами по себе в большинстве случаев, и старается поновее сопоставить их. Над его реал-фантастикой возвышаются кое-какие кубистские увлечения, но они не характерны, и Шагал их не понимает: «Тут я квадратиками взял, мне тогда необходимо было, такой период был у меня». Есть, конечно, известная нарочитость, известное кокетничанье, желание удивить. Если бы было только это – искусство Шагала было бы противным. Но нет. Сквозь инфантилизм, нелепости упрощенного и в то же время неясного, сбивчивого рисунка вдруг остро проглядывает большая наблюдательность, большая выразительность. Это внезапное проявление яркого психологического таланта в детской манере живописи особенно поражает вас, как старческая мудрость в устах младенца. Шагал – интересная душа, хотя, несомненно, несколько больная и в веселости, и в тоске своей. Какой-то маленький Гофман околовитебских трущоб. Еще скорее – Ремизов кисти, Ремизов черты оседлости. Но живописец он, все-таки, небольшой. Его композиция разорвана на кусочки, постоянно распадается на отдельные сценки, на отдельные выдумки, разбивающие внимание. К таким же кусочкам сводится его колорит. Каждый угол картины предоставляет какое-нибудь скерцо, какую-нибудь «находку». Все это вместе не слито. Рассматривать картинки и рисунки Шагала занятно, потому что в них есть поэзия бреда, потому что в них много пенящегося воображения. Этому не мешает, конечно, их как бы лубочный характер. Но, например, по содержанию так же занятно смотреть цветные гравюры великого Утамаро. Там ведь тоже художник на каждом шагу поражает вас неожиданными па вдохновенной пляски своей фантазии. Но какая разница! Там – живописец! Там – человек с необычайной культурной чуткостью, доминирующей над в совершенстве познанным рисунком и над непревосходимым чутьем красочного тона, там – виртуоз, всем овладевший и все подчиняющий грациозной свободе своей воли. Здесь… Может быть, Шагал мог бы рисовать, мог бы писать несколько лучше. Он, конечно, нарочно хочет известной наивности от своей работы. Но х-о-р-о-ш-о рисовать, х-о-р-о-ш-о писать красками – он не может. Вы видите все-таки, что знаний у него мало. Вкус тоже у него сомнительный: в погоне за курьезами, беспомощный перед видениями своего воспаленного воображения, Шагал не умеет свести концы с концами, не гармонизирует своих работ. Он остается все же интересным художником. Прежде всего, интересует он, как своеобразный поэт. Притом, поэт, стремящийся выразить свою незаурядную душу графически, красочно и своеобразно достигающий этого. Вступление других на такой же путь было бы бедствием. А, к сожалению, чудачить без овладения ремеслом, выезжать на чистой талантливости, не подкрепленной мощью в способах выражения, – это болезнь многих и многих молодых людей. Шагалу это прощаешь. Его картины курьезны, нелепы, но все-таки то смешат, то пугают, и вы чувствуете, что он сам такой, что в конце концов все-таки все это глубоко искренно. Да, ему это прощаешь, получаешь несомненное наслаждение от этой роскоши в бреде, от этих отдельных, колющих, метких наблюдений, от этой наивной игры кистью, и вместе… жалеешь художника. Он хочет летать, но он летает как домашняя птица, как птица с подрезанными крыльями: смешно, над землей, кувыркаясь и падая иногда. Ему все-таки нравится этот полет; и вы смеетесь, и вам интересно, как бросается в воздух, как хочет хлопать крыльями это полукрылатое существо. И вдруг вы опоминаетесь и чувствуете во всем этом боль[н]ую и уродливую сторону… Впрочем, если вычесть замечательное знание языка, то я почти все то же мог бы сказать и об Алексее Ремизове. А ведь он – знаменит. Шагал из той же семьи художников. И он очень молод. Может быть, он подымется еще выше Ремизова?3
Луначарский А.В. Молодая Россия в Париже. Марк Шагал // Киевская мысль. 1914. № 73. 14 марта. Перепечат.: Луначарский 1967. Т. 1. С. 411–414; Луначарский 1982. Т. 2. С. 33–35; Kamenski 1988. P. 360–361 (пер. на фр., в сокр.); Chagall Paris 1995. P. 240–241 (пер. на фр.); Каменский 2005. С. 266 (в сокр.); Марк Шагал /публ. и пред. А. Подлипского // Шагаловский ежегодник 2005. С. 131–139. Печатается по: Шагаловский ежегодник 2005.
2. Я. Тугендхольд. Новый талант. 1915
На выставке «1915 год»4 есть работы почти незнакомого Москве, но уже известного за границей, молодого художника Марка Шагала. Среди безудержной вакханалии «пластического лучизма» и живописного bric-a-brac’a[81] они кажутся скромными, интимными, почти «ретроградными». Но это – свойство всякого истинного искусства, движимого не запросами эстетической моды, а внутренними вневременными потребностями художественной души. Это не значит, что Шагал оторван от нашей тревожной современности, – ее гораздо больше в произведениях Шагала, нежели во всех окружающих «измах». Шагал был в Париже и вобрал в себя то, что носится в его воздухе; но он – уроженец Витебска, и эта наивная, почти ребяческая искренность провинции, сочетавшись в нем с формальным мастерством Парижа, сообщила его творчеству нечто глубоко-убедительное, трогающее, душевное. В Шагале сохранилась «святая простота» подлинного примитива, и вместе с тем в нем уже есть жестокий и острый надрыв взрослых детей Достоевского. Эта преждевременная сложность и сказалась в чрезвычайном разнообразии произведений Шагала, которые так непохожи друг на друга своей манерой, то любовно следящей за «натурой», то преображающей ее с иррациональной капризностью. Но это иррациональное и несуразное у Шагала не надумано и психологически вполне приемлемо, как приемлема вся дичь и фантастика Ремизова и Сологуба. С исключительной остротой, далеко оставляющей за собой Кустодиева и Добужинского, чувствует Шагал едва уловимую, но такую жуткую мистику русского быта. Таковы его витебские образы, – сонная и серенькая провинция, с дешевенькой парикмахерской, с игрушечными домами, с мутно-лунным свиданием неуклюжих любовников и метельщиком, пыльным призраком провинциальной улицы. Беря кусок жизни, грубой и бледной, Шагал творит свою красивую легенду. Метельщик становится пыльно-серебряным, гладильщица окрашивается колоритом изысканного, веласкезовского благородства, также как и старый еврей, суровая торжественность которого выражена сочетанием черного и белого. Палитра Шагала умеет быть сдержанной и цветисто-яркой в зависимости от внутренней необходимости. Его рисунок умеет быть лирически-прихотливым и реалистически выразительным, как, например, в этюде «Парикмахерской», где столько жизненной правды, света и воздуха, – этот этюд достоин Третьяковской галереи. Я.А. Тугендхольд. Париж, 1911
Я.А. Тугендхольд. Париж, 1911
Но Шагал чувствует не только провинцию: он откликается и на европейскую «современность». Его солдаты с хлебами, молодцеватые хлебопеки, желудок армии, нарисованы с изумительным мастерством и легкостью. Его «сестра» с алыми губами и женственно подчеркнутой одеждой – словно символ того здорового бодрящего и жизненно-возбуждающего начала, которое несет с собой женщина в утомительное дело войны. Наоборот, в его «пруссаках» есть что-то жалкое, тупое, землистое, обреченное земле. «Военные» произведения Шагала могут не нравиться, но ценно то, что там, где другие художники славословят железные и деревянные красоты, он чувствует лик человеческий. В наши дни, когда механическая культура бросает вызов всему миру, а художники все еще не хотят понять, что их живописные bric-a-brac’и – от того же футуристического беса, особенно важно искусство, в котором есть любовь к миру и человеку, есть лирика. Впрочем, в своих «Часах» Шагал поднимается до созерцания более абстрактного. И при виде этого гигантского и неумолимого маятника времени, и этой бездонной ночи за окном, и такого маленького перед лицом вечности человека вспоминаешь и Бодлэра, и Эдгара По, и тютчевский «часов однообразный бой, томительную ночи повесть». Но «Часы» Шагала – не иллюстрация к символической повести, а самостоятельное живописное произведение, «бессонница» художника, который где-то, в серенькой провинции, умеет видеть также «всемирные» сны. Может быть, именно из этой непочатой, наивной провинциальной глуши и прольется желанный свет на наше столичное, справляющее пир во время чумы искусство, и оттуда явятся свежие силы, перед которыми обновленная Россия откроет широкую дорогу. Во всяком случае, в лице Шагала перед нами одна из таких больших надежд русского искусства: в его этюдах есть то, что остается.
Тугендхольд Я. Новый талант // Русские ведомости (М.). 1915. № 71. 29 марта. С. 3. Перепечат.: Kamenski 1988. P. 361 (пер. на фр., в сокр.); Chagall Paris 1995. P. 242 (пер. на фр.); Каменский 2005. С. 266–267; Крусанов 2010. С. 510–511.
3. А. Бенуа. По поводу «еврейской выставки». 1916
Я вполне согласен с отзывом А.А. Ростиславова о выставке, устроенной Еврейским обществом поощрения художеств 5. И мне выставка представилась до крайности убогой и пестрой. Но я думаю, что виной тут является не случай, а самый принцип. За последние годы число даровитых и значительных художников среди евреев все растет и растет. Несомненно даже, что еврейство переживает эру художественного расцвета, – вернее, пробуждения. Однако, спрашивается, есть ли все же принадлежность к какой-либо национальности – в том числе и к еврейской – такой признак, который позволил бы объединиться во имя искусства. Ведь и в даровитых и крупных еврейских художниках (как и во всяких других) основное их достоинство не в «национальном» или племенном начале, а в близости к известным общечеловеческим началам, которые принято называть избитыми терминами «искусство», «красота», «идеал». Мне и кажется, что бесполезно группироваться под стягом еврейства. <…> Несомненно, что и евреям дано выявить свои «грани красоты». Не могу не отметить и того, что сейчас, с тех недавних пор, как «недоразумение» с запретом пластических художеств устранено, народилась масса интересных и прямо даже прекрасных художников среди евреев. Некоторые из них несут с собой столь много свежего, что приходит на ум мысль, не им ли сейчас достанутся первые места. И все же «еврейская выставка», как таковая, такой же абсурд, как «русская» или «французская» выставки, как таковые. Ведь и «русская» и «французская» выставки будут лишь тогда художественными и осмысленными, если прием на них обусловится не «паспортом, выданным тем или иным государством», а наличностью «знака Аполлона». И, разумеется, всякая такая действительно художественная выставка (если только она не задается узко-меркантильными задачами) станет расширяться только благодаря притоку лиц, обладающих знаком и хотя бы не обладающих никаким «паспортом». А.Н. Бенуа. Санкт-Петербург, около 1914
А.Н. Бенуа. Санкт-Петербург, около 1914
И какой сейчас получился курьез – вовсе, впрочем, не случайный, а совершенно логичный и фатальный. На «еврейской выставке» на крайне ограниченное количество хороших и порядочных произведений масса вещей совершенно гадких и жалких – «достойных петроградских художников». С другой стороны, нет на ней вещей, действительно «лестных» для еврейства. Отсутствуют главные гордости еврейства – Левитан и Бакст. Отсутствуют и ряд наиболее интересных, мало того, наиболее характерно-еврейских художников из молодых, среди прочих: Школьник, Анисфельд, Шагал и Шейхель. И, повторяю, это не случай – это фатум. Как это случилось, что всех их нет, остается для существа дела безразличным. Существо же дела – тот простой факт, что нет на пиру тех самых гостей, из-за которых и стоило устраивать пир. И вот пользуюсь случаем, чтобы поделиться с читателем моими впечатлениями от работ Шагала, которому была отведена целая комната на той же выставке в бюро Добычиной, на которой выставили Машков и Кончаловский6. Вот характернейший еврей. Но сейчас же спешу оговориться, я и на сей раз вовсе не подразумеваю, что искусство Шагала потому хорошо, что оно по-еврейски национально. Нет, юный мастер сумел лишь сохранить в себе непосредственность, сумел, несмотря на свое многолетнее пребывание за границей, остаться тем искренним, причудливым и впечатлительным ребенком, каким он рос среди убожества своего родного края. И, разумеется, не национальное начало его прелесть, а художественное начало, – та странная организация всякого подлинного художника, благодаря которой они в самых обыденных и даже в безобразных вещах видят душу их, видят то самое, что есть «улыбка Бога». Но поражает эта улыбка тем более, когда она открывается среди особенно неподходящей обстановки. Что улыбается нежащееся в тепле, у лазури вод Сорренто, что улыбаются памятники Афин или Рима, что улыбается пестрота толпы на Avenue du Bois, что улыбаются вещи изящные, или героические, или даже трагические, – это все понятно. Понятно и то, что полны возвышающей красоты и истинной поэзии русская песня, русский раскидистый пейзаж, «Записки охотника» или «Детство и юность». Но что грязная вонючая «жидовская дыра» с ее кривыми улицами, с ее подслеповатыми домишками, с ее безобразным, удрученным нуждой населением, оказывается для глаза художника полной и прелести, и красоты, и поэзии, что и этот ужас может осветиться улыбкой красоты – это изумляет своей неожиданностью, изумляет и радует. И правда же, что может быть более радостного того сознания, что лучам внутренней красоты, что лучам, исходящим от художественной одаренности, нет никаких преград! Особенно ценно в Шагале именно то, что при всем его тяготении к символу, к стилю, он остается насквозь правдивым, насквозь искренним. Шагал не украшает, не исправляет того, что он видит, а он только это любит. И вдруг, под теплотой этой любви, все принимает другой облик, становится милым, приковывающим. Самое жуткое и больное не теряет своей жути, своей болезненности, и все же как-то начинает манить и пленять, становится милым и близким. Я никогда не видал такой жалкой «дыры», какую изображает Шагал на самом деле, и я бы удавился с тоски, если бы только день вынужден был слоняться вдоль этих заборов, если бы пришлось общаться со всем этим темным людом. И вдруг это «подполье» становится благодаря чарам искусства чуть ли не чем-то родным. Точно перечитываешь свои же собственные детские и юношеские дневники, переживаешь свои же собственные романы. При этом все гадкое и противное слагается в какой-то пленительный сон. Шагал еще очень молод, и вполне извинительны некоторые отрицательные стороны его искусства. Иногда он дает в себе волю тому, что мы называем литературщиной. Иногда он начинает и кривляться (что избежать почти невозможно в нашу эпоху поголовного гаерства и лганья). Наконец, в Шагале много и тех черт, которые принято объединять под словом легкомыслие. Но в основе своей он настоящий художник, до кончиков пальцев художник, способный в свои частые moments d’élection[82] всецело отдаваться стихии живописного творчества, полный ярких и острых образов и вдобавок в значительной степени уже подчинивший себе ремесло своего искусства, умеющий «говорить» не только выразительно, но и четко, изящно, гибко. И Париж, куда этот юноша-провинциал поехал лет пять назад, совершенным невеждой и «простодушным примитивом», Шагал сумел использовать так, как это умеют делать лишь очень даровитые, очень проницательные люди. Все модное прошло для него почти бесследно. Зато, не утратив ничего от своей свежести, он развил там свое чувство изящного и приобрел в смысле техники чарующую беглость почерка и необходимое для себя владение красками. Кстати, о красках. Одна из прелестей Шагала заключена, по-моему, в том, что он пренебрегает яркостью и цветностью. Общее впечатление от его картин скорее серое и монохромное. Но в данное время поголовного «дранья глоток» такая сдержанность только говорит в пользу художника, тем более, что каждая картина, каждый этюд обличает в своем красочном эффекте тонкую и своеобразную гармонию.
Бенуа А. По поводу «еврейской выставки» // Речь (Пг.). 1916. № 109. 22 апреля. С. 3. Перепечат.: Kamenski 1988. Р. 361 (пер. на фр., в сокр.); Каменский 2005. С. 267–268.
4. Я. Т-д [Я. Тугендхольд]. Письмо из Москвы. 1916
<…> В одном из №№ «Речи» А.Н. Бенуа, дав отрицательный отзыв об еврейской выставке7, приходит к общему заключению о том, что художникам не следует группироваться под стягом еврейства, как и вообще под каким бы то ни было «национальным» стягом. Я не видел этой петроградской еврейской выставки, но вполне полагаюсь на большое критическое чутье, на широкий и изысканный вкус А.Н. Бенуа. Однако, неудачу еврейской выставки он приписывает не организации ее, а самому существу дела; «еврейская выставка, как таковая, такой же абсурд, как русская или французская выставки, как таковые», – пишет А.Н. Бенуа. Фидий, Буше и Достоевский, по его мнению, хороши не потому, что они национальны, а потому, что в них «интерес, выходящий за всякие пределы национального». Отсюда делается вывод, что похвала национальности в искусстве есть, в сущности, дань «повальному увлечению политикой», «опасный соблазн» и «коварная ошибка». <…> В упомянутой статье А.Н. Бенуа искренне и горячо приветствует молодой талант художника-еврея, Марка Шагала. Но примечателен главнейший мотив этого приветствия. А.Н. Бенуа радует и поражает в шагаловской живописи «улыбка Бога» именно тем, что она «открывается среди особенно неподходящей обстановки». Он допускает, что улыбаются Сорренто, Афины, avenue du Bois, русский пейзаж, «Записки охотника»… «Но что грязная, вонючая, жидовская дыра» с ее кривыми улицами, с ее подслеповатыми домишками, с ее безобразным, удрученным нуждою населением оказывается для глаза художника полной и прелести, и красоты, и поэзии… – это его удивляет особенно. Но казалось бы, почему же это уж т а к изумительно? Разве не всюду – Бог? Живопись Шагала действительно прекрасна тем, что, преодолев погромные страхи Айзмана, она полюбила витебский быт умиленно и нежно. Но ведь А.Н. Бенуа говорит не о п о г р о м н ы х страхах. «Я никогда не видал такой жалкой “дыры”, какую изображает Шагал, и я бы удавился с тоски, если бы только день вынужден был слоняться вдоль этих заборов, если бы пришлось общаться со всем этим “темным людом”», признается он. Но именно то, что этот «темный люд» не «давится с тоски», а живет, страдает, молится и рождает своих художников, и доказывает, что он не так «темен», что в нем неизбывен Бог. А.Н. Бенуа, образованнейший русский критик и чуткий художник, этого к а к б удто не знал, а вот пришел еврейский художник и э т о обнаружил. Не так ли обнаружил некогда и русскую поэзию в русской «скудной природе» Саврасов своей картиной «Грачи прилетели», – поэзию, которой, быть может, действительно «не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный»8… И такова связь национальности с искусством – это та с в я з ь л ю – б в и к своей родной красоте, которая дает свет и силу, которая делает героями обывателей маленьких Сербии, Бельгии и Польши.Я. Т-д [Тугендхольд Я.]. Письмо из Москвы // Аполлон (Пг.). 1916. № 4–5. Апрель – май. С. 83–85.
5. М. Сыркин. Марк Шагал. 1916
<…> Меня тянет поговорить о совсем необыкновенном новом явлении. Лет десять тому назад в школу Общества Поощрения Художеств в Петрограде поступил под руководство Рериха совсем еще молодой еврейский мальчик, Марк Захарович Шагал, родом из Витебска, перешедший потом к Баксту, в школу Званцевой. Еще почти без всякого общего и художественного образования[83] Шагал давно уже обратил на себя внимание своими необыкновенными способностями. Успехи его вскоре оказались поразительными и давали бы повод к самым высоким ожиданиям, если бы не совершенно определенная склонность ко всевозможным художественным странностям и рискованным сюжетам. Тогда уже началось то буйное бунтарство, в которое вырождалось у нас новое европейское движение пластики в сторону от достигнутого высокого совершенства в неизведанное и небывалое. Почти вся талантливая молодежь кинулась туда. Но Шагал собственно не следовал за тем именно направлением модернизма, которое намечалось, а прокладывал, очевидно, какие-то собственные, самому ему еще неясные пути. Его искания вылились наиболее полно в трех картинах на сюжеты из еврейского быта, из которых одна изображала свадьбу на улице9, другая, фантастически-юмористическая, – покойника, лежащего почему-то также на улице, обставленного свечами, между тем как его «душа», одетая, впрочем, в капелюш и лапсердак, на радостях освобождения от своей еврейской доли и бренного существования, наигрывает на скрипке на крыше дома10; наконец, третья представляла… роды молодой женщины!11 Было очевидно, что молодой автор придает своим темам какую-то внутреннюю символическую значимость. Для постороннего глаза, искушенного в истории борьбы между ресурсами пластики и стремлениями к раздвиганию ее границ, эти подчеркивания действовали, как пикантные фиксации настроения. Гораздо больше значения и сами по себе и для того же музыкально-поэтического момента настроения имели формы и особенно красочно-пространственный элемент картин. Формы и лепка красочно-световых масс показывали ту тенденцию к упрощению и об[об]щению, которая так характерна для нашего времени после Сезанна. Игра угловатостью и прямыми линиями вместе со скуррильностью quasi-реализма фигур и искусственно-наивным искажением пропорций и перспективы создавали фантастику какого-то особого, собственного мирка, пополнявшуюся условным деликатно-изысканным колоризмом в жемчужно-серых, голубоватых и желто-красных тонах, дававших чувствовать живописца Божьей милостью. М.Г. Сыркин. 1910-е
М.Г. Сыркин. 1910-е
Вскоре Шагалу была устроена возможность уехать в Париж, где он провел до войны около четырех лет. Доходившие о нем оттуда вести были странного и необыкновенного свойства. Словно его там ждали! Не успел он приехать, как «загремел», – правда, – не в большом мире искусства, а в среде и прессе той литературно-художественной богемы, которая на девяносто девять процентов своего состава осуждена на забвение и гибель в своем убогом, полуголодном и морально нездоровом существовании, но зато в остальной сотой таит будущую истинную интеллектуально-артистическую историю страны, а, пожалуй, и всего мира. В продолжение столетия своего существования эта среда, при всех своих решительно ненормальных условиях, настолько успела доказать свою продуктивность, что пользуется уже нескрываемым большим влиянием и весом непосредственно – en herbe[84], а не только в лице своих выдвинувшихся и покинувших ее сочленов. При всей наружной вражде и пренебрежении со стороны верхов, вызываемых жестокою и подчас крикливо-шарлатанскою агрессивностью ее выступлений, к ней исподтишка прислушиваются и присматриваются и с тайною тревогой скашивают на нее глаза, когда она принимается за свое любимое дело – сваливание признанных оракулов и догм, когда-то, быть может, царивших в ней же, в виде совершенно недопустимых на Олимпе жизни ересей. Зато нет предела той любви и нежности, с какою тут встречаются расцветающие молодые и смелые таланты. При ее неопровержимой чуткости и искренности все, что тут происходит, во всяком случае необходимо наблюдать с самым пристальным вниманием, ибо в существе оно всегда очень серьезно. Так, по крайней мере, обстоят дела в области пластических искусств. Не берусь высказываться о том, что делал Шагал в Париже. По многим признакам он был еще бродящим мутным молодым вином. Во внешнем успехе недостатка не было. Его выставки, между прочим в Берлине и Амстердаме, обращали на себя внимание; его прославляли в крайних левых художественных органах печати, посвящали ему даже стихотворения. Но вот молодой художник перед самою войной вернулся на побывку в свой родной Витебск. Весь его Парижский oeuvre[85] из-за войны застрял за границею. Полгода он усердно работал дома, – необыкновенная внутренняя плодовитость, признак настоящей большой силы, свойственна ему, – и вот, как Антей после прикосновения к родной матери-земле, он являет себя теперь на выставке определившимся, окрепшим, созревшим мастером и, если не совершенно свободным от логических диссонансов (он их прямо ищет), то необыкновенно интересным и неудержимо привлекательным charmeur’ом[86]. Трудно в словах дать представление о Шагале. Что он – реалист или идеалист? В искусстве между природой и художником всегда лежит демаркационная зона, иначе не было бы и искусства; но через нее творчество все же приковано к действительности цепью логической необходимости; вопрос только в длине этой цепи, что и образует групповый и личный стиль. Шагал намеренно и систематически кидается на своей длинной цепи то к реальности, то от нее, играя попеременно мотивами физического уродства и красоты, художественно одинаково интересными и изысканными. Повсюду определенная характерно преувеличенная полудетская, полукарикатурная портретность сочетается с исканиями линии, иногда благоуханно деликатными, а порою капризно произвольными. В серии поколенных одиночных фигур евреев ему удается достигнуть из ряда вон выходящей силы и мощной внушительности форм, почти совершенно свободных от диссонансов любимой его игры со скуррильностью, и вы готовы признать его реалистом в духе Греко или Рембрандта. Два портрета тут особенно поражают: один старик, с преувеличенным, но совершенно неотразимо действующим контрастом между сивою бородой и резко-зеленым рефлексом освещения лица12, и другой – «Молящийся еврей» – в талесе и тефилин, выдержанный почти только в широких черных мазках по ненакрытой белой грунтовке, без обычных условностей манеры художника. Но от этой темы Шагал вдруг бросается в противоположную сторону и дает в другом ряде картин дразняще загадочную любовную эпопею, отдельные эпизоды которой полны самого крайнего, частью колористического, но главным образом анатомического и линейного произвола, доходящего до фингирования новой породы извивающихся и летающих по воздуху людей-змей. Капризам и шалостям тут нет конца. Чтобы понять несомненное пикантное и неотразимое очарование, вопреки такой же досаде, исходящее от этих вещей, – досада тут прямо психологическое средство стимулирования, – нужно присмотреться к одному прелестному маленькому шедевру Шагала: молоденькая девушка, еще полуребенок, худенькая, хрупкая, нежно-деликатная перебирает струны мандолины и прислушивается к их звукам13; маленькая круглая головка, как бутон на стебле, видимо тихо покачивается на тонкой шейке; глаза прикрыты огромными веками и явно намеренно посажены совершенно неправильно не на одном уровне, с искажением рисунка и перспективы; и все это так сомнамбулически прочувствовано в своей невыразимо изысканной моторной и линейной грации, что всякие сомнения отпадают: тут большой, настоящий мастер-модернист, собственное выражение интимнейших ощущений эпохи, с которым судиться не приходится, а нужно принять его целиком и отдаться его чарам. Наиболее чистое и тихое очарование исходит от пейзажных и пространственных мотивов Шагала, которые он любит выдерживать в потухших сероватых и иных скромных тонах, с тончайшими музыкальными гармониями. Кульминацией в этом роде являются «Окрестности Витебска», бесспорно, самая крупная вещь Шагала, какую ему удавалось до сего создать, в которой непосредственная интеллектуальная и визуальная внушительность полно и гармонически сочетаются в поразительном эффекте, заслуживающем самого внимательного анализа, не только в виду его неотразимого художественного действия, но и теоретического эстетического интереса. Бедное предместие, талый снег, извивающаяся захолустная улица, старенькая церковь, прозрачный туман, напоенный влагой воздух, – и вдруг, вне всякой предметной, линейной, перспективной и пространственной связи с этим, на небе вырезывается косо поставленная темная реальная фигура согнанного с родного пепелища еврея-странника, в шапке, с палкой и мешком за спиною… Возражать невозможно! Это убедительно с первого взгляда. Настроение рождается с силою внушения и только долго спустя пораженный зритель в состоянии отдать себе отчет, как изумительно проваливается в глубь пространство от трюка внезапно повисшего громадного темного пятна на небе, действующего технически в виде repoussoir’а[87]. Все средства своего чудного красочного оркестра, то праздничного, то тихо деликатного и тонкого, Шагал пускает в ход [в] серии свободных quasi-реалистических этюдов, содержащих импрессии его родного угла. Тут он, – как говаривал покойник Мутер, – настоящий Neurasteniker der Farbe[88]. Эксперименты его смелы и новы. Человек в отвратительно резком синем костюме в экономии целого создает один из интимнейших interieur’ов14. Картон, закрашенный почти только желтою краскою, с красными мелкими крапинками; смешной, обращенный кверху, выведенный черною чертой профиль молодого человека в шляпе, по-видимому, изо рта которого вылетают крошечные силуэты птиц15… Галиматья! Но вдруг вы находите точку, и все как бы проваливается; открывается безбрежный океан вечернего неба и маленький бумажный квадрат оказывается окном в бесконечный мир. Ухмыляющаяся рожица входящей в дверь нищенки освещена снизу таким изумительным рефлексом, лучше которого не создавали ничего и японцы16. И так далее, без конца, в изумительном разнообразии мотивов. Повсюду всевозможные piquanteries[89] интересные искажения и уродства рядом с благоуханнейшими тонкостями, острые оскорбления чувства красоты, как средства к его возбуждению, модуляции из тона в тон настроения и красочных гармоний… Откуда это? Как оно попало в эту именно психику человека, по происхождению принадлежащего к среде, позволявшей, казалось, ожидать всего, что угодно, но не этой утонченной, болезненно-рафинированной чувствительности аристократа pur sang[90]. А он ли не принадлежит своей среде и своему родному народу, когда несколько лет массовых подавляющих впечатлений великого города соскочили с него, как сон, как только он окунулся в свою родную стихию, которую так странно, верно и мастерски передает, растворенную, правда, и преображенную в собственной индивидуальности. Одна из интереснейших загадок творчества!..17
Сыркин М. Марк Шагал // Еврейская неделя (М.). 1916. № 20. 15 мая. Стб. 41–48. Перепеч.: Бюллетень Музея Марка Шагала. № 2(12). 2004. С. 13–16.
6. А. Эфрос (Россций). Заметки об искусстве. II. Шагал, Альтман, Фальк. 1916
«Бубновый Валет» 1916 года18, первое выступление в начавшемся сезоне большой художественной группы, принес обширную вереницу работ Шагала, Альтмана и Фалька. Три имени – но какая разноголосица, какие колебания, какое расстояние в их художественном «еврействе»! Словно немилостиво желая затруднить мне приступ к задаче, кто-то собрал их вместе на «Бубновом Валете». Да и с важнейшей, первозаконной, чисто художественной точки взять Шагала, Альтмана и Фалька в одни программные скобки – нельзя. Собственно, настоящим бубнововалетовцем является один Фальк, лишь у него найдем мы преемственное развитие тех задач, вкусов и приемов, которые характерны для «Бубнового Валета». Альтман сделан из совершенно другого теста: в нем живет какой-то «академик кубизма», – как парадоксально это ни звучит! – чувствуется обобщатель, стилизатор этого кубизма, смягченного и согласованного с вековой традицией живописи. Это – явление на редкость любопытное, и аналогию для него скорее всего следует искать в неоакадемических течениях «Мира Искусства», где Альтман отойдет в группу Петрова-Водкина, Яковлева, Шухаева и им подобных. А к искусству Шагала нужен путь еще более далекий от программной эстетики «Бубнового Валета». У Шагала найдем мы, во-первых, чрезвычайно сильное выдвигание сюжета, «содержания», «идеи» в картинах, в то время как «Бубновый Валет» весь и целиком занят вопросами формы, краски, тона; во-вторых: у Шагала – быт, просветленный, очищенный от передвижнического пота натурализма, быт, стоящий на грани реальности и визионерства, где реальность фантастична, а фантастика реальна, – между тем, ничто так не далеко и не чуждо «Бубновому Валету», как бытовая и мистическая струя в искусстве; наконец, в-третьих: техника Шагала ближе всего к французским интимистам, к мастерам «нового быта», скажем, к Вюйару, к Дега, а «Бубновый Валет» свою эстетику палитры черпает в сезанновских традициях и, в меньшей степени, в искусстве русских народных масс. А. Эфрос. Начало 1920-х
А. Эфрос. Начало 1920-х
Но и ничуть не меньше различие этих трех художников в пределах национальной стихии их искусства. Такой необычный во всем, совершенно особый, талант Шагала и здесь поражает своей самозаконностью. Когда мы говорим о еврействе и художнике, то мыслим их стоящими на разных концах, и наши пожелания заключаются в том, чтобы художник пошел навстречу национальной стихии, а момент встречи их, взаимопроникновения грезится как рождение национального творчества. У Шагала все это стоит вверх ногами. Не центростремительный, а центробежный замечаем в нем путь, не из общего мира в еврейство, а из еврейства в общий мир красоты сейчас идет он. С одной стороны, те несколько десятков работ, которые выставил Шагал на «Бубновом Валете», совершенно посвящены еврейскому быту, бытовой мистике хасидских местечек. Национальная стихия здесь затопила все и вся. По интимности, по почвенности, по глубине своего «еврейства» этот цикл Шагала нечто совершенно неслыханное. Так органически мог бы писать только тот, кто родился бы, творил и умер в этом шагаловском «местечке Лиозно, Витебской губернии», у кого весь зрительный мир ограничился этими домишками еврейской бедноты, нищими и нищенками, «Двором дедушки», «Бабушкой за вареньем», «Моими сестрами», «Марьясенькой с собачкой» и т. д., и т. д., а весь художественный кодекс, все приемы, весь стиль органически родился из круга тем, из «души сюжетов». Но ведь мы знаем, что Шагал от «м. Лиозно» прошел через Петербург и Париж, и поистине нужна чудодейственная сила дарования и глубок должен быть «национальный пласт» внутри, чтобы после Петербурга и Парижа дать такой «витебский цикл». Но с другой стороны, «центробежность» Шагала заставляет ставить вопрос, насколько длительна будет эта еврейская полоса в нашем художнике. Мне чудится, и думаю – чудится не ложно, что «еврейство» Шагала только эпизод в его художественном развитии, не еврейством он начал и не им продолжит. Вот почему, если витебский цикл фактом свое[го] существования говорит, что в искусстве можно быть евреем, то громадные центробежные элементы этой изумительной сюиты картин еще ярче может быть ставят вопрос о «вненациональности» наших художников. Чтобы быть национальным сейчас, нужно быть «узким», «уставиться в одну точку», «собраться вместе и никого чужого не пускать»; потом уже, когда все наладится, сколотится, можно открыть двери и сказать миру «милости просим». У Шагала эти двери закрылись слишком ненадолго и открылись слишком рано. В его картинах быт и еврейство – данное, внебытовое и внееврейское – искомое. Ему мило, любовно, но тесно в своем Лиозно, и он всячески расширяет его, чтобы было «вообще местечко», или даже «вообще земля», и таким же «вообще» ищет он расширить своих «местечковых евреев». И благодаря крайне своеобразной, крайне личной фантастике, которую он громадными дозами вводит в композиции, его еврейство действительно трещит по всем швам и грозит вот-вот рассыпаться. Отсюда – все зеленые, красные «Евреи», летающие, вывернутые, ходящие друг у друга по головам («Праздник»)… О, эстетически, художественно они очень убедительны, но так происходит в «стране Шагала», а не в «черте оседлости», хотя и лежат обе они совсем рядом, и одни и те же люди бывают тут и там. <…>
Эфрос А. (Россций). Заметки об искусстве. II. Шагал, Альтман, Фальк // Новый путь (М.). 1916. № 48–49. 18 декабря. Стб. 61–63.
7. Б. Аронсон. Марк Шагал. 1923
<…> Шагал принадлежит к «чуть-чутникам», визионерам, сказочникам, в «таинственности» которых так много матерьяла для литераторов. Поэтому – «Шагал – философ, Шагал – рассказчик, бытовик. Шагал – русский еврей, хасид, выученик французского модернизма» (Тугендхольд). Поэтому – «он и идилличен и романтизм у него Степки-Растрепки. И Шагал – голова Яна и сказочный принц абсолютной краски» (Теодор Дейблер). Точно также и все другие блестки литературного красноречия по поводу Шагала, из которых можно было бы составить словарь эпитетов, грешат литературой против разбора по существу. Ведь всякая фантастика, необычайность, сказочность визионера – богатый матерьял для литературных экскурсий. Между тем, следовало бы отличать литературную фантазию психологического свойства от многосложности живописного образа. Груды слов не охватят сущности подлинной живописи – иначе сама живопись была бы излишней, и сущность шагаловского творчества можно только постигнуть так, как оно было создано, – чувством, эмоционально. Поэтому о ней можно говорить «п о п о в оду». Волнующая теплота эмоциональных отношений связывает творца со всеми окружающими его предметами, и с каждым из них в отдельности. Истинно прозорливое наблюдение начинает с мелочей, с едва заметных пустяков. Раскрытые мелочи поднимаются художником до мирового значения, обнаруживая свою закономерность, свою сущность, становясь адекватными целому, большому. – «Мелочи суть мои боги» – эта фраза «чуть-чутника» Розанова применима вполне и по отношению к Шагалу. Трактовка Шагалом окружающих его, укладывающихся в круг его зрения и осязания предметов, приводит к такому заключению. Концентрация внимания на отдельных мелочах характерна для индивидуального творчества. Раскрытие притягательных взаимоотношений всякой вещи, ее магнетической силы, отайнение, как средство усилить ее значительность и смакование подробностей личной жизни – еще углубляют этот разительный контраст между обыденным и его утрировкой, перерождением, вплоть до гротескного, до потери границы между «настоящим» и «не настоящим». Борис Аронсон
Борис Аронсон
В силу этого и семейная жизнь, и собственный его ребенок, и состояние его, Шагала, здоровья, – все частные мелочи его быта – пища для его творчества. Шагал не может быть абстрактным. Сами задачи ремесла: ритм, объем, фактура, – преследуются им не как самоцель, а как формы выявления его фантазии, как плоть его живописных образов. Мелочи быта своих персонажей он смакует с упорством и трудолюбием, характеризующими его любовь к ним. Персонажи – это окружающие его предметы и, главным образом, родственники. Он их тянет с собой повсюду: в Париж, Москву, Берлин. Они его неизменный багаж, необходимые принадлежности его обихода. На интимных мистериях его родного быта, где дяди и тети, любимые бедные родственники из маленького Лиозно, окружены сиянием его любви. Главное – общая, разлитая всюду теплота, температура, атмосфера интимности, без которой творчество Шагала не заражало бы нас, не втягивало бы в свой круг. Во всем чувствуются его родные, и родные вещи: и отцовская парикмахерская, и собственная жена, лошади и коровы – оттуда – из Витебска. Шагал любит всех и все, но свое, своих, он любит по-особенному. – «И да простит мне Бог, если в моей характеристике я не включаю той телячьей любви, которую я вообще питаю к людям. А ведь мои родные более святые, чем кто-либо. Я так хочу», – говорит Шагал в «Записках», этих изумительных документах, которые читаешь, как записки средневекового мастера. Нет, Шагал не только «т а к» хочет – он иначе не может. Поэтому биографические сведения, записная книжка – все играет роль пояснителя его вещей. И перед ними не забываешь: Он родился в Витебске. Он русский. Он еврей. Он женат. Ему «удалось» видеть Эйфелеву башню. И в Париже он своих дядей и теток из Витебска не забыл. Он и там их любит, даже еще больше. Там только они выросли в его глазах, и, когда он снова возвратился в Витебск, они раскрылись ему необъятно вечными. В его дневнике читаем: «Все заборчики, коровки, овцы, евреи казались мне в Витебске такими же односложными, простыми, вечными, как постройки на фресках Джиотто». Чувствуешь, как истинная любовь все любимое видит прекрасным и вечным, замечает все мелочи, и всякая мелочь для нее полна любовного трепета; так завиток на виске любимой кажется символом необычайной важности. И Шагал вечный любовник этих только ему по праву принадлежащих мелочей. Эти мелочи он хочет увековечить. Себя и своих родных. Характерно, как, находясь в Москве, Шагал с болью говорит: – «Умер город. Окончен Витебский путь. Ведь это ужасно не поставить памятника до сих пор ни папе, ни Розе, ни Давиду». Творчество Шагала – не бред фантазирующего поэта, где туманные мечты приобретают формы реальностей, а передача живой действительности, плотской, явно-осязаемой. Его холсты – психологические документы, но, благодаря своим живописным достоинствам, они становятся памятниками живописи.
 Обложка книги Б. Аронсона «Марк шагал». (Берлин. 1923)
Обложка книги Б. Аронсона «Марк шагал». (Берлин. 1923)
Но ни один холст Шагала не раскрывает новых возможностей формальных. Работы Шагала отличительны своим своеобразным колоритом, тональной насыщенностью, цветосилой. Лепка краской, модуляция тонов,живописность Шагала, органично связаны и с архитектоникой вещи: уравновешенность и весовая легкость тона – логичны и обоснованы композиционно; в свою очередь композиционная замкнутость, линейная ритмичность еще больше подчеркиваются тонкостью фактурной, благородством поверхности. Шагал не криклив в своих фактурных шумах, в разнородных комбинациях поверхностей, – а заботливо утрамбовывает отдельные части холста. При этом слитость чисто-абстрактных живописных плоскостей с реальными элементами придает им убедительную остроту. Но то, что сообщает им не временную ценность, что делает их значимость и вес осязаемыми для всякого, доступными даже для профанов, – это та атмосфера, тот жар убедительности, горячности, которые, благодаря своим живописным достоинствам, выносятся за личное, случайное и заставляют интересы его, Шагала, и, пожалуй, интересы его родственников воспринимать в аспекте мировой значительности. И они так воспринимаются, облюбованные мелочи его холстов, характерные штришки его любимых предметов, трепещущие следами его прикосновений, смакуемые им пунктики, точечки, крестики, звездочки, завитушки, пуговки, шарики, характерные надписи, буквы, заборчики, окошечки, лампочки, подсвечники, козлята, крыши, трубы, лестницы, уборные, мочащиеся мальчики, совокупляющиеся животные, кошки, танцующие человечки – излюбленные мелочи, кусочки подробностей, возведенные в монумент, – они воспринимаются сущностью Шагала. Шагаловское местечко это: заборчик, где каждая дощечка обконтурена и покрыта едва заметным слоем белил, домик, расфактуренный наполовину миниатюрными кирпичиками, домики с крошечной трубой, а на «здании» этом маленькие пунктики – оконца с занавесочками, крошечные деревца. Вспоминаешь Менделе Мохер Сфорим, которому местечко казалось небольшим мусорным ящиком, заваленным разноцветными бумажками. Общим схемам он научался и у кубизма, и у народного лубка, и у детского рисунка, и у Руссо, и у итальянских примитивистов, но кому это интересно? Нужным оказывается знать его семейные дела, место его рождения; именно этого не забываешь перед его картинами, убедительными своей чуткой проникновенностью в его, Шагала, быт. По своим эмоциям – Шагал близок еврейскому народному творчеству, интуитивно воспринятому им и понятому, притом, не только с формальной стороны. Ведь основное, композиционное, строительное начало в еврейской архитектуре, орнаментике и росписях барочно, ампирно, или эклектично, но все же то, что делает их еврейскими, традиционными, это мелочи, капризы, становящиеся законами. Этими порывами фантазирующей изобретательности, черточками, штрихами, подчеркивающими остроту восприятия, незаметными мелочами, капризами, едва изменяющими характер основной схемы – Шагал живет ими не из-за хасидизма его психологии, а именно благодаря «мелочам», создающим пряную атмосферу. На формальностях холстов Шагала, на композициях их, на этих простеньких, примитивных схемах, прикрытых рубашкой его эмоции, – школы, поколения учиться не будут. Но на Шагале учились его восприятию мира. Его психологизм служил импульсом. Из его индивидуального, органического переживания сделали метод. Экспрессионизм начался с Шагала, он его родоначальник. Наивность взрослых, игра в куклы бородатых были подражанием искренней, святой простоте Шагала. Но переживания Шагала принадлежат только ему. Ему одному они свойственны. Произведения этого рода всегда будут носить его печать. Характер переживаний Шагала всегда остается один и тот же; одни и те же психологические моменты повторяются на всем протяжении его творчества; и в Витебске, и в Петербурге, и в Москве, и в Париже, и в Берлине – Шагал остается всегда самим собой, разворачиваясь в основном с твердостью и незыблемостью очевидной. «Похороны» и «Свадьба» (1909) – наметили это основное. Дальше, через парижский «Автопортрет», через «Молящегося Еврея» и росписи Еврейского Камерного Театра в Москве – ясны вехи его движения. В своем однообразии – Шагал тысячелик. Но, при всей своей изобретательности, при неожиданности замыслов он никогда не распоясывался «по-русски», не расходился вширь, не отплясывал, не нахальничал, не бил посуды, хотя, как «футурист», должен был бы это делать. Если сравнивать его с русскими футуристами – Бурлюками, Лентуловым, Ларионовым, Гончаровой, видишь, что динамика Шагала – внутренняя. Он всегда спокоен, сосредоточен, углублен. Динамика Шагала поистине динамика хасидского танца. Не выхождение из себя, а углубление в себя: статика в динамике. Импрессионистка Берта Моризо говорила когда-то про Монэ, что, когда смотришь на его солнечные этюды (знаменитые «Стоги сена») – то знаешь, куда направить свой зонтик. Точно так же, когда смотришь на холсты Шагала, знаешь все расположение местечка, и то, где находится бакалейная и мучная торговля, где живет парикмахер, где оставлено открытым окно, где играют ребятишки, где расположена уборная, куда ведет маленький переулок и что там делает маленький мальчик; и того, что парикмахер в Лиозно просит платить вперед, вы тоже не забываете – так хочет Шагал. Ведь в своем местечке он почитаемое лицо, он семьянин и отец. Он буржуазен, как никто из современных художников: мещански-буржуазен. И эротика его местечкового характера – святая эротика семейного ложа, чистая, как молитва беременных женщин. Шагал черпает соки в окружающем быту. Он не бесплотный фантаст, не абстрактный геометр. «Однако, мне кажется, – говорит он, – не будь я евреем (какое содержание я вкладываю в это слово!), я или вовсе не был бы художником, или был бы совсем другим»19. <…>
Аронсон Б. Марк Шагал. Берлин, 1923. Перепечат.: Aronson B. Marc Chagall. Berlin: Razum verlag, 1924 (пер. на нем.); Аронсон Б. Марк Шагал. Чуть-чуть (о Марке Шагале) // Шагаловский ежегодник 2006. С. 138–152. Печатается по: Аронсон Б. Марк Шагал. Берлин, 1923. С. 13–19.
8. М. Осборн. Марк Шагал. 1923
Несколько недель тому назад, во время одного из самых интереснейших путешествий моей жизни, жадно впитывая чудеса Москвы, я сидел в «Еврейском Камерном Театре» на Малой Бронной. Там, где современному театральному искусству русской столицы служат со страстным самозабвением и напряженностью. Давали «200.000»20, рассказ о жившем в маленьком еврейском городке бедном портном, на долю которого выпал крупный выигрыш, о том как новый богач был кругом обманут злыми людьми, о том как он был рад, когда снова вернулся в скромные рамки своей прежней жизни. Это популярное старое произведение Шолом-Алейхема, переработанное московским писателем Добрушиным и режиссером Грановским с той неограниченной свободой и самостоятельностью, которые применяются этим самым молодым в России театром постоянно ко всем авторам. <…> Когда приходит известие о неожиданном выигрыше портным сказочной суммы, повергающее весь городок в необычайное возбуждение, внезапно, высоко на крыше одного из домов появляется фигура еврея, рыжебородого, в зеленом кафтане, с узелком за плечами, с палкой в руках. Я невольно сказал громко: «Шагал». И вдруг все стало ясно: ведь это же мир Марка Шагала. Из него вышло и творчество молодого художника-декоратора Рябичева21, и построения Грановского, и сопроводительная музыка композитора Пулова22. Последний, с необычайной выразительностью, воплотил ориентальные мотивы, древнееврейские образы и русские напевы в опереточных мелодиях, с трубами и литаврами. Позже, в антракте, сидя в уборной премьера труппы, замечательного артиста Михальса23, я узнал, что действительно Марк Шагал сыграл решающую роль в развитии всего сценического искусства Еврейского Камерного Театра, что в этом кругу его почитают как великого возбудителя и вдохновителя. В Москве есть «Дом еврейского театрального искусства»24, школа этого планомерно и логически развивающегося театра, где целый зал, посвященный Шагалу, содержится как святыня. Макс Осборн
Макс Осборн
То, что произошло, то, что живопись Шагала оказала такое влияние на сцену – отнюдь не случайность, не прихоть какого-нибудь руководителя театра, увлеченного работами художника. Здесь сказалась гораздо сильнее внутренняя необходимость. Всегда, когда личность и школа мастера действительно находят для культурного духа времени ясное и сильное выражение, – всегда этим захватывается и сцена – и только тогда она захватывается. <…> Каждый раз это была как бы проба огнем. В Германии уже много лет назад мы узнали Шагала и первоначально отшатнулись от него, смутившись своеволием его живописной изобразительности. Затем, постепенно нас захватило волшебство тех тайн, которые открывало нам его искусство – но мы не подозревали, что он сможет выдержать эту пробу огнем. Мы видели в нем только обладателя замечательной индивидуальной воли, одиноко идущего по своему собственному пути. Только теперь в России, в Москве, в этой атмосфере еврейского искусства я взволнованно постиг, как глубоко связан Шагал с почвой своей родины, с культурными пластами своей среды. Это доказывается не только объективными мотивами, проходящими через его картины. Именно особенности его фантастического проявления, его прием наряду с изображениями вещей показывать их сокровенный смысл, выросли из этих культурных пластов. Здесь произошло то, что всегда происходит, когда является крупный художник. – Один гениальный человек находит слова для того, что чувствуют бесчисленные толпы, что они смутно сознают, не имея возможности выразить. Он разомкнул им уста, и в воодушевлении последовали они за ним. Марк Шагал, как никто другой в омолодившейся России наших дней, обладает поразительной силой превращать элементы чрезмерно богатой, неисчерпаемо глубокой художественной народной культуры в пестрые, задумчивые видения, поражающие воображение. Здесь скрещиваются два крупных комплекса: традиции славянства и традиции еврейства, при чем последнее, по крайней мере в прошлом, следует рассматривать не как часть населения, впитанную государственным целым, а как нацию в себе внутри большого союза государств. Два мира открывают этому художнику свои последние потайные пространства – два мира с тысячами мистических источников, различные по своей природе и все же соединенные загадочными связями, чужие изначала и все же в течение столетнего соседства ставшие почти родными. С таким багажом, задолго до войны, Шагал явился в Париж и, как рефлектор, вобрал в себя все излучения современных течений от Сезанна, через Анри Руссо и Пикассо до математически-экстатических отпрысков кубизма. Но как много он ни воспринял в Париже, он ничего не утратил из того, что принес с собой. То, что делает живопись Шагала такой несравненной, это, конечно, то никогда полностью необъяснимое словами смешение самобытности с рафинированным знанием последних возможностей остроумных сплетений и технических эффектов. <…>
Осборн М. Марк Шагал // Жар-Птица (Берлин). 1923. № 11. С. 13–14.
9. А. Эфрос. Шагал. 1918/1926
1
Он входит в комнату: так входят люди дела, уверенно и четко преодолевая пространство крепкой походкой, свидетельствующей о сознании, что земля есть земля и только земля. Но вот: на каком-то шаге его тело покачнулось и смешно надломилось, точно в театре марионеток надломился Пьеро, смертельно ужаленный изменой, и, чуть клонясь в сторону, надтреснутый, с извиняющимся за неведомую нам вину видом, Шагал подходит, жмет руку – и косо садится, словно падает, в кресло. У Шагала доброе лицо молодого фавна, но в разговоре благодушная мягкость порой слетает, как маска, и тогда мы думаем, что у Шагала слишком остры, как стрелы, углы губ, и слишком цепок, как у зверя, оскал зубов, а серо-голубая ласковость глаз слишком часто сквозит яростью странных вспышек, прозорливых и слепых вместе, заставляющих собеседника ловить себя на мысли о том, что он, собеседник, вероятно, отражается каким-то фантастическим образом в зеркале шагаловских глаз и, может быть, потом узнает себя в одном из зеленых, синих, красных, летающих, взвихренных, изогнутых, выкрученных людей – на будущих картинах Шагала. И когда в беседе пробегут часы, и, говоря о дорогой обыденности, о работе, о жене, о ребенке, Шагал вдруг вскипает какой-нибудь непонятной привиденческой фразой, вроде: «… мы говорим лишь как перед богом, наш путь не ошибочен, ибо это путь бога»… – мы уже более не удивляемся, мы даже видим, какими прочными нитями связаны эти фантасмагорические изречения Шагала с его искусством и его рассказами о повседневности жизни, – и что они так же неизбежны у Шагала и кровно ему свойственны, как эти вот неожиданные седые пряди, прорезавшие светловьющиеся волосы молодого художника.2
Как сам Шагал, так трудно его искусство. Чтобы его полюбить, надо к нему приблизиться, а чтобы приблизиться, нужно пройти медленный и настойчивый искус проникновения сквозь его твердую оболочку. Потому что первый взгляд беспомощно путается в противоречиях и диковинах шагаловского искусства. Что Шагал очень талантлив, – эта сторона видна сразу; но зачем он делает все эти странности? Отчего этот чудесно-написанный еврейский старец – зеленый? А у другого – красные и зеленые руки? У третьего на голове стоит совершенно такой же маленький еврейчик, лишь повернувшийся в другую сторону? У лошади виден в брюхе нерожденный жеребенок, а под копытами торчат две людских фигуры? У старухи отскочила голова и мчится ввысь, а безголовое тело стремительно спускается с высоты к корове, стоящей на крыше дома? А у девушки с букетом – к губам приник юноша, перекинутый в воздухе, через ее голову, словно кошка, подброшенная вверх? У вола – мужской сюртук и человеческие руки, и он сидит, раздумчиво облокотившись, меж двух свисающих с его плеч голых ног, принадлежащих, вероятно, той, в платке, бабьей голове, что, затылком вниз, плюет ему в рот? У человека, смотрящего сквозь окно на Париж, голова Януса – с лицом вперед и лицом назад, – и кошка, с девичьим обликом, глядит с подоконника на двух людей, лежащих, затылками друг к другу, возле Эйфелевой башни и ростом равных покосившимся многоэтажным домам окрест? Марк Шагал. Автопортрет 1914–1915. Иллюстрация из книги А. Эфроса «Профили» (М., 1930)
Марк Шагал. Автопортрет 1914–1915. Иллюстрация из книги А. Эфроса «Профили» (М., 1930)
Что это – болезнь или озорство, то особенное эстетическое озорство молодости, художественное «рапенство», которым начинали свой творческий путь так много больших художников? Может быть все, что сейчас требуется по отношению к Шагалу, – это только простить ему нынешние дерзости ради его большого будущего? Или есть еще какая-то третья точка зрения, с которой открывается иной «вид на Шагала», где его теперешнее творчество – уже не сумасшествие и не пускание пыли в глаза, а художественно оправдано и психологически убедительно в своих житейских несообразностях, и где вопросы людей неискушенных: – «Зачем он это делает?» – мы, зрители, «пришедшие к Шагалу», будем встречать с таким же большим изумлением, с каким глядит сам Шагал на посетителей выставки, сыплющих у его картин своими: «для чего» и «к чему»? Да, именно так!
3
Сближение с Шагалом трудно тем, что необходимо одолеть его противоречия, уметь синтезировать их, найти за стремящимися в разные стороны элементами его искусства единый стержень и общенаправляющую силу, верховную для всего множества пестрых частей. Шагал – бытовик, но и Шагал – визионер; Шагал – рассказчик, но и Шагал – философ; русский еврей – хасид, но и выученик французского модернизма; но и, наконец, вообще некий космополитический фантаст, несущийся, как колдун на помеле, над земным шаром и в стремительном полете увлекающий вослед себе множество разных частиц множества разных жизней, роем оседающих на его полотна, когда наступают часы раздумий и творчества, и пластически претворяется в образы и краски текучая и вихреная стихия шагаловских видений. Если бы Шагал был только визионером, принять его было бы нетрудно, – как нетрудно было принять визионерство Чурляниса. Было бы еще легче, будь Шагал чистым бытовиком, хотя бы он принадлежал к самым левым и самым крайним из числа тех художников, которые создают формы новобытовой живописи: мы достаточно искушены уже в разных «деформациях», чтобы не пугаться их и, может быть, даже находить в них прелесть. Наконец, нетрудно было бы соблазниться возможностью разгадать путанную и сложную аллегорию, если бы безголовые и зеленые люди Шагала были только аллегориями, которые можно обратить в простую и понятную притчу, как чудовищ, страшилищ и уродов в офортных циклах Гойи. Юрий Анненков. Портрет А. Эфроса. 1921. Частное собрание
Юрий Анненков. Портрет А. Эфроса. 1921. Частное собрание
Но у Шагала нет ни того, ни другого, ни третьего. Его визионерство целиком живет в пределах простейшего быта, а его быт весь визионерен. В людях и предметах повседневности у него сквозит природа привидений, но эти шагаловские привидения отнюдь не тени, у которых нет ни плотности, ни объема, ни окраски и которых рубить и пронзать так же бесцельно, как рубить и пронзать воздух. Этот привиденческий быт Шагала обладает всей осязаемостью и тяжестью обыкновенных вещей и тел. А если все же им правит некий закон, который разрывает его на части и разметывает по воздуху людей, зверей и вещи, спутывает всю логику и разумность земных пропорций и взаимоотношений, то меньше всего в этом повинен бедный закон аллегории, или низкий закон ребуса; пред нами не логическая игра, но подлинное, безусловное видение громадной внутренней насыщенности.
4
Понять Шагала можно лишь путем вчувствования, а не путем уразумения. Закон деформации, дающий такой странный облик творчеству Шагала, тот же самый, которым движутся небылицы и странности детских сказок, вымыслов и страхов, – тот же, которым создается фантасмагорический мир национальной еврейской мистики, пытавшейся в движении хасидизма преобразить нищенский и мучительный быт местечкового существования. Излюбленная и главная связь между событиями в рассказах детей есть слово «вдруг», и оно совсем не механично и не внешне, – иначе бы чистейшая правдивость детской фантазии решительно отбросила его; наоборот, слово «вдруг» выражает самую суть и интимную природу той стихии неограниченных возможностей, которой полон для ребенка мир; словом «вдруг» слушатель лишь предупреждается, что эта всемогущая стихия сейчас плеснет одним из своих капризов. Переведем это «вдруг» на язык визионера, и мы получим «чудо». Но не «чудо», в смысле необычайного и редчайшего исключения, нарушившего законы естества, а «чудо», как привычный элемент обыденности, «чудо», отвергающее самую возможность какой-то «жизни вне чуда» и утверждающее, что «все может случиться и все случается»; и это именно есть то мироощущение, которым в новейшей истории еврейства было создано практическое чудотворство хасидизма. В Шагале говорит такая внутренняя вера, что «все случается»; потому-то проникнуть внутрь его искусства, не разбиться о скорлупу можно, лишь разбудив в себе остатки детских снов и воскресив в душе те забытые ощущения, когда в нас жила боязнь темной комнаты, ибо было знание, что сквозь пустынные и черные стены могут протянуться мохнатые руки какого-нибудь чудовища и уволокут, а старый стул может вдруг оскалиться и броситься нам вслед. Какова разница между требованиями, которые предъявляет к читателю фантастика Гофмана и фантастика барона Мюнхгаузена? Не та ли, что Гофман требует веры в свои небылицы, а Мюнхгаузен – неверия? Не это ли основа, на которой они строят свои эффекты? Шагалу нужен такой же верующий в него зритель, как Гофману; его зритель должен уметь так же отдаться необычайности его образов и видений, так же довериться их особой логике, как умеет он отдаваться течению гофмановских вымыслов. Вот почему, когда простодушный зритель подходит к Шагалу со своим натуралистическим критерием и возмущенно указывает на «шагаловские нелепости», художнику остается лишь горестно изумляться: он истинно ничего не понимает в негодовании своего зрителя, ибо не той меркой мерят его искусство, которая свойственна ему. Гете говорил, что понять художника – значит изучить законы его «страны». Искусство Шагала неодолимо-хаотично и безнадежно-нелепо, когда к нему подходят извне и измеряют беззаконным аршином реалистически-бытовой живописи; но оно раскрывается ясно, почти схематично, когда следуют за его собственной логикой.5
Тогда в развитии шагаловского искусства, как оно протекало доныне, совершенно отчетливо встают перед нами четыре периода. Внешние границы позволяют определить первый период, как подготовительный, провинциально-петербургский, когда из своей Витебской губернии Шагал приехал в Петербург учиться живописи, посещал школу Бакста и работал над первыми самостоятельными картинами. Второй период – заграничный; Шагал, уехавший в Париж, стал там «Шагалом», загремев среди буйной богемы la Ruche своими необычайными полотнами, которые выдвинули его в ряды интереснейших «мастеров завтрашнего дня» и были триумфально увезены на выставки новой живописи в Берлин и Амстердам; это – время возникновения химерических полотен «Парижа сквозь окно», «Погонщика», «Продавца телят», «Невесты» и т. п., с их безголовыми телами, двулицыми головами и летающими коровами. Третий период – время возвращения в Россию с началом мировой войны, когда Шагал создал свой «витебский цикл»: «Парикмахерскую», «Местечко Лиозно», «В провинции», «В окрестностях Витебска», «Молящегося еврея», «Именины», «Гитариста» и др. Наконец, последний – нынешний, снова заграничный, еще неотстоявшийся, неуверенно пробующий новые формы сквозь старые навыки. Внутренняя линия творчества пролегла по этим хронологическим вехам совершенно цельно. У Шагала не было ни перебоев, ни топтания на месте, ни уклонений. Своеобразие шагаловского искусства проявилось с самого начала и пошло своим особым путем, на котором границами указанных внешних периодов развития отмечены только моменты перелома во взаимоотношениях обоих главных элементов его творчества. Эти элементы, связанные между собой неразрывно с первых же шагов Шагала, суть: бытовой жанр и фантастика визионерства. Самые ранние картины Шагала уже создали основное «шагаловское» впечатление: нереального облика реальной жизни. Шагал этих работ – мечтательный ребенок, выросший в хасидской семье еврейского местечка. Но детство и хасидизм, это – мечта, помноженная на мечту; здесь источник безмерных залежей шагаловской фантастики. А быт кругом него, – быт маленького витебского местечка, то есть самая квинтэссенция быта, самая гуща жалчайшей бедноты и беспросветной житейщины. Шагаловская мечта и местечковый быт должны были или разбить друг друга, или найти высшее и целостное соединение. Искусство дало Шагалу спасительный синтез. Шагаловская живопись показала, чем светит смиренная бедность людей, улиц, скотины, домишек его маленького Лиозно, которое он изобразил со всей остротой любви к месту, где родился. Детское визионерство и хасидский ирреализм Шагала открыли в мире обыденности мир чуда. Есть две картины, – «Свадьба» 1908 года и «Похороны» 1909 года, – по которым можно точно и глубоко проследить, как преображается у юного Шагала родной быт и как вообще строит он свои полотна. Прежде всего это простой рассказ о простом событии из простой жизни. Рассказ – без подробностей и без прикрас, лаконический и ясный. «Свадьба»: идут улицей два музыканта, за ними – жених с невестой, потом – старик со старухой и двое детей, за ними еще трое родных; водоноша и торговец, баба и пара ребят остановились среди улицы и смотрят на шествие, а сзади длиннополый еврей возбужденно потрясает в воздухе рукой. Протокол быта! Но какой диковинный облик у всего: как в детских рисунках, люди – больше домов, ибо люди важнее домов, и круто вздыблена перспектива улички, ибо иначе не всех будет видно и не все будет ясно для нас, зрителей, – а можно ли не показать нам чего-либо в этом лиозненском раю, вплоть до фонаря, как факел возвышающегося над шествием? И как в хасидских легендах, эти фигуры евреев шагаловской страны – необычные и преображенные: да, это – местечковые евреи, но они, видимо, сделаны из какого-то особого вещества, и мы не удивимся, если вся процессия вдруг поднимется на воздух, и там будет продолжать пиликать скрипач, и жених поведет невесту, – мы не удивимся потому, что перед нами «жизнь в чуде», и, может быть, о последнем чуде, о рождении мессии от этой новой четы пророчествует потрясающий рукой длиннополый еврей, ибо от каждого брака ждут мессии верующие… В «Похоронах» лиозненский быт еще яснее открывает свою визионерскую природу: снова все просто и снова все призрачно, но слишком просто и слишком призрачно. Среди встающей вверх улицы, меж домишек, лежит мертвец в саване, окруженный горящими свечами, и громадный могильщик уже занес лопату, и женщина, высоко раскинув руки, метнулась в сторону, а над всеми ими, сидя верхом на крыше избы, странный еврей, согнувшись над своей скрипкой, тянет какую-то мелодию – в тон ветру, воющему под хмурым небом, рвущему облака и качающему стрехи с башмаком или чулком, висящим вместо вывески над избами. Знаменательно, что уже в эти ранние годы Шагал пользуется краской и колоритом как средством характеристики и воздействия на психику зрителя, а не для одной лишь передачи реально-бытовой окраски предметов. Шагал здесь идет нога в ногу с наиболее передовыми и чуткими из мастеров нового искусства. Живопись современности стала сознательно пользоваться влиянием цвета не только на глаз, но и на душевный мир: живописной фактуре картины ставится задача: непосредственно, минуя пластический образ, вызвать реакцию во внутреннем мире зрителя, играя на нем, как на клавишах, цветом, линией, слоистостью краски и изгибом линии; порой художник пытается даже характеризовать предмет самим подбором красок. У Шагала эта «психическая ценность» краски выдвинута была сразу, – тонко и свободно. И едва ли не этому свойству палитры больше всего были обязаны его картины тем, что в них реальная жизнь засквозила строем фантастического, чудесного, бытия.6
Когда Шагал очутился в Париже и получил возможность приникнуть к самому сердцу мирового искусства, равновесие между бытовым и визионерским элементами его искусства было глубоко нарушено. Над лиозненским мирком, с его малыми масштабами и домовитой теснотой, нависли громады и пространства циклопического города. С другой стороны, то, чем встретил Шагала парижский художественный мир, расшатало все бытовые скрепы его образов и тем. Шагаловское визионерство уже по самой своей сути, по стремлению магически преобразить облик обычной жизни, носило в себе центробежную силу, стремившуюся разорвать застывшие формы видимого бытия. Однако тот ранний Шагал был еще слишком связан «с землей», со «своим Лиозно», чтобы не держать на узде разрушительные порывы своего фантазма. Но теперь Париж снял с него все путы, и от безмерного взрыва его лиозненский быт был буквально разорван на куски. Шагал попал в Париж в тот момент, когда кубизм находился в зените торжества и влияния. То есть: извне в качестве обязательной эстетической программы навстречу Шагалу поднималось в кубизме то, к чему изнутри стремилось его собственное искусство. Кубизм раздроблял на куски и части весь зрительный мир во имя абстрактного эстетического принципа, но и фантастика шагаловского творчества, хоть и по иным законам, так же силилась разорвать оболочку быта. Если по своей природе холодная, головная стихия кубизма была чужда огненной непосредственности Шагала, то по итогам торжествовавший кубизм давал ей как раз то, что нужно. Главное же, – кубизм уничтожил в глазах мастеров нового искусства ценность какого бы то ни было воспроизведения предметов в их обычном, «бытовом» виде; обязательность коренной «деформации предметов» была провозглашена основным параграфом искусства. Фантастике Шагала таким образом были настежь раскрыты двери. Буйствующая стихия вырвалась наружу. Какой-то страшный катаклизм искромсал родной шагаловский мир местечкового еврейства. Тот цикл химерических полотен, который был описан выше, который создал Шагалу гремящую известность среди новаторов и их приверженцев и возбудил такую же ярость у обывателей и бытовиков, – этот цикл является поистине потрясающей исповедью, изумительным рассказом о пламенной буре, пронесшейся над шагаловским искусством в Париже. «Рапенство… фокусничанье…» – но я не знаю ничего более осязательного и наглядного в своей убедительности и искренности, чем эти необыкновенные картины. Поистине, много внутреннего мужества и художественного дарования нужно было иметь, чтобы так непосредственно и так пластично запечатлеть ярость разбушевавшихся сил. Может быть, не так уже неправы те, которые именно этот цикл ценят выше всего у Шагала, потому что такого сочетания напряженной глубины и художественной значительности потом у него уже не повторялось; впрочем, эта оценка была бы верна лишь в том случае, если бы то, что поведал нам здесь Шагал, не имело столь исключительного узкого, личного характера, если бы здесь проступала та широкая, общезначительная ценность внутреннего опыта, какой отмечено творчество обоих других его периодов. Как бы то ни было, во всяком случае, бесспорно замечательна чисто-художественная организованность этих парижских композиций. Ввести в пластическое русло дробный хаос обесформленных видений можно было только крепкой живописной скованностью всех частей картины. Кубизм и тут много помог Шагалу, ибо если чем особенно и силен кубизм, то именно железной цельностью своих живописных построений, той совершенно гранитной устойчивостью, которыми отличаются сооружения, воздвигаемые кубизмом из частей распавшихся на составные элементы предметов. Шагал умел достичь того же, – он ввел в крепчайшие живописные берега разлив своей анархической стихии. Словно бы стальной оправой оковали ее яростная цветистость и четкая ритмика парижских полотен, и их великолепная сорганизованность успокаивала глаз зрителя, взволнованный внутренним хаосом картины.7
Шагалу предстояло: или вернуть свое искусство в образы реального мира, или перестать быть художником. Нельзя годы и годы носиться в расплавленном потоке смутных бесформенных видений, ибо это пламя не только озаряет, но и сжигает. Возможен еще третий исход: маньеризм, – когда с остывшей рукой и испепеленным сердцем художник сочиняет подражания самому себе и лже-видения выдает за подлинные. Но, конечно, не Шагалу с его необыкновенной, последней искренностью можно было стать таким «эпигоном самого себя». Возвращение в Россию, когда началась война, было целением для Шагала. Как блудный сын в отчую обитель, так вернулся он в свой еврейский местечковый мир. Он приник к нему с тем же жаром и яростью духа, с каким в Париже дробил и кромсал его бедные формы. Витебский цикл шагаловских картин возник в каком-то лихорадочном и страдающем порыве, и работоспособность Шагала, всегда большая, здесь не знала удержу. Шагал создает десятки полотен, и каждое из них – точно объятие, протянутые руки ко всему, что опять увидел он на родине. Он изощряет и расточает всю тонкость и нежность своего изумительного колорита и благородство изысканного рисунка, чтобы достойно запечатлеть этот лик вновь обретенной отчизны. Разорванные части лиозненского быта соединяются снова воедино, «души вещей», бушевавшие в общем потоке, возвращаются в предметы, и в живописи Шагала вновь возникает прежний еврейский мир. Шагал пишет каждую уличку, каждого человека, каждый дом родных мест. В витебском цикле перед нами проходит вся семья художника, старые и малые, друзья детства, соседи, уличные ребятишки, нищие, дома, избы, деревья, трава, скотина, – даже запретную свинью умиленно живописует Шагал, ибо поистине все благостно и свято в этом обретенном вновь быте. Но в то же время какая разница с бытом его первого, до-парижского периода! Если там визионерская стихия Шагала стремилась вырваться из предметов наружу, то здесь она извне стремится внутрь вещей. В «Свадьбе» 1908 года люди еще ходят по земле, и мы только чувствуем, что они могут вот-вот покинуть ее и подняться на воздух, куда влечет их подлинная природа их бытия, а в картинах витебского цикла эти люди, наоборот, еще носятся по воздуху, как в картинах парижской поры, но они уже снижаются к земле и скоро должны будут окончательно опуститься и стать на ноги. Так носится над местечком молодая чета в картине «Жене», так летит над городом старый еврей с сумой, – в «Окрестностях Витебска», – так над девушкой с букетом, – в «Именинах», – застыл в воздухе юноша, целующий ее в губы. И даже то, что уже спустилось на землю, все еще имеет в этих картинах какую-то неустойчивость, нетвердость, свойственную первому прикосновению к земле после долгого полета, точно земная тяжесть еще не вполне овладела этим новым шагаловским бытом. В этом смысле нужно отметить, как хрупко и как легко стоят на витебских полотнах люди и вещи, и как даже дома и комнаты словно непрочно еще скреплены с землей. Отсюда же – странная раскраска предметов, зеленые, фиолетовые, красные тела и лица людей: это – наследие парижского вихря, его фантасмагорической красочности, зарева его цветных пожаров. Марк Шагал. Автопортрет (офорт, 1927) с дарственной надписью: Абраму Марковичу Эфросу – одному из первых / защитников моего искусства в России / в знак благодарности и / всегдашней любви к нему / Марк Шагал / Boulogne – Paris 927. Частное собрание
Марк Шагал. Автопортрет (офорт, 1927) с дарственной надписью: Абраму Марковичу Эфросу – одному из первых / защитников моего искусства в России / в знак благодарности и / всегдашней любви к нему / Марк Шагал / Boulogne – Paris 927. Частное собрание
8
Русское искусство можно назвать искусством в гриме. Подходить к нему слишком близко не следует, иначе вместо героя встанет перед нами: N.N. в гриме. Русские художники – очаровательные рассказчики, искусные режиссеры и чуткие психологи. Но скольких из них можно назвать также и мастерами? В нашей живописи радуешься столько же проницательной жизненности портретных характеристик, сколько меткости бытовых сцен и почти пугающему ясновидению исторических воскрешений; русские картины можно читать без устали. Но не приближайтесь к их холстам вплотную. Когда из-за фигур и предметов выступит перед глазом шероховатая поверхность торопливо закрашенного полотна, и взгляд потянется по кочкам и рытвинам мазков, – какое уныние овладеет им среди этого болотистого разлива краски! Он различит с убийственной ясностью, что пленявшие его черты – не живопись, а лишь грим живописи, в котором все эффекты рассчитаны на «взгляд издалека», «взгляд на расстоянии», «взгляд из зрительного зала», пропущенный сквозь обманчивую призму рампы и ее огней: – нестойкие слои красок шатко держатся на полотне, утрирован цвет, приблизителен тон, вихляет контур. Искусство в гриме… Я помню Верхарна в Третьяковской Галерее, ищущего мастеров кисти и находившего лишь гримеров живописи. Нам нечего было возразить ему, когда он процеживал наших живописцев сквозь золотое сито французской палитры, – палитры мастеров и мастерства, – и пролетали куда-то в небытие за залой зала и за художником художник. Наше искусство мы сами часто называли провинциальным, но мы верили, что провинциал, сознающий свою провинциальность, не безнадежен. Однако так скудно наше мастерство мы все же не расценивали. Суд Верхарна был судом художественной метрополии над провинциальной школой, и когда от древнейшей иконы, сутулясь, подергивая свисающими нитями бесконечных усов и роняя точные оценки, перебегал поэт к «Даме в чепце» Щукина, и длинными пальцами чертил по воздуху перед «Анной Давиа» Левицкого; когда, вскидывая на нос стекла перед Сильвестром Щедриным, Федотовым или Ивановым, он произносил многозначительные афоризмы о Сезанне, Коро и голландцах, и потом, не останавливаясь, помедлив задумчиво лишь перед вспышками снега суриковской «Морозовой», пронесся мимо даже Репина, Левитана и Серова, чтоб утвердительно покивать нам головой перед «Портретом жены» Врубеля и закончить глубоко удовлетворительным «Voila!..»[91] перед сомовской «Дамой в голубом», – круг мастерства был очерчен им авторитетно и убедительно. Примириться ли с этим? Но что делать: это так, – этого не обойдешь и не объедешь; наше искусство – искусство художников, но не мастеров; в нем нет вкуса к pâte[92], и истинным событием является каждое новое имя, увеличивающее короткую династию русских мастеров кисти.9
Как случилось, что провинциал Шагал оказался обладателем этого редчайшего дара, в котором было отказано стольким большим и холеным талантам? Случайный каприз судьбы? Или это – ростки французского семени, павшего на болезненно-обостренную восприимчивость шагаловского дарования? Как бы то ни было, но многочисленная плеяда юнейшего поколения наших художников насчитывает в своей среде лишь одного мастера, и этот мастер – Шагал. Кисть искусная и отменно-тонкая; то словно бы ласково лижущая, то царапающая; то купающаяся в ровной зыби мазков, то рассыпающая по цветной глади чудесные «шагаловские» точечки, крапинки и узорчики, веселые, звонкие, алые, зеленые, желтые, прыгающие и змеящиеся, как россыпи букетиков и китайцев на веселых обоях полузабытой нами детской; поверхность – изощренно-разработанная, – здесь шероховатая, там выглаженная, порой проступающая лысинами фона, порой набухающая слоистыми пригорками краски; ровное-ровное нарастание и убывание силы тона, отчетливое и отточенное, напоминающее рост звуковой гаммы под пальцами безукоризненного пианиста; и особый, мягкий налет бархатистости или даже нежной пушистости персика, лежащей на всем и вызывающий у зрителя желание потрогать – погладить картину, чтобы ощутить на концах пальцев ее зернистость, – вот палитра Шагала, превращающая красочный покров его картин в своего рода рельефную географическую карту, по которой можно путешествовать долго и плодотворно, сознавая совершенную закономерность неровностей, выпуклостей и впадин каждого сантиметра. Колдун средь образов и видений своих картин, он колдует и среди тюбиков с красками, позвякивая кистями и постукивая мольбертом, – точно алхимик в островерхой шапке стучит ретортами и колбами, где в дыму и пламени выкристаллизовывается философский камень. Какое варево специй надо было пустить в ход, чтобы создать живопись «Зеленых любовников», «Марьясеньки с собачкой», «Метельщика», «Молящегося еврея»? Только такая гибкость художественных средств изобразительности, оперирующих «бесконечно-малыми» величинами живописных элементов, позволила Шагалу не заблудиться в вихревых туманах своего привиденческого быта, наполнить движением какой-то пламенной и тончайшей материи покров и кости самых простых существ и предметов, и заставить нас, зрителей, поверить, что аксиомы обыденного живописного опыта, – будто у тела «телесный цвет», большой предмет крупнее маленького, вещи не суть, а кажутся, и так далее, и так далее, – лишь скучное заблуждение усталой рутины, которую он, Марк Шагал, имеет полномочие и силу устранить.10
Мы говорим о живописном искусстве Шагала в его высшей точке и в статическом разрезе, опираясь на лучшие удачи его последних опытов. История развития шагаловского мастерства внесла бы в нашу характеристику несколько оговорок, – это явствует само собой. Однако, и в этой своей, пока последней и совершеннейшей стадии, Шагал не безгрешен в одном отношении. Он не умеет быть грубым. Он недостаточно мужествен. Он, точно юноша в пору надлома, не вышел еще из незрелой припухлости и округлости членов. Заставить свою кисть зарычать и потрясти он не может. В его распоряжении нет гулких и грозных тонов. Он бывает гневен, яростен, иногда бешен, но не ужасен. Он похож на капризного ребенка. Он исходит криками и угрозами. Они не пугают, – они заставляют только его утешать. Благо ему, что его нынешний период – примирения с бытом – только и требует, что умиленной элегичности и небурной радости, и всем нежнейшим и искуснейшим приемам его палитры здесь есть ряд и место. Но вспомним про его парижский цикл, – цикл вихря, потрясений и хаоса. Что же! К этому периоду главным образом и относится наш упрек. Не то, чтобы рев апокалиптических бурь Шагал насвистывал на лирической свирели; пронзительные, смятенные и острые тона у него нашлись, ибо не забудем, что он – мастер; приливы и отливы ярости и страсти он бросает в нас с размаху всей большой силой своего дарования. Но это не та кисть, которой обеими руками бьет по дрожащему и стонущему полотну обуреваемый ужасом катаклизма и раздираемый душевной болью художник. Есть некое несоответствие между разметавшимися, растерзанными, повисшими в пустотах полотна частями предметов и недостаточно простой и суровой, слишком утонченной и аристократической фактурой живописного письма. Когда даже воздух трещит, коробится и оседает кубическими складками и гранями, как на парижских работах, тогда одной шагаловской тревоги и смятения недостаточно. Одного лишь пока мы не знаем: эта немужественность и мягкость, свойственна ли она природно Шагалу, и навсегда ли будет лиризм первоосновой его творчества? Или же, по мере хода времени, закаляясь и крепня, Шагал найдет другой язык для пламенных и роковых видений своего творчества? Ежели бы так случилось, и ежели бы так раздвинулись границы его умения и сил, тогда в лице Шагала пред нами встало бы поистине одно из самых совершенных дарований нашего искусства.11
Живописец, взявшийся за графику, становится философом собственного творчества. Это признают, если вспомнят, что графика – самый отвлеченный и обобщающий вид искусства. Она – больше расчет, чем порыв, больше мысль, нежели чувство, больше проза, чем поэзия. Потому-то живопись всегда таинственней графики, и художник, переходя от палитры к перу, как бы разоблачает себя и из полумрака выносит на свет свое настоящее лицо. Может быть, следует даже сказать, что графика живописца есть только формула его живописи, – сгусток, состоящий из главных черт его искусства. Шагал прибегает к графике внезапно, часто и бурно. Ряд живописный и ряд графический у него пересекаются и скрещиваются. В долях, мотивах и сюжетах они необычайно близки. Есть графические темы, позже ставшие картинами; есть картины, перешедшие впоследствии в тушь и бумагу. Шагал – график столько же, сколько живописец. Поэтому графика у него – не побочный параграф его искусства. В ней нет места случайностям. Это неплоды творческих пауз или смутных раздумий, зачерченных на клочках бумаги, как чертят их большинство художников, если только они не графики по призванию. Графические создания Шагала еще более густы, насыщены и наполнены, чем его живопись. Но им и надлежит быть такими, потому что если над полотном Шагал творит свои образы, то над бумагой он размышляет о них, исследует их природу. В этом отношении очень знаменательно, что сейчас Шагал особенно много и охотно занимается графикой. Уже длинный ряд названий составляется из его графических работ. Иногда думается, что это обилие графического материала служит признаком того, что Шагал стоит перед завершением нынешнего периода своей живописи, ибо художник слишком усиленно осознает свою работу, чтобы быть в состоянии долго еще оставаться при своих теперешних темах и приемах. Однако, преувеличивать значение этого было бы крайне неосторожно. Шагал никогда не становится аналитиком, классификатором, головным человеком. Он всегда горяч, и пусть его графика является лишь философией его искусства, – она сродни той пламенной философии, которой некогда каббала опалила мысль и сердце средневекового еврейства. Потому-то Шагал, размышляющий о своих видениях, Шагал-график воспринимается еще острее Шагала-живописца. Читая графическую «книгу Шагала», читаешь как бы мастерской compendium[93] его искусства, точный, лаконичный и четкий, в котором все на виду и нет недоговоренностей. Это – Шагал, как он есть. В его живописи цвет и тон красок, легкость и меткость ударов кисти, хитрая сеть мазков заслоняют и скрадывают ярость духа, наполняющую полотно; они соблазняют своей собственной и мягкой красотой. В графике же неистовый динамизм его искусства предстает нам совершенно обнаженным. Черные клочья, черные пылинки, черные узоры, черные сети, куски фигур и предметов, тугие, как бы закрученные до отказа, – они действительно бросаются на зрителя, месят его в своем водовороте и уносят. В образах своей живописи Шагал нередко бывает неуверенным; еще чаще неуверенно воспринимаем их мы; части картины кажутся нам иногда чересчур смутными, а видения – пойманными налету, за одно крыло. Графика Шагала кристаллизована до последней степени; она найдена им безусловно и окончательно. О ней мыслим мы прежде всего, когда, пользуясь определением Гюго, говорим, что Шагал создал в искусстве «новый трепет».12
В принципе, живопись и графика взаимно противоположны и враждебны, но в творчестве одного художника таких отношений между ними быть не может, ибо примиряюще действует живая личность мастера. В этом случае они иногда даже окрашивают друг друга. В живописи проявляются тогда черты графической схематичности и остроты, а в графике можно наблюсти некоторую как бы живописную скалу тонов и проблески светотени. Так обстоит дело с Шагалом. Для его живописи показательным образцом этого рода могут служить «Именины», возникшие в самый разгар последних графических «шагалесков» и явственно носящие на себе печать графичности. Но и графика Шагала – графика живописная, хотя бы уже по одному тому, что для нее характерны и отсутствие контура, и отсутствие сплошного пятна. У Шагала есть прием, ставший знаменитым, вызвавший подражание друзей и недругов и являющийся осью его графической техники; благодаря ему появление образа на бумаге имеет следующую видимость: из бумаги начинают как бы проступать отдельные черные волокна штрихов разной крепости и нежности; продвигаясь к середине, они сгущаются, уплотняются, твердеют, переходят в заливные пятна, формируют ими опорные части образа, дают им окончательную чеканку; затем текут дальше, снова убывают в плотности и в массе, расщепляются, становятся прозрачнее, разреженнее, сетчатее, опять переходят в пучки волокон и отдельными нитями совсем пропадают в плоскости листа. Надо ли говорить, насколько живописен по существу этот прием, применяемый Шагалом с изумительным, не знающим себе равного, мастерством. Он предопределяет как отсутствие контурной линии, так и возможность в нужный момент использовать эффекты графической светотени. Благодаря этому приему линия контура действительно становится у Шагала только «подразумеваемой». Между частью одной и частью другой образа не оказывается никакой непосредственной связи. Лишь мысленно и непроизвольно, сквозь белые пустоты листа, от одной сети волокон к другой ведет зритель линейную границу и окаймляет образ. Таким образом – и это второе важнейшее следствие – белая плоскость бумаги в графике Шагала является не фоном для образа, а частью его, живым, активным веществом, его формирующим и индивидуализирующим. И отсюда же: типичные для Шагала рваные и расщепленные края фигур, тон густых и разреженных пылинок-точек вокруг предметов, ритмические ряды цветочков, кружочков, ромбиков, которыми он заливает костюмы своих графических героев, все это – варианты основного строя, так же, как и отзвуки «рембрандтовской», штриховой, сетчатой светотени, которая то тут, то там пробегает иногда по шагаловскому листу. Шагал уже вышел к иллюстрации. Он создал прелестную графическую оправу к детским сказкам. Таким Шагала мы не знали раньше. Лист словно бы проглотил жидкую и мятущуюся лаву его обычных черных масс. Четко и даже скупо разбросались грани и пятна, напоминая сухой узор ветвей на вечернем небе. Перо Шагала стало лаконично и ясно. Он подчинил его себе, ибо сам подчинился тексту сказок.13
В 1920 году Шагал вернулся из Витебска в Москву. В Витебске он по своему делал революцию. Он был там кусочком новой власти. Он был советским комиссаром искусства. Но затем он пресытился и сложил с себя бремя высокого звания. Так по крайней мере он рассказывал. Правдой было то, что после двух лет правленствования его сверг супрематист Малевич. Он отбил у него учеников и захватил художественное училище. Он обвинял Шагала в умеренности, в том, что он всего-навсего нео-реалист, что он все еще возится с изображением каких-то вещей и фигур, тогда как подлинно-революционное искусство беспредметно. Ученики верили в революцию, и художественный модерантизм был для них нестерпим. Шагал пытался произносить какие-то речи, но они были путанны и почти нечленораздельны. Малевич отвечал тяжелыми, крепкими и давящими словами. Супрематизм был объявлен художественной ипостасью революции. Шагал должен был уехать (я чуть было не написал: бежать) в Москву. Он не знал, за что взяться, и проводил время в повествованиях о своем витебском комиссарстве и об интригах супрематистов. Он любил вспоминать о днях, когда в революционные празднества над училищем развевалось знамя с изображением человека на зеленой лошади и надписью: «Шагал – Витебску»; ученики его тогда обожали и потому покрыли все уцелевшие от революции заборы и вывески шагаловскими коровками и свинками, ногами вниз и ногами вверх; Малевич – бесчестный интриган, тогда как он, Шагал, родился в Витебске и прекрасно знает, какое искусство Витебску и русской революции нужно. Впрочем, он быстро утешился. В 1920 году в Москву переехал Грановский со своим Еврейским Театром. Ему нужен был художник. Шагал стал первым в династии его декораторов. Он принялся за работу вполне по-своему. Он не ставил никаких условий, но и упорно не принимал никаких указаний. Театр предался воле божьей. Из маленькой зрительной залы Чернышевского переулка Шагал вообще не выходил. Все двери он запер. Доступ внутрь был только для Грановского и для меня, при этом он каждый раз придирчиво и подозрительно опрашивал нас изнутри, точно часовой у порохового погреба; да еще в положенные часы сквозь слегка приотворенную половинку двери ему передавали еду. Это не было увлечением работой, – это было прямой одержимостью. Он исходил живописанием, образами и формами, радостно и безгранично. Ему сразу стало тесно на нескольких аршинах нашей сцены. Он заявил, что будет одновременно с декорациями писать «еврейские панно» на большой стене зрительного зала; потом он перекочевал на малую стену, потом на простенок и затем на потолок. Вся зала была ошагалена. Публика ходила столько же недоумевать перед этим изумительным циклом еврейских фресок, сколько и для того, чтобы смотреть пьески Шолом-Алейхема. Она была в самом деле потрясена. Я вынужден был неоднократно выступать перед спектаклем с вступительным словом и разъяснять, что же это такое и для чего это нужно. Я много говорил о левом искусстве и о Шагале и мало – о театре. Так выходило само собой. Теперь можно признаться, что Шагал заставил нас купить еврейскую форму сценических образов дорогой ценой. В нем не оказалось театральной крови. Он делал рисунки и картинки, а не эскизы декораций и костюмов. Наоборот, актеров и спектакль он превращал в категорию изобразительного искусства. Он делал не декорацию, а просто все те же панно, подробно и кропотливо обрабатывал их разными фактурами, как будто зритель будет перед ними стоять на расстоянии нескольких вершков, как он стоит на выставке, и оценит почти на ощупь прелесть и тонкость этого распаханного Шагалом красочного поля. Он не хотел знать третьего измерения, глубины сцены, и располагал все свои декорации просто по параллелям, вдоль рампы, как привык размещать свои картины по стенам или по мольбертам. Предметы на них были нарисованы в шагаловских ракурсах, в его собственной перспективе, не считающейся ни с какой перспективой сцены. Зритель видел множество перспектив; написанные вещи контрастировали с совершенно реальными; Шагал ненавидел их как незаконных нарушителей его космоса и яростно выкидывал их со сцены и яростно закрашивал, можно сказать – залеплял красками тот минимум предметов, без которых нельзя было обойтись. Он собственноручно расписывал каждый костюм, превращал его в сложное сочетание пятен, палочек, точек и усеивал мордочками, зверюгами и загогулинами. Он явно считал, что зритель, это – муха, которая улетит со своего кресла, сядет к Михоэлсу на картуз реб-Алтера и будет тысячью кристалликов своего мушиного глаза разглядывать, что он, Шагал, там начудесил. Он не искал ни типов, ни образов, он просто сводил их со своих картин. Конечно, в этих условиях цельность впечатления у зрителя была полная. Когда раздвигался занавес, шагаловские панно на стенах и декорации с актерами на сцене лишь только повторяли друг друга. Но природа этого целого была настолько нетеатральна, что сам собой возникал вопрос, зачем тушится свет в зале и почему на сцене эти шагаловские фигуры движутся и говорят, а не стоят неподвижно и безмолвно, как на его полотнах. В конце концов вечер Шолом-Алейхема проходил, так сказать, в виде оживших картин Шагала. Лучшими местами были те, где Грановский проводил систему своих «точек», и актеры «от мгновения к мгновению» застывали в движении и жесте. Линия действия превращалась в совокупность точек. Нужен был великолепный сценический такт, свойственный уже проявившемуся дарованию Михоэлса, чтобы шагаловскую статику костюма и образа соединить в роли реб-Алтера с развертыванием речи и действия. Спектакль строился на компромиссе и шел, переваливаясь из стороны в сторону. Густое, неодолимое, шагаловское еврейство овладело сценой, но сцена была порабощена, а не привлечена к сотрудничеству. Мы должны были пробиваться к спектаклю, так сказать, через труп Шагала. Его возмущало все, что делалось, чтобы театр был театром. Он плакал настоящими, горючими, какими-то детскими слезами, когда в зрительный зал с его фресками поставили ряды кресел; он говорил: “эти поганые евреи будут заслонять мою живопись, они будут тереться о нее своими толстыми спинами и сальными волосами”; – Грановский и я безуспешно, по праву друзей, ругали его идиотом: он продолжал всхлипывать и причитать. Он бросался на рабочих, таскавших его собственноручные декорации, и уверял, что они их нарочно царапают. В день премьеры, перед самым выходом Михоэлса на сцену, он вцепился ему в плечо и исступленно тыкал в него кистью, как в манекен, ставил на костюм какие-то точки и выписывал на его картузе никакими биноклями неразличимых птичек и свинок, несмотря на повторные, тревожные вызовы со сцены и кроткие уговоры Михоэлса, – и опять плакал и причитал, когда мы силком вырвали актера из его рук и вытолкнули на сцену. Бедный, милый Шагал! Он, конечно, считал, что мы тираны, а он страдалец. Это засело в нем настолько крепко, что с тех пор, в течение ряда лет, он больше не прикоснулся к театру. Он так и не понял, что полным, непререкаемым победителем был он и что от этой его победы юному еврейскому театру было очень трудно.14
Революция застигла Шагала в самом разгаре новых поисков, – с тех пор, и по сей день, он выбит из колеи. Куда приведет его новый этап, можно только угадывать. Было основание думать, что мечущийся Шагал выйдет, должен выйти к тому «grand art» преображенного быта, какой наметился у него в нескольких последних больших работах, сделанных в России, – в великолепном «Молящемся еврее», в «Зеленом старике» и т. п.; здесь местечковые евреи выросли в громадные национальные фигуры, глубоко почвенные в своей бытовой типичности и в то же время наделенные всей внутренней значительностью символа. Однако в эти же годы стали прорываться в вещах Шагала и другие черты. Это – черты еще более тесного, жаркого, спешащего, добровольно-покорного подчинения «тирании мелочей», господству дорогого быта. Это проявилось в витебской сюите: «Дачный цикл», Человек, живущий на даче, у которого есть палисадник с зелеными деревцами и на балконе висят красные, в горошинах, занавески, на столе золотится самовар, и в плетеной корзинке алеют и синеют ягоды, – вот он, человек в раю, точно бы после трудного земного пути обретшийся «в месте светлем, в месте злачнем, в месте покойном»… Может быть, через это окончательное примирение с обыденностью должен пройти смирившийся живописец? Но что же тогда соединит его «grand art» с «апологией дачи»? Как знать, как знать?.. Что, кроме гаданий, оставляет нам на долю Шагал? Его сегодняшний парижский день смутен. Надо мужественно признаться, что нет более безнадежной вещи, чем предсказание о будущем этого опьяненного беззаконием свои вдохновений художника. 1918 / 1926.Эфрос А. Профили. М., 1930. С. 175–205 (репринтное издание. – М., 1994).
10. Д. Аранович. Художники Парижа. Марк Шагал. 1928
В дореволюционном русском искусстве Марк Шагал был всегда пасынком. Из бедной еврейской среды своего родного города Витебска, кое-чему обучившийся у местного художника Пэна, Шагал приехал в блестящий Петербург в 1907 г. Робким провинциальным юношей, который одинаково боялся своего сильного акцента в произношении и «невероятных» художественных планов, Шагал вступил в Школу Поощрения Художеств. Как странно думать, глядя на полотна Шагала, о том, что его учителем здесь был Бакст. Нужно ли говорить, что влияние этого, до пряности экзотического и жизнерадостного учителя прошло бесследно. Своя, мучительная, но глубоко самостоятельная дорога наметилась у Шагала очень рано. В одной из первых работ – «Слепые музыканты» (1907 г.)25 ему, никого и ничего не видавшему, еще мерещился импрессионизм. Но уже несколько месяцев спустя, когда художнику шел только двадцать первый год (род. 6 июля 1887 г.), Марк Шагал нашел тот свой живописный язык разностороннего экспрессионизма, на котором он впоследствии себя выразил полностью. Язык этот был подсказан кошмарной жизнью той среды, откуда недавно пришел Шагал. «Улица смерти» – так называется первая самостоятельная работа Шагала (1908 г.), где он запечатлел вопли бесправной еврейской нищеты царской России в виде мертвеца, вынесенного на улицу. Желтые блики свеч падают на лицо покрытого черным саваном трупа; сзади могильщик с лопатой; женщина рыдает, подняв кверху руки; убогие деревянные домишки покосились своими жалкими окнами, а на крыше одного из них протяжно играет скрипач. Что могли сказать подобные полотна эстетствующей буржуазии реакционных лет после революции 1905 года? Нужно ли говорить, что Шагал пришелся «не ко двору» ни современному зрителю, ни кругу чопорных и «важных» петербургских художников («Мир Искусства»), ни, весьма не лишенной антисемитизма, «национально»-художественной Москве. Обложка книги Вальдемара Жоржа «Марк Шагал» (Париж, 1928) и дарственная надпись на титульном листе: Арановичу с уважением и / симпатией. / Marc Chagall / 928 / Paris
Обложка книги Вальдемара Жоржа «Марк Шагал» (Париж, 1928) и дарственная надпись на титульном листе: Арановичу с уважением и / симпатией. / Marc Chagall / 928 / Paris
Удивительно ли после этого, что уже два года спустя после своей первой самостоятельной вещи (в 1910 г.) Марк Шагал переселяется в Париж26. Интернациональная атмосфера Парижа освобождает художника от сознания бесправия и униженности. Глухо принятый, отвергнутый на родине «плакальщик» еврейского местечкового гетто, Шагал обращается к протестующей международной художественной богеме. Здесь, за столиками кафе «Ля рюш», где не отличали православного от иудея, начался второй период творчества художника. Шагал временно отвлекается от национальных мотивов и погружается в сферу преимущественно формальной живописи («Поэт» 1910 г.27 и др.). В чужой стране родные сюжеты освобождаются от протестующей горечи, поэтизируются, преображаются изыском чисто художественных откровений. Недавний мрачный, психологический экспрессионизм художника сменяется экспрессионизмом формальным, эстетическим. Местечковый «Продавец скота» (1911) трактуется уже своеобразной современной пасторалью, основным содержанием которой являются смелые переливы малинового цвета. В «Родном местечке» (1911 г.)28 Шагал впервые от мрачной действительности уходит в произвольный, болезненно напряженный мир фантастики. Огромные головы фигур художник покрывает цветами и идиллическими сценками сельской жизни. Корову доят на крыше дома; женщина с отделенной головой носится с ведром в воздухе («Местечко» 1911 г., «Живопись» 1912 г.29 и др.). Несмотря на то что и товарищи Шагала отличались не меньшей смелостью в смысле осуществления «алогического» искусства, насыщенно живописные полотна художника быстро становятся известными. Шагала приглашают на выставки в Амстердам, Брюссель, Берлин. В течение четырех лет Шагал становится знаменитым. Война опустошила художественную атмосферу Парижа. В 1914 г. Шагал снова оказался в захолустном Витебске. Точно отрезвленный «затхлой, топкой и грязной» атмосферой гетто, художник снова возвращается к специфически еврейским темам; «Праздник», знаменитый зеленый «Еврей», «Раввин»30, «Окрестности Витебска», – все это относится к четырнадцатому году. Любопытна творческая физиономия Шагала этого периода. Формальные увлечения и «откровения» художника заметно приглушили в нем остроту социального негодования. Живопись Шагала начинает освобождаться от наваждений и вместе с тем от мистического истолкования своей социальной среды. Из Парижа художник вернулся влюбленным в цвет и в эстетическую выразительность линейного узора. «Именины» (1915 г.) возвращают нам Шагала живописцем декоративного уклона. Очертания фигур становятся изысканнее и тщательнее. Сюжет не выпирает больше своей повествовательностью. Фон трактован плоско, декоративно и уснащен намеренно орнаментальными узорами. В семнадцатом году (знаменитая «Прогулка» в Русском музее) декоративность Шагала достигает своего апогея. Не ограничиваясь контуром, художник переходит к тщательной эстетической обработке цвета. Как в ленинградской «Прогулке», так и в двойном портрете «Живопись» (1918 г.)31, Шагал пользуется краской исключительно для передачи ц в е то в о г о з в у ч а н и я (фиолетовый, зеленый), совершенно не считаясь с реальным колоритом предметов. Этот третий, послезаграничный период творчества Шагала был отмечен одно время критическим моментом Шагала, как живописца. От плоской трактовки поверхности Шагал незаметно для самого себя подходит к специфическим приемам графики. Большой холст 1918–19 года «Портрет жены» 32, выдержанный в трех приглушенных тонах белого, черного и зеленого, временно вводит редкого подлинного живописца на русской почве, Шагала, в круг специфически «петербургской», «графической» школы живописи. Начинается напряженная борьба живописного инстинкта художника с графической традицией северной русской школы. Временно от этой внутренней борьбы Шагала отвлекает революция. В восемнадцатом году Шагал – комиссар витебской Художественной Школы и автор агитационных плакатов («Вперед, вперед без остановки» и др.). – «В этой жалкой “дыре”, с почти стотысячным населением, где когда-то коснел какой-то Юр[ий] Клевер и доживает жалкое передвижничество – ныне, в дни Октябрьские – раскачивалось многосаженное революционное искусство», – корреспондировал из Витебска воодушевленный Шагал («Искусство Коммуны», № 3, от 22 декабря 1918 г.)33. Но вслед за увлечением обнаружились противоречия. Для широких масс живопись Шагала казалась мало понятной. Тенденция развития левой живописи, напротив, вела к еще большей алогической последовательности, вплоть до полного отрицания изобразительности и картины, как таковой, вообще. А между тем Шагал, как художник, мог жить и развиваться только в сфере и з о б р а з и т е л ь н о й и у с л о в н о р е а л ь н о й живописи. Одно время казалось, что художник может найти свое нормальное приложение в театре. К этому времени (1920 г.) относятся замечательные декоративные росписи и декорации Шагала для Еврейского Камерного Театра в Москве, которые своим экспрессионизмом определили чуть ли не весь последующий стиль театра. Но и отсюда, от огромных панно и разнообразных декораций и костюмов к пьесам Шолом-Алейхема («Мазелтов», «Это ложь!») живописная натура Шагала влекла его неумолимо к картине. Об этом свидетельствует и лучшее из панно – необычайный фиолетово-малиновый «Музыкант» и другие простенки стенной росписи. В двадцать втором году Шагал – в Германии. Раздавленная мировой войной, повергнутая в депрессию и в болезненно-напряженное искусство психологического экспрессионизма, Германия сразу вспоминает восемь лет отсутствовавшего Шагала. Формальный экспрессионизм Шагала жадно воспринимается, как высшая ступень родного искусства. Его влияние на немецких художников – огромно. Проходит год, и Шагал – в Париже. Из завсегдатаев кафе «Ля рюш» остались немногие. Зато оставшиеся выросли в крупных художников. Шагал явно отстал. Год, другой уходит на овладение техникой современной парижской школы. В «Двойном портрете»34, в «Живописи» 24-го года Шагал еще живописец «немецкой» экспрессионистической школы. Следующий год является поворотным. Фактура полотен Шагала заметно меняется. В многообразной серии цветов с фигурами художник овладевает постепенно густой, объемной палитрой; заостряя выразительность краски, доводит ее до реальной пластичности. Теперь Шагал – уже не отставший от своих былых парижских товарищей, а один из крупнейших современных живописцев с мировым именем. Одна из последних работ Шагала, его жизнерадостная «Весна в Париже» (1928 г.), это доказывает особенно убедительно. Такова кривая развития Шагала-живописца. Шагал-график – тема особая.
Аранович Д. Художники Парижа. Марк Шагал // Красная панорама (Л.). 1928. № 47. 23 ноября. С. 13–14.
11. В. Вейдле. Заметки о Шагале. 1933
Каждая перемена в настоящем меняет для нас и прошлое. История движется, непрерывно перестраиваясь во всем своем составе. Отдаляться от чего-нибудь во времени – не значит непременно терять из виду то, от чего уходишь, но это значит видеть его иначе; лучше, может быть, или хуже, но всегда по-новому. Живопись девятнадцатого века (и даже скульптура вслед за ней) чем дальше, тем все исключительней обращалась только к зрению; живопись нашего времени все больше начинает иметь в виду один лишь вычисляющий и выверивающий рассудок. Импрессионизм был торжеством глаза не только над всеми остальными чувствами (которыми не пренебрегала живопись других времен), но и над чувством вообще, над телесно-душевным единством человека; вместо созерцаемого в картине бытия нам предлагали произвольно набранный отрезок самого процесса созерцания. После импрессионизма перестали удовлетворяться и этим; кубист вместо того, чтобы писать картину, перечисляет кистью на полотне приемы, с помощью которых она могла бы быть написана. В искусстве, окружающем нас, последние импрессионисты противостоят наследникам кубизма. По одну сторону (невысокой) баррикады – Матисс, Вламенк, Утрильо, Дюфи; по другую – колбы и реторты Пикассо, чарующе решенные уравнения Брака, классические холодильники Дерена, а неподалеку и Беклин для негров Макс Эрнст, и престидижитатор Кирико. По ту сторону, как никак, человеческой, да и художественной цельности больше, чем по эту; но та цельность еще, а не уже. Там человечность без будущего; здесь будущее без человека. Неужели придется выбирать? Не отрадней ли положиться на тех, кто не умещается в эту схему? Но их немного. Можно назвать Руо, может быть, Клее, отчасти, пожалуй, Сутина. Надеяться на Громера, кажется, уже нельзя. В Шагала я продолжаю верить. Владимир Вейдле
Владимир Вейдле
* * *
Искусство для искусства? Двусмысленность этой формулы давно уже разоблачил Франческо де Санктис. «Цель искусства – искусство, очень хорошо. Птица поет, чтобы петь, совершенно верно. Но птица в своей песне выражает всю себя: свои побуждения, свои потребности, свою природу. Так и человек в своей песне выражает всего себя. Не довольно ему быть художником: должно быть человеком». Можно добавить, что быть человеком ему надо именно для того, чтобы вполне осуществить призвание художника. Искусство Шагала тем и ценно, тем для нашего времени и редкостно, что оно выражает полностью внутренний его мир. Это не значит, что по его поводу нужно говорить о выражении, как о программе, объединять его игрой слишком емких понятий с немецкими или иными экспрессионистами. К ним был близок Шагал лишь временно, лет пятнадцать назад (когда он так и прославился в Германии); в те годы переживание, замысел не всегда получали у него единственно необходимую, до конца оправдывающую их форму. Случалось, что внутренний его мир сказывался не через картину, хотя и на картине; не в художественном ее существе, а в каких-нибудь околичностях и случайностях. Но с тех пор он избавился от этого соблазна, которому никогда не отдавался целиком, а экспрессионизм погиб именно потому, что хотел обойтись без формы, точно так же, как кубизм обходился без содержания. Избавлению Шагала помогла французская живопись, и она же научила его более острому красочному зрению и более точному равновесию масс. В одной из лучших картин последнего времени, крылатая рыба и стенные часы, вдвоем перелетающие реку35, так убедительно написаны, что не сомневаешься ни минуту в их подлинном бытии, в соприродности их не воображаемому только, но и зримому, осязаемому миру. Мир Шагала не представляется и вообще каким-то частным его делом, от всего оторванной и в конечном счете своекорыстной выдумкой; напротив он очень общ и тепел, этот мир, он полон того удивительного чувства утробной, семейственной сращенности людей, которым тысячелетия жило еврейство, которому так завидовал Розанов, и которое впервые теперь в этом из самой глуши еврейства выросшем искусстве получает в формах и красках созерцаемое свое воплощение.* * *
Сыновство, супружество, материнство, братство – все это имеет религиозный смысл или не имеет даже и человеческого смысла. Религия здесь непосредственно вырастает из стихии дочеловеческой, доличной, доразумной, из той, где одновременно человек – вопреки слову Паскаля – и ангел, и животное. Вероятно так и нужно, чтобы именно в этой форме религия, а лишь за ней и человек, вернулась в опустошенное искусство. Искусство нашего времени, искусство без человека может услужать человеку, может ему нравиться, может отвечать дешевым предложением на нетребовательный спрос; достучаться до человеческой души оно не может. Заново очеловечить искусство способна одна религия. Но, конечно, ни к чему не приведет, если художник будет лишь «вкладывать» религиозное содержание в нерелигиозную по существу картину. Нет, в самой форме, в плоскостях и объемах, в красках и ритмах картины должен сказаться трепет религиозной, хотя, быть может, и не знающей о том души. Шагал закончил недавно едва ли не самую величественную и полновесную из своих картин36. Огромный пунцовый ангел падает в ней с неба и человеческая фигура в темной одежде поднимается на воздух как бы силою этого падения. В центре звенят краски, светлые и яркие; в углу, противоположном тому, что занят ангелом, фигура, похожая на раввина, держит в руках, по-видимому, свиток Торы. Годами работая над холстом, художник, однако, совсем не думал ни о каком «сюжете», ни тради ционном, ни вымышленном. Конечно, ангел, свиток что-то значат, о чем-то сигнализируют зрителю, но это о них можно утверждать лишь в той же мере, как о массах и красках картины или о других, казалось бы чисто формальных ее признаках. Чем больше всматриваешься в нее именно как в картину, тем яснее видишь полную слитность ее религиозного и художественного существа. Не удивляйтесь, что безумным кажется созданный ею мир: в нем есть цельность, которой нельзя найти в распадающемся, рассудочно разложенном мире. Не удивляйтесь, что ужаса в ней больше еще, чем радости. «Хочешь бежать от Бога, беги к Богу», сказал блаженный Августин; но и в самом бегстве уже есть признание бытия Господня. <…>Вейдле В. Заметки о Шагале // Числа (Париж). 1933. Кн. 9. С. 176–178.
12. А. Бенуа. Выставка Шагала. 1940
Ну что же? Должен сознаться – c’est captivant[94]. Ничего не поделаешь. Это то искусство, которое как раз мне должно претить в чрезвычайной степени. Это то, что во всех других сферах жизни я ненавижу (я еще не разучился ненавидеть), с чем я, несмотря на всю свою душевную усталость, еще не могу примириться – и все же это пленит, я бы даже сказал – чарует, если держаться точного смысла этого слова. В искусстве Шагала заложены какие-то тайные чары, какое-то волшебство, которое, как гашиш, действует не только помимо сознания, но и наперекор ему <…> Шагал удостоился премии Карнеги37. Это уже своего рода мировая consecration[95]. Но и до того он вот уже десятки лет принадлежит к тем художникам, имена которых получили всесветную известность, про которых критики не пишут иначе, как пользуясь готовыми штампованными формулами, а это является выражением величайшего почитания. Шагал настоящая ведетта[96], вроде, ну скажем, Чаплина. И эта признанность может считаться вполне заслуженной. Он действительно подошел к эпохе, он шевелит в людях такие чувства, которые почему-то тянет испытывать. Можно еще найти в этом искусстве элементы бесовского наваждения или действия сил нечистых, однако об этом говорить не позволяется, а если разрешается, то не иначе как в ироническом тоне, или как о некоей «аллегории». Несомненно, есть что-то общее между творчеством Шагала и творчеством всяких художников – демониаков средневековья, часть которых упражнялась в «украшении» священнейших соборов всякой скульптурной чертовщиной, другая окружала миниатюры молитвенников самыми безрассудными и столь ехидными гримасами. Той же чертовщиной увлекались такие великие мастера живописи, как Босх или старший Брейгель, как Шонгауэр и как Грюневальд, – и со всеми ими у Шагала есть по крайней мере то общее, что он всецело подчиняется произволу своей фантазии; что он пишет то, что в голову взбредет; что он вообще во власти чего-то такого, что не поддается какому-либо разумному определению. Однако просто от вздора и шалости и от бредового творчества сумасшедших творения Шагала отличаются именно своими подлинными чарами. А.Н. Бенуа. Париж, октябрь 1946
А.Н. Бенуа. Париж, октябрь 1946
Нынешняя выставка (открытая в галерее Май, 12, рю Бонапарт38) лишний раз подтвердила во мне мое отношение к искусству Шагала (я был одним из первых, кто четверть века назад оценил это искусство)39, и в то же время она рассеяла прокравшееся в меня сомнение: не снобичен ли Шагал; не стал ли он шарлатанить, не превратился ли он, толкаемый к тому успехом, в банального трюкиста, который торгует тем, что когда-то давало ему подлинное вдохновение? Такие вопросы могли вполне естественно закрасться в душу, так как репертуар Шагала все такой же ограниченный, и он только и делает, что повторяет одни и те же темы. Так и на данной выставке мы снова увидели все тех же летающих бородатых иудеев, возлежащих на диване любовников, белых невест, акробатов, нежных эфебов с букетами, порхающих ангелочков, согбенных жалких скрипачей, и все это вперемежку с какими-то музицирующими козлами, с гигантскими курицами, с телятами и апокалиптическими конями. Да и в смысле фона это опять то же черное небо с разноцветными ореолами светила, те же домишки грязной дыры из ужасного захолустья, тот же талый снег, или же рамы окон, зеленеющие кусты, стенные часы, семисвечники, торы. Меняется лишь расположение этих разнообразных элементов, и меняется формат картины. Видно, без иных из этих обязательных деталей художник просто не может обойтись, и они нет-нет да и пролезут в его композицию, которая ему кажется незаконченной, пока именно какой-либо такой козел-скрипач или крылатый вестник не нашли себе места. Я шел на выставку без большой охоты, в предвидении именно этих повторений, успевших за годы моего знакомства с творчеством Шагала сильно приесться. Но вот эта новая демонстрация «упражнения с ограниченным количеством реквизитов» не только меня не огорчила, но она пленила меня, а, главное, не получилось от этого сеанса впечатления трюкажа или хотя бы до полного бесчувствия зазубренного фокуса. В каждой картине, в каждом рисунке Шагала все же имеется своя жизнь, а, следовательно, свой raison d’être[97]. Каким-то образом все это, даже самое знакомое, трогает; не является и сожаление вроде того, что «вот такой замечательный талант, а так себя разменивает, так себя ограничивает». Шагал просто остался верен себе, а иначе он творить не может. Но когда он берется за кисти и краски, на него что-то накатывается, и он делает то, что ему велит распоряжающееся им божество – так что выходит, что вина божества, если получается все одно и то же. Но только божество это, разумеется, не Аполлон. Самое прельстительное и безусловно прельстительное в Шагале, это – краски, и не только их сочетание, но самые колеры, каждый колер, взятый сам по себе. Прелестна эта манера класть краски, то, что называется фактурой. Но и эти красочные прелести отнюдь не аполлонического происхождения. Нет в них ни стройной мелодичности, ни налаженной гармонии; нет и какой-либо задачи, проведения какой-либо идеи. Все возникает как попало, и невозможно найти в этой сплошной импровизации каких-либо намерений и законов. Вдохновения – хоть отбавляй, но вдохновение это того порядка, к которому художники, вполне владеющие своим творчеством, относятся несколько свысока. Почему не быть и такому искусству, почему не тешиться им? Тешимся же мы рисунками детей или любителей, наслаждаемся же мы часто беспомощными изделиями народного творчества – всем тем, в чем действует непосредственный инстинкт и в чем отсутствует регулирующее сознание. Мало того, этим наслаждаться даже полезно, это действует освежающе, это дает новые импульсы. Но аполлоническое начало начинается лишь с того момента, когда инстинкт уступает место воле, знанию, известной системе идей и, наконец, воздействию целой традиционной культуры. Это все и почиталось до начала ХХ века настоящим искусством; с историей этого искусства знакомят нас музеи, и из-за такого искусства эти музеи приобрели в современной жизни значение бесценных хранилищ, чуть ли не храмов. Мы общаемся в них с высочайшими и глубочайшими умами (хотя бы эти умы и выражались подчас в очень несуразных, странных формах, а то и просто снисходили до шутки, до балагурства). Но странное впечатление будут производить в этих же музеях картины Шагала и других художников, рожденные нашей растерянной, не знающей, а quel saint se vouer[98] эпохой. Выражать свою эпоху они, разумеется, будут и будут даже делать это лучше, нежели всякие картины более разумного и трезвого характера, или же такие картины, которые выдают большую вышколенность. Однако я сомневаюсь, что будущие поколения преисполнятся уважения к нашей эпохе после такого ознакомления с ней, и станут на нас оглядываться так, как мы оглядываемся на разные пройденные фазисы человеческого прошлого – с нежностью, с умилением, а то и завистью. Люди благочестивые среди этих будущих (столь загадочных!) поколений, вычитывая душу нашего времени из этих типичнейших для него произведений (из живописи Шагала, среди многого другого), скорее почтут за счастье, что подобный кошмар рассеялся, и обратятся к небесам с мольбой, чтобы он не повторялся. Мне хочется выделить одну из картин на настоящей выставке Шагала. Если она не менее кошмарна, нежели прочие, если она и очень характерна для Шагала, если и в ней доминирует импровизационное начало, то все же она, как мне кажется, серьезнее всего прочего; она, несомненно, выстрадана, и чувствуется, что, создавая ее, художник, вместо того, чтобы прибегать к привычному творческому возбуждению, имеющему общее с кисловато-сладостной дремотой, был чем-то разбужен, не на шутку напуган и возмущен. Несомненно и то, что поводом к созданию этого видения были реальные события. <…> Однако самый смысл представленного символа мне непонятен. Почему именно бледный труп пригвожденного к кресту Христа перерезает в белом сиянии наискось мрак, разлитый по картине?! Непонятны и разные другие символы (непонятны именно в качестве символов), что разбросаны по картине. Однако в целом это “видение” поражает и подчиняет внимание. Следует ли толковать присутствие Христа, как луч надежды? Или перед нами искупительная жертва? Или же сделана попытка обличения виновника бесчисленных бед? Считали же иные, что все беды, обрушившиеся на человечество за долгие века христианской эры, – прямые плоды того учения, которое, проповедуя милость и любовь, на реальном опыте повлекло за собой более жестокие и злобные последствия, нежели все, ему предшествовавшее. Как решить задачу, я не знаю. Картина сама по себе не содержит ответа, а обращаться за изустными комментариями к самому творцу (если бы он пожелал их дать) я не намерен. Но одно, во всяком случае, остается бесспорным. В картине «Христос»40 представлено нечто в высшей степени трагическое и такое, что вполне соответствует мерзости переживаемой эпохи. Это – документ души нашего времени. И это – какой-то вопль, какой-то клич, в этом и есть подлинный пафос! Быть может, эта картина означает и поворот в самом творчестве Шагала, желание его отойти от прежних «соблазнительных потех», и в таком случае можно ожидать от него в дальнейшем других подобных же откровений. Шагал – художник подлинный, и то, что он со всей искренностью еще скажет, будет всегда значительно и интересно41.
Бенуа А. Выставка Шагала // Последние новости (Париж). 1940. № 6886. 3 февраля. Перепечат.: Бенуа 1968. С. 269–273; Каменский 2005. С. 271 (в сокр.).
13. И. Эренбург. О Марке Шагале. 1967
Мы знаем великих художников, которые не раз в своей жизни чудодейственно менялись: Пуссен от увлечения венецианской красочностью перешел к строгому классицизму и кончил лиризмом; Сезанн выступил вместе с импрессионистами, а потом начал искать постоянство формы; на определении «периодов» Пикассо искусствоведы сломали себе голову. Шагал остался таким же, каким был в молодости. В этом году ему исполнилось восемьдесят лет, но его последние работы напоминают холсты, сделанные свыше пятидесяти лет назад. Это не достоинство и не недостаток – это природа художника. Для любого поэта или композитора время – неотъемлемое начало творчества, поэзия или музыка протекают во времени. Для художника или скульптора самое существенное – пространство. Конечно, было много художников, которые остро чувствовали ход времени, пространство для них менялось соответственно со сменой эпох, но были и другие, которые не обращали внимания ни на ход часов, ни на листики календаря. Когда Шагалу исполнилось пятьдесят лет, он написал картину «Время не знает берегов»42. Крылатая рыба летит над Двиной, к ней подвешены большие стоячие часы, стоявшие когда-то в доме родителей художника или его невесты. У Шагала летают не только птицы, но и рыбы, летают над городом бородатые евреи, скрипачи устраиваются на крышах домов, влюбленные целуются где-то ближе к луне, чем к земле. Однако хотя все у него летит, кружится, он не замечает хода годов. Я его встречал несколько раз в Париже в эпоху «Ротонды»; он в этом кафе бывал редко. Мне он казался самым русским из всех художников, которых я тогда встречал в Париже: Архипенко был одержим кубизмом, Цадкин походил на англичанина, Сутин молчал, глядел на всех и на все глазами испуганного подростка, Ларионов проповедовал «лучизм», а молодой Шагал повторял: «У нас дома…» Я его увидел много времени спустя в мастерской на авеню Орлеан, и там он писал домики Витебска. В 1946 году мы встретились в Нью-Йорке, он постарел, но говорил о судьбе Витебска, о том, как ему хочется домой. Последний раз мы увиделись в его доме в Вансе. Он был все тем же. Как-то он прислал мне длинное письмо – в Петрограде сорок лет назад он оставил холсты в мастерской рамочника. Он хорошо помнил дом на углу двух улиц, но не понимал, что значат сорок лет в жизни Ленинграда. Недавно, разговаривая со мной, он сказал о художнике Тышлере: «Молоденький». Тышлер остался для него двадцатилетним юнцом. Он никак не может поверить, что старого Витебска нет, что его сожгла фашистская авиация: он видит перед собой улицы своей молодости.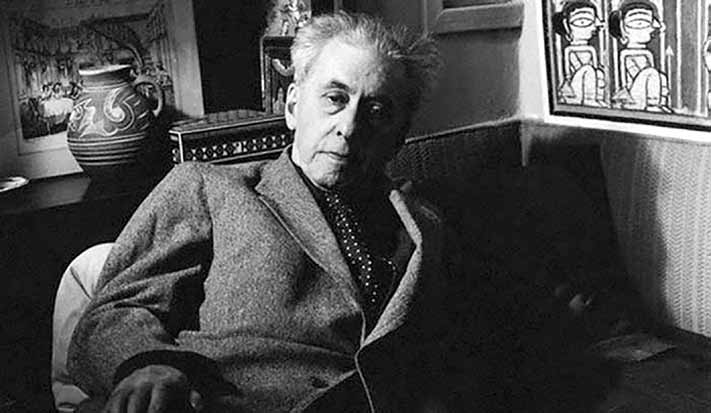 И.Г. Эренбург.1960-е
И.Г. Эренбург.1960-е
Шагал провел детство и отрочество в Витебске. Когда ему исполнилось двадцать лет, он уехал в Петербург, учился живописи у художника Бакста. Три года спустя ему удалось попасть в Париж. Весной 1914 года он вернулся в Витебск, женился на Белле и снова направился в Петербург. Первый год революции он прожил то в Петрограде, то в Витебске, а осенью 1918 года Луначарский назначил его комиссаром по изобразительному искусству в Витебске. Он открыл там новую художественную школу, уговорил Малевича и Пуни приехать в Витебск – учить молодых энтузиастов живописи. Полтора года спустя преподаватели перессорились друг с другом. Шагал, разозлившись на«беспредметников», уехал в Москву, проработал там два года и переселился в Париж. Я рассказываю это, чтобы показать, каким чудодейственным родником остался для него Витебск, в котором он прожил относительно мало. Кажется, вся история мировой живописи не знала художника, настолько привязанного к своему родному городу, как Шагал. Для Вермеера, при всей его привязанности к Дельфту, мир не ограничивался этим городом. Желая сказать нечто доброе о Париже, Шагал назвал его «моим вторым Витебском». Он прожил несколько десятилетий в Париже, проводил летние месяцы в Бретани и в Пиренеях, в Оверни и в Савойе, жил, да и теперь живет близ Лазурного берега, побывал в Испании, в Англии, в Голландии, в Германии, в Италии, восхищался галереей Уффици и улицами Флоренции, два раза был в Греции, два раза в Палестине, глядел на Иерусалим, потом на пирамиды Египта, на пестрые краски Бейрута, шесть лет прожил в Нью-Йорке, съездил в Мексику. Что зрительно осталось от пятидесяти лет блужданий, от диковинных деревьев юга, от небоскребов, от развалин Акрополя? Да почти ничего: несколько пейзажей. Эйфелева башня, у верхушки которой порой обнимаются витебские влюбленные, вот и все. Деревянный захолустный Витебск, город молодости, врезался и в его глаза, и в его сознание. В 1943 году он написал в Нью-Йорке ночной пейзаж: улица Витебска, месяц и лампа, а под ней влюбленные витебчане43. В 1953 году он пишет «Красные крыши»: дома Витебска, влюбленные и телега с русской дугой. Еще позднее, в «Женщине с голубым лицом», – телега на крыше дома и снова дуга выдают прошлое. В 1919 году Шагал в витебском сборнике «Революционное искусство» выступил против «сюжетной живописи», против «литературщины»44. Это может показаться парадоксом: он и тогда был самым «литературным», самым «сюжетным» из всех современных живописцев, да и потом всю свою жизнь он делал то же самое. Но здесь не измена себе, а условность словаря. Шагал отвергал тех мнимых живописцев, которые думали и думают, что можно воздействовать на глаза одной сменой сюжета. Он с отрочества знал, что у живописца свой язык, и протестовал против фотографической живописи. Ни протокол, ни опись бутафории не казались ему искусством. При этом он был и остался поэтом, не потому, что в молодости иногда писал слабые стихи, а потому, что поэтичность присуща его живописи. Можно сказать, что яблоки или гора Сен-Виктуар – это главы романа, созданного Сезанном. А Шагал – поэт или, если точнее определить, сказочник, Андерсен живописи. Сказки неизменно однообразны и многообразны: меняется свет и цвет, а действующие лица повторяются. Шагал показывает людей Витебска; влюбленные целуются, печальные и ясные; бородатые старые евреи то сидят пригорюнившись, то летают над городом; скрипачи не устают играть на крышах; кругом деревянные домишки, деревья, месяц или полная луна, река или небо, домашние животные, которые полюбились ему еще в детстве, – петух, корова, ослик, коза, рыба. Шагал опытный мастер и он ребенок, влюбленный в сказку. Один искусствовед, итальянец, написавший книгу о Шагале45, считает, что возникновение его живописи таинственно, по его мнению, при всем ее русском характере, она никак не связана с народным искусством. Я не знаю, что подразумевает искусствовед под «народным искусством». В Витебске в начале нашего века не было ни гончаров, сохранявших старые традиции, ни мастеров народной игрушки, ни вологодских кружевниц, ни северных мастеров резьбы, но в этом городе, как и во всех русских городах, жили и работали мастера вывесок. Над лавками, где торговали фруктами или папиросами, над булочными и над парикмахерскими красовались жанровые сцены или натюрморты. Хотя на парикмахерской, где стриг и брил витебчан дядя Шагала, не было ничего изображено, начинавший художник, бесспорно, видел много увлекательных вывесок. Да и сам Шагал одно время, вынужденный заработать несколько рублей, писал вывески, и это занятие ему нравилось. Кончаловский рассказывал, как на него подействовали вывески: «Хлебы» он написал под прямым влиянием одного из народных кустарей-живописцев. Все ранние «бубнововалетцы» – и молодой Машков, и Лентулов, да и художники других групп – Малевич до того, как он написал знаменитый квадрат, и Ларионов, – все они испытали двойное влияние – Сезанна и мастеров вывесок. Конечно, в Париже Шагал испытал на себе различные влияния – и кубизма, и «диких», и даже сюрреализма, но эти влияния были кратковременными, и, обогатив мастерство художника, они не изменили его почерка. Бывают чудесные холсты Шагала, бывают похуже, но его картины никогда нельзя спутать с работами других мастеров. Шагал – большое явление в мировой живописи XX века. В фондах Третьяковской галереи и ленинградского Русского музея хранятся прекрасные его холсты. Наши музеи их предоставляли для больших выставок в Париже46, в Токио. Может быть, пришло время показать работы витебчанина М.3. Шагала не только французам или японцам, но также его землякам? Ведь все созданное им неразрывно связано с любимым им Витебском47.
Эренбург И. О Марке Шагале // Декоративное искусство СССР (М.). 1967. № 12. С. 33–37.
14. Д. Сарабьянов. Ускользающий лик Шагала. 1987
Марк Захарович Шагал прожил почти сто лет (1887–1985) – из них более шестидесяти за пределами России – в основном во Франции. Часто его считают французским художником. Во многих музеях мира на этикетках его картин рядом с именем и названием стоит слово «Франция». Если иметь в виду длительность «прописки» в этой стране, такое определение может показаться убедительным. Но, с другой стороны, представить Шагала вне России, выросшим на какой-то иной почве – невозможно. Он родился близ Витебска, в местечке Лиозно48, в черте еврейской оседлости, в детские годы сжился с местечковым бытом, воспринял все обычаи и привычки традиционной религиозной семьи. Казалось бы, в юности ничто не обещало ему мировой славы. Но неистребимый дар и счастливая судьба вынесли его по крутой траектории вверх, и он буквально в течение каких-то двух-трех лет оказался в кругу самых изысканных ценителей живописи, самых талантливых художников того времени, пролагавших новые пути. Каждый шаг, который совершал в эти годы молодой Шагал, был подобен гигантскому прыжку в новый мир. Сначала – переезд в Петербург, где он оказался в школе Общества поощрения художеств, а потом в частной студии Званцевой. Здесь его учителями были Л.С. Бакст и М.В. Добужинский. Но петербургская жизнь была недолгой. В 1910 году49 Шагал уже попал в Париж, где сразу же сблизился с Гийомом Аполлинером – знаменитым французским поэтом и критиком и с его кружком, куда входили известные живописцы и литераторы Парижа. В свои двадцать три года, когда Париж, собиравший таланты со всего мира, принял в свое лоно и Шагала, он был уже сформировавшимся живописцем и вскоре же стал знаменитостью. После этого жизнь художника как бы раскручивалась по заданному маршруту, но уже в замедленном темпе. 1914–1922 годы он провел в России, затем уехал во Францию, тревожные годы второй мировой войны прошли в Америке, наконец, остальное время – более сорока лет – вновь во Франции. Д.В. Сарабьянов. 1970-е
Д.В. Сарабьянов. 1970-е
Сколько бы ни ездил Шагал, его родное Лиозно, его Витебск постоянно оставались с ним. Он вобрал в себя не только воспоминания детства, но и память поколений. Когда в середине 1910-х годов Шагал на короткое время оказался в родных местах по возвращении из-за границы, он приник к Витебску как к неиссякаемому источнику и начал создавать произведения этюдного характера, «документы» (как называл их сам художник), фиксирующие обстановку его дома, местечка, родные лица. Он словно предчувствовал, что ему надо накопить материал на всю свою долгую жизнь. Путь из захолустья в столицы мира был своего рода чудом. Но Шагал воспринимал его как нечто естественное. Он умел соединять близкое и далекое, малое и великое. Об этом же свидетельствует и его искусство. Ему сразу открылись глубочайшие тайны жизни. С самого начала своего творчества он приник к вечным темам: рождения, смерти, любви, радости, добра, зла. Эти основы бытия, его загадки он раскрывал в простейших явлениях окружающей жизни, в реалиях бытия. Это тоже был путь от самого низкого к самому высокому. Открыв себя, художник оставался верен своим первоистокам, пожалуй, как никто иной из мастеров XX века. Он не похож на другого знаменитого живописца, тоже прошедшего через все столетие, – на Пабло Пикассо, который на каждом шагу менялся, изобретая новые принципы и приемы и образуя вокруг себя целые направления. Разумеется, на протяжении тех восьмидесяти лет, в течение которых Шагал держал кисть в руке, он совершенствовал палитру, находил новые приемы – реже сюжеты, и даже соприкасался с основными течениями в мировой живописи – с экспрессионизмом, кубизмом, футуризмом. Но эти соприкосновения не определяли переломы. Скорее всего, перелом в шагаловской эволюции был один. Он произошел в самом начале 1910-х годов. К этому времени художник уже имел некоторый живописный опыт. Он достигал экспрессии в интерьерных сценах, где стулья или кресла начинали корчиться, где напрягался красный пламенеющий цвет полога, огораживающего кровать роженицы. Герои Шагала застывали за столом в нелепых позах, с вывернутыми головами. Казалось, напряжение должно было разрешиться какой-то всеобщей катастрофой. Но тут-то и произошел этот перелом, предопределивший все дальнейшее творчество художника. Тем чувствам, которые переполняли его душу, он дал иное направление. В основу его образов лег сложный сплав визионерских представлений, собственной и народной памяти, национального ритуального мышления, фольклора, возвышающей мечты, наивного, в чем-то простодушного восприятия мира, детской тревоги и волнующих предчувствий. Все эти качества он скрепил и пронизал своим удивительным артистизмом. Это единство и определило своеобразный мифологизм Шагала. Шагаловские герои ведут себя в высшей мере произвольно – они летают, ходят вниз головой, его люди превращаются в какие-то странные существа, от человеческих фигур отскакивают головы или руки, обнаженные женщины удобно устраиваются в букетах цветов. Мир быта попадает в какое-то новое измерение. Казалось бы, Шагал дал простой рецепт для достижения этого нового измерения. Заставь человеческую фигуру лететь, переверни дом вверх ногами, вынеси на авансцену предметы, трудносопоставимые друг с другом, – и цель достигнута. Между тем, когда В.В. Кандинский в 1912 году, то есть в то время, когда он уже достиг высшей зрелости и утвердил свою собственную творческую концепцию, захотел воспользоваться «рецептом Шагала» и создал свою «Женщину в Москве», построенную на принципах шагаловского абсурда, он потерял ориентацию в фантастическом пространстве и потерпел неудачу. Только Шагалу суждено было сделать убедительным этот путь от быта в новое измерение, из провинциального городка в «мировое пространство». Только его люди умеют летать, только его дома могут стоять перевернутыми, только его корове дано играть на скрипке. Но почему же? Одна из картин Шагала, написанная уже в поздние годы – «Падение Икара» (1975), отвечает с помощью художественной метафоры на этот вопрос. Икар – этот дерзкий герой, взлетевший настолько высоко, что солнце растопило воск, державший его крылья, – чуть ли не единственный персонаж в картинах художника, не способный летать. Он падает, гибнет. Поставив своего героя в условия обычной реальности, Шагал подчинил его законам чужого, а не своего мира. Подвиг Икара был проявлением чудесного в пределах героической греческой легенды. Здесь же, в картине, Икар стал жертвой несходства с обычными героями Шагала, жертвой неверия в реальность абсурда. Ведь разгул шагаловской фантазии мы не воспринимаем как лукавое ухищрение художника; поступки и действия летающих влюбленных не кажутся нам сказочным чудом, в таком мире они вполне естественны. Здесь все оправдано своеобразным «бытовым мифологизмом» Шагала. Только он способен вместить память в мечту, сохранив самое малое и самое близкое, что есть в этом мире, и соединив их с самым большим и вечным. Герои Шагала, эпизоды, в которых они участвуют, вещи, которые их окружают, – все это может существовать в неразрывной целостности лишь при определенном условии совершенно особого сюжетообразования. Чаще всего картины Шагала можно назвать сложносочиненными. Но почти никогда действие не развивается в них в едином целостном времени по определенному драматургическому сценарию. Время разламывается, единое пространство, как правило, отсутствует. Различные эпизоды, отдельные сцены сопоставлены друг с другом скорее по внутреннему смыслу или символическому их значению. Здесь действуют ассоциации; зритель старается вникнуть в сущность символа, распознать закономерность тех или иных сопоставлений. Из подобных связей рождается целостный образ. Поэтому произведения Шагала нельзя уподобить ни сказке, ни жанровой картине, ни примитиву, имеющим законченные повествовательные структуры. Все, что требует целостного рассказа, остается в стороне, но по соседству; окружает шагаловское искусство, но не входит в него. Черты примитивизма, присутствующие в творчестве художника, не делают его представителем этого распространенного в русской живописи 1900–1910-х годов направления. Его границы Шагал перешагивает. Он не выбирает для себя прямых ориентиров в рудоносном пласте народной культуры, как это делают Ларионов или Гончарова. «Бытовой символизм» Шагала предопределил его композиционные и колористические принципы. Свободно располагая фигуры и предметы на полотне и в пространстве, художник совмещает смысловую и формальную композиционную задачу. Картины Шагала – всегда построенные организмы, где каждая деталь, всякий композиционный эпизод занимают свое определенное место. Это место обусловлено смыслом детали или эпизода и одновременно конструкцией всего произведения в целом. Возьмем в качестве примера картину из Русского музея «Прогулка» (1917–1918). Сцена фантастического полета Беллы (жены Шагала), вознесенной в широкое, раскрытое, словно предназначенное для полета небо, но связанной с землей рукой и фигурой самого художника, удивительным образом «уложилась» на поверхности большого, почти квадратного холста. Основные композиционные линии и цветовые пятна вошли в соответствие друг с другом, закрепились углы картины, образовалось равновесие диагональных движений. Но гармония кажется подвижной, в известной мере неустойчивой, хрупкой, как и сам мотив полета, как выражение лиц – и радостных, и встревоженных. «Повышенное», форсированное звучание лилового, красного, зеленого как бы подчинено ситуации сверхреальности, но равновесие цветовых пятен делает неестественное естественным, что вновь демонстрирует едва ли не главную задачу, которую ставит перед собой художник. В картинах Шагала есть и гротеск, и ирония, и мечта, и доброта. Мягкая романтическая душа художника находит свое воплощение в этих качествах. Произведения Шагала часто попадают в книги или альбомы, посвященные фантастическому искусству. Среди своих собратьев эти произведения выглядят исключениями из общего правила. Шагал ничем никого не пугает, не вызывает в зрителе нервного возбуждения. Даже трагические сюжеты не грозят катастрофой. Тем более художник чуждается физиологизма. Гротеск, к которому он постоянно прибегает, не усугубляет то ужасное, что есть в мире, но, напротив, смягчает его. В своем «смягчающем гротеске» Шагал напоминает доброго клоуна, циркового иллюзиониста, способного заставить зрителя не только улыбаться, но и поверить в подлинность и естественность того, что происходит в его картинах. В своих произведениях Шагал часто изображает себя. Многое объясняют нам его взгляды, его лицо. В автопортрете с кистями (1909–1910) он как бы утверждается в звании художника и смотрит сверху вниз, что вполне простительно для молодого человека, обретающего профессиональную гордость. В картине «Я и деревня» (1911) голова художника включена в круговорот деревенской жизни, как свидетель сопричастности этой жизни, мысли и воспоминания о ней. В «Автопортрете с семью пальцами» (1912) Шагал уже поглощен целиком не собой, а своим детищем. Как к священному предмету он обращает к стоящей перед ним на мольберте картине «Россия. Ослы и другие» свою «семерню», свой взгляд и всю свою душу. В автопортрете 1914–1915 годов50 он надевает на себя маску клоуна или мима, уводит взгляд в сторону. В картине-«представлении» «Прогулка» несколько деланная улыбка заслоняет подлинную тревогу. Шагал сложен, лик его неуловим, он непостоянен. Возникает сомнение: не обманывает ли он нас, не морочит ли голову? Отбросим это сомнение. Ведь даже в игре его взглядов есть простодушие. А как он смотрит из-под занавески сквозь стекло в своей картине «Окно на даче. Заольшье» (1915)! С тихой радостью и светлой грустью взирает на мир расцветшей природы – мир травы, цветов и деревьев. Так может смотреть лишь человек большой и доброй души. Поверим Шагалу. Отблагодарим его за эту добрую душу.
Сарабьянов Д. В. Ускользающий лик Шагала // Творчество (М.). 1987. № 6. С. 29–31. Перепечат.: Возвращение мастера 1989. С. 35–38; Марк Шагал. [Альбом.] М. – Усть-Илимск, 1992. С. 5–9.
15. А. Каменский. «Я был душевно здесь всегда…» 1987
Сейчас уже можно сказать с убежденностью, что один из великих художников XX века, Марк Захарович Шагал, вернулся в контекст нашей культуры. Его имя все чаще упоминается в советской прессе, в Москве и Ленинграде готовятся выставки его произведений, посвященные ему издания. Но главное, он стал неотъемлемой частью нашей духовной жизни, нашего понимания драматизма, красоты и гармонии современности. Что же до самого Шагала, то он, проведя за рубежами России более шестидесяти лет, в сущности, никогда из нее не уезжал. Географическое перемещение действительно состоялось, но мысль и чувства художника оставались в родном для него краю, где он родился 7 июля 1887 года в полунищей еврейской семье из витебского предместья. Свидетельств душевного родства можно привести немало, но лучше всего предоставить слово самому мастеру. Для начала вспомню о том, как и когда это слово было произнесено. …Персонажи произведений Марка Шагала очень часто летают. В снах и видениях, в пленительных, окрыляющих душу мечтах, словно гонимые стремлением избавиться от мучительных, тягостных наваждений. Они плывут в небесах над родным художнику Витебском, над Парижем, с которым у него связаны десятилетия жизни, над всем миром. Выставка произведений Шагала, открывшаяся в Москве 5 июня 1973 года в залах Третьяковской галереи51, даже самой своей архитектурой словно бы отметила «вертикальный взлет», свойственный искусству мастера. <…> Было что-то странное и даже неправдоподобное во всем этом вернисажном действии: и встреча с картинами, которые долгие годы не показывали, и возможность увидеть новые произведения автора, и, наконец, что уж совсем невероятно, его собственное присутствие. Просто не верилось: неужто этот элегантный человек, резко и порывисто идущий по залам галереи, – неужто это и есть Марк Шагал? Художник, которому через месяц исполнится восемьдесят шесть лет. Вызывавший споры, яростные нападки и преклонение еще в 10-е годы нынешнего века. Художник, ставший одной из заметных фигур искусства России времен Октябрьской революции, участником первой при новой власти Государственной свободной выставки в 1919 году, комиссаром по изобразительному искусству в Витебске. Шагал, чьи картины в 1933 году сжигали на фашистском аутодафе в Мангейме. Чьи музы, кентавры, трубящие ангелы, крылатые виолончели, танцующие дома и башни, нагие богини, ряженые кудесники и бог весть кто еще (не забыты и витебские впечатления) кружатся в хороводе на потолке парижской «Гранд-Опера», а прекрасные «Источники музыки» украшают стены нью-йоркской «Метрополитен-Оперы». Чьи картины вошли в собрания десятков крупнейших музеев мира (в том числе и десяти наших), чье имя стало одним из девизов всего искусства XX столетия.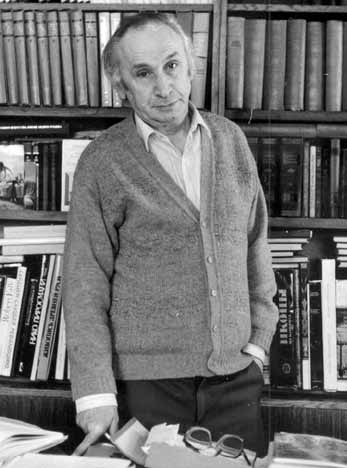 А.А. Каменский. Начало 1980-х
А.А. Каменский. Начало 1980-х
Художник приехал (увы, в последний раз) на родину, которую он ни на день не забывал после своего отъезда на Запад в 1922 году. Вот тут-то и было произнесено вещее с л о в о Шагала о его нерушимой связи с Россией. Длительные церемонии, к счастью, не были предусмотрены в тот памятный день, и единственно что запомнилось – речь самого Шагала. Чуть позже я попросил у Марка Захаровича странички, испещренные крупным, едва ли не детским почерком, и списал эту речь52. <…> На этом поэтическом языке художник сказал, что Россия была для него не только местом рождения и лоном жизни в молодые годы, но и первичной почвой всего существования, всего созданного им шагаловского мира. С Россией у художника навсегда связались исходные моменты его искусства – не одни лишь черты живой натуры, обликов, национальных традиций, но и самые понятия красоты, любви, жизненного призвания, наконец, даже пластической формы, «химии» колорита, о которой так часто говорил мастер. Вся инстинктивная, «подтекстовая» стихия его творчества, вся почва разнородных, иногда бессознательно воспринятых ассоциаций имеют российское происхождение. Но каков круг этих ассоциаций? В чем заключен их конкретный жизненный материал? Конечно, к примеру, российские пейзажи всегда были для Шагала близкими и любимыми, их мотивы он бесконечно повторяет и варьирует не только в молодые годы, но и после отъезда за рубеж, чередуя с иными. Картины повседневности, мир фольклора, мир сказок и чудес, который так много будет значить для мастера, раскрылись ему в огромной степени на русском и еврейском материале. Это крайне важно, и все же такие моменты относятся лишь к «верхнему слою» российской проблематики в искусстве Шагала, отнюдь не исчерпывают ее существа. Между тем давно уже настала пора трактовать его творчество более широко и основательно, как своеобразное, во многих отношениях парадоксальное и косвенно ассоциативное отражение духовной, психологической и общественной ситуации России начала XX века. Шагал, в общем-то, не принадлежал в полной мере ни к одному из художественных направлений своего времени, представляя собой индивидуальность, не поддающуюся меркам привычным. Надо взглянуть на ситуацию шире. Как часто историки искусства, занимаясь своими профессиональными вопросами, обходят или недооценивают внутреннюю связь художественных исканий с жизнью времени, большими социальными и духовными переменами. И случилось, что такую связь раньше и зорче ученых-историков отмечали сами художники или литераторы. Так, Борис Пастернак (в статье «Поль-Мари Верлен») говорил о том, как в конце XIX – начале XX века дыханье времени «совсем особенно сложило угол зрения новых художников. Они писали мазками и точками, намеками и полутонами не потому, что так им хотелось и что они были символистами. Символистом была действительность, которая вся была в переходах и в броженье, вся что-то скорее значила, нежели составляла, и скорее служила симптомом и знаменьем, нежели удовлетворяла. Все сместилось и перемешалось, старое и новое, церковь, деревня, город и народность. Это был несущийся водоворот условностей между безусловностью оставленной и еще не достигнутой, отдаленное предчувствие главной важности века, социализма и его лицевого события, русской революции»53. А если иметь в виду область изобразительного искусства, то можно сказать, что Пастернак как бы предугадал те выводы, к которым пришли искусствоведы разных стран после долгой и разносторонней работы по изучению художественного процесса в начале нынешнего века. Напомню о знаменательных выставках «Париж – Москва» и «Москва – Париж» 1979–1981 годов54. Как ярко показали они тот «водоворот условностей», в который было погружено искусство Франции и России (да и Европы в целом) на протяжении первых трех десятилетий XX века! В отобранных для этих экспозиций лучших, характернейших произведениях того периода (работы Шагала были, разумеется, среди них) развитие человеческой цивилизации предстало во всем своем напряженнейшем драматизме, а русскую революцию они показали именно как «главную важность века», в которой многие из противоречий эпохи находили свое косвенное отражение и (в мечтательно-идеальных формах) свое гармоничное разрешение. Искусство Марка Шагала – одно из тех явлений художественной жизни века. Только революцию он понял по-своему, в аспекте сложных философских, нравственных и художественных исканий. От переживаний, забот и тревог времени он идет к мечтам и надеждам; как некие видения перед ним наряду с взбудораженно-лихорадочными, расколотыми на мелкие перепутанные частички сценами жизни вдруг встают образы безграничного счастья. Затем вновь наступает трагическое смятение души. Мир меняет лики у молодого Шагала на очень разный манер. Но ощущение всеобщих перемен ему тогда было свойственно неизменно. Внешняя необычность была лишь подходом к художественной и духовной истине, на свой лад итожившей все, чем жила и дышала эпоха.
В предреволюционные годы слава и авторитет Марка Шагала стремительно росли – он участвовал во многих выставках, его работы стали покупать коллекционеры, известные критики посвящали ему статьи, наконец, готовилась к выпуску первая монография о художнике, написанная Я. Тугендхольдом и А. Эфросом. После Октябрьской революции он стал занимать видное положение в художественной жизни Петрограда. Сам художник вспоминает, что в первые же дни новой эпохи руководство Наркомпроса предполагало поставить на ключевые организационные позиции Владимира Маяковского (поэзия), Всеволода Мейерхольда (театр), Марка Шагала (изобразительные искусства). Однако вскоре Шагал с семьей возвращается в Витебск. Чем это объяснить? Очевидно, он в этот переломный момент истории еще не ощущал себя общероссийским деятелем, способным решать коренные вопросы художественного развития. Несомненно и то, что художник чувствовал гражданский долг перед родным городом, хотел, чтобы его искусство показало социальные перемены с такой новизной, какая диктуется всей их логикой. В самые первые месяцы пребывания в послереволюционном Витебске он ограничивается работой за мольбертом. В письме к Надежде Добычиной, активнейшему художественному деятелю Петрограда, он пишет 12 марта 1918 года: «Теперь я здесь. Это мой город и моя могила… Здесь по вечерам и ночам, как “табак”, раскрываюсь я… Работаю»55. Но одновременно с напряженным творчеством, «ночным» и «дневным», Шагал присматривается к художественной жизни города и вскоре становится ее лидером. Осенью 1918 года, взяв с собой новые полотна, он едет в Москву и посещает наркома просвещения А.В. Луначарского, которому первым делом показывает свои произведения. Луначарский внимательно с ними ознакомился, делая пометки в записной книжке. Очевидно, картины его заинтересовали. Ибо Шагал вернулся в Витебск облеченный – при посредстве Наркомпроса – высокими комиссарскими полномочиями. Ему, «уполномоченному коллегии по делам искусств Витебской губернии», предоставлялось «право организации худо жественных школ, музеев, выставок, лекций и докладов по искусству и всех других художественных предприятий в пределах гор. Витебска и всей Витебской губернии»56. Мандат давал Шагалу немалые организационные права, и он ими широко воспользовался: создал музей, куда были направлены из разных городов картины первоклассных живописцев, основал Народное художественное училище (иногда его называли академией, высшими художественными мастерскими), а при нем – мастерскую, которая на какое-то время объединила всех, кто имел отношение к изобразительному искусству. Нельзя сказать, что в основе этих действий лежал четкий, всесторонне разработанный план. Но строй чувств и мыслей, владевший витебским «уполномоченным по делам искусств», был достаточно определенным. Он не раз писал в витебской и петроградской печати о своих настроениях и побуждениях. Прежде всего Шагал был уверен в том, что происходящие перемены огромны и всеобъемлющи, обладают замечательными перспективами, «…преобразившийся трудовой народ, – мечтал художник, – приблизится к тому высокому подъему культуры и Искусства, который в свое время переживали отдельные народы и о котором нам пока что остается лишь мечтать»57. Крайне важным было основополагающее убеждение Шагала в том, что искусство при всей автономности своего развития связано с общечеловеческой историей, а в ходе революции впитывает в себя мятежный, ниспровергающий и утверждающий дух: «Искусство жило и будет жить по своим собственным законам. Но в глубине своей оно проходит те же этапы, которые проделывает все человечество, подвигаясь к наиболее революционным достижениям. И если верно то, что только в настоящий момент, когда человечество, вступая на путь последней революции, может быть названо Человечеством с большой буквы… искусство лишь тогда может называться Искусством с большой буквы, когда оно революционно по существу»58. Это революционное существо искусства художник наиболее открыто и яростно выразил в деятельности по оформлению в Витебске революционных праздников, и прежде всего 7 ноября 1918 года. Шагал рассказывал, что ко дню октябрьской годовщины 1918 года «губерния Витебская была разукрашена около 450 большими плакатами, многочисленными знаменами для рабочих организаций, трибунами и арками»59. К сожалению, от колоссального обилия празднично-оформительского материала 1918–1919 годов осталось немного. О нем позволяют судить лишь три сохранившихся эскиза Шагала, кое-какие воспоминания современников и несколько фотографий Витебска в дни торжеств. Судя по всему, символические мотивы в самых разных формах решительно преобладали в облике праздничного города. Декоративная символика и содержание изобразительных композиций несомненно перекликались. Море красного цвета создавало ощущение пламенеющего торжества, зари новых дней. Знаки-символы определяли, пусть в самой общей форме, историко-социальную конкретность происходящих в жизни перемен. Два известных варианта эскиза «Вперед» (его иногда называют «Путешественник») имеют общую центральную тему – молодой человек, раскинув руки, как крылья, мчится над миром (в одном из эскизов он плывет в густой синеве небес, а внизу виден Витебск). Художник сопоставляет человека и мир в целом, причем мир в этом образе покорен стремительной и не знающей ограничений энергией свободного человека. Из других праздничных эскизов Шагала более всего известен лист «Война дворцам». Для него художник использовал образ, встречающийся в его произведениях с 1914 года: человек поднимает и несет дом. Однако в более ранних композициях это собственный дом героя – все свое ношу с собой, родной дом следует за человеком, как его тень и судьба. В эскизе 1918 года фабульная схема выглядит решительно иначе: мужик в подпоясанной русской рубахе быстрым и ловким движением, словно играя, поднимает дом с колоннами. Мужик показан на фоне неба и как бы на краю земли: вариация вечной шагаловской темы – человек и мир. В таком же «вселенском» плане решен и третий из сохранившихся эскизов Шагала – всадник на лошади мчится в небесах над городом и трубит победу60. Как причудливо смешались в этом панно библейские отголоски и революционные реалии! Над всадником развевается красное полотнище, он одет в форму, напоминающую красноармейскую. Но вместе с тем это во многих отношениях сказочно-мифологический образ. Он дает самой идее революции всеобъемлющую хронологическую и тематическую трактовку (естественно, напрашивается воспоминание о завершенных в том же 1918 году блоковских «Двенадцати», где впереди отряда, который держит «революцьонный шаг», появляется Христос в «белом венчике»). Такая всеобщность восприятия революционных событий и связанных с ним ассоциаций свойственна всему творчеству Шагала в послеоктябрьские годы. В станковых работах это качество проступает еще более явственно и в совершенно неожиданных формах.
Для русского искусства послеоктябрьской эпохи особо характерно сочетание конкретных и идеальных начал. При этом на какой-то период идеально-романтические моменты оказались преобладающими (для Шагала, впрочем, н а в с е г д а; как российский художник он как бы остался в рамках этого периода до конца жизни). Ему, этому периоду, в высшей степени было свойственн о го с п о д с т в о м е т а ф о р ы, причем весьма своеобычной; каждое событие, каждая деталь изображения чаще всего оказывались тогда в произведениях русских художников двузначными, являясь одновременно и элементом существующей реальности и составной частью воображаемого мира. Ведь искусство России сразу же после революции устремилось к тому, чтобы, так сказать, набросать п о р т р е т б у д у щ е го, которое уже н а ч а л о с ь, увидеть воочию берега счастья, «очарованную даль». Не воспоминание о некоей счастливой Аркадии прошлого, не преклонение перед абстрактным образом мировой гармонии, но попытки художественными средствами п р е д в и д е т ь прекрасную новую жизнь – вот в чем основной смысл многих произведений литературы и искусства России тех лет. Более всего им свойственна уже упомянутая в с е о б щ н о с т ь (нередко космизированная) переживания и изображения происходящего: событиям в поэмах, картинам, архитектурно-скульптурным композициям придавались черты вселенского размаха, охватывающего буквально весь мир, все народы, все течение и движение жизни. Всемирными становятся все чувства, все устремления и страсти, любовь в особенности. «Председатель Земного Шара» Велимир Хлебников воспевает революцию как дивное царство всемирного взаимопонимания и любви.
Где Волга скажет «лю»,
Янцекиянг промолвит «блю»,
И Миссисипи скажет «весь»,
Старик Дунай промолвит «мир»,
И воды Ганга скажут «я»…
Всегда, навсегда, там и здесь.
Всем всё, всегда и везде! —
Наш клич пролетит по звезде!
Язык любви над миром носится.
И Песня песней в небо просится61.
Каменский А. «Я был душевно здесь всегда….». К 100-летию со дня рождения Марка Шагала // Новый мир (М.). 1987. № 8. С. 245–252.
16. Н. Апчинская. Искусство Марка Шагала. 1987
С именем Марка Шагала (1887–1985) связано представление об искусстве, в прямом смысле переворачивающем с ног на голову традиционные каноны и при этом полном гармонии и красоты. Подобно Пикассо, Шагал дерзко разрушал эти каноны не во имя «дегуманизации». В центре его внимания всегда оставался человек, помещенный в целостный, находящийся в непрерывном движении и метаморфозах макро– и микрокосм. По сравнению с Пикассо и с другим великим мастером нашего века – Матиссом Шагал как художник был и более непосредственно-эмоционален, и более интуитивен. Отсюда – его связь с фольклором, укорененность в породившую почву, сочетавшаяся с постоянным стремлением выйти за пределы всякого ограниченного места и времени. Один из шагаловских рисунков 10-х годов представляет человека, несущего на себе свой дом, – образ в полной мере автопортретный. Шагал провел детство и юность в Витебске, в среде, обладавшей самобытной культурой, которую именно ему суждено будет впервые со всей полнотой (далекой от этнографизма) воплотить в изобразительном искусстве. Мы видим у него не только колоритные еврейские типы, обычаи и праздники начала века, но и характерную национальную пластику, юмор и печаль, наивность и мудрость, а также некоторые глубинные особенности национального мышления. При этом Шагал отнюдь не был, в силу самой универсальности своего дарования, только «еврейским художником». Еврейская культура в России на рубеже веков омывалась окружавшей ее русской культурой, неотъемлемой частью которой Шагал всегда ощущал себя. Где бы он ни жил, Витебск и русская деревня оставались главной его любовью и объектом изображения. Он чувствовал преемственную связь с Левитаном и Врубелем, своим формированием как художника (и многими образами) был обязан русской иконе и народному искусству, в 10-е и 20-е годы был связан с русским авангардом; Гоголь, Стравинский и Чайковский не раз служили ему источниками вдохновения. Вместе с тем, называя Париж своим «вторым Витебском», Шагал этим никак не хотел приуменьшить влияния на него французской живописи, многое вобрал он и из европейского художественного наследия разных эпох – с течением времени все отчетливее проявлялась изначально присущая ему способность восходить от национального к общечеловеческому. Н.В. Апчинская. 1980-е
Н.В. Апчинская. 1980-е
Сын рабочего, Шагал прошел в конце 900-х годов недолгую выучку у И. Пэна в Витебске и Л. Бакста в Петербурге. Еще в те годы, создавая одну из самых значительных своих ранних картин – «Смерть», он хотел, по его словам, «написать улицу психологично, но без литературы, выстроить улицу, черную, как смерть, но без символизма». Иначе говоря, ввести литературу и символику в саму плоть живописи. Именно эта задача решалась тогда художниками-новаторами Парижа. «В ту эпоху, – писал Шагал, – я решил, что мне нужен Париж. Почвой, в которой были корни моего искусства, был Витебск, но мое искусство нуждалось в Париже, как дерево – в воде. У меня не было никаких других причин покидать родную землю, которой я оставался верен в течение всей моей дальнейшей жизни». В картинах, созданных в первый парижский период (1910–1914), «свет-свобода», по выражению художника, заимствованный у парижских улиц и полотен импрессионистов, соединяется с фовистской метафоричностью и силой цвета, кубистической структурностью форм и футуристическим динамизмом. Все это сочеталось у Шагала с пониманием творчества, как «выражения состояния души», с повышенной экспрессивностью, сближавшей его с немецкими экспрессионистами. Однако, соприкасаясь со всеми течениями, Шагал оставался обособленным. Его творчество и в 10-е годы, и в последующие сопрягало противоположности: предельную поэтическую свободу и предметность мышления (как писал в посвященных ему стихах Б. Сандрар, «он берет корову и рисует коровой, берет церковь и рисует церковью»), пластическую обобщенность и конкретный психологизм, иррациональность и организующее начало. Не менее характерным для Шагала было стремление взорвать зрительные стереотипы (что являлось, кроме всего прочего, одним из источников юмора в его искусстве), показать и внешнюю хаотичность жизни, и наличие в ней глубинных организующих сил. Не случайно именно по его поводу Аполлинер произнес в 1912 году слово «сверхнатурально», из которого спустя десятилетие родится термин «сюрреализм». (К этому течению, с которым у него были точки соприкосновения, Шагал также откажется присоединиться в 20-е годы: для него были неприемлемы и сюрреалистский «автоматизм письма», исключающий разум художника, и сочиненность сюжетов, являющаяся как бы оборотной стороной этого автоматизма). Одно из характерных шагаловских полотен 10-х годов – «Я и деревня». Разномасштабность изображенных на ней предметов способствует впечатлению неопределенной широты пространства, в котором верх и низ относительны, благодаря перевернутому изображению женщины на заднем плане. Перед нами и деревня, и подобие универсума, в котором художник выступает вдумчивым созерцателем жизни и ее веселым творцом. Его энергичному профилю противостоит «на равных» кроткая морда коровы, сцена доения изображена как знак служения человеку. Пожалуй, никто из художников ХХ века не отстаивал с такой силой, как Шагал, выражаясь словами Хлебникова, «равноправие коров», не писал с такой нежностью животных, воплощая в них и жертвенное начало, и всю загадку жизни. В его полотнах 10-х годов разработаны и другие темы, которые пройдут затем через все его искусство – такие, как рождение и смерть, любовь и творчество. Его персонажи, которые уже в самых ранних работах забирались на крышу, очень скоро обретут способность отрываться от земли, не теряя ее, однако, из виду. Этот мотив, как и все прочие, имел у Шагала глубокий смысл. Являясь, как почти все в его искусстве, овеществленной метафорой, он означал и свободу, лежащую в основе бытия, и порыв духа к небу, и живые приметы ХХ века, устремленного в космические сферы. Особенно существенной для Шагала была проблема времени. Диалектическая связь временного и вечного, живой реальности и символа, истории и мифологии, прошлого и настоящего будет определять не только структуру каждого произведения художника, но и всю его творческую эволюцию. Его искусство, как никакое другое, будет варьировать неизменные образы-архетипы, но вместе с тем чутко реагировать и в стиле, и в образном строе на дух времени. Сильнее, чем кто-либо, Шагал передал апокалипсическую атмосферу предвоенных 10-х годов, а затем полный оптимизма порыв в будущее – в годы Октябрьской революции. В конце 30-х и в 40-е годы он не создал своей «Герники», но воплотил «ужасы войны» и геноцида в образах распятого Христа, горящих деревень, гибнущих людей и животных. Но несмотря на черты гротеска, отражающего реальность мирового зла, основу его искусства всегда составляло чувство красоты и тайны жизни, а также ее единства, источником которого является любовь. После войны произведения Шагала приобретают более пасторальный характер, хотя искусство никогда не сводилось для него к пасторали. Цветущая природа Средиземноморья, где в то время живет художник, синева моря, горение солнца наполняют его работы. Мягкая живописность, богатство красочных оттенков (или, как он говорил, «химия» цвета) сочетаются в поздних вещах с монументальностью стиля, позволившей художнику успешно работать в области оформления архитектуры. Он расписывает плафон парижской Оперы, выполняет витражи для храмов, мозаики и стенные росписи, работает, как всегда, для театра, создает также керамику, скульптуру, гобелены, многочисленные литографии и другие виды станковой графики. Любой материал, к которому прикасается мастер, служит лишь средством для создания образов, смешивающих радость и печаль и полных необыкновенного очарования. Нельзя не сказать в заключение о той поистине исключительной роли, которую играла в искусстве Шагала книга. Все его произведения являлись как бы зримой поэзией (дополняемой и словесным творчеством), не случайно о Шагале так много писали поэты. Он – автор иллюстраций к огромному количеству книг. Среди самых значительных его книжных циклов – гравюры к автобиографической книге «Моя жизнь», за которыми последовало около ста офортов к «Мертвым душам». С поразительной экспрессией в них воплотились – при всех неизбежных несовпадениях в видении писателя XIX и художника ХХ веков – гоголевская метафоричность и динамизм, юмор и гротеск, широта пространства и любовь к мельчайшим деталям. Вслед за Гоголем Шагал с тем же размахом оформил Лафонтена, все 30-е годы прошли у него под знаком Библии, иллюстрирование которой он продолжил и после войны. Тогда же были созданы рисунки к «Декамерону», феерические по красоте цветные литографии к «Дафнису и Хлое» Лонга и серии литографий «Цирк» – с текстом самого художника, гравюры к сборнику его собственных стихов, к «Одиссее», к шекспировской «Буре», книгам Мальро и Арагона. Все эти работы отмечены глубоким проникновением в литературный текст, отразили разные грани творческой индивидуальности мастера.
Апчинская Н. Искусство Марка Шагала: К 100-летию со дня рождения // Иностранная литература (М.). 1987. № 12. С. 236–237.
17. Б. Зингерман. Земля и небо в творчестве Шагала. 1994
Ранние, допарижские работы Шагала полны вещих исторических прозрений, выраженных с экспрессионистской остротой и темпераментом, которые заставляют говорить о раннем Маяковском, позднем Ван Гоге или мистических экстазах хасидизма. Его картины 1917 г. окрылены чувством безграничной свободы. Комиссаря в Витебске по мандату А.В. Луначарского, он мечтает основать в родном городе художественный музей и превратить его провинциальных обывателей в художников. Под Москвой, в Малаховке он приобщает к миру искусства голодных беспризорников. Его первоначальные искания в области цвета свидетельствовали о поразительной интенсивности внутренней жизни и о таком накале темперамента, которые были недоступны его французским единомышленникам. В Париже, где он работает с 191065 по 1914 г., Шагал быстро осваивает поразившие его открытия синтетического кубизма, только что сделанные Пикассо, и расширяет свою цветовую гамму, смело выходя за пределы колорита, определившего тревожное и печальное настроение его картин, написанных в России. Легко осваивая приемы новейшей французской живописи, он придает им неожиданный смысл и, сам того не ведая, создает еще одно, никому не известное течение, которое проницательный Аполлинер определил как «сверхнатуральное», в какой-то мере предвосхищая более позднее название этого художественного феномена – «сюрреализм». (Впоследствии Бретон признал, что французские сюрреалисты многим обязаны Шагалу.) Однако же, вернувшись в Париж из Советской России, он отказался подписать манифест сюрреалистов, не желая связывать себя его доктриной. Вообще ему было мало дела до тех или иных художественных течений. Это сразу заметил тот же Аполлинер, которого Шагал поразил прежде всего своим воображением, свободным и диким. Еще в предвоенные годы Шагала признают своим немецкие экспрессионисты, и мудрено было не признать – он часто делал то же, что они, но с большим тактом, без лишней патетики. Уже в Париже, в знаменитом «Улье», Шагал поражает друзей не только талантом, но и выносливостью, которая предвещает его долголетие. Чудесной была не сама по себе быстрота, с какой он осваивал чужой опыт, тем более, что внутренне он уже был готов к участию в художественной революции XX в. Поражала фамильярность, с какой он относился к недавним дерзновеннейшим открытиям с первых своих шагов в Париже. Свойство, которое отличало его и в более поздние годы. Б.И. Зингерман. 1980-е
Б.И. Зингерман. 1980-е
Абрам Эфрос писал, что в послевоенном Париже, где честолюбивые пришельцы с мольбертом годы и годы терпеливо корпят в неизвестности, надеясь, что в конце концов они заговорят на языке французского искусства и, если повезет, их холсты заметят и станут, принимая их за французские, покупать американцы или японцы, один Шагал мог «обрастать шумом и достатком и покоряюще-дурашливо, с блаженным веселием похлопывать по брюху славы, которая сама напрашивалась в сожительницы»66. Покоряющая дурашливость, полное пренебрежение к табели о рангах, простодушная детская непринужденность отношения к жизни и искусству при поразительной душевной застенчивости, способность с блаженным весельем фамильярно похлопывать по брюху то, перед чем другие стоят навытяжку, и быть накоротке со всем, что попадало в его поле зрения и вызывало в нем интерес, – составляет изначальное, решающее свойство шагаловского дарования. Раньше и лучше других его поняли поэты. Аполлинер определил главные черты его дарования и предсказал, что он станет автором монументальных вещей, а Блез Сандрар назвал его лучшим колористом своего времени. Маяковский мечтал, чтоб каждый «шагал, как Шагал». «Пикассить» – значит, опасно шутить, озорничать и куролесить, а «шагалить» – значит, широко шагать, как шагают через дома и улицы, взлетая в воздух, люди на его картинах, и шалить, как это делает сам художник, позволяя своим героям и своим коровам парить под облаками, стоять на голове, показывая нам теленка в животе у коровы, окрашивая человеческое лицо зеленым или синим цветом. Здесь я позволю себе остановиться, чтобы сказать, что анализировать искусство Шагала очень трудно. Его легко полюбить, почти невозможно объяснить. Попытка, махнув рукой на специальные разборы, рассказать о нем взволнованной «прозой поэта» соблазнительна, но рискованна. Живопись Шагала сама полна поэтических иносказаний, символов и метафор, при желании их можно пересказать, если бы в этом был какой-нибудь смысл. Не говоря уже о том, что вся живопись Шагала, как давно уже заметили наиболее чуткие искусствоведы, – одна целостная и сложная метафора его собственной жизни и духовных исканий нашего века. Нет резона, хотя иногда приходится это делать, словесно удваивать изобразительную метафористику этого великого живописца-поэта, стараясь «перешагалить» Шагала. Большие поэты, когда говорят о нем, стремятся прежде всего к точности. Кроме того, Шагал и сам пишет стихи, где доверчиво, как его любимый Есенин, рассказывает о своих чувствах. Другое дело, что о его живописи можно написать стихи, как это сделали Аполлинер, Элюар, Арагон и Вознесенский. Но и традиционный искусствоведческий разбор в случае Шагала немного дает. Алхимия его колоризма, объединяющего фантазию и реальность, с трудом поддается анализу. Его сюжетика демонстративно однообразна и иррациональна, о композиции его картин, захватывающей небо и землю, мало что могут сказать привычные надежные слова: фронтальная, диагональная, открытая и т. п. (При всем том очевидно: цветовая палитра Шагала в первый парижский период – с 1910 по 1914 г. – делается резче, светлее и контрастнее, а во второй – 20-е годы – утонченнее и гармоничнее; его структурное мышление, складывающееся под влиянием кубизма, достигает наибольшей ясности в годы революции, а наибольшей остроты – в иллюстрациях к «Мертвым душам» (1923–1927); его контурные ритмы обретают свою наивысшую музыкальность в иллюстрациях к Библии с их обобщенными – неоклассическими – цветовыми решениями. Композиция его картин тяготеет к диагональному, открытому и плавно закрученному движению, обычно устремленному вверх – от земли к небу, даже букеты Шагала, незаметно и неназойливо, как горящие свечи, тянутся вверх, от подножия вазы к соцветиям, растворяющимся в воздухе. Движение по горизонтали, параллельно земле, расползающееся вширь по пространству картины, как в «Красном петухе», – это знак тревоги, а движение сверху вниз, от неба к земле, как в «Падающем ангеле», – грандиозная катастрофа.) Говорить о Шагале преимущественно в связи с закономерностями развития какого-либо «изма» в искусстве XX в. еще менее плодотворно, чем в связи с творчеством других художников парижской школы. Шагал такой же экспрессионист, как фовист, кубист, примитивист или неоклассик. В разные годы то или иное направление сильнее проглядывает в его искусстве, но эти акценты не имеют решающего значения, потому что мастер из Витебска создал свой собственный, универсальный стиль и в неожиданном свете представил новаторские искания современного искусства. Не говоря уже о том, что Запад сходится в искусстве Шагала с Востоком, с традицией русской иконописи, русского вывесочного примитива и еврейского фольклора, осмысленного под влиянием обновленческой хасидской традиции. Важен не сам по себе универсализм шагаловского стиля, легко вбирающий в себя, казалось бы, несовместимые художественные идеи, – важно, что у Шагала эти идеи приобретают новый смысл, проникаясь его лирической стихией и его фантазией. Фовистский декорати[ви]зм, раскрепощенный яркий цвет получили у него такую страстную эмоциональную насыщенность, такую – и от русской иконы идущую – благородную утонченность, которую фовисты в себе не подозревали. Разве что у Сутина в 1920-е годы цвет дышал такой же страстью, но темперамент Шагала более глубокий и подвижный, освобожденный от уз. Мы не много поймем в Шагале, если забудем об его темпераменте, десятилетиями питавшем его дикое и вольное – прав был Аполлинер – воображение и его непостижимый колоризм. Посетители московской выставки Шагала 1987 года67 были нокаутированы эмоциональной интенсивностью шагаловского цвета, в больших количествах почти непереносимого. К старости эта ликующая чувственная интенсивность цвета, оправданная природным темпераментом художника и тонкостью его гармонизирующей кисти, возрастает. Через силу и сияние цвета было снято излишнее внутреннее напряжение его картин раннего, допарижского периода с их таинственно приглушенной колористической гаммой. Цвет первый принял на себя напор шагаловского темперамента. Кубизм произвел на Шагала огромное впечатление, ради него он и остался на первых порах в Париже. Пронизанный холодной ясной мыслью, синтетический кубизм приобрел у Шагала полуночное экспрессионистское «настроение». Деликатный Модильяни, мы помним, легко выучился по-кубистски стилизовать и деформировать, но поостерегся расчленять объемы. Шагал, напротив, никогда не испытывал склонности к деформациям, представляя кубистам самим съедать их треугольные груши, но расчленять предметный мир – живой еще охотнее, чем неживой, – он начал тут же в Париже, имея на то свои собственные резоны, о которых даже такой человек, как Пикассо, не мог и думать. Синтетический кубизм, изобретенный Пикассо тогда же, когда молодой витебский художник приехал в Париж, Шагал перевел на язык сюжетной лирики, сделав его не только формой, но и темой своих пророческих видений. Есть существенное различие между кубистскими картинами Пикассо и Шагала, созданными в 1910-е годы. У одного – торжество сознательной художественной воли, своенравное, яростно-холодное господство над миром, который живописец вправе членить, чтобы из разъятых, обособленных друг от друга частей тут же воссоздавать, вернее, комбинировать, его заново, по своему усмотрению. У другого мир распадается на части и летит вверх дном и сломя голову под напором своих собственных динамических стремлений; художник-визионер призван запечатлеть то, что он так явственно «видит», что грезится ему в его вещных снах. Это не он своей заносчивой волей крушит, и приводит в движение, и заново сплачивает мир своего детства – этот мир сам является ему и, водя его легкой послушной кистью, разрушает и воссоздает себя на живописном полотне. Наиболее близкие кубизму и наиболее смелые картины Шагала ранних 1910-х годов – «Поэт, или Полчетвертого» (1911), «В честь Аполлинера» (1911–1912) и даже кричащая, разбитая на куски «Голгофа» (1912) – увлекают не аналитизмом, не резкостью, а лирикой, которая, сразу было замечено, затопляет все пространство холста. <…> То, что посетителям предвоенных парижских выставок казалось у Шагала чрезмерно напряженной бредятиной, фантомами, скоро обнаружит свою «сверхнатуральность», абсолютную бытовую и историческую достоверность. Искренний, зоркий Шагал в самом деле не придумал свой экзотический мир, он узрел его в своих пророческих видениях. От русской иконы, помимо уроков благородного, утонченного колоризма (которые должны были уравновесить ранние впечатления, полученные от российской уличной, лавочной живописи, и более поздние уроки фовизма и успокоить страстные вспышки его собственной красочности), Шагал воспринял кардинальную идею единого живописного поля, включающего в себя земной «низ» и небесный «верх». Эта идея определила его пространственную концепцию мира. Но что сделал он с этими каноническими понятиями? Недосягаемый «верх», синее небо, предельное воплощение духовной божественной святости, он заселил и одомашнил, зато земная твердь порою становится недоступной его лирическому герою. Земной – витебский или парижский пейзаж обычно показан из поднебесья, как любимый скалистый Толедо у Эль Греко, другого великого визионера. Герои Шагала не только мечтают о небе и тянутся к небу – хотя, в отличие от персонажей Эль Греко, не вытягиваются, как на дыбе, между землей и небом, «в какой-то промежуточной среде»68, и не раздваиваются, завещая тело земле, могиле, а душу горним сферам, – они носятся в воздушном океане вместе со своими коровами, козами, петухами, скрипками и настенными часами, братаясь с ангелами или Эйфелевой башней. Небо у Шагала – свободная стихия объятий и поцелуев и прибежище бездомных, не находящих себе приюта, блуждающих по синему небу, как прежде блуждали по белому свету. Любящий все одомашнить и с наивной детской улыбкой прибрать к рукам, Марк Шагал превратил безграничное воздушное пространство в место любовных свиданий, в подлунный бульвар, где ангелы, одетые, как парижские цветочницы (а может быть, это – парижские цветочницы с ангельскими крыльями?), спешат поднести счастливым влюбленным благоухающие цветы. В провинциальном Витебске, где скособоченные домишки жмутся друг к другу, в захолустной тесноте черты оседлости не податься ни влево, ни вправо, зато в мечтах, в полете любовной страсти можно подняться в небо и, обнявшись, парить над землей. А «низ» – гротесковая обыденность Витебска и Лиозно, показанная со всей памятливостью шагаловского сюрнатурализма, – полнится священным смыслом и томится мистическим ожиданием чуда. В ритуализации страстного и гротескового местечкового быта, в его близости к Богу, сновидческой, «сюрреалистской» инфернальности уже предполагается возможность одухотворения предметной и телесной материи и потусторонних летательных видений. Да, удивительна не быстрота, с какой Шагал осваивает разноречивый художественный опыт, и даже не решительность, с какой он преображает его в нечто экзотическое и неповторимое, преследуя ему одному ведомые цели, – удивительна свободная детская непосредственность его общения со всем на свете, что попадается ему на глаза, удивительно это умение, в такой степени никому, кроме Шагала, не свойственное, приручить и одомашнить, как когда-то люди одомашнили корову и козу, все, что находит отклик в его душе – от неба над Витебском до петуха, который кормился на его улице, от местечкового нищего до Аполлинера, от хасидских легенд до стихов молодого Маяковского, от светлого церковного храма до таинственной палестинской синагоги, от Библии до балета, от фовизма до русской иконописи. Во многих картинах он простодушно и настойчиво демонстрирует свою энциклопедию, «мир Шагала»: вид родного Витебска, тут же вид Парижа, настенные деревянные часы, рыба, сани, влюбленные, скрипка, патриархальные родственники, домашние животные, подсвечники и акробаты… Напрасны попытки дать однозначное, рациональное или символическое толкование постоянным поэтическим образам Шагала, воспринимая их как комбинацию знаков, как ребус, который можно разгадать. Дескать, рыба – символ смерти, часы – символ времени и т. д. В картинах Шагала господствует магия настроения, тайна подтекста, которую никогда не превратить в текст. Вот так, едва начнешь отстраненно – с ясной головой – раздумывать над той или иной особенностью искусства Шагала, как очень скоро, незаметно для себя втягиваешься в волшебный мир его воображения, который простирается между сном и явью, мечтой и действительностью, мир, который художник так отчетливо «видит», о котором преданно «вспоминает», который ему приснился. <…>
Проникнуть в доступный и загадочный, незаметно меняющийся и на редкость устойчивый, на одном и том же сосредоточенный образный мир Шагала можно только через вчувствование, как получилось у авторов первой, вышедшей в 1918 г. книги А. Эфроса и Я. Тугендхольда, через влюбление, как произошло у молодых артистов Художественного театра относительно Чехова, когда они убедились, что слишком подробный психологический анализ снимает с его пьес поэтический пушок. Тем более мы знаем – все, что Шагал сделал в искусстве, он сам об этом говорит, было рождено любовью <…> Но больше всего на свете он любил свой Витебск и небо над Витебском. Это была какая-то обморочная любовь, какое-то наваждение, от которого он никогда не мог и не хотел избавиться. Только лесковский очарованный странник, заколдованный магнетизером, знал такие чувства, только Бунин и Набоков так бредили своей деревней и своими дворянскими гнездами, только Данте так тосковал по Флоренции, как Шагал – по захолустному Витебску. Он познавал мир, очаровываясь и влюбляясь. Теперь, на исходе нашего прекрасного и яростного века – когда самые головокружительные художественные открытия уже совершились и постоянно находятся у нас перед глазами, и мы к ним, как к спутникам, очередям и расщеплению ядра, совершенно привыкли и называем классикой то, что когда-то звалось авангардом, и находим логику в том, что считалось безумием, и льем слезы над тем, над чем наши отцы ломали головы, и восхищаемся человечностью тех, кого попрекали дегуманизацией, и видим извергов в тех, кого почитали отцами и благодетелями, и упиваемся гармонией в тех случаях, где прежде ужасались хаосу, и видим убожество того, что не так уж давно принималось за красоту и величие, и легко, шутя и играя, разгадываем загадки, которые в начале XX столетия казались неразрешимыми, и бьемся над безвыходными проблемами, которые для людей начала века вообще не существовали, и принимаем за высшую достоверность то, что когда-то отвергалось как пустая условность, – никого уже не удивит и не поставит в тупик такая малость, как выкрашенное в зеленый цвет лицо витебского скрипача на крыше, или жеребеночек, у нас на виду лежащий в брюхе у кобылы, или простоволосая баба, что летит по небу с подойником в руке к своей краснокожей корове, которая, как скрипач, забралась на крышу, в то время как голова у ошалевшей бабы несется по воздуху особо, сама по себе. Удивляет, поражает – и всегда будет поражать – другое. Ничтожный провинциальный быт обретает у Шагала сакральный характер и просвечивает мистическим смыслом. Самый захудалый российский провинциальный пейзаж, образованный из серых заборов и покосившихся, льнущих друг к другу деревянных домишек, самая заурядная бытовая сцена, полная натуралистическими деталями и физиологическими откровенностями, до которых Шагал был такой охотник, вызывают в зрителе трепетное, почти религиозное чувство. Гротесковые обитатели Витебска или микроскопического Лиозно, действуя в кругу безысходной, измельченной обыденности, становятся участниками важного ритуального обряда. Заурядность события и обстановки не могут скрыть – напротив, всегда призваны подчеркнуть – священнодейственный характер происходящего, окутанного налетом печали и тайны, пронизанного сухой страстью, чувством безоговорочного, скорее гордого, чем смиренного, приятия жизни; вся она напрягается благоговейным ожиданием чуда и переживанием чуда, в ней самой заключенного. Подвластные публичному ритуалу, упорядоченные по принципу театрального действа семейные и бытовые обряды – «Рождения», «Свадьбы», «Похороны» и «Субботы» – на полотнах раннего Шагала приобретают несколько отстраненный характер, не теряя при этом жанровой экспрессионистской остроты и детской непосредственности. Не только Шагал – очарованный странник, но и витебский мир очарован, вернее зачарован, как хуторская Украина у молодого Гоголя. Витебск Марка Шагала, как Толедо у Эль Греко, – зачарованный город, хранящий свою мистическую тайну. <…> <…> Судя по всему, традиция хасидизма рубежа веков – оппозиционного религиозного течения русских и польских евреев, бросившего вызов абстрактной догматике талмудизма, – двумя своими положениями повлияла на Шагала и на местечковую жизнь вокруг Шагала. Во-первых, хасидизм с его мистическим пантеизмом учил, что чудесное, сверхъестественное и божественное разлито в окружающей природе и повседневной жизни, а во-вторых, что общение с Богом должно носить непосредственный, эмоциональный характер и достигается оно через «внутренний свет», через радость, раскрепощающий душу экстаз радости – через вдохновенный, взвинчивающий сам себя напев и танец (своего рода радение) скорее, чем с помощью затверженного синагогального богослужения. Первое из этих положений так или иначе отзывается в супернатуралистической фантастике Шагала, второе – в страстном, священнодейственном приятии жизни. <…> Кто говорит о шагаловской трактовке быта как бытия, повседневности как ритуала, сквозящего чудесным и таинственным смыслом, о толковании чувственной страсти как божественного промысла, тот должен помнить не только о больших и малых кульминациях человеческой жизни – всех этих «Рождениях», «Свадьбах», «Похоронах» и «Субботах». Прелестные мелочи быта, о которых говорит Абрам Эфрос, первый исследователь Шагала, тоже заключают в себе сакральный смысл, потому что в них выражена внушенная патриархальным обычаем и нравственным законом преданность людей из народа друг другу. Шагал повествует об этом как поэт и жанрист, без всякой помпы, сразу и не поймешь, чего больше в его рассказе – умиления, восторга или юмора. В этом духе будут играть в ГОСЕТе, стиль этого театра Шагал во многом предопределил. Трепеща от любви к своим героям, мечтательным, чудаковатым обитателям черты оседлости, артисты А.М. Грановского проявляли свои лирические чувства через гротеск. Комикуя и шаржируя, они гордились, лелеяли, исходили нежностью и состраданием. Разница состояла, помимо прочего, в том, что московские артисты воскрешали уходящее прошлое и подводили под ним черту, стилизуя его в бесшабашном стиле 1920-х годов. Шагал писал и рисовал то, что было у него перед глазами, или же то, о чем он грезил и тосковал на чужбине, придавая предмету своих ностальгических мечтаний еще более непреложный характер. Ритуализация быта, возведение сюжетов повседневной народной жизни в мифологический ряд сближают живопись и графику Шагала с торжественно-простодушным искусством Пиросмани. Близость к Рембрандту особенно чувствуется в портретах нищих витебских стариков, в которых Шагал, вернувшись домой из Парижа, с изумлением и гордостью узнавал эпические черты библейских пророков. (Пройдет время, и в библейских героях он найдет трогательное достоверное сходство со своими соседями по Покровской улице.) Связи Шагала с Рембрандтом широки; сходятся они на ветхозаветной традиции трепетного, священнодейственного отношения к материальной обыденности, сопровождающей жизнь человека от рождения до смерти. <…> Шагал ранних витебских мотивов – поэт священного домашнего обихода, но не поэт дома. Гениальность знаменитых «Похорон» 1908 г. в том, что гроб с покойником, со свечами по углам гроба, стоит на земле, посреди улицы, на виду у всего Витебска. Шагал – поэт российского провинциального города, широкой российской улицы, общинной патриархальной жизни, а не дома, не комнаты с четырьмя стенами. Вот почему он никогда не мог стать стопроцентным художником парижской школы, не умел запереться в своем ателье один на один с моделью. Даже его интерьеры, в отличие от того, что мы находим, например, у Модильяни, – не замкнутое пространство. Если это парижская комната, то в ней есть окно, а в окне – кусочек родного Витебска. А в витебском интерьере сквозь оконное стекло виден парижский пейзаж. Прежде чем стать художником планетарного пространства и воспеть радость свободного полета в невесомости, Шагал выглянул из окон родительского дома на витебскую улицу и навсегда полюбил ее косые деревянные заборы, разноцветные дома, кривые крыши и скрипача на крыше, и куда-то, по какому-то важному делу идущих по улице людей, коров и коз, и курицу с петухом. В первую годовщину Октября он украсит свой город летающими коровами (шагаловские «летатлины»), написанными на кумачовом фоне, – другой ткани в Витебске, как известно, не оказалось. Интерес к улице, к народу на улице он сохранит навсегда, последний раз обнаружив его в своих поэтических фантазиях на темы Ветхого завета; его библейские массовки – отзвуки витебских революционных празднеств. Сакрализация быта и окружающей человека материальной, чувственной среды, уходящая корнями в ветхозаветную традицию, получает у Шагала жгучее, сверхактуальное обоснование: художник скорее ощущает его, чем осознает. Прежде всего он чувствует, что издревле соблюдаемый патриархальный обиход, проникнутый пафосом ритуализации, родственной общительности и наивной гордыни, позволяет обитателям черты оседлости сохранить достоинство и нравственную устойчивость в убогих обстоятельствах их существования. Через постоянство бытового ритуала, объединяющего людей, освященного присутствием Бога и понятого как священнодействие, герои шагаловских полотен осуществляют свой жизненный долг. Ритуальная значительность, мистическая тайна бытия, состоящая в ожидании чуда и повсеместном присутствии чуда, в сочетании с бедностью, скученностью, пустотой, окостенелыми и узкими формами местечковой жизни придают существованию шагаловских героев гротесковый и фантасмагорический характер, о чем Шагал не устает рассказывать с непреходящим изумлением. Ну а кроме того, Шагал, конечно, предчувствует, что его родному Витебску недолго жить, как Чехов предчувствует гибель дворянского вишневого сада. У Чехова в его пьесах речь идет об угасании и выветривании, у Шагала – особенно в вещах парижского периода – о близком взрыве, который разнесет на куски заветный мир его детства. Кубизму, которому он так быстро выучился в Париже, суждено было стать способом воплощения этого взрывающегося мира. Шагал запечатлевает бытовую и романтическую жизнь, которая скоро исчезнет. И останется только в его памяти. На его повторяющихся, как заклинание, полотнах. С сыновней преданностью и ранней ностальгией он спешит увековечить эту жизнь, сделав ее общим достоянием. Театр Чехова, живопись Шагала – две лирико-драматические эпопеи, в которых сохранено обаяние старой провинциальной России и предсказан ее конец. Нищая экзотическая окраина исчезнет так же, как усадьбы во вкусе Тургенева. Гореть старой России с двух концов. От вишневого сада, когда он исчезнет, останется великая утонченная дворянская культура. От витебского захолустья что останется? – сухая мечтательная страсть, лирические бредни, потребность в книге, потребность в полете да мелодия скрипки того скрипача, что залез на крышу. <…>
* * *
Иллюстрации к «Мертвым душам» – итог долгих размышлений о Гоголе и, с помощью Гоголя, о России, которую художник покинул в 1922 году. «Шагал смотрит на Гоголя глазами художника-экспрессиониста, уже вобравшего в себя опыт социальных потрясений, неведомых прошлому столетию»69. В родную страну он вглядывается из волшебного парижского далека, как Гоголь вглядывался когда-то из Рима. «На фронтисписе ко второму тому французского издания «Мертвых душ» Гоголь и Шагал размещены в нижней части листа, один перед рукописью, другой перед мольбертом, повернутыми в разные стороны, но с одинаковой лукавой и загадочной улыбкой»70. Эта улыбка определяет тональность шагаловских «Мертвых душ». О каких бы монстрах ни рассказывал он, иллюстрируя Гоголя, лукавая загадочная улыбка не сходит с его уст, и чувство непроизвольного восхищения, изумленной оторопи всегда берет верх над чувством негодования. Одно из проявлений шагаловской благосклонности к эпическому провинциальному миру гоголевской поэмы – внедрение в него витебских реалий. В некоторых из гоголевских персонажей то тут, то там вдруг мелькнет что-то местечковое. На некоторых гравюрах Собакевич похож на ушлого витебского толстосума, а толстуха Коробочка – на подозрительную настырную витебскую мещанку. Да и сам губернский город, куда приезжает Чичиков, чем-то напоминает Витебск, хотя, казалось бы, о Витебске и речи нет, а все гоголевские топографические знаки и описания переданы с благоговейной точностью. Марк Шагал. Гоголь и Шагал. Иллюстрация к книге Н.В. Гоголя «Мертвые души» 1923–1925. Офорт, сухая игла, акватинта 37,8х27,7; 27,6х21,2
Марк Шагал. Гоголь и Шагал. Иллюстрация к книге Н.В. Гоголя «Мертвые души» 1923–1925. Офорт, сухая игла, акватинта 37,8х27,7; 27,6х21,2
Но, прежде чем говорить про сущность размышлений художника о родной стране, нужно дать себе отчет в том, что его иллюстрации к «Мертвым душам» – итог недавнего театрального опыта. Раньше чем мы успеваем разобраться в философском и историческом смысле шагаловских комментариев к Гоголю, становится ясно, что этот график – человек театра до мозга костей. Его бесчисленные иллюстрации к гоголевской поэме – синтез театральных исканий 1920-х годов. Еще в 1919–1920 гг. Шагал делал эскизы к неосуществленным постановкам трех гоголевских пьес: «Игроков» и «Женитьбы» – для экспериментального театра «Эрмитаж» в Петрограде и «Ревизора» – для Театра революционной сатиры в Москве71. Шагал иллюстрирует «Мертвые души» в период, когда Мейерхольд ставит «Ревизора», а Станиславский, поставив «Горячее сердце», еще не приступил к работе над гоголевской поэмой. В гравюрной серии Шагала – кадрах непоставленного, но воочию увиденного спектакля – есть черты, близкие Мейерхольду, а есть – Станиславскому. Синтез метода Станиславского и Мейерхольда, о котором столько десятилетий будут до одури спорить люди театра, у Шагала осуществлен естественно и непреложно. С мейерхольдовским «Ревизором» Шагала сближает безудержный полет фантазии, эпический размах замысла, пластическое выявление сущности характера «через жестовую схему» (Андрей Белый). Хотя, вообще-то говоря, у более эмоционального и менее жесткого Шагала есть жест, но нет, в отличие от Мейерхольда, жестовой схемы. (По иллюстрациям к «Мертвым душам» видно, что концепция жеста как главного выразительного средства в выявлении сущности персонажа не связана у Шагала только с национальной пластикой.) О Станиславском, о будущем мхатовском спектакле по гоголевской поэме иллюстрации Шагала напоминают страстной действенностью диалогов, гениальной наивностью в восприятии гоголевских героев и положений. Что бы Гоголь ни нафантазировал, о каких бы невероятных событиях ни рассказал, Шагал одно твердит: «Верю!» Некоторые из парных сцен, запечатленные Шагалом, кажутся зарисовками, сделанными по мотивам еще и не начатой тогда постановки Станиславского. О Москвине, об его жесте непременно заставит думать портрет Ноздрева, сделанный Шагалом, о Леонидове – один из портретов Плюшкина. Главное, что потрясает в шагаловских иллюстрациях к Гоголю, резко отличая их от изобразительных комментариев к Гоголю, сделанных в прошлом веке, – это не только детское доверие ко всему самому невероятному у Гоголя, но способность графически воспроизвести любую словесную метафору писателя. Метафористика Гоголя – вот стихия, где Шагал чувствует себя как дома. Потому-то у Шагала, в отличие от Мейерхольда, строго говоря, нет гротеска в традиционном его понимании. Что нам кажется чудовищной гиперболой, гротескным заострением, то для Шагала – сама реальность, однако же выражающая не внешнюю линию поведения персонажей, а их метафизическую суть, следовательно, существо романа72. <…> Из бесконечной цепи гоголевских словесных гипербол, усиленных изобразительной наглядностью, возникает главная тема шагаловских иллюстраций – в гоголевской России все возможно. Вот о чем, оказывается, говорит и его и Гоголя лукавая и загадочная улыбка на фронтисписе. Это в Греции все есть. А в России –все возможно. <…> В иллюстрациях к «Мертвым душам» обнаруживается, что у фантазии Гоголя и Шагала общий провинциальный корень, их роднит почти фольклорная вера в то, что в России, как в сказке, может произойти все, чего даже произойти не может. Размышляя на чужбине о недавно оставленной родине, Шагал вызвал к жизни мир, полный нетронутых сил, неупорядоченных, немеренных страстей, гомерических противоречий, мир восхитительно ужасный, близкий к распаду и поразительно цельный, связанный одной цепью, – от Чичикова до Селифана, от Собакевича до Неуважай-Корыто, властно притягивающий к себе художника, достойный восхищения, лирических признаний и горьких сарказмов, мир, столь непохожий на тот, что заново открылся Шагалу в Париже 1920-х годов. Когда-то поэт определил единственно возможное – чтобы не отчаяться, как Гоголь, – отношение к этому миру: «в Россию можно только верить». <…>
Зингерман Б.И. Земля и небо в творчестве Шагала // На грани тысячелетий: Мир и человек в искусстве ХХ в. М., 1994. С. 43–89. Ранее (с некоторыми расхождениями в тексте): Зингерман Б.И. Россия, Шагал, Михоэлс и другие // Театр (М.). 1990. № 4. С. 35–53; Зингерман Б.И. Парижская школа: Пикассо. Модильяни. Сутин. Шагал. М., 1993. С. 231–335.
Часть V МАРК ШАГАЛ И ПОЭЗИЯ (ИЗБРАННОЕ)
1. Из русских стихов Шагала
РОДИНА[99]Только та страна моя,
которая находится в моей душе
я как свой – без бумаг
вхожу в нее.
Она видит мою грусть
и одиночество
она укладывает меня спать
и покрывает меня душистым камнем
Во мне цветут сады,
мои цветы выдуманные,
мои собственные улицы…
но только нет домов.
Они разрушены с самого детства
обыватели бродят в воздухе
в поисках жилища
они живут в моей душе.
Вот почему я улыбаюсь
когда мое солнце чуть блестит
или плачу,
как легкий дождь в ночи…
Было время
когда у меня были две головы,
когда оба лица покрывались любовным налетом
и таяли как запах розы —
Теперь мне кажется,
что даже когда я иду назад —
я иду вперед —
по направлению к высоким воротам
за которыми раскинуты стены
где ночуют откатые громы
и сломанные молнии…
Частное собрание. Автограф.
 С. 726–727. Марк Шагал. Родина. Автограф. Париж, 1946
С. 726–727. Марк Шагал. Родина. Автограф. Париж, 1946

Если б солнце мое сияло б в ночи
когда я сплю весь в красках
в постели из картин —
когда нога твоя в моем рту
меня жмет, меня мучает
Я просыпаюсь в отчаянии
нового дня, моих надежд
еще не нарисованных
не протертых краской.
Я бегу наверх
к кистям засохшим
и распинаюсь как Христос
прибитый гвоздями к мольберту
Неужели я законченный?
картина моя закончена?
Все сияет, льется, бежит.
Остановись, еще мазок.
там черный цвет,
там красный, синий уложился
и меня тревожит
ох как меня тревожит
Печатается по: Lassaigne Jacques. Chagall. Paris,1957. P. 12 (автограф, воспр.); Каменску А. Chagall: Russian Years, 1907–1922. New York, 1989. P. 362 (автограф, воспр.).
Если родина ты мать моя
отчего же сын вдали в слезах
не слышит слова не видит ласки
в ответ на мои краски.
Я вижу мать мою родную
она ждала меня у дверей
она в крови мне завещала
судьбу неясную, иную
Если родина ты мать моя
мое же имя тебе чуждо.
Не видишь как тает облако
и тают воды далекого ручья.
Не так родная мать у бедного порога
меня надеждами поила
своею грудью мой мир вскормила
и днем и ночью молилась за меня.
Печатается по: Городецкий В. Находка: русские стихотворения зрелого Марка Шагала // Семь искусств: наука, культура, словесность. 2019. № 4(109), апрель (автограф, воспр.).
2. Стихи Шагала в русских переводах
ПЕРЕВОДЫ АНДРЕЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО Печатается по: Вознесенский 1986. С. 241.БЕЛЫЕ СТУПЕНЬКИ В НЕБО
Брожу по миру, как в глухом лесу,
То на ногах пройдусь, то на руках.
И жухлый лист с небес летит на землю.
Мне жутко.
Рисую мир в оцепененье сна.
Когда мой лес завалит снегопадом,
Картины превратятся в привиденья.
Но столько лет я среди них стою!
Я жизнь провел в предощущенье чуда.
Я жду – когда ж меня ты обовьешь,
Чтоб снег, как будто лесенка, спустился.
Стоять мне надоело – полетим
С тобою в небо по ступенькам белым!
ТВОЙ ЗОВ
Не знаю – жил ли я?
Живу ль – не знаю.
Гляжусь я в небо – и не узнаю.
Смеркается мое мужское тело.
Но страсть и цвет влекут меня опять.
Не отнимай свечи из рук моих!
Ведь если в моем домике стемнеет,
Как различу я твой высокий зов?
ПЕРЕВОДЫ ДАВИДА СИМАНОВИЧА Печатается по: Симанович 2001. С. 19–20.
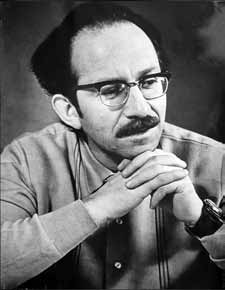
ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ ИЕГУДА ПЭН
Учитель мой, где твои кисть и бородка?
Из этого мира насилья и зла
тебя на тот свет дорогой короткой
лошадка черная увезла.
Погасла лампада усталого сердца —
и ночь окутала дерева.
Напротив дома старая церковь
молчит нахмуренная, как вдова.
Уже по картине твоей еврейской
мажет грязным хвостом свинья.
И болью мне поделиться не с кем:
зачем так давно я ушел от тебя.
БЕЛЛА К 4-й годовщине смерти
О тебе твое белое платье грустит,
увядают цветы, что сорвать я не мог.
По надгробью рука моя нежно скользит,
и уже я и сам зеленею, как мох.
Об одном, как вчера, я сегодня спрошу:
– Остаешься иль вырваться можно тебе
и пойти по следам, осушая росу
или слезы мои? Жду тебя на тропе…
– Как любви нашей свадебный яркий костер,
к людям, к дому любовь наша чистой была,
ты иди, ты буди их, чтоб к солнцу поднять.
Как земной на груди моей вечный ковер
и сиянье звезды, что сквозь ночи прошла —
так однажды ко мне ты вернешься опять.
ПЕРЕВОДЫ ЛЬВА БЕРИНСКОГО Печатается по: Ангел над крышами 1989. С. 27, 33–35, 41, 45, 56–57.

АНГЕЛ НАД КРЫШАМИ
Ты помнишь ли меня, мой город,
мальчишку, ветром вздутый ворот…
Река, из памяти испей-ка
и вспомни въявь юнца того,
что на твоих сидел скамейках
и ждал призванья своего.
Там, где дома стоят кривые,
где склон кладбищенский встает,
где спит река – там золотые
деньки я грезил напролет.
А ночью – ангел светозарный
над крышей пламенел амбарной
и клялся мне, что до высот
мое он имя вознесет…
Я расписал плафон и стены —
танцоры, скрипачи на сцене,
зеленый вол, шальной петух…
Я подарил Творенья Дух
вам
мои братья бессловесные.
Теперь – туда, в края надзвездные,
где ночь светла, а не темна…
…И песни наши, вновь чудесные,
услышат земли поднебесные
и стран небесных племена.
НАСЛЕДСТВО
Отец…
Он снова мне явился
во сне, собравшись в землю лечь.
Об избавлении молился,
о том, чтоб ношу скинуть с плеч…
Его убил холодный меч.
…Ты ждал чудес, ты ждал и плакал,
тряс в синагоге бородой.
Авраам, Исаак и нежный Иаков
внимали сердца голос твой.
Не покладая рук разбитых,
всю жизнь трудился ты —
затем,
чтоб нас вскормить, детей несытых
среди пустых и бедных стен.
Твое наследство – ах как зыбко:
твой дух, которым я пропах,
твоя – в чертах моих – улыбка,
и сила – в двух моих руках…
ТОТ ГОРОД ДАЛЬНИЙ
Во мне звенит
тот город дальний,
церквушки белые —
белы как мел они —
церквушки дальние
и синагоги. Двери
распахнуты. В расцветший сад – в зенит
взлетает жизнь, на шумных крыльях рея.
Во мне грустят
кривые улочки,
надгробья серые – на склоне, где лежат
в горé благочестивые евреи.
В мазках и красках,
на свету, в тени
стоит моя далекая картина —
о, если б душу мне могла обнять
ее холстина!
Мой путь охвачен пламенем. В огне
сверкают годы.
Сколько раз ко мне
тот мир во сне как наяву являлся,
а я – где я? Бог весть где затерялся.
Меня вы не ищите. Не найду
себя я сам. Я жизнь свою покинул,
ушел…
Себе я вырою могилу
и лягу и слезами изойду.
РОДИНА
Мой гость – луна в полночный час
из той страны, что входит с нами…
Там красное трепещет знамя
на старой улице у нас.
Мир – без меня – там обновлен.
Хлопочет ветер: как созвать бы
на торжество великой свадьбы
гостей из множества племен.
Там радость свой являет нрав:
плясун в толпе звенит подковкой,
свободу,
жизнь завоевав
горячей речью и винтовкой.
Вылазьте из глубоких ям,
дядья и тетки,
ты, кузина,
ты, старый дед, – отныне вам
дается званье гражданина…
О, подхвати и воздыми
меня к высотам, облак знойный!
Я слышу колокола звоны
внизу,
где крыши и дымы.
Я слово тихое скажу:
– Страна моя в снегах с тропою,
моя душа навек с тобою —
пока живу,
пока дышу.
Тебя я в красках воспевал —
не знаю, нравится ли песня,
но не отвергни,
даже если
вдали я голосом устал.
Твои леса, твоих людей,
цветы твои – в кармин одел
и в изумруд
и в бирюзу я…
Твой светлый лик
живописуя,
благословляю в ночь и в день…
Молчишь, страна моя. Ты хочешь
мне сердце, что ли, надорвать?
Какой молитвой – днем ли, ночью —
палящий жар мне утолять
в груди?..
Коленопреклоненный…
С надеждой тайной, сокровенной…
Я кровь свою, на знойных грезах
настоянную, тебе пошлю,
свое дыхание —
как слезы
текучие,
всю жизнь мою.
И воздух, голубой и зыбкий,
качнется глыбой в вышине,
и сам я
с тихою улыбкой
умру и лягу в тишине.
Ты на меня, страна, в обиде?
Но я открыт перед тобой —
бутыль в откупоренном виде,
сосуд с доступною водой.
Из года в год разлука крепла…
Но возвращусь я
дотемна,
и ты мою могилу пеплом
посыпешь, милая страна.
3. Стихи о Шагале
АРОН ВЕРГЕЛИС Печатается по: Вергелис А. Путь. Стихи / авторизованный перевод с еврейского В. Левика. М., 1972. С. 90–96.
С МАРКОМ ШАГАЛОМ В СЕН-ПОЛЬ ДЕ ВАНСЕ
1. У СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ
В этой местности я как дома:
Не с того, что, тепло и светло,
Среди моря земель так знакомо
Средиземное море легло,
Но как будто душа увидала,
В средиземную глядя волну,
Реку синюю Марка Шагала,
Нашу северную Двину.
И как будто море узнало
И хранит, как свиданья залог,
Город маленький Марка Шагала,
Витебск в Альпах, родной городок.
Ах, прощай, Средиземное море,
Надо камень иметь в груди,
Чтоб Сен-Поль де Ванс из предгорий
В Белоруссию не увезти.
Чтоб отсюда, где небо другое,
Где и речь и запах другой,
Не забрать, как дитя дорогое,
Старика Шагала домой.
2. БЕРЕЗА
Саду южному Марка Шагала
Не хватает снежного сугроба,
Не хватает крепкого мороза
Да февральского порывистого ветра.
Вот уж сколько весен хлопочет,
Сад сажая на целине гористой,
Милая хозяйка Валентина,
А Шагал улыбается и шутит.
– Здесь деревья, – говорит лукаво, —
Слушаются только красавиц.
Вышла рано в сад Валентина,
Вокруг березки землю разрыхлила,
Напоила ее, огородила
И шепнула: – Расти, моя отрада,
Может, все теперь пойдет как надо. —
Прошептала эти слова по-русски.
Младшая дочурка Валентины,
Светлокудрая Аленушка-березка,
Наконец найдет покой и радость,
И дотянутся до сердца березки
Соки этой земли благодатной.
Но проходит неделя – березка чахнет.
Ствол согнулся, кора пожелтела,
И ломаются высохшие ветки.
Говорит Шагал Валентине:
– Ты пойми, ведь у березы тоже
Кровь живая струится под кожей,
И поэтому, где расти березке,
От ее характера зависит.
Я ведь знаю, что корень березы
Не выносит тихой погоды.
И поверь мне, дело только в этом.
Ей в саду нашем южном не хватает
Северного снежного сугроба,
Не хватает крепкого мороза
Да февральского порывистого ветра.
3. РОМАНТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ, УСЛЫШАННАЯ ИЗ УСТ САМОГО ШАГАЛА
Огневые дни, золотые,
Восемнадцатый грозно идет.
Комиссаром всех красок России
Чуть не стал я в тот памятный год.
Сам нарком, ни мало, ни много, —
Луначарский мне выдал мандат.
Бедный хворый отец мой заплакал —
Он боялся, но как он был рад!
В мандате было сказано: «Сим удостоверяется, что руко —
водителем всех свободных художников города Витебска
назначается товарищ Шагал».
Для начала большими буквами
Напечатать велел я воззвание:
«Всем художникам Витебска! Ныне
Нам нужнее всего плакаты.
Всем художникам Витебска! Ныне
Октябрю исполняется год.
Золотой ему цвет неприличен,
Черный цвет ему не идет.
Октябрю нужны краски яркие:
Нужен красный – цвет нашей страны,
Нужен также здоровый коричневый,
Краски хлеба и соли нужны.
И, конечно, нужна голубая,
Это неба высокого цвет.
Без небес ни печали, ни радости,
Ни голубки, ни ворона нет.
Вы должны человека летящего
На плакатах нарисовать
(Поднимите над крышами города
И отца моего и мать).
В ноябре на великом празднике
Демонстрантов колонны пойдут,
Понесут сотворенное нами, —
Не волнуйтесь, оплатится труд.
Революция нам оплатит
Краски новых стремлений и чувств.
Пусть рисуют и пишут все кисти!
Марк Шагал, комиссар искусств».
И – короче – закипела работа.
В мастерской, казалось, от красок,
Наших огненных, сияющих красок,
Загорится железная крыша.
Ну и вышел на славу праздник!
В мире празднеств таких не видали.
На плакатах свободные люди
На конях свободных летали.
Над колоннами – души парящие,
Выше крыш уносится смех.
Радость
бьет
огромными крыльями —
Радость всех
и Радость
за всех.
___________
Был я молод и был отважен,
Был я славой еще не обижен.
Я мечтал быть красным солдатом,
Брать дворцы ради счастья хижин.
Только вышло совсем иначе:
Стал в Париже я нищим скитальцем.
Прожил годы среди богемы,
В общежитье Ларюш постояльцем.
Быстро мне привились привычки
Серой массы, лишенной цвета.
Вспоминал я Витебск родимый,
Те великие зиму и лето.
И жалел, что тогда, в восемнадцатом,
В огневые дни, грозовые,
Лишь казалось мне, будто я стану
Комиссаром всех красок России.
РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Печатается по: Рождественский Р. Это время. Из новых стихов // Литературная газета. (М.,) 1980. № 42. 15 октября. С. 7.

МАРК ШАГАЛ
Он стар
и похож на свое одиночество.
Ему рассуждать о погоде
не хочется.
Он сразу – с вопроса:
– А вы не из Витебска?..
Пиджак старомодный
на лацканах вытерся…
– Нет, я не из Витебска…
Долгая пауза.
А после – слова
монотонно и пасмурно:
– Тружусь и хвораю…
В Венеции – выставка…
Так вы не из Витебска?
– Нет, не из Витебска…
Он в сторону смотрит.
Не слышит,
не слышит.
Какой-то нездешней далекостью
дышит.
Пытаясь до детства
дотронуться бережно…
И нету ни Канн,
ни Лазурного берега,
ни нынешней славы…
Светло и растерянно
он тянется к Витебску,
словно растение…
Тот Витебск его —
пропыленный и жаркий —
приколот к земле
каланчою пожарной.
Там свадьбы и смерти,
моленья и ярмарки.
Там зреют
особенно крупные яблоки
и сонный извозчик
по площади катит…
– Так вы не из Витебска?..
Он замолкает.
И вдруг произносит,
как самое-самое,
названия улиц:
«Смоленская»,
«Замковая».
Как Волгою,
хвастает Витьбой-рекою
и машет по-детски
прозрачной рукою…
– Так вы не из Витебска…
Надо прощаться.
Прощаться.
Скорее домой
возвращаться…
Деревья стоят
вдоль дороги навытяжку.
Темнеет…
…И жалко,
что я не из Витебска.
АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ Печатается по: Возвращение мастера. 1988. С. 11–12.

ВАСИЛЬКИ ШАГАЛА
Лик Ваш серебряный, как алебарда.
Жесты легки.
В вашей гостинице аляповатой
в банке спрессованы васильки.
Милый, вот что Вы действительно любите!
С Витебска ими раним и любим.
Дикорастущие сорные тюбики
с дьявольски
выдавленным
голубым!
Сирый цветок из породы репейников,
но его синий не знает соперников.
Марка Шагала, загадка Шагала —
рупь у Савеловского вокзала!
Это росло у Бориса и Глеба,
в хохоте нэпа и чебурек.
Во поле хлеба – чуточку неба.
Небом единым жив человек.
В них витражей голубые зазубрины,
с чисто неистовой тягою вверх.
Поле любимо, но небо возлюблено.
Небом единым жив человек.
В небе коровы парят и ундины.
Зонтик раскройте, идя на проспект.
Родины разны, но небо едино.
Небом единым жив человек.
Как занесло васильковое семя
на Елисейские, на поля?
Как заплетали венок Вы на темя
Гранд-Оперá, Гранд-Оперá!
В век ширпотреба нет его, неба.
Доля художников хуже калек.
Давать им сребреники нелепо —
небом единым жив человек.
Ваши холсты из фашистского бреда
от изуверов свершали побег.
Свернуто в трубку запретное небо,
но только небом жив человек.
Не протрубили трубы господни
над катастрофою мировой —
в трубочку свернутые полотна
воют архангельскою трубой!
Кто целовал твое поле, Россия,
пока не выступят васильки?
Твои сорняки всемирно красивы,
хоть экспортируй их, сорняки.
С поезда выйдешь – как окликают!
По полю дрожь.
Поле пришпорено васильками,
как ни уходишь – всё не уйдешь…
Выйдешь ли вечером – будто захварываешь,
во поле углические зрачки.
Ах, Марк Захарович, Марк Захарович,
всё васильки, всё васильки…
Не Иегова, не Иисусе,
ах, Марк Захарович, нарисуйте
непобедимо синий завет —
Небом Единым Жив Человек.
ЭДУАРДАС МЕЖЕЛАЙТИС Печатается по: Литературная газета. (М.)1989. № 7. 15 февраля. С. 6.

МАРК ШАГАЛ
… Тогда совсем немного лет мне было…
Как мальчик пробирается тайком
В соседский сад, чтоб там нарвать
незрелых
Зеленых яблок, – в сад души моей
Прокралось это неземное чувство,
Которое в стихах на всех наречьях
Поэты первою зовут любовью…
…Сад зацветал, а я смотрел на звезды…
Мне девушка мечты моей казалась
Такой прекрасной, так желал добра ей
Я; что вознес ее в такую высь,
На самую ярчайшую звезду…
(Тогда я думал: счастье может быть
Лишь где-то очень, очень высоко,
Лишь где-то очень, очень далеко…)
В те дни я на земле еще ни разу
Со счастьем не встречался… Для меня
Мерцало счастье мыльным пузырем,
В пространство из соломинки взлетевшим,
Как шар, что был запущен Монгольфье…
Но этот мыльный голубой пузырь
В саду под лунною голубизною
Вдруг обернулся ликом голубым
Любимой девушки… К высоким звездам
Его вознес я и ему молился…
И было это счастье иллюзорным,
Как сквозь тростинку выдутый пузырь…
…Позднее девушек увидел я,
Изображенных витебским парнишкой,
Марком Шагалом: голубые все,
Как лунное весеннее сиянье,
Они порхали в поднебесье, словно
Те голубые пузыри мои,
Они сияли радугою свежей…
Мне нравилось, что девушки Шагала
По крышам ходят и по кронам яблонь
И коз пасут на облачных лугах.
Мне нравилось, что девушки, повесив
На крюк звезды ведро, доят коров
И что пастух багряный вместе с ними
Вниз головой висит; что словно трубы,
Их губы вытянуты – и от звезд
Протянуты к земле для поцелуя…
Да, нравились мне синие полотна
Мечтательного витебского парня
Марка Шагала: я их понимал —
Я сам бы в красках так изобразил
Свое смешное детство… Я желал,
Чтоб девушка моя к звезде взлетела,
Нашла бы счастье высоко меж звезд
И, став сама звездой, сошла б в сиянье
В мой сад – на купола цветущих яблонь
И на руки мои… Так не случилось…
Та девушка моя звездою стала,
Но не в моем саду, – увы, на сцене,
Сооруженной для трагикомедий,
Подобных тем, что в моде на Бродвее…
Мне жаль, мне очень жаль мою звезду:
Но, маленькую, разве ты отыщешь
Ее в безбрежном космосе, где столько
Мерцает звезд, похожих друг на друга…
А некогда она была одна,
Единственною для меня была,
Когда так мало лет нам с нею было
И счастья видели мы так немного…
Но звезды той порой сияли ярче,
Сверкали, как на радужных полотнах
Шагала… Жаль мне, жаль одну звезду…
Иду я по Бродвею, как по саду:
Неоновых сто лун и миллионы
Звезд из неона, ветви небоскребов,
Осыпанные вешним цветом, гнутся…
Весна…В сиянии неона лунном
Гляжу по сторонам я, но не вижу
Единственной звезды моей – другие
Мне не нужны: нужна она одна…
А той, единственной, здесь нет… Как жаль!
И волосы мои уже белы,
И чтобы вспомнить ту звезду, мне нужен
В Музее современного искусства —
Марк Шагал: «Время – река без берегов»…
ВЕНИАМИН БЛАЖЕННЫЙ Печатается по: Блаженный Вениамин. Стихотворения 1943–1967. М., 1998. С. 27–28, 45–47.

* * *
Мне приснился мальчишеский Витебск,
Я по городу гордо шагал,
Словно мог меня в Витебске видеть
Мой земляк сумасшедший – Шагал.
У Шагала и краски и кисти,
И у красок доверчивый смех,
И такие веселые мысли,
Что земля закипает, как грех.
Бродят ангелов смутных улыбки,
Разноцветные крылья у кляч,
И наяривает на скрипке,
И висит над домами скрипач.
И Шагал опьянен от удачи,
Он клянется, что внешний мой вид
На какой-то свой холст присобачит,
Только лик мой слегка исказит.
И прибавит и блажи и сажи,
И каких-то загадочных чар, —
И я буду похож на себя же,
И на всех дорогих витебчан.
СМЕРТЬ И ШАГАЛ
Смерть пришла и к Шагалу.
– Ах, Марк, Марк, —
Качала она по дороге головой, —
Ни к кому я не шла с такой неохотой,
Как иду к тебе, мечтательному старику
С детской улыбкой.
Конечно, тебе исполнилось девяносто семь лет,
Это (прости меня) возраст смерти,
Но я и сегодня хотела бы обойти твою мастерскую,
Где ты мастеришь из чертей голубей,
Из голубей коров,
А из женщин разноцветные фейерверки.
Об этой мастерской мне кое-что известно.
Седобородые покойники,
Приоткрыв саваны,
Прятали в ладошки веселый смешок, —
Они не забыли твоей сумасшедшей выставки,
Где ты по примеру Господа-Бога
Или витебского портного
Взял длинные портновские ножницы
И испортил ими материал, —
И все затем,
Чтобы бегать вокруг портновского стола,
Щелкая теми же разбойничьими ножницами:
– Я испортил, я и сошью,
Сошью невиданный лапсердак,
Сошью ослино-козлино-звериный мир,
Сошью коров, голубей, лошадей,
Ибо главное в работе – это марка,
А марка у меня всегда в запасе
(В заднем кармане брюк), —
Итак, приклеим ее на лоб Господа-Бога-Саваофа,
На лоб осла, козла и раввина —
Получится Марк Шагал.
Марк Шагал, это совсем неплохо,
Когда можно выйти из дому
И остановить случайного прохожего:
– Скажите, а я похож на клоуна?..
Не бойтесь меня обидеть,
Я буду очень рад, если вы скажете, что я похож на клоуна,
Ведь при виде клоуна смеются дети —
Он наполняет их детские рты крупицами смеха,
Как птицы клювики птенцов зернышком и червячком.
. . . . . . . . . . . . . . .
(…Все это бормотала смерть —
У нее начались слуховые галлюцинации, —
Бормотала, идя к Марку Шагалу,
И, бормоча, путала все на свете,
Забывала, кто она, Смерть или Марк,
Называла себя Марком, маркой, даже маркитанткой, —
Ибо она окончательно запуталась в поисках собственного имени…)
Комментарии
Часть I Материалы к биографии Марка и Беллы Шагал
1 См. III, 2–14. 2 Имеется в виду Центральное училище технического рисования барона А.Л. Штиглица. 3 См. VI, 11. 4 См. VI, 19. 5 15 июня 1914 г. выехал из Берлина в Витебск на свадьбу сестры Зины. 6 См. VI, 112. 7 Подразумеваются картины и рисунки, составившие «Витебскую серию» (1914–1915). 8 См. Выставки, 7—12. 9 Cм. VI, 38 и далее. 10 По документальным свидетельствам Шагал уехал из Витебска не ранее июня 1920 г. (см. VI, 151, 153). 11 Согласно записи в документе, заполненном при поступлении в гимназию, дата рождения 2 (15) декабря 1889 г. См. I, 5. 12 Витебская женская Алексеевская гимназия открылась 1 июля 1905 г. До этого в городе существовала женская Мариинская гимназия, именовавшаяся правительственной (с 1870 г.), а также несколько частных гимназий и прогимназий. 13 Первые пять лет Белла училась в Витебске в «семиклассном, с правительственными субсидиями женском перворазрядном училище», которое содержала Раиса Александровна Милинарская. 14 Оба свидетельства в деле отсутствуют. 15 Речь идет о Московских высших женских курсах, основанных В.И. Герье. Это было высшее учебное заведение для женщин, просуществовавшее с 1872 по 1918 г. (с перерывом в 1888–1900), после революции переименованное во 2-й Московский государственный университет. МВЖК имели три факультета: историко-философский, физико-математический и медицинский. Подробнее об учебе Беллы на МВЖК см.: Шишанов 2008. С. 176–182. 16 На историко-философском факультете МВЖК существовало три специализации: по литературе, истории и философии. 17 Ответ в деле отсутствует. 18 «Жемчужное ожерелье» – одна из глав книги Б. Шагал в разделе «Мои тетради». 19 Книга Б. Шагал состоит из трех разделов: «Горящие огни», «Первая встреча» и «Мои тетради». 20 Послесловие было написано Шагалом к французскому изданию книги, которое вышло в Париже в 1948 г. 21 Речь идет о книге Б. Шагал «Горящие огни», изданной на идише в Нью-Йорке в 1945 г. 22 Паулина Венгерова родилась в Бобруйске в богатой еврейской купеческой семье. Приобрела известность после публикации в Берлине на немецком языке своих мемуаров «Воспоминания бабушки» (тт. 1–2, Берлин, 1908), о которых и упоминается в письме. В переводе на русский язык книга вышла в 2003 г. (Венгерова П. Воспоминания бабушки. Очерки культурной истории евреев России в XIX веке. М. – Иерусалим, 2003). 23 Речь идет о статье: Пресс Арк. Венгерова, Паулина Юлиевна // Еврейская энциклопедия. Том пятый. Брессюиръ – Гадасси. СПб., 1910. С. 14–15.Часть II Статьи. Выступления. Интервью
1 Имеется в виду пейзажист Ю.Ю. Клевер, который некоторое время жил в имениях Амбросовичи и Селюты под Витебском. 2 Имеется в виду митинг-диспут на тему «Меньшинство в искусстве», намеченный на 7 декабря 1918 г. (см. VI, 58). 3 См. VI, 45. 4 Прием заявлений в училище открыт 11 ноября (Известия Витебского губернского Совета крестьянских, рабочих, красноармейских и батрацких депутатов. 1918. № 243. 10 ноября. С. 4). 5 См. VI, прим. 46. 6 См. VI, 70. 7 Пролетарский университет открыт 24 ноября 1918 г. в здании бывшей Духовной семинарии (Соборная ул., 7–2). В конце года вышел первый выпуск издания «Записки Пролетарского университета». См.: Шатских 2001. С. 229–230. 8 См. VI, 47. 9 В первых числах января 1919 г. Шагал вернулся в Витебск из Петрограда, куда уехал в конце декабря 1918-го, чтобы уладить в Наркомпросе дела, связанные с открытием училища, а также пригласить будущих преподавателей. 10 Несмотря на предварительные договоренности, Н.Э. Радлов и Ю.П. Анненков в Витебск не приехали. 11 См. VI, 70–78. 12 Имеется в виду Первая государственная свободная выставка произведений искусства (см. Выставки, 18). 13 По-видимому, имеется в виду московский Клуб-мастерская искусств «Красный петух» (Кузнецкий мост, 5). 14 Речь идет о здании ВНХУ (Бухаринская, 10). См. I, 3. 15 Имеется в виду банкир И.В. Вишняк. 16 Выставка закрылась 20 июля 1919 г. (см. VI, 107–109). 17 Руководителем мастерской графики и архитектуры в мае 1919 г. назначен Л.М. Лисицкий. 18 Мастерской прикладного искусства руководила С.О. Козлинская (см. VI, 110). 19 10 июля 1919 г. на должность лектора по истории искусств зачислен А.Г. Ромм.20 C заявлением о необходимости немедленно приступить к комплектованию библиотеки для учащихся Шагал обратился в Отдел ИЗО Наркомпроса сразу же после открытия Художественного училища. Упоминание об этом содержится в стенографическом отчете заседания коллегии Отдела ИЗО 27 февраля 1919 г.: «Когда удастся пересмотреть все реквизированные книги, то у нас образуется склад, где будут, конечно, и дубликаты. Тогда мы в состоянии будем удовлетворить такого рода заявления. Мы образуем дублетные отделения, из которых, по мере возможности, будем удовлетворять требования. К нам уже поступило заявление от Шагала» (РГАЛИ. Ф. 336. Оп. 5. Ед. хр. 10. Л. 167). 21 Вопрос о деятельности Государственной художественно-декоративной мастерской (ГХДМ) обсуждался на I съезде работников искусств Витебской области, проходившем 24–26 августа 1919 г. в Витебске. Выступая на съезде, А.Г. Ромм, представлявший подотдел изобразительных искусств губоно, высказался за всемерную поддержку ГХДМ: «Я хочу обрисовать цель и задачи, которые преследует Государственная художественно-декоративная мастерская. Она декорирует весь город. Мастерская, где работают все художники города, представляет как бы коммуну. Заработок делится между всеми поровну. Цель – художественное исполнение заказов. Выражаю желание, чтобы все работы были сконцентрированы в мастерской» (Витебск: классика и авангард 2004. С. 36). 22 Выставка Ю.М. Пэна и его учеников в ознаменование 25-летия художественной и педагогической деятельности мастера открылась 2 сентября 1921 г. На ней экспонировалось около 500 картин, портретов и этюдов. 23 Имеется в виду Хаим Сегал, художник из Слуцка, расписавший в 1744 г. синагогу в Могилеве. Возможно, он являлся дальним предком Шагала, однако документальных свидетельств такого родства нет. Как отметил Б. Харшав, слово «элтер-зейде» (прадед), которое находим в идишском варианте статьи, может означать и более обобщенное «предок, пращур», причем не обязательно родственник (Шагал об искусстве и культуре 2009. С. 63). 24 А.М. Эфрос. 25 В начале 1922 г. ВНХУ было реорганизовано в Витебский художественно-практический институт, который в июле 1923-го преобразован в Витебский художественный техникум. Пэн так и не был назначен директором ни института, ни техникума, но возглавил совет профессоров. Осенью 1923-го он вступил в острый конфликт с руководителем техникума М.А. Керзиным, официально заявил о своем уходе и вышел на пенсию. В основу газетной публикации положено присланное в редакцию газеты «Дер Ройтер штерн» (орган Витебской Евсекции) письмо Шагала; как указано в редакционном предуведомлении, в публикации приведены выдержки из письма. 26 Сказка И.Л. Переца «Волшебник (Фокусник)» была издана на идише в виде отдельной книги с иллюстрациями Шагала в 1917 г. в издательстве Б. Клецкина. Издательство базировалось в Вильно, но с началом Первой мировой войны вынуждено было перебраться в Петроград, а затем в Москву. В 1915–1918 гг. руководил издательством Нохем Штиф. Будучи в Петрограде, Штиф заказал Шагалу иллюстрации к «Волшебнику» (см. II, 24). 27 «Ночь на старом рынке» (1907) – символистская пьеса И.Л. Переца, написанная белым стихом. В 1925 г. поставлена в ГОСЕТе. 28 Статья приурочена к десятой годовщине со дня смерти И.Л. Переца. 29 См. I, 2. 30 В 1901–1906 гг. М.М. Винавер руководил изданием ежемесячного еврейского учено-литературного и политического журнала «Восход». Редакция журнала находилась рядом с его квартирой в доме № 25 на Захарьевской улице. 31 Возможно, М.В. Познер, экономист по образованию, некоторое время работавший в редакции «Восхода». 32 Речь идет о картине «Свадьба (Русская свадьба)» (1909). 33 Шагал уехал в Париж в мае 1911 г. (см. III, 28). 34 Е.М. Винавер. 35 М.М. Винавер скончался 10 октября 1926 г. в местечке Ментон-Сен-Бернар и похоронен в Париже на кладбище Пер-Лашез. Шагал в это время отсутствовал в Париже: большую часть года он провел близ Тулона, в рыбацкой деревушке Мурийон, а также жил в Оверни (Центральный горный массив), в деревне Шамбон-сюр-Лак. 36 Статья написана в дни, когда в Витебске праздновалось 30-летие художественно-педагогической деятельности Ю.М. Пэна. В ноябре 1926 г. в его мастерской открылась персональная выставка, которая продлилась до августа 1927-го. 27 марта 1927 г. на Втором съезде Советов Витебщины состоялось торжественное чествование Пэна и постановлено присвоить ему звание Заслуженного еврейского художника Витебщины (см. Пэн 2017. С. 138 и сл.) 37 По-видимому, речь идет о Рисовальной школе ОПХ. 38 См. примеч. 33. 39 В Салоне независимых Шагал впервые выставил свои работы в 1912 г. 40 В Осеннем салоне работы Шагала были отвергнуты в 1911 г. В 1912-м здесь экспонировались три его картины: «Пастух» (1911–1912), «Голгофа» (1912) и «Смерть» (1910–1911). 41 Имеется в виду Государственный еврейский камерный театр (ГОСЕКТ), основанный в Москве в 1920 г. (с 1924 г. – ГОСЕТ). Приглашение на работу Шагал получил в конце 1920 г. 42 Шагал уехал из Витебска в Москву в июне 1920 г. (см. VI, 152, 153). 43 Театр-студия «Габима» (иврит; в дословном переводе – «сцена») основан в Москве в 1918 г., ставил спектакли на иврите. В 1926 г. гастролировал в Западной Европе (Германия, Польша, Латвия, Литва, Австрия, Франция) и США. 44 Иллюстрации к «Мертвым душам» Н.В. Гоголя (96 офортов) выполнены в 1923–1925 гг. по заказу А. Воллара. 45 По заказу А. Воллара в 1927–1930 гг. выполнены иллюстрации к «Басням» Лафонтена (100 офортов), в 1927 г. – серия «Цирк Воллара» (19 гуашей) и начиная с 1931 г., – серия гуашей, а затем офортов к Библии (к 1939 г. – году смерти Воллара – полностью закончены и отпечатаны 66 офортов). 46 А.М. Эфрос. 47 ГОСЕКТ размещался в доходном доме купца Л.И. Гурвича по адресу: Большой Чернышевский переулок, 12. 48 См. примеч. 23. 49 См. примеч. 41. 50 Шагал допускает неточность: «Сверчок на печи» по Ч. Диккенсу поставлен в 1914 г. в 1-й студии МХТ Б.М. Сушкевичем; Е. Вахтангов сыграл в спектакле роль фабриканта Текльтона. 51 Пьеса Дж. М. Синга «Ирландский герой» предполагалась к постановке в 1-й студии МХТ в сезон 1920/1921 гг.; оформление Шагала руководством студии было отвергнуто. Спектакль был поставлен в 1926 г. во МХАТе 2-м: режиссер А.Д. Дикий, оформление художников А.А. Радакова и М.В. Либакова. 52 Е.Б. Вахтангов происходил из армяно-русской семьи. 53 Калашниковская хлебная биржа в Петербурге выполняла не только маклерские функции. Помимо необходимых для биржи помещений здесь были большой концертный зал, в котором постоянно выступали ведущие актеры Петербурга, а также кафе, буфеты, ресторан. 54 Спектакль «Гадибук» по пьесе С. Анского поставлен в «Габиме» Е.Б. Вахтанговым в 1922 г. (премьера 31 января); художник Н.И. Альтман. 55 Летом 1928 г. ГОСЕТ гастролировал в Париже. Шагал и Белла принимали актеров театра у себя в Булонь-сюр-Сен. 56 И.А. Морозов. 57 В июне 1919 г. Тугендхольд направлен в Крым для обследования местных музеев, а затем назначен уполномоченным по делам искусств (заведующим отделом искусств) Крымского наробраза в Симферополь. В 1922 г. переведен в Москву. 58 С.И. Дымшиц-Толстая. 59 Бакст скончался 27 декабря 1924 г. в Париже в больнице Рюей-Мальмезон и был похоронен на кладбище Батиньоль. Шагал присутствовал на похоронах (см. VI, 202). 60 Можно предположить, что визит Бакста к Шагалу состоялся 31 мая 1924 г., в день рождения дочери Шагала Иды. 61 М. Дизенгоф выступил с инициативой создания в Тель-Авиве музея искусств, для организации которого подарил городу свой дом, а также побуждал многих известных художников жертвовать музею свои работы. 62 См. III, 98. 63 Школа искусств и ремесел «Бецалель» основана в Иерусалиме профессором Борисом Шацем в 1906 г.; в 1969-м получила статус Академии художеств. 64 Имеется в виду статья М. Дизенгофа «О Тель-Авивском музее (По поводу интервью, данного М. Шагалом)», опубликованная в этом же номере журнала «Рассвет» (С. 5–6). 65 Еврейский исследовательский институт (Институт еврейских исследований – YIVO) основан в Вильно в 1925 г. (в дальнейшем действовал в Польше, с 1940 г. – в Нью-Йорке). В 1930 г. в Париже в поддержку института был создан Комитет друзей YIVO, в руководство которого вошли М. Шагал, Ш. Аш, барон А.Г. Гинцбург, Г.Б. Слиозберг, И.Р. Ефройкин и др. (см. историческую справку «Пять лет Еврейского Научного Института. [1930]». Машинопись. Музей Марка Шагала в Витебске). 66 Еврейский исследовательский институт, при крайней скудости средств, располагался в скромном здании по адресу: ул. Вивульская, д. 18 (см.: Шагал об искусстве и культуре 2009. С. 104). 67 Шагал имеет в виду Витебск. 68 О выступлении Шагала на конференции см. VI, 225. 69 Ю.М. Пэн был убит в своей квартире в Витебске в ночь с 28 февраля на 1 марта 1937 г. Обстоятельства его убийства не выяснены до сих пор. По официальной версии, он был убит родственниками, желавшими завладеть наследством. Похоронен в Витебске на Старо-Семеновском кладбище. 70 Cм. примеч. 33. 71 Воспоминания Шагала написаны к 15-летней годовщине смерти Баал-Махшовеса. 72 Речь идет о выставке «1915 год» (см. Выставки, 7). 73 Я.Ф. Каган-Шабшай – создатель Еврейской художественной галереи, включавшей около 30 работ Шагала. Подробнее см.: Брук 2015. 74 Н.И. Эльяшев. 75 Баал-Махшовес умер в Берлине, но похоронен в Ковно (Каунасе), тогдашней столице Литвы. 76 Восстание в Варшавском гетто произошло 19 апреля 1943 г. 77 Речь идет об изданном в Нью-Йорке в 1944 г. сборнике стихов И. Фефера «Геймланд» («Родина»), проиллюстрированном Шагалом. Сборник был издан на средства ИКОР (ICOR – Общество содействия еврейской земледельческой колонизации в России, оказывавшее помощь еврейским переселенцам в освоении Еврейской автономной области на Дальнем Востоке). Эта речь была произнесена Шагалом на собрании ИКОР, устроенном специально по поводу выхода книги Фефера, которому, однако, советские власти не разрешили приехать в Нью-Йорк. 78 «Простые слова» – поэтический сборник И. Фефера на идише (Киев, 1925). 79 В 1943 г. С. Михоэлс вместе с И. Фефером совершили поездку по США, Канаде, Мексике и Англии с целью сбора средств для Красной Армии. 80 Трехтомник «Стихи и поэмы» А. Лесина на идише, для которого Шагал сделал 34 рисунка тушью, вышел в 1938 г. в Нью-Йорке (см. III, 89, 92, 97, 102). 81 В 1943 г. в Палестине в издательстве «Сефрият Полаим» вышли две книги Шагала на иврите. Одна из них – «Моя жизнь» в переводе Менаше Левина с несколькими рисунками Шагала. В другой помещались репродукции 25 картин и 10 рисунков художника с предисловием Леи Гольдберг. 82 «Белая книга 1939 года» – отчет министра колоний Великобритании М. Макдональда британскому парламенту о политике правительства в Палестине. В результате публикации этого документа Великобритания фактически закрыла Палестину для дальнейшей иммиграции евреев. Провозглашение такой политики в период нацистского господстваи начавшегося массового бегства евреев из Европы помешало предотвратить Холокост. 83 См. примеч. 33. 84 Выставка «Марк Шагал. Ретроспектива 1908–1951» проходила в Иерусалиме с конца июня до середины июля 1951 г. Экспонировались 179 работ. Шагал присутствовал на открытии. 85 Один из нью-йоркских адресов Шагала: 42. Riverside drive. 86 Проиллюстрированный Шагалом сборник «Стихи о любви» Ивана и Клер Голль впервые вышел на французском языке в 1925 г. (Claire et Yvan Goll. Poèmes d’amour. Paris, Ed. Budry, 1925). На английском он был издан в 1947 г. в Нью-Йорке (Claire and Yvan Goll. Love poems. With 8 Drawings by Marc Chagall. New York: Hemispheres, [1947]). 87 Журнал «Эмисфер» («Полушария») издавался в Нью-Йорке в 1943–1945 гг. 88 Имеется в виду Витебское городское четырехклассное училище. 89 Нередкая для Шагала нестыковка в датах. В 1907 г. ему было 20 лет. 90 Шагал уехал в Петербург зимой 1906/07 г. 91 Имеется в виду художественная школа Е.Н. Званцевой, в которую Шагал поступил в 1909 г. 92 См. III, примеч. 451). 93 Похоже, в понятие «свободная Академия искусств» Шагал объединил Рисовальную школу ОПХ, которую возглавлял Н.К. Рерих, и художественную школу Е.Н. Званцевой, где преподавал Л.С. Бакст. 94 Речь идет об «Автопортрете с кистями» (1909), который в то время находился в собр. Valerie Alport, Оксфорд. 95 См. примеч. 33. 96 М.М. Винавер купил у Шагала картины «Голова еврея» и «Свадьба (Русская свадьба)» (1909). 97 Речь идет о раби Шнеуре Залмане из Ляд, который родился в местечке Лиозно и некоторое время жил в Витебске. 98 Шагал приехал в Париж в сентябре 1923 г. 99 В июне 1923 г. в Берлине начался судебный процесс, в котором Шагал предъявил обвинение Вальдену в продаже его работ без ведома художника. Процесс завершился частичным возмещением убытков. Шагалу были возвращены три картины («Я и деревня», «Продавец скота», «России, ослам и другим») и 10 гуашей, находившихся в коллекции жены галериста Нелл Вальден. 100 Cм. примеч. 98. 101 16 картин из собрания Я.Ф. Каган-Шабшая экспонировались на персональной выставке Шагала в Берлине, проходившей в январе 1923 г. в галерее Лутц. Подробнее о судьбе картин из этого собрания см.: Брук 2015. С. 46–51; каталог № 154–173. 102 Имеются в виду А.Ф. Каган-Шабшай и его жена М.Л. Каган-Шабшай, приехавшие в Париж в 1927 г. 103 Это были картины «Мать с ребенком (Материнство)», «Бабушка варит мармелад» и эскиз картины «Над городом». В декабре 1957 г. они были проданы в Париже на аукционе в Отеле Друо, а деньги, полученные от продажи, в 1958-м поделены между пятью московскими наследниками. 104 Имеется в виду Витебское Народное художественное училище. 105 И.А. Пуни и К.Л. Богуславская. 106 См. II, 14. 107 В 1922 г. Шагал уехал в Берлин. 108 Декорации и костюмы к балету М. Равеля и М. Фокина «Дафнис и Хлоя» в хореографии Ж. Скибина Шагал делал по заказу Гранд-опера. Балет был представлен в 1958 г. на открытии Всемирной выставки в Брюсселе. 109 Л. Лисицкий не был репрессирован и умер в Москве. 110 В 1957 г. Шагал приобрел квартиру на набережной Анжу, 13. 111 Из стихотворения Г.В. Иванова «Остановиться на мгновенье» (1951). 112 Здесь и далее приводятся цитаты из статей К.Ф. Юона, вошедших в его двухтомник «Об искусстве» (М., 1959). 113 Из стихотворения А.С. Пушкина «Поэту» (1830). 114 Из стихотворения А.С. Пушкина «Чернь» (1828). 115 «Мосты» – литературный альманах, издававшийся в ФРГ и США в 1958–1970 гг. Вышло 15 номеров. Первые десять номеров были изданы в Мюнхене Издательством Центрального объединения политических эмигрантов из России (ЦОПЭ); последние три номера (1968–1970) изданы в США. 116 Речь идет о книге: Salmon A. Chagall. Paris, 1928. 117 См. примеч. 26. 118 Четыре рисунка Шагала включены в книгу стихотворений Ф. Супо: Philippe Soupault. Rose des vents. Paris, 1920. 119 См. VI, 171, 172. 120 Речь идет об издании: Marc Chagall. Mein Leben. 20 Radierungen. Berlin, Paul Cassierer, 1923. Portfolio. 121 См. VII, 40, 41. 122 Имеется в виду картина «Освежеванный бык» (1947). 123 Речь идет о картине «Посвящается Аполлинеру» (1913–1914). 124 В 1946 г. Шагал иллюстрировал сборник стихов П. Элюара «Жаркая жажда жить» (Paul Éluard. Le dur désir de durer. Paris: Arnold-Bordas, [1946]). 125 Речь идет об издании: Meyer Fr. Marc Chagall. Leben und Werk. Köln: DuMont Shauberg, 1961. Впоследствии эта капитальная монография была переиздана на итальянском (1962), французском (1964) и английском (1964) языках. 126 Монография Л. Вентури о Шагале: Venturi, Lionello. Chagall: A Biographical and Critical Study. Paris: Editions d'Аrt Albert Skira, 1956. 127 Во время пребывания в Москве в 1973 г. Шагал передал в дар ГМИИ 75 литографий (см. Выставки, 38). 128 Выставка «Марк Шагал. К 100-летию со дня рождения: Живопись и графика из французских и советских музеев и личных коллекций» была открыта в ГМИИ летом 1987 г. (см. Выставки, 42). 129 См. примеч. 33. 130 Речь идет о Рисовальной школе ОПХ. 131 Тысячелетие Витебска отмечалось в 1974 г. 132 7 июля 1973 г. в Ницце открылся музей «Библейское Послание Марка Шагала» (см. VI, 294).
Часть III Переписка
1 Н.К. Рерих с 1906 по 1917 г. состоял в должности директора Рисовальной школы ОПХ. 2 См. примеч. 10; VI, 12, 13. 3 Имеется в виду барон Д.Г. Гинцбург. 4 См. VI, 11. 5 Отвечая на запрос из Управления по делам о воинской повинности от 30 сентября 1908 г., Рерих признал за Шагалом «выдающиеся успехи в школе» и добился для него отсрочки на два года (см. VI, 13). 6 Шагал указывает адрес редакции журнала «Восход», где он некоторое время (со второй половины 1908 г.) имел дозволение жить и работать (см. II, примеч. 30). 7 И.Я. Гинцбург. 8 Прошение на высочайшее имя об отсрочке от военной службы. 9 Г.А. Гольдберг одним из первых поддержал молодого Шагала – оформил его своим слугой, что давало право на жительство в столице. Шагал часто бывал (временами жил) у Гольдберга: сначала на Литейном проспекте, 31; затем на Захарьевской улице, 11; с 1910-го – на Надеждинской улице, 18. В 1908 г. Шагал исполнил несколько живописных этюдов, изображающих виды комнат в квартире Гольдберга. Уезжая в Париж в 1911-м, Шагал оставил у Гольдберга часть своих работ (см. III, 29). В 1915 г. по приезде в Петроград Шагал и Белла некоторое время жили у Гольдберга на Надеждинской, 18 (см. Бейзер 1989. С. 281–282). Подробнее о Г.А. Гольдберге см.: Гессен В.Ю. Григорий Абрамович Гольдберг: юрист, педагог, общественный деятель // Из глубины времен. Вып. 10. СПб., 1998. С. 114–140. 10 Шагал подлежал призыву на военную службу в Орше, поскольку был причислен к мещанской управе в местечке Добромысли (см. I, 2). 11 Д.Г. Гинцбург вернулся в Петербург 25 июля (см. III, 6). 12 См. примеч. 8. 13 Упоминаемое извещение в документе отсутствует. 14 См. примеч. 10. 15 Имеется в виду Рисовальная школа ОПХ. 16 См. примеч. 6. 17 Студия С.М. Зейденберга находилась в доме № 9 на Фурштадской улице (см.: Весь Петербург на 1908 год. Адресная и справочная книга. СПб., 1908. С. 283). 18 Речь идет о занятиях в Рисовальной школе ОПХ. 19 Барон Г.О. Гинцбург скончался в ночь на 17 февраля 1909 г. В завещании просил похоронить себя в Париже, где покоился прах его отца. Церемония отправки тела во Францию была обставлена чрезвычайно торжественно. 20 В 1909 г. плата в Рисовальной школе ОПХ увеличена до 10 рублей в полугодие. 21 По-видимому, имеется в виду сестра Анна. 22 Вероятно, речь идет о показе Шагалом своих работ одному из влиятельных друзей барона. 23 Выплата стипендии Д.Г. Гинцбургом продолжалась несколько месяцев и закончилась, по-видимому, в декабре 1908 г… В книге «Моя жизнь» Шагал вспоминает: «Барон <…> предоставил мне пособие в десять рублей, правда, только на несколько месяцев. Дальше – выкручивайся как знаешь! Этот образованный барон, близкий друг Стасова, не Бог весть как разбирался в искусстве. <…> Подумал ли барон или его домашние, что будет со мной, когда я выйду из его роскошной передней? <…> Но тогда почему же он удостаивал меня разговорами, как будто верил в мой талант? Я ничего не понимал. А понимать-то было нечего. Ведь плохо не барону, а мне. Теперь даже рисовать негде. Прощайте, барон!» (см.: Шагал. Моя жизнь 1994. С. 82–83). 24 Речь идет о мызе Фердинандсхоф под Нарвой, принадлежавшей Н.С. Гермонту. Поездка Шагала состоялась благодаря участию Г.А. Гольдберга, который был зятем Гермонта и нередко проводил летние месяцы в имении тестя. 25 В 1908 г. Ромм поступил на юридический факультет Петербургского университета. 26 Имеется в виду выставка учеников школы Е.Н. Званцевой в редакции журнала «Аполлон» (Мойка, 24), проходившая с 20 апреля по начало мая 1910 г. (см. Выставки, 1). 27 Воскресенье приходилось на 2 мая – в этот день Шагал, как следует из письма, был еще в Петербурге; 4 мая, как опять-таки следует из письма, он уже написал этюд в Нарве. Таким образом, из Петербурга Шагал уехал 3 мая. 28 Шагал ждет ответ от Бакста на свое письмо к нему, отправленное сразу же после отъезда Бакста в Париж; Бакст уехал из Петербурга 17 апреля. 29 См. примеч. 24. 30 Речь идет о праве на жительство вне черты еврейской оседлости. 31 Л.С. Бакст. 32 Шагал обнаруживает достаточную осведомленность относительно передвижений Бакста. В мае 1910 г. Бакст ненадолго выезжал из Парижа в Берлин (сохранилось его письмо к Л.П. Бакст с почтовым штемпелем: Berlin 21.5.10). 23 мая он уже в Париже (ОР ГТГ. Ф. 111. Ед. хр. 347, 348). 33 Имеется в виду А.А. Зилоти: его отец, А.И. Зилоти, и Бакст были женаты на родных сестрах, дочерях П.М. Третьякова, и потому семья Зилоти была очень близка Баксту. 34 В Петербурге Бакст занимал верхний этаж (мансарду) в богатом доходном доме на Кирочной, 24. Швейцар полагал своей обязанностью (возможно, по просьбе самого Бакста) охранять художника от докучных посетителей; случалось, он не допускал и учеников. Любопытную зарисовку оставил в своих воспоминаниях Петр Андреев, сотоварищ Ромма и Шагала по школе Званцевой: «Я до сих пор сожалею, что не мог побывать у него [Бакста] в квартире на Кирочной в доме № 24, несмотря на его приглашение. <…> Открываю дверь и вхожу в богатый вестибюль и хочу уже подниматься по застланной ковром лестнице как вдруг величественной осанки швейцар с горемыкинскими бакенбардами преградил мне путь: Вам что угодно? – Мне к Баксту. – Бакста нет дома. – Меня это так ошеломило, что я не нашел ничего лучшего, как спросить, когда он вернется. И этим погубил все. Швейцар, уже нисколько не церемонясь, твердил свое Нет Бакста – и только <…> Наконец, почувствовав, что швейцар обманывает меня и не хочет меня пустить из-за моего довольно неряшливого костюма, я стал спорить» (Андреев П.В. Мои воспоминания о Баксте. 1927 // ОР ГТГ. Ф. 111. Ед. хр. 2619. Л. 11). 35 Речь идет о статье И.Е. Репина «В аду у Пифона», посвященной, в значительной своей части, выставке учеников школы Званцевой в редакции журнала «Аполлон» (Биржевые ведомости (СПб.), вечер. вып., 1910, № 11715, 15(28) мая). Резко критическая по отношению к педагогическим установкам Бакста репинская статья имела характер памфлета. Шагал подразумевает следующее место из статьи: «Да будет проклята академия, которая может одобрять такой вандализм формы!.. И эта дикая размалевка разнузданных невежд! <…> Да, им только и красить заборы». Последняя хлесткая фраза, как вспоминает Ю. Оболенская, имела большой успех в кругу бакстовских учеников: «Мы были в восторге от репинских словечек. <…> Мы так и подписывались теперь в письмах: Мазила и красильщик заборов» (Оболенская 1927. Л. 36). 36 Выставка учащихся Рисовальной школы ОПХ открылась в середине мая 1910 г. в помещении ОПХ (Мойка, 83). По отзывам прессы (весьма единодушным), выставка продемонстрировала обновление, происходящее в школе в связи с директорством Н.К. Рериха и приходом в качестве руководителей классов молодых преподавателей Г.М. Бобровского (натурный класс), В.А. Щуко, И.Я. Билибина (классы графики), А.А. Рылова (класс рисования с животных) и др. См.: Бенуа А. Школа общества поощрения художеств // Речь (СПб.) 1910. 14 мая. 37 В июне – июле 1910 г. Ромм находился на даче в Усикирко (см. III, 18, 19, 20). 38 См. примеч. 9. 39 Возможно, речь идет об открытке с воспроизведением популярной в свое время акварельной картины финского художника Ю. Риссанена «У гадалки» (1899, Атенеум, Хельсинки). В 1897–1898 гг. Риссанен учился в ИАХ у И.Е. Репина. 40 Последняя фраза относится к фотографическому виду на лицевой стороне открытки: Витебск, Елагская улица. Открытка выпущена под грифом Всемирного Почтового Союза (Россия); издана в Витебске писчебумажным магазином Ш.З. Яхнина. 41 На лицевой стороне открытки помещена черно-белая репродукция с картины В.Г. Перова «Возвращение крестьян с похорон зимою» (ГТГ). 42 После отъезда Бакста место преподавателя живописи было предложено К.С. Петрову-Водкину. Приглашение от Званцевой последовало в середине сентября 1910 г., и уже в конце месяца он приступил к руководству классом. Вскоре занятия прервались – Петров-Водкин оказался привлечен к росписи собора Василия Златоверхого в Овруче. В этой работе (осуществлявшейся в течение лета 1910 г. под руководством живописца А.П. Блазнова) принимали участие трое бакстовских учеников: Н.В. Лермонтова, Н.А. Тырса и М.Р. Пец. Тырса в письме к Оболенской, отправленном 4 октября из Овруча, так комментирует предстоящий приезд Петрова-Водкина: «А теперь вот еще новость. Мы освобождаем Вас от нового maitre’a. По дороге в Петербург, “чтобы принять руководительство школой Званцевой вместо Бакста, оставшегося в Париже”, Петров-Водкин узнает о нашей работе и просится к нам. На его счастье здесь в башне осталось еще свободное место и его приглашают. Рады ли Вы? Таким образом Вы освобождаетесь от нового maitre’a и не кажется ли Вам веселым по крайней менре такое сплетение обстоятельств, что наш храм оказался узлом, концы которого у Бакста и в школе» (РГАЛИ. Ф. 2080. Ед. хр. 63. Л. 3–3 об.). Петров-Водкин пробыл в Овруче до конца октября, в ноябре вернулся в Петербург, и занятия в школе возобновились. К этому времени часть бывших бакстовских учеников покинула школу – Ромм и Шагал в их числе. 43 Лицо не установлено. 44 Из этой фразы можно заключить, что Шагал отправил Баксту несколько писем: очередное (по-видимому, выдержанное в крайне резких тонах, сам Шагал упоминает о его «жестокости») – в начале осени 1910 г. из Витебска. Ответ Бакста пришел в ноябре (см. III, 25). 45 Надпись рукою А.Г. Ромма. 46 На лицевой стороне открытки помещена цветная репродукция с акварели К.А. Сомова, изображающей пастушескую сцену. Открытка издана Товариществом Голике и Вильборг. 47 Е.Н. Званцева. 48 В смысле: остановились в своем развитии, творческом росте. 49 Начало фамилии утрачено; возможно, имеется в виду Цветова. 50 C.И. Дымшиц-Толстая. 51 А. Блок занималась в школе Званцевой у Бакста. О ней коротко упоминает Оболенская, отмечая серьезность ее подхода к живописи и «очень красивую светлую гамму красок» (Оболенская 1927. Л.18). 52 Оболенская указывает, что на выставке учеников школы Званцевой в редакции журнала «Аполлон» Жукова была представлена «большим этюдом натурщицы очень жесткого примитивного рисунка на темно-зеленом фоне», однако в целом отмечает, что ее работы «не характерны для школы» (Оболенская 1927. Л. 19, 34). 53 Косвенное указание к датировке письма: если с момента отъезда Шагала из Петербурга (май) прошло 6 месяцев, то письмо написано в октябре. 54 Имеется в виду Белла Розенфельд. 55 По окончании гимназии в Витебске, Белла продолжала образование в Москве на Высших женских курсах (см. I, 5). 56 См. примеч. 25. 57 Не вполне ясно, о чем идет речь: возможно, о пересылке рисунков. 58 Из дальнейшего текста следует, что речь идет о возможном участии Шагала в журнале «Сатирикон». 59 См. примеч. 26. 60 Н.В. Ремизов. 61 А.Е. Яковлев. 62 А.В. Ремизова. 63 Шагал имеет в виду «Сатирикон» – еженедельный литературно-художественный журнал сатиры и юмора, издававшийся в Петербурге М.Г. Корнфельдом (1908–1913). В 1913 г. начал выходить «Новый Сатирикон», куда перешли многие сотрудники прежнего. 64 «Синий журнал» – еженедельный иллюстрированный журнал, издававшийся в Петербурге в 1911–1916 гг. М.Г. Корнфельдом. Среди прочих включал раздел «Кунсткамера», где помещались многочисленные снимки и рисунки, отражающие, как говорилось в рекламном проспекте, «все забавное и смешное, трагическое и нелепое, остроумное и эксцентричное <…> весь хаос, мощь и разнообразие человеческого творчества и выдумки». Из художников-иллюстраторов с журналом сотрудничали Н. Герардов, В. Сварог, В. Лебедев, С. Чехонин и др. Подписка была объявлена книгоиздательством М.Г. Корнфельда в конце 1910 г., первый номер вышел 22 декабря 1910 г. Шагал, по-видимому, знал о предстоящем скором выпуске журнала и не исключал мысли о сотрудничестве в нем. 65 См. примеч. 44. 66 Вероятно, по просьбе Шагала Ю.М. Пэн летом – осенью 1910 г. писал к Баксту, ходатайствуя за своего ученика. Ответное письмо Бакста Пэну неизвестно. 67 Бакст приехал в Петербург в первых числах декабря (по ст. ст.) 1910 г. Он предполагал пробыть здесь около месяца, поскольку чувствовал себя крайне усталым: «Доктор нашел у меня переутомление и запретил две недели работать! Даже советовал уехать – но где же – горячка работы теперь только начинается». В середине декабря Бакст вынужден срочно выехать в Милан в связи с готовящейся там постановкой «Шехерезады» (ОР ГТГ. Ф. 111. Ед. хр. 377, 379, 380). К Новому году он все же вернулся в Петербург: А.П. Остроумова-Лебедева вспоминает, что Бакст присутствовал на торжествах по случаю открытия первой выставки возобновленного «Мира искусства», проходивших в предновогодние дни. (Остроумова-Лебедева А.П. Автобиографические записки. Т. 1. М., 1974. С. 451–454). 68 С.Е. Ромм. 69 Возможно, шутливое прозвище, данное Шагалу Роммом в ответ на его письмо о Белле Розенфельд (см. III, 24). 70 Речь идет о спектакле «Дон Жуан» Мольера в Александринском театре, ставшем ярким событием театральной жизни благодаря режиссуре В.Э. Мейерхольда (премьера 9 ноября 1910 г.). 71 Шагал имеет в виду статью А. Бенуа «Балет в Александринке» (Речь. (СПб.) 1910. 19 ноября (2 декабря). № 318). Укоряя Мейерхольда в замене «настоящего, жизненного искусства эстетической игрой», Бенуа писал: «Я знаю, я каюсь – сами мы в этом виноваты. Вся эта “Бердслеяновщина” и “Уальдовщина” – плоть от плоти нашей. Этот “луикаторзный балаганчик”, эти арапы, вся эта “скурильщина” – наша, сомовская, моя, бакстовская, дягилевская. Но довольно же этого, ведь это становится назойливым… несносным, кощунственным…». 72 Речь идет о смерти Л.Н. Толстого: Толстой умер 7 (20) ноября 1910 г. 73 Персональная выставка Н.А. Тархова, о которой упоминает Шагал, открылась 21 октября 1910 г. в редакции журнала «Аполлон». 74 7-я выставка «Нового общества художников», совместная с Московским Товариществом художников, проходила в Петербурге в ноябре 1910 г. в залах Пассажа. 75 См. примеч. 25. 76 Возможно, письмо Шагала касалось его желания участвовать в ближайшей выставке объединения «Союз молодежи». 77 «Историческая выставка архитектуры и художественной промышленности», организованная музеем «Старый Петербург», была открыта 13 марта 1911 г. в залах ИАХ. 78 А.Ф. Гауш жил в Петербурге на Английской набережной, 74. 79 Возможно, А.Ф. Гауш имеет в виду фабриканта и мецената Л.И. Жевержеева, финансировавшего деятельность объединения «Союз молодежи». 80 Имеются в виду берлинские музеи: Национальная галерея и Кайзер-Фридрих-музеум (в 1956 г. получивший название Музея Боде). 81 По-видимому, хозяйка пансиона. 82 Возможно, Шагал ждет фотографию Ромма. 83 См. примеч. 80. 84 Люксембургский музей (как музей нового и новейшего искусства) существовал в Париже с 1886 по 1939 г. в помещении Оранжереи в Тюильри (реорганизован в Музей современного искусства). 85 Речь идет о 2-й выставке «Союза молодежи», в которой участвовал Шагал, проходившей с 11 апреля по 10 мая 1911 г. (см. выставки, 2). 86 Парижская тетка А.Г. Ромма А.Д. Шлепянова, родная сестра отца. 87 См. примеч. 25. 88 М.М. Винавер покровительствовал молодому Шагалу: в 1910 г. приобрел у него две картины и предоставил ему стипендию для поездки в Париж (см. II, 11). 89 А.Н. Гольдберг. 90 По-видимому Мишель Шлепянов (Шлепян). 91 Речь идет о выставке Общества независимых художников в Париже (Société des Artistes Indépendants) – Салоне Независимых, созданном в 1884 г. импрессионистами. Выставки «Независимых» проводились ежегодно весной, к участию в них допускали любого записавшегося. 92 Кес Ван Донген с 1909 г. был связан контрактом с парижской галереей Бернхейм-Жён. 93 Шагал имеет в виду два официальных парижских Салона – Салон Марсова поля, устраивавшийся (с 1890) Национальным обществом изящных искусств (Sociéte Nationale des Beaux-Arts), и Салон Елисейских полей, основанный в 1881 г. Обществом французских художников (Sociéte des Artistes Français). 94 Третий «Русский сезон» в Париже в 1911 г. включал новые балетные постановки М.М. Фокина: «Видение розы» и «Нарцисс» (впервые показаны в апреле 1911 г. в Монте-Карло); «Подводное царство» из оперы «Садко» и «Петрушка» (премьеры состоялись 6 и 13 июня в парижском театре Шатле). 95 М.С. Иоффе владел в Петербурге фотомастерской. В адресной книге «Весь Петербург на 1909 год» (с. 328) о нем указано: «Классный художник 1 степени. Невский, 29. Телефон 107–48. Фотограф». 96 Адрес первой парижской мастерской Шагала, которую он снимал у художника И.Л. Эренбурга (Impasse du Maine в настоящее время – rue Antoine Bourdelle). 97 Телеграмма М. Добужинского неизвестна. По-видимому, это предложение участвовать в выставке «Мир искусства». 98 Речь идет о картинах и рисунках Н.А. Тархова, посланных в Москву на выставку «Мир искусства». В каталог выставки включены 23 работы Тархова – 15 картин и 8 рисунков (см.: Каталог выставки картин «Мир искусства». 1-е изд. М., 1912. № 317–338). 99 См. примеч. 26. 100 Уполномоченным по организации выставки в Москве был К.В. Кандауров. 101 Речь идет о картинах «Рождение» (1911), «Интерьер II» (1911), «Смерть» (вероятнее всего, кубистическая версия картины, написанная в 1910–1911 гг. и уничтоженная нацистами в 1937 г.). 102 См. III, 32. 103 IX Осенний Салон в Париже открылся 10 октября 1911 г. По свидетельству А. Ромма, Шагал представил туда «около дюжины своих полотен»; ни одно из них не было принято (см. VII, 16). 104 Среди полотен, посланных в Осенний Салон, была картина «Внутренность дома (рождение)». 105 См. примеч. 85. 106 Возможно, речь идет о телеграмме М. Добужинского (см. примеч. 97). 107 Выставка группы итальянских художников, участников футуристического движения, открылась в феврале 1912 г. в парижской галерее Бернхейм. Это была первая большая экспозиция футуристической живописи за пределами Италии. 108 Нарекания цензора вызвала картина Шагала «Лампа и два персонажа» (позднейшее название «Моей нареченной»). Гийом Аполлинер в день вернисажа написал в газете «L’Intransigeant», что Шагал изобразил на этой картине «осла, курящего опиум»: когда эта деталь была закрашена автором, картину оставили на выставке. На XXVIII Салоне Независимых, который открылся 20 марта 1912 г., Шагал был представлен тремя картинами: «Моей нареченной» (1911), «России, ослам и другим» (1911–1912) и «Пьяница» (1911–1912). 109 Речь идет об академии Ла Палетт, где преподавали А. Ле Фоконье, Ж. Метценже, А. Дюнуайе де Сегонзак и другие французские художники, близкие кубизму. В 1912 г. Ле Фоконье становится директором Ла Палетт. 110 Имеется в виду старшая сестра Шагала Анна. 111 Лицо неустановленное. 112 На выставке «Мир искусства», открытой в Москве в декабре 1911 г. в новом выставочном помещении МУЖВЗ, картины Шагала не экспонировались. 113 Имеется в виду картина «Покойник на улице» («Смерть») (см. примеч. 101). 114 См. примеч. 116. 115 Выставка «Мир искусства» в Петербурге открылась в январе 1912 г. (Невский проспект, 45) (см. Выставки, 3). Картина Шагала «Покойник на улице» включена во второе издание каталога и, судя по литерному номеру (№ 338 а), по-видимому, была введена в экспозицию уже после открытия выставки. 116 Картина «Смерть» экспонировалась на выставке «Ослиный хвост», проходившей в Москве с 11 марта по 8 апреля 1912 г. (см. Выставки, 4). 117 Н.Л. Эренбург. 118 Полученному Шагалом приглашению участвовать в петербургской выставке «Мира искусства» предшествовали письма Я.А. Тугендхольда, направленные М.В. Добужинскому и А.Н. Бенуа, с просьбой принять работы Шагала на выставку. Первое было отослано 4 ноября 1912 г. М.В. Добужинскому (РО ГРМ. Ф. 115. Оп. 1. Ед. хр. 313. Л. 11–11 об.): Многоуважаемый Мстислав Валерианович! Разрешите обратиться к Вам со следующей просьбой. Вы наверно помните Шагала, Вашего ученика. Я недавно видел его рисунки и акварели и они привели меня в такой восторг, что я охотно исполняю его просьбу – просить Вас предоставить ему место на ближайшей выставке «Мира Искусства». Рисунки эти – воспоминания о России чисто бытового характера и с ними не может возникнуть никаких полицейских осложнений. Я буду Вам очень признателен за ответ, т. к. намерен устроить Шагалу выставку в Париже, а для этого надо знать отправятся ли его рисунки в Питер и Москву или нет. С искренн[им] уважен[ием] Я. Тугендхольд. Второе письмо от 26 ноября 1912 г. Я.А. Тугендхольд адресовал А.Н. Бенуа (РО ГРМ. Ф. 115. Оп. 1. Ед. хр. 313. Л. 12–12 об.): Многоуважаемый Александр Николаевич! Позвольте обратиться к Вам с одной просьбой, касающейся Шагала, ученика Рериха и Бакста, которого Вы наверно помните. Я видел серию его акварелей, сделанных в Париже («Воспоминания о России») и она настолько понравилась мне, что я решил просить Вас уделить Шагалу место на ближайшей выставке «Мира Искусства». Акварели эти написаны в другом «стиле», чем его бывшие работы – в них масса юмора, остроты и «игрушечности». Было бы чрезвычайно желательно показать эти талантливые и чисто русские вещи в России. Барон Н.Н. Врангель, которому они также очень понравились, обещал мне переговорить с Вами; но все же я обращаюсь непосредственно к Вам, зная Ваше доброе отношение к молодежи. Искренно уважающий Вас Я. Тугендхольд.Не получив ответа, Я.А. Тугендхольд в начале декабря 1912 г. отправил М.В. Добужинскому еще одно письмо (РО ГРМ. Ф. 115. Оп. 1. Ед. хр. 313. Л. 13):
Многоуважаемый Мстислав Валериа[нович]! Я писал Вам недавно относительно Шагала, но ответа не получил! Боюсь, что перепутал адрес и поэтому повторяю свою просьбу. Я спрашивал Вас, нельзя ли предоставить Шагалу место для акварелей на ближайшей выставке «Мира Искусства». Искренно уважающий Вас Я. Тугендхольд. Париж, 108 B-d Jourdan.
После повторного письма Шагал получил приглашение от М.В. Добужинского. 119 Выставка объединения «Мир искусства» проходила в Петербурге с 5 января по 13 февраля 1913 г. в концертном зале при Шведской лютеранской церкви Св. Екатерины на Малой Конюшенной улице. Присланные Шагалом работы показаны не были. 120 Адрес знаменитого «Улья» («La Ruche»), куда Шагал перебрался в июне 1912 г. 121 Речь идет о предстоящей выставке «Мира искусства», открывшейся в Петрограде 28 февраля 1915 г. в Художественном бюро Н.Е. Добычиной. 122 Имеются в виду этюды, составившие «Витебскую серию». 123 Шагал уехал из Берлина в Витебск 15 июня 1914 г. 124 Речь идет о персональной выставке Шагала, устроенной Х. Вальденом в Берлине в галерее «Дер Штурм». Выставка открылась 30 (или 31) мая 1914 г. 125 См. II, примеч. 99. 126 Подразумеваются картины «Скрипач», «Материнство» и «Автопортрет с семью пальцами» (все – 1912–1913), экспонировавшиеся в марте – апреле 1914 г. в Салоне Независимых в Париже, затем перевезенные на выставку в Амстердам, где они были приобретены коллекционером Реньо (ныне все три – в Музее Стеделик в Амстердаме). 127 См. VI, 19. 128 Возможно, имеется в виду генерал Н.В. Рузский. 129 В 1915–1916 гг. А. Ромм находился с миссией Красного Креста на германском, а затем турецком фронтах. 130 Cм. примеч. 122. 131 См. Выставки, 7. В отборе произведений Шагала деятельное участие принимал Я.А. Тугендхольд; сохранилось его письмо К.В. Кандаурову со списком отобранных на выставку работ (см. Возвращенные мастера 1988. С. 316, 318). 132 См. примеч. 124–126. 133 Подразумевается мастерская в «Ла Рюш» («Улье») (см. примеч. 120). 134 Речь идет о Шарле Мальпеле (см. VI, 19). 135 См. примеч. 123. 136 Шагал переехал в Петроград в сентябре 1915 г. 137 По-видимому, речь идет о предполагавшемся участии Шагала в выставках действовавшего в Петрограде Внепартийного общества художников (1912–1917). 138 См. примеч. 63. 139 Младший брат Шагала Давид был болен туберкулезом. 140 Речь идет о сестре Зине (Зисле). 141 Старшая из сестер Шагала Анна, выйдя замуж в 1906-м, около 1909-го переехала в Петербург (см. III, 13). 142 Свадьба Марка и Беллы состоялась 25 июля 1915 г. 143 По-видимому, Шагал имеет в виду коллекционера А.А. Коровина. 144 Возможно, Шагал просил А.Ф. Гауша о содействии в продаже работ. 145 Шагал указывает домашний адрес Г.А. Гольдберга (см. примеч. 9). 146 См. Выставки, 8. 147 «Дом в местечке Лиозно» и «Парикмахерская» составляли собственность И.А. Морозова; на выставке «Современная русская живопись» представлены не были. 148 Имеется в виду статья С.К. Маковского «По поводу “Выставки современной русской живописи” (гипс, фотография и лубок)» («Аполлон». 1916. № 8 (октябрь). С. 1–22). Анализируя апрельскую выставку в Художественном бюро Н.Е. Добычиной, Маковский ни словом не упоминает о Шагале, что послужило поводом к написанию письма. 149 По-видимому, Шагал благодарит А.Н. Бенуа за отзыв о его работах в статье «Выставка “Современной русской живописи”» (Речь. (Пг.) 1916. № 332. 2 декабря). (см. Выставки, 11). 150 Шагал имеет в виду членство в обществе «Мир искусства». 151 Имеется в виду «Союз русских художников». 152 В дневнике А.Н. Бенуа есть следующая запись о получении письма сходного содержания от Шагала: «Воскресенье, 28 января [1918 г.]. <…> Письма от Грабаря и Шагала. <…> [Шагал] под видом очень хитрых реверансов изъявляет претензии на то, что его не пригласили в “Мир искусства». А почему же он не послан на жюри? И при чем здесь я? Разумеется, я б его пригласил и в члены, но что я могу поделать со своими крепколобыми товарищами? <…> Они меня боятся, это правда, выражают, что в своей семье они меня не хотят иметь» (Бенуа А. Дневник. 1918–1924. М., 2010. С. 11–12). 153 Это упоминание позволяет предположительно датировать письмо: Шагал уехал из Петрограда в Витебск в конце декабря 1917 г. 154 По-видимому, Шагал имеет в виду статью А.Н. Бенуа, «Выставка “Современной русской живописи”» (Речь. 1916. № 332. 2 декабря), в которой были такие слова: «[Что общего] между “литературщиной” Шагала и “чистой живописностью” Поповой и Удальцовой?» 155 П.П. Добычин. 156 Телеграмма была направлена в адрес Литературно-музыкального вечера по случаю празднования 35-летия художественной деятельности И.Я. Гинцбурга, устроенного ЕОПХ 24 мая 1918 г. в Малом зале Петроградской консерватории. 157 Речь идет об издании картин и учебных пособий для еврейских детей, предпринятом ЕОПХ в 1918–1919 гг. (подробнее см. Брук 2011). 158 Композиция на тему «Дети в семье» была заказана Шагалу правлением ЕОПХ 3 января 1919 г. (см. VI, 67). 159 См. VI, 86, 87. 160 В итоговом списке, составленном комиссией по распределению заказов (декабрь 1918), сюжет «Сукес» был предложен М. Шафрану, «Пурим» – М. Шатану, впоследствии передан С. Симховичу (ЦГИА СПб. Ф. 1722. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 119–119 об.). 161 А. Голубинский, актер Витебского городского театра.. 162 В феврале 1919 г. М.В. Добужинский оставил должность директора ВНХУ и уехал из Витебска. Шагал приглашает его снова. 163 Последний витебский адрес Шагала, по которому он жил перед отъездом в Москву (в конце 1919-го – начале 1920-го). В первой половине 1919-го Шагал жил по адресу Володарская, 11 (см. III, 49, 50). 164 Официальное открытие ВНХУ состоялось 28 января 1919 г. (см. VI, 75–77). 165 В хроникальной заметке в витебском журнале «Школа и Революция» (1919. № 24/25. 16 августа. С. 13) указывается: «Число записавшихся учащихся – 600 человек, посещает 300». 166 Инструктором столярной мастерской ВНХУ в 1920 г. был А.М. Никольский, инструктором литографической мастерской – З.А. Селютин (ГАВО. Ф. 101. Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 119). 167 См. VI, 107–109, 131, 139. 168 В школьный музей были приняты работы участников, премированные по итогам 1-й и 2-й отчетных выставок ВНХУ. В начале 1920 г. здесь находилось около 50 работ примерно 36 авторов. Из всего собрания сохраников только картина М. Кунина «Искусство Коммуны» (1919), которая ныне находится в собрании НХМ РБ. 169 См. VI, 131, примеч. 126. 170 Постановка осуществлена не была. 171 Имеется в виду секция изобразительных искусств губоно. 172 См. VI, 140. 173 К 1 Мая 1920 г. Витебск был оформлен по проектам Уновиса. В супрематическом стиле были сделаны трибуны для ораторов, декоративные вывески магазинов и лавок, агитационные панно для трамваев и т. д. 174 О «витрине искусств» местные газеты писали: «Секция изобразительных искусств губ-отдела просвещения устраивает витрину искусств, предназначенную для ознакомления широких масс с искусством современных художников и другими агитационно-художественно-литературными материалами» (Устройство художественной витрины // Известия Витебского губревкома и губкома РКП. 1920. № 78. 9 апреля. С. 2). 175 См. VI, 142. 176 См. VI, 83, примеч. 68. 177 См. VI, 114, 127, 135, 144. 178 См. VI, 70, а также примеч. 46. 179 См. VI, 58, 81, 82, 131. 180 А.М. Эфрос. 181 Людвиг Бер (см. VI, 112). 182 По-видимому, имеется в виду сообщение о создании Международного художественного бюро, подписанное А.В. Луначарским (см.: Вестник Отдела изобразительных искусств. 1918. 5 января). 183 См. VI, 112. 184 См. примеч. 163 185 Речь идет о брошюре К.С. Малевича «О новых системах в искусстве. Статика и скорость. Установление А», изданной в Витебске в декабре 1919 г. в «Артели художественного труда при Витсвомасе». В техническом плане издание, вышедшее тиражом 1000 экземпляров, представляло собой брошюру в мягкой бумажной обложке, тексты и иллюстрации которой Л.М. Лисицкий вместе с учащимися ВНХУ перенес на литографские камни. К.С. Малевич отправил П.Д. Эттингеру несколько экземпляров своей книги, сопроводив их письмом от 3 апреля 1920 г. (опубл.: Малевич 2004/1. Т. 1. С. 125–126). 186 Требование Шагала было удовлетворено: в июне 1921 г. в помещении зрительного зала ГОСЕКТа открылась выставка, именовавшаяся «XXIII выставка Центросекции ИЗО Наркомпроса. Роспись художника Марка Шагала». См. Выставки, 21. 187 Юбилейная выставка Ю.М. Пэна, посвященная 25-летию его художественной деятельности, открылась в Витебске в сентябре 1921 г. (см. II, 7). 188 См. II, 21. 189 Возможно, перед отъездом за границу Шагал предполагал съездить в Витебск. 190 По-видимому, имеется в виду участие А.В. Лентулова в петроградской выставке «Мира искусства» (открылась в первых числах мая 1922 г. в Аничковом дворце). Шагал приглашения участвовать в выставке не получил. 191 Имеется в виду Герберт фон Гарвенс, владелец галереи в Ганновере. В марте – апреле 1921 г. в его галерее прошла выставка «Русское искусство. Иконы. Народное искусство. Новые картины», на которой экспонировались 28 работ Шагала. 192 Речь идет о «Выставке работ Н. Альтмана, М. Шагала и Д. Штеренберга», проходившей в марте – апреле 1922 г. (см. Выставки, 22). 193 Имеются в виду автобиографические записки, над которыми Шагал работал в Москве, впоследствии вошедшие в книгу «Моя жизнь». 194 См. примеч. 189. 195 Первая персональная выставка Шагала в Берлине была организована в галерее Лутц и открылась 15 января 1923 г. (см. Chagall Berlin 1923). 196 Ошибка в написании фамилии Пауля Кассирера. Кассирер намеревался издать автобиографические записки Шагала «Моя жизнь», но из-за трудностей перевода издание было осуществлено без текста, в виде папки с 20 гравюрами-иллюстрациями (Marc Chagall. Mein Leben. 20 Radierungen. Berlin, Paul Cassirer, 1923. Portfolio). 197 Фотографический снимок с живописного портрета «Ю.М. Пэн за мольбертом» (1918) работы Шагала (местонахождение неизвестно) репродуцирован в монографии Франца Мейера: Meyer 1961. S. 751. Ill. Nr. 275. 198 Автобиографические записки Ю.М. Пэна опубликованы на идише в минском журнале «Штерн» [ «Звезда»]. (1926. № 2–3, 4). В русском переводе см.: Юрий Пэн. Воспоминания художника. / Пер. с идиша И. Юдовиной. Предисл. и публ. А. Лисова // Шагаловский ежегодник 2004. Т. 2. С. 130–157. 199 Имеется в виду спектакль «Великодушный рогоносец» Ф. Кроммелинка, поставленный Всеводом Мейрхольдом в 1922 г. в Театре Актера. 200 З.Г. Гринберг. 201 См. II, примеч. 99; VI, 112. 202 См. примеч. 195. 203 С.Е. Ефрон. 204 См. примеч. 196. 205 Е.Б. Вахтангов умер 29 мая 1922 г. 206 Имеется в виду выставка в галерее Лутц (см. примеч. 195). 207 См. примеч. 196. 208 См. примеч. 206. 209 Шагал приехал в Париж в конце августа 1923 г. 210 Это намерение П. Кассирера не осуществилось. 211 Имеется в виду очерк Карла Вита, опубликованный в лейпцигском журнале «Чичероне» («Der Cicerone» 1923.August), впоследствии вошедший в монографию К. Вита о Шагале: Karl With. Marc Chagall. (Junge Kunst. Band 35). Leipzig: Verlag von Klinkhardt & Biermann, 1923 (см. VI, 194). 212 Речь идет о монографии Бориса Аронсона «Марк Шагал», изданной берлинским издательством «Петрополис» в августе 1923 г. (см. IV, 7). 213 См. примеч. 209. 214 Имеется в виду «Вторая выставка независимых художников-граверов» (1924), проходившая в парижской галерее Барбазанж-Одебер. 215 Государственная Национальная типография, Париж. 216 Для этого неосуществленного издания Шагалом был выполнен офорт «Акробат со скрипкой» (1924). 217 На основании этого письма П.Д. Эттингером была опубликована краткая информация о деятельности Шагала (см. VI, 199). 218 Речь идет о выставке «Марк Шагал» в брюссельской галерее «Кентавр», проходившей с 22 марта по 2 апреля 1924 г. 219 Выставка в Вене не состоялась. 220 Cм. примеч. 224. 221 Речь идет о рукописи автобиографических записок «Моя жизнь». 222 «Ди Цукунфт» [ «Будущее»] – ежемесячный научно-популярный и литературный журнал на идише, издававшийся в Нью-Йорке (с 1892, с перерывами). Основан Социалистической рабочей партией США. В 1913–1938 гг. редактором журнала был А.Лесин, превратившй «Цукунфт» в наиболее авторитетное издание на языке идиш. 223 В декабре 1924 г. Шагалы переезжают из квартиры на авеню Орлеан в парижское предместье Булонь-сюр-Сен, поселяются на Алле-де-Пен, 3, где остаются до начала 1930-го. 224 Речь идет о выставке «Работы Марка Шагала 1908–1924», проходившей в парижской галерее Барбазанж-Одебер с 17 по 30 декабря 1924 г. Это была первая ретроспектива Шагала в Париже. 225 См. примеч. 224. Присланные Шагалом Эттингеру каталог и пригласительный билет: ОР ГМИИ. Ф. 29. Оп. IV. Ед. хр. 15. Л. 48–50. 226 Речь идет об издании: L’art d’aujourd’hui. Fascicule d’hiver. Paris: Albert Morancé, 1924. 227 Имеется в виду «Международная выставка декоративных искусств и художественной промышленности в Париже», открывшаяся 28 апреля 1925 г. Советский павильон, выстроенный по проекту архитектора К.С. Мельникова, был открыт 4 июня и включал около пяти тысяч экспонатов. 228 Шагал имеет в виду свои росписи в Государственном еврейском камерном театре в Москве (1920). 229 См. примеч. 224. 230 Cм. примеч. 221. 231 Имеется в виду «Третья выставка независимых художников-граверов» в парижской галерее Барбазанж – Одебер (16 января – 3 февраля 1925.). 232 «Общество независимых художников-граверов» основано в 1923 г. Р. Дюфи и Ж.-Э. Лабурером. 233 См. примеч. 228. 234 См. примеч. 221. 235 Автобиографические записки Шагала были опубликованы под заглавием «Эйгнс» («Свое») в пяти номерах журнала «Цукунфт» за 1925 год: март (с. 158–162), апрель (с. 211–214), май (с. 290–293), июнь (с. 359–361), июль (с. 407–410). Перевод на русский язык см.: Шагал. Мой мир 2009. С. 29–116. 236 И.Опатошу. 237 Этот заказ А. Воллара знаменует начало многолетней работы Шагала над иллюстрациями к Библии, осуществленной в 1931–1939 и 1952–1956 гг. 238 Имеются в виду выставки, состоявшиеся весной 1925 г.: «Марк Шагал» (Кельн, галерея Кунстферейн, апрель) и «Картины Марка Шагала 1908–1925 гг.» (Дрезден, галерея Эрнста Арнольда, май – июнь). 239 Выставка «Марк Шагал» проходила с 9 по 30 января 1926 г. в галерее Рейнхардт в Нью-Йорке. 240 Имеются в виду члены Культур-Лиги – международной еврейской культурной организации, ставившей целью развитие новой еврейской культуры на идише и ее распространение в массах. Шагал входил в художественную секцию московского отделения Культур-лиги, под эгидой которой в марте-апреле 1922 г. была организована «Выставка работ Натана Альтмана, Марка Шагала, Давида Штеренберга. Живопись, графика». (см. Выставки, 22.) 241 Речь идет о галерее Рейнхардт в Нью-Йорке (см. примеч. 239). 242 См. примеч. 222, 235. 243 Шолом Аш. 244 С.А. Марголин. 245 См. примеч. 237. 246 Иллюстрации к «Басням» Лафонтена (100 гуашей) исполнены в 1926–1927 гг. и в дальнейшем награвированы Шагалом в технике офорта и сухой иглы (1928–1931). 247 Имеется в виду серия офортов для книги «Семь смертных грехов» с текстами семи авторов (Париж: издательство Симона Кра, 1926). (Les sept péchés capitaux. Textes de Jean Giraudoux, Paul Morand, Pierre MacOrland, André Salmon, Max Jacob, Jacques de Lacretell et Joseph Kessel. Paris, Simon Kra, 1926). 248 Издательство литературного журнала «Нувель Ревю Франсез», Париж. 249 Книга Г. Аполлинера «Алкоголи» осуществлена не была. 250 Cм. примеч. 239. 251 Лейба Шульман. Подробнее о нем см.: Димент Г. Невероятные похождения витебского художника Лейбы Шульмана, ученика Юделя Пэна // Шагал и Петербург 2013. С. 214–222; Димент Г. Витебск в Таосе, Шульман в Гаспаре: американские жизнь и творчество первого ученика Ю.М. Пэна // Шагаловский сборник 2016. С. 254–261. 252 З.З. Маркович. 253 См. примеч. 198. 254 По всей видимости, Шагал имеет в виду свою статью «Мои первые учителя. I. Пэн» (см. II, 12). 255 Имеются в виду две выставки, прошедшие в 1926 г. в парижской галерее Кати Гранофф: «30 полотен Марка Шагала» (14 июня – 5 июля) и «Марк Шагал. Летние работы» (22 ноября – 11 декабря). 256 См. примеч. 237. 257 См. примеч. 246. 258 Сюита «Цирк», исполненная для А. Воллара и названная впоследствии «Цирк Воллара», включала 19 гуашей (1927). 259 См. примеч. 249. 260 Cм. примеч. 247. 261 Речь идет о книге Марселя Арлана «Материнство», к которой Шагал исполнил пять офортов (Marcel Arland. Maternité. Récits ornés de 5 gravures hors texte de Marc Chagall. Paris, Au Sans-Pareil, 1926). 262 В.М. Мидлер, будучи членом Правления и заведующим отделом новейшей живописи ГТГ (1924–1929), с мая и до конца 1927 г. находился в командировке в Париже с целью отбора произведений для выставки «Современное французское искусство» в Москве. Иллюстрации к «Мертвым душам» были получены в ГТГ в феврале 1928 г. (подробнее см.: Брук 2017). 263 Иллюстрации Шагала к «Мертвым душам» впервые экспонированы на выставке «Современное французское искусство» (30 листов) (см. Выставки, 26). 264 Имеется в виду Комитет (Правление) Третьяковской галереи. 265 Журнал «Цукунфт». 266 А. Серойя. 267 Речь идет о рисунках к трехтомнику А. Лесина «Стихи и поэмы» (см. II, примеч. 80). 268 Часть зимы 1928/29 г. Шагалы провели в Савойских Альпах, в гостинице «Солей д’ор» в Межеве, где встретили А.Б. Лаховского. 269 Анна Филипповна Гринберг – знакомая Шагала и Я.А. Тугендхольда по Парижу (1910-е). Училась в Сорбонне, жила в Париже (до 1915), позднее в Москве. В семейном архиве Гринбергов, кроме цитируемого письма сохранились две почтовые карточки (открытки), присланные ей Шагалом, вероятно, в 1913 г.: обе изданы в Берлине и воспроизводят картины Шагала, экспонировавшиеся на Первом немецком осеннем салоне (осень 1913) – «России, ослам и другим» и «Голгофа». На оборотной стороне открытки с изображением картины «Голгофа» (в Берлине она выставлялась под названием «Посвящается Христу») автограф Шагала: Привет Вам, Анна Филипповна. Я, как видите, жив. Надо полагать, Вы теперь на суше, а не на море. Привет Алекс[андру] Михайловичу. Шагал. Открытка адресована в Париж: Mme Rosenfeld / [зачеркнуто: Passage de Dan] / 2 rue du Parc Monsouris / Paris (воспр. см. в публикации А.А. Гринберг). 270 А.М. Гринберг. 271 Дочь Гринбергов Анна Александровна Гринберг – инженер-авиатор, жила в Москве. Ее сын КирНиколаевич Гринберг (Самарин) – впоследствии известный цитогенетик, заведовал лабораторией клеточной феногенетики наследственной патологии в Институте медицинской генетики АМН СССР. 272 См. примеч. 267. 273 Выставка «Лафонтен Шагала. 100 басен» проходила в Париже в галерее Бернхейм-Жён с 10 по 21 февраля 1930 г. Предисловие к каталогу написано А. Волларом: «Я издаю «Басни» Лафонтена и избираю Шагала их иллюстратором». Экземпляр каталога, присланный Шагалом Эттингеру: ОР ГМИИ. Ф. 29. Оп. ІV. Ед. хр. 15. Экземпляр каталога с дарственной надписью Шагала хранится в научной библиотеке ГТГ. 274 После Парижа выставка «Лафонтен Шагала» проходила в Брюсселе в галерее «Кентавр» (1–19 марта 1930 г.) и в Берлине в галерее Флехтхайма (открытие 5 апреля 1930 г.). Пригласительный билет на вернисаж берлинской выставки, присланный Шагалом Вс. Мейерхольду: РГАЛИ. Ф. 998. Оп. 1. Ед. хр. 827. Л. 1 об. 275 См. примеч. 246. 276 См. примеч. 273, 274. 277 А. Воллар в своей книге «Воспоминания торговца картинами» писал: «Иллюстрации к книге я заказал русскому художнику Марку Шагалу. Этот выбор русского художника для интерпретации самого французского из наших поэтов вызвал недоумение. <…> Мои надежды оправдались: Шагал сделал сотню ослепительных гуашей» (см.: Письма Шику 1996. № 4134. 11–17 июля. С. 11). 278 См. примеч. 274. 279 См. примеч. 246. 280 В Берлине Шагал пробыл недолго. Заказ на стенную роспись, очевидно, не состоялся. 281 Гастроли ГОСТИМа проходили в Париже с 17 по 24 июня 1930 г. в помещении театра «Монпарнас». В программе гастролей были спектакли «Ревизор», «Лес» и «Великодушный рогоносец». В это же время на сцене театра «Пигаль» выступал московский Камерный театр. 282 См. примеч. 267. 283 В начале 1930 г. Шагал покупает дом в Париже – виллу Монморанси, на авеню Сикомор, 15, недалеко от заставы Отей. 284 Знакомство Шагала и М. Дизенгофа произошло осенью 1930 г. во время визита Дизенгофа в Париж. 285 См. II, примеч. 61. 286 Выставка книжных иллюстраций, исполненных для издательства А. Воллара, проходила в парижской галерее «Портик» (начало 1931 г.). 287 Выставка в Брюсселе в апреле 1931 г. не состоялась. 288 По-видимому, имеется в виду 17-й Сионистский конгресс, созванный в Базеле 30 июня – 15 июля 1931 г. 289 3 марта 1931 г. 290 Cм. примеч. 287, 293, 294. 291 Международная Колониальная выставка проходила в Париже в Венсенском лесу с 6 мая по 15 ноября 1931 г. 292 См. III, 97. 293 Речь идет о книге «Моя жизнь», вышедшей в Париже в издательстве «Сток» в 1931 г.: Marc Chagall. Ma vie / Traduit du russe par Bella Chagall. Préface d’André Salmon. Avec 32 dessins de jeunesse de l’auteur. Paris: Librairie Stock, 1931. 294 Выставка «20 последних полотен и несколько ранних рисунков, исполненные Марком Шагалом» проходила в парижской галерее «Портик» с 13 по 30 июня 1931 г. 295 Имеется в виду статья А. Бенуа «Книжная иллюстрация», помещенная в парижской газете «Последние новости» (1931. 23 января). О Шагале в ней говорилось следующее: «Что такое книжная иллюстрация и чему она должна служить? Есть ли это вообще нечто желательное и необходимое или это есть нечто излишнее, ненужное и даже вредное? <…> С особой настойчивостью “пристали” ко мне эти вопросы на днях, при посещении выставки художественных изданий, устроенной в одной галерее на бульваре Распай. Не то чтобы эта выставка была более замечательна, нежели многие другие, не то чтобы на ней было более озадачивающих явлений (к ним мы успели достаточно привыкнуть), но просто на ней я нашел известный комплект чудачеств и дикости нашего времени, а это, как всякий симптоматический подбор, имеет свою показательную ценность. Кроме того, на ней имелись произведения одного из наших соотечественников, необычайно быстро вознесенного до степени «мировой знаменитости» и как раз в области книжной иллюстрации сумевшего-таки озадачить самые изысканные, самые передовые элементы среди книжных гурманов – я говорю о Шагале. Элегантнейшие французские библиофилы говорят об его иллюстрациях к «Мертвым душам» и к басням Лафонтена с оттенком если не восхищения, то того подобострастия, с которым Маделон и Катос говорили о поэтических опытах маркиза Маскариля. И это очень много значит. Это в культурно-историческом смысле явление прелюбопытнейшее…» (цит. по: Бенуа 1968. С. 320). 296 См. примеч. 286. 297 См. примеч. 287. 298 См. II, 17, 18. 299 См. II, примеч. 63. 300 Выставка «Марк Шагал» в Амстердаме проходила с 12 марта по 3 апреля 1932 г. 301 Имеется в виду групповая выставка (М. Шагал, А. Дерен, М. Кислинг и др.), которая проходила в Гааге с 20 января по 15 февраля 1932 г. 302 Выставка в Роттердаме не состоялась. 303 Имеются в виду иллюстрации к Библии. 304 Л.И. Бродская. 305 Л.М. Бродская. 306 С конца августа до середины сентября 1933 г. Шагал и Белла находились на отдыхе во французских Альпах (Амфинон-ле-Бен, Верхняя Савойя). 307 Первая ретроспективная выставка Шагала проходила в Кунстхалле Базеля с 4 ноября по 3 декабря 1933 г. Из советских музеев и собраний работы не были присланы. 308 В начале 1930-х гг. в Кунстхалле Базеля прошли масштабные выставки П. Гогена, Ж. Брака, А. Майоля, А. Руссо, А. Модильяни, М. Громера. 309 И.И. Бродскому принадлежали две картины Шагала: «Интерьер с цветами» (1917) и «Окно в сад (Вид в сад)» (1917) (ныне Музей-квартира И.И. Бродского, СПб.). 310 Cм. примеч. 307. 311 См. II, примеч. 33. 312 Судя по служебной помете на письме, проставленной 2 ноября 1933 г., официального обращения директора базельского Кунстхалле в дирекцию ГТГ не последовало. Межмузейные контакты осложнялись тем обстоятельством, что с 1923 г. (после убийства в Лозанне полпреда СССР В.В. Воровского) дипломатические отношения между СССР и Швейцарией были прерваны и восстановлены только в 1946-м. 313 Имеется в виду пребывание Дизенгофа на 18-м Сионистском конгрессе, проходившем в Праге с 21 августа по 4 сентября 1933 г. 314 С.Б. Розовский. 315 Шагал и Белла ездили в Базель на открытие выставки в Кунстхалле. 316 Имеется в виду выставка в Кунстхалле Базеля. Согласно статистике, ее посетило 3848 человек (см.: Марк Шагал в Швейцарии / Публ., прим. и статьи С. Кагарлицкой // Наше наследие. 2005. № 75–76. С. 167). 317 30-летие художественно-педагогической деятельности Ю.М. Пэна широко отмечалось в Витебске в 1927 г. (см. II, примеч. 36). Однако позднее Пэн решил перенести дату начала своей творческой деятельности на более раннее время и считать ее от учебы в Академии художеств. Таким образом, по желанию художника 50-летие его работы следовало отмечать в 1933 г. Некоторые ученики (в том числе и Шагал) откликнулись на это пожелание, но никакие официальные мероприятия по этому поводу в Витебске не проводились. 318 Арнольд Шенберг, по происхождению еврей, в 1908 г. перешел в протестантство. В 1933 г. после прихода к власти нацистов был вынужден эмигрировать в Париж, где при поддержке друзей, среди которых был и Шагал, оформил возвращение в иудаизм. Предполагалось его участие в работе 18-го Сионистского конгресса в Праге, однако осенью 1933-го Шенберг неожиданно уехал в США, что вызвало негодование еврейской общественности. 319 В 1925 г. С. Розовский репатриировался в Палестину. 320 Шагал посетил М. Либермана в мае 1930 г., когда приехал в Берлин на свою выставку «Лафонтен Шагала» (см. примеч. 274). Письмо к Лесину написано вскоре после смерти Либермана (умер 8 февраля 1935 г.). 321 Воспоминания Шагала «Моя встреча с Максом Либерманом» опубликованы в журнале «Цукунфт», вып. XL, май 1935, № 5 (см. Harchav 2004. P. 356–359; пер. на англ.). 322 Письмо Шагала является ответом на статью А.Н. Бенуа «Выставка VIII группы» (Последние новости (Париж). 1935. 9 марта). 323 За границу Шагал уехал не в 1908-м, а в 1911 г. (см. II, примеч. 33). 324 Выставка «Полотна и гуаши Марка Шагала» проходила в Лондоне в галерее Лестер (апрель – май 1935 г.). 325 См. III, 117. 326 Выставка «Наивные живописцы: зарождение экспрессионизма» (название выставки переводится также: «Инстинктивные художники: рождение экспрессионизма») проходила в парижской галерее «Бозар» в декабре 1935 – январе 1936 г. 327 См. примеч. 307. 328 Выставка произведений Шагала в Праге состоялась в ноябре 1934 г. 329 Имеется в виду выставка «Современные художники» (Париж, Пти-Пале, 1935). 330 Cм. примеч. 324. 331 См. III, 85; Выставки, 26. 332 См. примеч. 246. 333 См. примеч. 196. 334 Имеется в виду Лия Осиповна Бернштейн-Раппопорт, родная тетка зятя Шагала Мишеля Раппопорта. Перевела (совместно с Теодорой фон дер Мюлль) на немецкий язык написанные на идише мемуары Беллы Шагал «Горящие огни» (Bella Chagall. Brennende Lichter. Rowohlt Verlag Reinbeck, 1966). 335 Бракосочетание Иды Шагал и Мишеля Раппопорта состоялось в Париже 22 ноября 1934 г. В личном фонде П.Д. Эттингера сохранилось присланное ему Шагалом приглашение на свадебное торжество (ОР ГМИИ. Ф. 29. Оп. ІІІ. Ед. хр. 4689). Аналогичное приглашение было отправлено И.И. Бродскому (РГАЛИ. Ф. 2020. Оп. 1. Ед. хр. 303. Л. 3). 336 Лето 1936 г. Шагалы провели во французской Юре. 337 Правильное название провинции: Doubs (находится во французской Юре). По-видимому, ошибка публикаторов. 338 В конце 1936 г. Шагал переезжает в новую мастерскую в Париже на улице Вилла Эжен-Манюэль, 4, в районе Трокадеро. 339 70-летие П.Д. Эттингера отмечалось 27 октября 1936 г. 340 Это было последнее письмо Шагала своему учителю. В ночь на 1 марта 1937 г. Ю.М. Пэн был убит в своей квартире-мастерской в Витебске. 341 Возможно, речь идет о статье А.Н. Бенуа по поводу выставки «Пушкин и его эпоха», посвященной 100-летию со дня смерти поэта (см. Бенуа А.Н. Пушкинская выставка // Последние новости (Париж). 1937. 3 апреля). 342 Всемирная выставка 1937 г. под девизом «Искусство и техника в современной жизни» проходила в Париже с 25 мая по 25 ноября. 343 Выставка «Гуаши Шагала» состоялась в Париже с 26 октября по 13 ноября 1937 г. в галерее Рену и Колль. 344 См. примеч. 197. 345 Шагал послал Бенуа каталог своей выставки, проходившей с 22 февраля по 13 марта 1938 г. во Дворце изящных искусств в Брюсселе. 346 Речь идет о выставке Гойи в Париже в 1937 г. и о посвященной ей статье А.Н. Бенуа (см.: Бенуа А.Н. Художественные письма. Выставка Гойи // Последние новости (Париж).1938. 22 и 29 января). 347 Речь идет о статье А.Н. Бенуа «Выставка Шагала» в газете «Последние новости» от 3 февраля 1940 г. (см. IV, 12). Статья появилась в связи с выставкой «Mарк Шагал», организованной Ивонной Зервос в парижской галерее «Май» (26 января – 24 февраля 1940). 348 Смерть Беллы Шагал. 349 Выставка «Марк Шагал: живопись, гравюра, рисунок», приуроченная к 40-летию творческой деятельности художника, была показана в Нью-Йорке в Музее современного искусства (4 апреля – 23 июня 1946 г.) и в Институте искусств в Чикаго (15 ноября 1946 г. – 12 января 1947 г.). 350 Lionello Venturi. Marc Chagall. New York: Pierre Matisse, 1945. 351 Bella Chagall. Brenendicke Licht. New York: Book League of the Jewish Peoples Fraternal Order, I.W.O., 1945 (идиш). 352 См. примеч. 334. 353 О.С. Бернштейн. 354 Балет «Алеко» по поэме А.С. Пушкина «Цыганы» на музыку П.И. Чайковского, постановка и хореография Леонида Мясина. Премьера состоялась 10 сентября 1942 г. в Мехико; в том же году постановка была осуществлена в Метрополитен-опера, Нью-Йорк. 355 См. примеч. 349. 356 См. примеч. 350. 357 Речь идет о балете «Жар-Птица» И.Ф. Стравинского в хореографии А. Больма с декорациями и костюмами М. Шагала. Примьера состоялась 24 октября 1944 г. в Метрополитен-опера. 358 Bella Chagall. Burning Lights.Thirty six drawings by Marc Chagall. New York: Schocen books, 1946 (см. примеч. 351). 359 См. примеч. 349. 360 Выставка «Шагал. Живопись 1945–1946» состоялась в Нью-Йорке в галерее Пьера Матисса с 5 февраля по 2 марта 1946 г. 361 Оба каталога вышли в одном издании: James Johnson Sweeney. Marc Chagall. New York, Museum of Modern Art, 1946. 362 См. примеч. 350. 363 Leon Degand. Chagall. Peintures 1942–1945. Poème de Paul Eluard. Paris: Editions du Chêne, 1947. 364 Выставка «Марк Шагал» экспонировалась в Париже в Национальном музее современного искусства с 17 октября по 22 декабря 1947 г. 365 См. примеч. 349. 366 См. III, 138. 367 Председателем Комитета по делам искусств (1939–1948) был М.Б. Храпченко. 368 С.М. Шик. 369 Жак Лассень. 370 Шагал познакомился с Э. Териадом в 1926 г. через А. Воллара. После смерти Воллара, выкупив права у его наследников, Териад на протяжении двух десятилетий выпускал в своем издательстве иллюстрированные Шагалом книги: «Мертвые души» Н.В. Гоголя (в 2 т., март 1948 г.), «Басни» Лафонтена (в 2 т., март 1952 г.), Библия (в 2 т., декабрь 1956 г.), «Дафнис и Хлоя» (в 2 т., март 1961 г.), «Цирк» (март 1967 г.). В 1954 г. Шагал выполнил два больших живописных панно для дома Териада в Сен-Жан-Кап-Ферра. 371 По заказу издателя Курта Вольфа Шагал выполнил иллюстрации к «Тысяче и одной ночи» (изданы в Нью-Йорке в 1948 г.). См. примеч. 399. 372 См. примеч. 349. 373 См. примеч. 364. 374 Наталья и Клод Оффенштадт. 375 Письмо написано на оборотной стороне пригласительного билета на вернисаж выставки Шагала в Институте искусств в Чикаго. 376 Речь идет о книге А. Шика «Гоголь в Ницце». Париж,1946. 377 См. примеч. 350. 378 См. примеч. 361. 379 Обе книги с дарственными надписями Шагала ныне хранятся в научной библиотеке ГТГ. 380 Cм. примеч. 375. 381 См. примеч. 364. 382 Выставка «Марк Шагал» состоялась в Лондоне в галерее Тейт с 4 по 29 февраля 1948 г. 383 Выставка «Марк Шагал: последние полотна. Гуаши цикла «1001 ночь» состоялась в Нью-Йорке в галерее Пьера Матисса с 8 по 26 апреля 1947 г. 384 Л.О. Бернштейн-Раппопорт и О.С. Бернштейн. 385 См. примеч. 364, 382. 386 См. примеч. 364. 387 В Амстердаме выставка состоялась в Стеделик музее (открылась в конце декабря 1947 г.). 388 См. примеч. 382. 389 См. примеч. 349. 390 Cм. примеч. 363. 391 См. примеч. 370. 392 Iliazd. Poésie de mots inconnus. Paris, Le Degré 41, 1949 (1 гравюра Шагала). 393 Чешский перевод книги «Моя жизнь» вышел в Праге в 1969 г. (Marc Chagall. Můj život / Přel. Adolf a Helena Kroupovi. Praha, 1969). 394 Шагал и Вирджиния Хаггард переехали из США во Францию в августе 1948 г. 395 Речь идет о французском издании книги Беллы Шагал (Bella Chagall. Lumières allumées / Traduction par Ida Chagall. Geneve, Paris: Editions des Trois Collines, 1948). Отзыв А. Шика «Книга о счастливом детстве» опубликован в газете «Русская мысль» (Париж) от 2 июля 1948 г. (под псевдонимом КС). См. также I, 6. 396 Вторая часть воспоминаний Беллы Шагал «Первая встреча» вышла на идише в Нью-Йорке в 1947 г.(Bella Chagall. Die ershte Bagegenish. New York: Book League of the Jewish People Fraternal Order, I.W.O., 1947). 397 На XXIV Биеннале в Венеции (июнь – сентябрь 1948 г.) Шагал был удостоен Гран-при за иллюстрации к поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души», «Басням» Лафонтена и Библии. 398 Ср. примеч. 364, 382, 387, 397. 399 Arabian Nights. Original color lithographs by Marc Chagall for Four Tales from the Arabian Nights. New Yor: Panteon Books, 1948 (12 цветных литографий). 400 Белла Шагал. 401 См примеч. 395. 402 См. I, 4. 403 Шагал морем направлялся из США во Францию. 404 Имеется в виду Оржеваль – деревня недалеко от парижского пригорода Сен-Жермен-ан-Лэ. 405 См. примеч. 397. 406 Алдановы жили в Ницце. 407 Вирджиния Мак-Нил. 408 Давид Мак-Нил. 409 В 1940–1947 гг. М. Алданов жил в США и сотрудничал в нью-йоркских изданиях: газете «Новое русское слово» и «Новом журнале». 410 Cм. примеч. 397. 411 В городке Сен-Жан-Кап-Ферра чуть восточнее Ниццы Шагал жил с января по май 1949 г. 412 Письмо адресовано в Комитет созданного в 1948 г. Архива-Музея еврейского народного искусства в Париже (ныне Музей искусства и истории иудаизма). М.Л. Каган-Шабшай была одной из основательниц и первым хранителем этого музея. 413 По-видимому, это письмо было ответом художника на послание М.Л. Каган-Шабшай с объяснением целей Архива-Музея и с предложением Шагалу принять в этом участие. 414 В Довиле жила дочь А.А. Шика и ее муж. 415 Речь идет о заметке А.А. Шика «Два вернисажа (Пикассо и Шагал)» в газете «Русская мысль» (Париж) от 8 июля 1949 г. 416 Весной 1950 г. Шагал купил в Вансе виллу «Ле Коллин» («Холмы»). 417 С галереей Эме Мага Шагал сотрудничал с 1948 г.: галерея торговала произведениями Шагала в Европе. Выставка в галерее Маг в Вансе проходила в марте – апреле 1950 г. 418 Имеется в виду тематический номер журнала «Verve» (№ 24, вышел в конце апреля 1950 г.), посвященный «Сказкам Боккаччо», для которого Шагал выполнил 26 черно-белых иллюстраций и обложку. 419 В Бергамо в палаццо делла Раджоне с 28 сентября по 22 октября 1950 г. проходила выставка-ярмарка современного рисунка, в которой участвовал и Шагал (6 графических работ). 420 Имеется в виду каталог «Живопись XVIII – начала XX века (до 1917 года» (М., 1952). В этот каталог включены две работы Шагала: «Дом в местечке Лиозно» (1914) и «Парикмахерская» (1914). 421 Относительно произведений Шагала, находившихся в собрании А.А. Шика, публикатор шагаловских писем делает следующее примечание: «Принадлежавшую ему еще с дореволюционных времен картину Шагала А. Шик впоследствии продал (из-за материальных затруднений). На ней изображена повозка с лошадью на фоне витебских мотивов. Где-то есть и принадлежавшие А. Шику многочисленные рисунки «на случай» с надписью типа «Другу Шику». 422 И.А. Морозов. 423 Имеется в виду монография Эфрос, Тугендхольд 1918 (репродукция с картины «Парикмахерская» помещена на с. 29). 424 Второе издание книги «Моя жизнь» в издательстве «Stock» в Париже вышло в 1957 г. 425 Речь идет о готовившемся в Нью-Йорке сборнике воспоминаний на идише «Однажды в Витебске» (Vitebsk Аmol; geshikhte, zikhroynes, khurbn / Eds.: G. Aronson, J. Lestchinsky, A. Kihn. New York: Waldon Press,1956. 644 pp., ports). Инициатором издания был Гилель Медалье. 426 См. примеч. 351, 396. 427 В Израиле готовилось к выходу другое издание, выпускаемое на иврите, – «Книга Витебск» (Sefer Vitebsk / Ed.: B. Krupnik. Tel Aviv, Former Residents of Vitebsk and Surroundings in Israel, 1957. 508 columns, ports., facsims). 428 Израиль Рипин, член комитета по подготовке издания «Книга Витебск» (см. примеч. 427). 429 Подразумевается – в Израиле. 430 Cм. III, 104. 431 См.: Еврейские художики в Париже: Воспоминания Лео Кенига / Пер., предисл., публ. и коммент. Г. Казовского // Вестник Еврейского университета: История. Культура. Цивилизация. № 2 (20). М. – Иерусалим, 1999. С. 324–354. 432 Блез Сандрар. 433 См. примеч. 443. 434 В.Г. Шагал. 435 Имеется в виду еврейский новый год – Рош ха-Шана. 436 Абрам Гинзбург, муж Анны Розенфельд (см. I, 4.). 437 См. примеч. 235. 438 Речь идет о фотографиях с двух картин Шагала, находившихся в частных собраниях в Москве: «Автопортрет перед мольбертом (Автопортрет с палитрой)» (cобр. И.Г. Эренбурга) и «Портрет сестры» (собр. Р.М. Мильман). 439 См. VII, 18. 440 Выставка «Марк Шагал: работы последних 25-ти лет». Базель, Кунстхалле (25 августа – 21 октября 1956). 441 В Берне в 1956 г. открыты две выставки: «Марк Шагал. 1950–1956» – в Кунстхалле (27 октября – 29 ноября); «Марк Шагал. Графика 1950–1956» – в галерее Клипштейна и Корнфельда (26 октября – 1 декабря). 442 В амстердамском Стеделик-музее одновременно экспонировались две выставки: «Марк Шагал. Работы последних лет» и «Шагал. 75 рисунков 1907–1927» (7 декабря 1956 – 14 января 1957). Те же выставки были показаны в Брюсселе во Дворце изящных искусств (19 января – 19 февраля 1957). 443 «Библия» в двух томах со 105 офортами Шагала, работа над которыми была начата в 1931-м, вышла в Париже в издательстве Э. Териада в декабре 1956-го (см. примеч. 237, 370). 444 Журнал «Verve» № 33–34 с 18 цветными (включая обложку) и 12 черно-белыми литографиями Шагала на тему Библии вышел в Париже в 1956 г. 445 Lionello Venturi. Chagall. Genève – Paris – New York: Editions d'Arte Albert Skira, 1956 (см. IV, примеч. 45). 446 См. примеч. 444. 447 Видимо, речь идет о книге: Buchheim L.-G. Marc Chagall. Zwischen Traum und Tag. Zeichnungen von M. Chagall. Feldafing: Buchheim Verlag, 1955. 448 Имеется в виду картина «Старушка с корзинкой» (1914–1915). См. VII, 18. 449 В это время зять Шагала Ф. Мейер работал над большой монографией о художнике (см. II, примеч. 125). 450 Cм. I, 2. 451 Фотографическое заведение Михаила Павловича Антокольского (Литейный проспект, 41) упоминается в адресных и справочных книгах «Весь Петербург» за 1907–1909 гг. (СПб., 1907. С. 1396; СПб., 1908. С. 1337; СПб., 1909. С. 1399). См. VII, 18. 452 Речь идет о гуашах «Сожженная деревня» и «Война: мать и ребенок» (1943). О даре Шагала в Третьяковскую галерею, переданном через С.М. Михоэлса, см.: Брук 2015/1. С. 266. 453 Выставка гравюр Шагала в Национальной библиотеке состоялась в июне – августе 1957 г. 454 Выставка «Марк Шагал. Картины 1955–1957» экспонировалась в галерее Маг в июле – августе 1957 г. (каталог в специальном номере журнала «Derrière le Miroir», № 99/100). 455 См. примеч. 451. 456 См. примеч. 453, 454. 457 См. примеч. 445. 458 Весной 1957 г. Шагал поселился в Париже на набережной Бурбон, 15, а позже приобрел квартиру на набережной Анжу, 13. 459 Выставка «Марк Шагал. Графические работы» проходила в Базеле с 3 ноября по 8 декабря 1957 г. 460 Cм. примеч. 449. 461 См. VII, 17. 462 См. примеч. 420. 463 См. примеч. 449. 464 С. З. Грибова (см. I, 2). 465 В марте 1958 г. Шагал прочел лекцию «Искусство и жизнь (Что нас так тревожит?)» в Комитете общественных исследований в Чикагском университете (см.: Шагал об искусстве и культуре 2009. С. 230–252). 466 «Видение (Автопортрет с музой)» (1917–1918) 467 «Вид из окна в Витебске (Окно. Витебск)» (1908). 468 Большая ретроспектива работ Шагала в 1959 г. проходила под эгидой ЮНЕСКО. Были организованы три выставки: в Гамбурге, Кунстферейн (6 февраля – 22 марта), в Мюнхене, Дом искусства (7 апреля – 31 мая), в Париже, Музей декоративного искусства в Лувре (июнь – октябрь). Каталоги этих выставок были разными по объему и составу работ, но имели одинаковое оформление и обложку. 469 См. примеч. 464. 470 Альфред Хентцен. 471 См. примеч. 466. 472 Менистром культуры СССР был Н.А. Михайлов. 473 См. примеч. 420. 474 См. примеч. 438. 475 Речь идет о давних петроградских знакомых Шагала Я.М. Коварском и его сестре Е.М. Коварской. 476 Л.М. Эренбург. 477 См. VII, 18. 478 Франсуа Мэтью. 479 См. примеч. 468. 480 Имеется в виду разрешение Министерства культуры СССР на вывоз картины «Видение» на выставку в Париже. 481 Парижский Музей декоративного искусства, в котором проходила выставка Шагала, размещался в Луврском дворце (северное крыло, Павильон Марса). 482 После долгих переговоров на дипломатическом уровне на выставку в Париже были привезены десять полотен Шагала из советских музейных и частных собраний: две картины из ГТГ («Над городом», «Венчание»), три из ГРМ («Прогулка», «Красный еврей», «Зеркало»), «Автопортрет перед мольбертом» из коллекции И.Г. Эренбурга, «Видение» из коллекции М.Г. Гордеева и три работы из коллекции Г.Д. Костаки («Старушка с корзинкой», «Ландыши», эскиз «Вперед»). 483 И.М. Шагал. 484 См. примеч. 449. 485 Речь идет о поэме Е. Фицовского «Письмо Марку Шагалу», французский перевод которой, выполненный Сюзанн Арле, был послан художнику в рукописном виде в 1960 г. Поэма иллюстрирована Шагалом и издана во Франции в 1969 г. в виде книги-папки тиражом 175 нумерованных экземпляров для подписчиков, с автографами обоих авторов. 486 Первый из шести томов каталога-резоне литографий Шагала, составленный Фернаном Мурло (Chagall Lithographe. [I]. Monte-Carlo, 1960). 487 См. примеч. 444. 488 См. примеч. 451. 489 См. примеч. 486, 487, 449. 490 Речь идет о статье А.А. Шика «Витражи для Иерусалима Марка Шагала», «Русская мысль» (1961. 24 июня). Летом 1961 г. 12 витражей Шагала, выполненных для синагоги при медицинском центре Хадасса, экспонировались в парижском Музее декоративного искусства, в специально возведенном для этого «шатре». 491 Первая Французская национальная выставка в Москве проходила в парке Сокольники с 15 августа по 15 сентября 1961 г. 492 Ретроспектива работ Шагала в 1963 г. проходила в Токио, Национальный музей западного искусства и галерея Shirokiya (графика) (1 октября – 10 ноября) и в Киото, Муниципальный музей и Национальный музей современного искусства (графика) (20 ноября – 10 декабря). 493 Речь идет о подготовке антологии поэзии польских авторов на «шагаловскую» тему под названием «Пилигримы в стране Шагала». Замысел не был осуществлен. 494 См. III, 206. 495 См. VII, 5. 496 Нюренберг А. Новый Шагал // Прожектор (М.). 1928. № 2. 8 января. С. 18–19. 497 Нюренберг А. Воспоминания, встречи, мысли об искусстве. М., 1969. 498 П.Н. Мамичева. 499 Институт атомной энергии им. И.В. Курчатова в Москве. 500 Летом 1966 г. Шагалы переехали в пригород Ванса – городок Сен-Поль-де-Ванс. 501 Lassaigne Jacques. Le Plafond de l’Opéra de Paris par Marc Chagall. Monte Carlo, 1965. 502 Имеется в виду постановка оперы Моцарта «Волшебная флейта» в Метрополитенопера в Нью-Йорке и витражи в здании главной квартиры ООН (см. примеч. 515). 503 См. примеч. 517. 504 Речь идет о картине «Автопортрет с Беллой у печи» (1915–1916). 505 Речь идет о книге: Meyer 1961 (см. II, примеч. 125). 506 См. III, 139, а также примеч. 452. 507 См. примеч. 516. 508 Нью-Йоркская газета «Новое русское слово» (1966. 23 февраля) так писала о работе В.В. Одинокова над декорациями по макетам Шагала: «Оригинальные рисунки Шагала для декораций имеют всего два фута в длину, а декорация будет иметь длину в 56 футов. Чтобы в точности соблюсти все размеры художника, Одиноков изобрел специальный проекционный аппарат, который в увеличенном виде изображает на полотне оригинальный рисунок Шагала. Затем декораторы наносят на полотно контуры. Краски накладывает сам Одиноков, который работал с Шагалом прошлое лето целую неделю в Вансе, на юге Франции, и изучил с художником секрет композиции его красок. <…> Нужно сделать 16 перемен декораций, ковер для сцены, постоянную раму, которая будет окаймлять всю сцену. Декорации задуманы Шагалом в очень ярких, концентрированных, пылающих красках». 509 Имеются в виду живописные панно «Истоки Музыки» и «Триумф Музыки», исполненные Шагалом для нового здания Метрополитен-опера (его торжественное открытие состоялось 16 сентября 1966 г.). 510 Cм. примеч. 500. 511 В начале сентября 1966 г. Шагал приехал в Нью-Йорк на открытие своих панно в Метрополитен-опера (см. VI, 277). 512 По-видимому, Йозеф Алоиз Крипс. 513 Рудольф Бинг. 514 См. примеч. 509. 515 Премьера «Волшебной флейты» Моцарта с декорациями и костюмами Шагала в Метрополитен-опера состоялась 19 февраля 1967 г. В конце февраля в Сити-холл прошла торжественная церемония, на которой мэр Нью-Йорка Джон Линдси вручил Шагалу высшую награду города за культурные достижения – медаль имени Генделя – за его панно для Метрополитен-опера, костюмы и декорации к «Волшебной флейте», а также витражи в здании главной квартиры ООН. См.: Медаль Марку Шагалу // Новое русское слово (Нью-Йорк). 1967. 26 февраля. С. 1. 516 Ретроспективная выставка Шагала была открыта в Цюрихе в Кунстхаусе с 6 мая по 30 июля 1967 г. 517 С июня по октябрь 1967 г. в Лувре был выставлен цикл «Библейское послание» (17 полотен и 38 гуашей) – дар Марка и Валентины Шагалов французскому государству, сделанный с условием, что в Ницце будет построено специальное здание для их экспонирования. 518 И.Г. Эренбург скончался от инфаркта миокарда в Москве вечером 31 августа 1967 г.; о его смерти зарубежные агентства сообщили 1 сентября. 519 Намерение провести выставку в Новосибирске не осуществилось. Картинная галерея Дома ученых в Академгородке, которой руководил М.Я. Макаренко, была закрыта партийным руководством Новосибирской области в апреле 1968 г. после мартовского того же года Пленума ЦК КПСС, на котором было принято решение сворачивать иделогические свободы «хрущевской оттепели». В этой связи нью-йоркская газета «Новое русское слово» (1968. 16 апреля) опубликовала следующую заметку: «Москва, 15 апреля. – Одной из первых жертв нового “твердого” курса, взятого на Пленуме ЦК КПСС в отношении советской интеллигенции, оказалась выставка картин Марка Шагала. Произведения этого художника с мировым именем признаны идущими вразрез с требованиями “социалистического реализма”, и потому знакомство с ними считается нежелательным. Выставка картин Шагала была намечена на 12 мая в “научном городке” в окрестностях Новосибирска. Научный городок, где сосредоточены различные научно-исследовательские институты, носит название “Академгородок”. Шагал обещал присутствовать на открытии выставки и предоставить для нее несколько более поздних картин. Директор художественной галереи Академгородка Михаил Макаренко смещен со своей должности за опубликование каталога намеченной выставки без предварительного разрешения». 520 Речь идет о присланном Шагалу номере журнала «Декоративное искусство СССР» (1967, № 12), в котором была напечатана статья И.Г. Эренбурга, приуроченная к восьмидесятилетнему юбилею художника (см. IV, 13). Письмо Шагала было передано в редакцию Л.А. Жадовой. 521 В.А. Пушкарев посетил Шагала в Сен-Поль-де Ванс в январе 1968 г. (см. VII, 24). 522 По возвращении в Ленинград В.А. Пушкарев послал Шагалу альбом: Акварели и рисунки. Государственный Русский музей / Сост. и автор вступ. статьи В.А. Пушкарев. Л.—М., 1964. 523 Имеется в виду Рисовальная школа ОПХ. 524 По-видимому, речь идет о вышедшей в 1968 г. в московском издательстве «Искусство» книге А.И. Дейча «Голос памяти. Театральные впечатления», в которую вошла глава о С.М. Михоэлсе. 525 Е.К. Дейч. 526 См. примеч. 482. 527 Jianou I. Zadkine. Arted-Editions d’Art-Paris. 1964. 528 Яковлев С.М. Смоляне в искусстве. М, 1968. 529 См. VII, 1. 530 19 ноября 1968 г. Шагал присутствовал на вернисаже своей выставки, которая открылась в галерее Пьера Матисса в Нью-Йорке. 531 Имеется в виду Государственная мануфактура гобеленов в Париже, на которой в это время по эскизам Шагала изготавливались три больших гобелена – «Пророчество Исайи», «Исход» и «Вход в Иерусалим» – для нового здания Кнессета в Иерусалиме. 532 См. примеч. 521. 533 Речь идет о книге: М.С. Сарьян. Альбом / Сост. А.А. Каменский. М., 1968. О начале знакомства с Шагалом А.А. Каменский вспоминал: «С Марком Захаровичем Шагалом я познакомился заочно и при совершенно случайных обстоятельствах. В 1969 году вышел в свет подготовленный мной большой альбом “Мартирос Сарьян”. Я спросил у Мартироса Сергеевича, кому из его старых друзей послать это издание. Он вздохнул, горестно развел руками и сказал: “В прошлом году похоронили Павла Варфоломеевича Кузнецова, и кажется, это был мой последний сверстник-художник. Вот только во Франции живет Марк Шагал, когда-то мы с ним были хорошо знакомы” Я узнал адрес Шагала и послал ему книгу в Сен-Поль де Ванс, разумеется, не надеясь ни на какой отклик. Но, к моему величайшему удивлению, я вскоре получил в ответ маленькое письмецо, живое и острое, полное глубокого интереса к художественной жизни в Советском Союзе. Так началась наша переписка» (Каменский А. «Краска, чистота, любовь…» [Беседа А. Каменского с М. Шагалом] // Огонек (М.). 1987. № 27. С. 24). 534 А.А. Вергелис посетил Шагала в Сен-Поль-де-Вансе в 1968 г. (cм. VII, 22). 535 См. стихи А. Вергелиса. V, 3. 536 Большая ретроспективная выставка Шагала была открыта в парижском Гран-Пале с 12 декабря 1969 г. до 8 марта 1970 г. (см. VI, 284). 537 Жан Леймари. 538 Андре Мальро. 539 См. примеч. 536. 540 Выставка «Марк Шагал: графические работы» экспонировалась в Париже в Национальной библиотеке в январе – марте 1970 г. 541 См. III, 234; VI, 584. 542 Имеется в виду картина «Видение (Автопортрет с музой)» (1917–1918). 543 В июне 1969 г. Шагал с женой посетили Иерусалим, где присутствовали на открытии нового здания Кнессета, украшенного работами художника: мозаикой «Стена плача» и тремя гобеленами – «Пророчество Исайи», «Исход» и «Вход в Иерусалим», выполненными на Государственной мануфактуре гобеленов в Париже (см. III, 225–226). 544 Дгания – первый еврейский кибуц в Эрец-Исраэль. Расположен на южном берегу озера Кинерет, в 10 км к югу от Тверии. 545 Речь идет о книге: А.М. Эфроса «Два века русского искусства». М., 1969 (см. VII, 15). 546 См. примеч. 536. 547 Имеется в виду картина «Зеленые любовники» (1914–1915). 548 См. примеч. 542. 549 См. примеч. 536. 550 Гастроли оперной труппы Большого театра в Париже состоялись в декабре 1969 – январе 1970 г. на сцене Гранд-опера. 551 Из советских музеев на выставку были привезены: из ГТГ – «Окно на даче» (1915) и «Венчание» (1918), из ГРМ – «Зеркало» (1915) и «Прогулка» (1917–1918). 552 Жан Шатлен. 553 Жан Леймари. 554 См. примеч. 545. 555 См. примеч. 547. 556 См. III, 223. 557 М.А. Кунин во время учебы в ВНХУ был старостой мастерской Шагала, а также членом Комиссии по социальному обеспечению и трудовой повинности студентов. Непродолжительное время состоял членом Уновиса. 558 Речь идет об изданной в Болгарии книге: А.А. Каменского «Изкуство на хуманизма. Очерци из историята на съветското изобразително изкуство». София, 1969. В книге воспроизводилась картина Шагала «Над городом» и давалась краткая характеристика его участия в искусстве революционной России. 559 См. примеч. 536. 560 Cм. примеч. 551. 561 См. примеч. 497. 562 См. примеч. 521. 563 В гостях у Шагала В.А. Пушкарев фотографировал художника. Часть фотографий Шагал вернул, надписав их. 564 См. примеч. 536, 551. 565 Имеются в виду иллюстрации Шагала к книге Дер Нистера «Сказка о петухе, козочке и мышке» (тушь, перо, белила; 1914–1915). 566 Питер Марк Мейер, сын Франца Мейера и Иды Шагал. 567 Первая Всемирная конференция в защиту советских евреев состоялась в Брюсселе 23–25 февраля 1971 г. 568 См. примеч. 558. 569 См. примеч. 423. 570 Речь о Рудольфе Бинге. 571 Имеется в виду Национальный музей «Библейское послание Марка Шагала» в Ницце, строительство которого началось в 1969 г. Здание музея спроектировал Андре Эрман. 572 См. примеч. 509. 573 Речь об опере Моцарта «Волшебная флейта». 574 Выставка «Марк Шагал. Картины и гуаши» прошла в Нью-Йорке в галерее Пьера Матисса с 25 апреля по 20 мая 1972 г. 575 Речь идет о статье Ю. Стукалича «Она была в Могилеве», посвященной деревянной синагоге в Могилеве, расписанной Хаимом Сегалом. (Новое русское слово (Нью-Йорк). 1972. 29 июня). М.Е. Вейнбаум переслал газету с этой статьей Шагалу. 576 Имеется в виду издававшийся в Берлине на идише и иврите журнал «Римон – Милгройм» [ «Гранат»], главным редактором которого была Р.В. Вишницер-Бернштейн. В 1923 г. Л.М. Лисицкий опубликовал здесь статью «Воспоминания о Могилевской синагоге», снабдив ее сделанными совместно с И.-Б. Рыбаком во время экспедиции 1916 г. цветными копиями синагогальных росписей. 577 Для Ю. Стукалича письмо Шагала оказалось высшей наградой и признанием его краеведческой и писательской деятельности. Он не однажды собирался ответить Шагалу, но так и не решился на это. В письме к М.Е. Вейнбауму Ю. Стукалич просил поблагодарить художника за присланный ему отклик: «Глубокоуважаемый Марк Ефимович! <…> Благодарен также за пересылку моего письма “Она была в Могилеве” (НРС от 29 июня 72 г.) Марку Шагалу и очень тронут его любезным письмом. За это дорогое письмо хочется вкратце поблагодарить его лично, а так как не имею адреса, то надеюсь осуществить это чрез посредство НРСлова» (см.: Пранчак Л. Беларуская Амерыка. Мiнск, 1994. С. 258). 578 По-видимому, имеется в виду предстоящая поездка в СССР. 579 См. примеч. 571; VI, 294. 580 Пояснение А.А.Каменского: «Речь идет о статье “Витебск, Париж, вселенная и окрестности”, написанной мной сразу же после отъезда Шагала из Москвы. Эту статью я послал Шагалу в рукописи. Она была опубликована в Болгарии, Румынии, а несколько позже – в Эстонии, в журнале “Kunst” (“Искусство”), 1974, № 46/2, с. 25–30» (см. Каменский 2005. С. 279). 581 См. II, примеч. 132. 582 См. примеч. 509, 573. 583 Опера К. В. Глюка «Орфей и Эвридика» (1762). 584 См. примеч. 571, 581. 585 Выставка «Марк Шагал: живопись, гуаши, скульптура» проходила в Нью-Йорке в галерее Пьера Матисса в ноябре – декабре 1973 г. 586 Балет «Жар-Птица» И.Ф. Стравинского с декорациями и костюмами Шагала поставлен Дж. Баланчиным в Нью-Йорке в Городском центре музыки и драмы в ноябре 1949 г. и длительное время сохранялся в репертуаре. 587 См. II, 30. 588 Речь идет о статье А.А. Каменского «Встреча с Марком Шагалом», опубликованной в еженедельнике «Романиа литерара» (1973. 29 ноября. С. 28–29). 589 Статья Ю.А. Молока «Marc Chagall á Moscou» опубликована в московском журнале «Oeuvres et opinions» (1973. № 180. Р. 169–179). 590 Проект не был осуществлен. 591 См. примеч. 589. 592 См. примеч. 565. 593 Имеется в виду статья Б. Галанова «После свидания с Москвой» (Литературная газета (М.). 1974. № 29. 17 июля). 594 Б.Е. Галанов посетил Шагала в Сен-Поль-де-Вансе в мае 1974 г. (см. VII, 44). 595 Имеется в виду баллада А. Лесина «Иоанн Креститель и протопоп Аввакум» (1928). 596 См. примеч. 565. 597 Визит Шагала в ГРМ состоялся 12 июня 1973 г. (см. VII, 24). 598 Каменский А. Вернисажи. М., 1974. 599 См. примеч. 580. 600 Cм. примеч. 598. 601 Пояснение А.А. Каменского: «В одном из предыдущих писем я послал Шагалу фотографию картины, которая висела в Государственном Русском музее (Ленинград) на выставке русского портрета с подписью “М. Шагал. Портрет мальчика” (частное собрание, масло, фанера, 58 х 62,5)» (Каменский 2005. С. 280, примеч. 16). 602 О мнении Шагала А.А. Каменский уведомил сотрудников Русского музея (ОР ГРМ. Ф. 214. Ед. хр.11). 603 André Pieyre de Mandiargues. Chagall. Maeght Editeur. Paris, 1974. 604 См. примеч. 598. 605 Речь идет о статье А.А. Каменского к 90-летию Шагала: Художественный календарь. Сто памятных дат. 1977. М., 1976. С. 150–153. 606 См. примеч. 603. 607 Имеется в виду первое (немецкое) издание монографии Франца Мейера (см. II, примеч. 125). 608 См. примеч. 571, 581. 609 См. примеч. 509. 610 Е.З. Шуб. 611 Шагал имеет в виду дочь Лизы Фейгу-Иту (по мужу Корниенко), у которой были сыновья Игорь и Юрий. 612 Ныне эти эскизы Д.А. Якерсона находятся в собрании ВОКМ. 613 Выставка проходила в Берлине, Гравюрный кабинет Государственных музеев (1 декабря 1976 – 30 января 1977 г.); ранее (11 сентября – 14 ноября 1976 г.) экспонировалась в Дрездене, музей Альбертинум. 614 По-видимому, речь идет о Вернере Шмидте, который в 1959–1989 гг. был директором Гравюрного кабинета в Дрездене. 615 Выставка «Марк Шагал: Недавние картины 1967–1977» экспонировалась в Лувре, Павильон Флоры (17 октября 1977 – 2 января 1978 г.). 616 В конце 1976 г. Шагал награжден Большим Крестом ордена Почетного Легиона. Награда была вручена художнику 1 января 1977 г. в Елисейском дворце президентом Франции Валери Жискар д’Эстеном. 617 В 1976 г. передвижная выставка живописных работ Шагала экспонировалась в Национальном музее современного искусства в Токио, в городском музее Киото, в префектурных музеях Аити и Кумамото. 618 См. примеч. 605. 619 См. примеч. 615. 620 Cм. III, 266. 621 О. С. Бернштейн. 622 По-видимому, это журнал «Советиш геймланд». 623 Имеется в виду персональная выставка Н.И. Альтмана в ГЦТМ (1978). 624 К 90-летию Шагала А.А. Каменский послал художнику стихотворное поздравление (опубл.: Шагал и Петербург 2013. С. 186–187 / публ. М.А. Каменского):
Марку Шагалу
Палитра у жизни щедра и богата.
Есть краски восхода, есть тени заката,
Есть сумрак страданья, есть яростный цвет
Безумных стремлений к тому, чего нет.
У этой палитры с Шагалом родство,
Но к ней он добавил свое волшебство.
Как только коснется он кистью холста —
Пред ним разверзаются божьи уста.
И слышит он музыку разных времен,
И видит стоцветье далеких сторон,
Но помнит слова материнской любви
И скромные краски российской земли.
Из Витебска он к небосводу поднялся,
Весь Мир на ладони его оказался.
Он радугой цвета восславил наш век
Огонь его чувства и мысли разбег.
Не только уродливым век был двадцатый,
Он создал Шекспиров своих и Моцартов,
А свой небосвод он Шагалу отдал,
Чтобы витебский мастер его расписал,
Чтоб в странной игре торжествующих красок,
Средь ликов, гротесков, таинственных масок
Сверкал бы, как солнце, шагаловский тон —
Он светом великой души озарен.
И в тихом сиянии этого света
Милее нам кажется наша планета.
Прекрасен сердечный шагаловский свет,
Он вечно горит, и конца ему нет!
Последние комментарии
4 часов 59 минут назад
10 часов 43 минут назад
11 часов 50 минут назад
12 часов 48 минут назад
13 часов 2 минут назад
22 часов 13 минут назад