Тьер Луи-Адольф История Французской революции. Том 3
Директория

Глава XLIV
Положение армий на Севере, на Рейне и в Пиренеях – Первые предательские замыслы Пишегрю – Интриги и планы роялистов – Возобновление военных действий – Истребление роялистской армии Гошем – Мир с Испанией – Французская армия переходит РейнПоложение армий мало изменилось, и, хотя прошла уже половина летнего сезона, не произошло ни одного сколько-нибудь важного события. Моро принял руководство над Северной армией, стоявшей в Голландии; Журдан – над армией Самбры-и-Мааса, стоявшей на Рейне около Кельна, Пишегрю – над Рейнской армией, расположенной от Майнца до Страсбурга. Войска терпели нужду, постоянно возраставшую вследствие ослабления правительства и страшного падения бумажных денег. Журдану не из чего было построить мост через Рейн, не было лошадей, чтобы перевести артиллерию и обозы. Клебер, стоявший перед Майнцем, не имел половины осадного материала, требующегося для покорения этого города. Солдаты толпами уходили домой. Большинство из них считали, что достаточно сделали для Республики, победоносно донеся ее знамена до Рейна. Правительство не знало, как прокормить их, не умело занять их и разжечь рвение крупными операциями. Силой возвращать тех, кто покидал свое знамя, не смели. Всем было известно, что молодежь первого ополчения, своевольно удалившись, не подвергается розыску и наказаниям; многие даже открыто проживали в Париже и пользовались расположением комитетов, которым часто служили в качестве волонтеров. Поэтому дезертирство приняло громадные размеры, армии лишились четверти свои сил, и везде ощущалось то общее послабление, которое убивает преданность солдата службе, поселяет неудовольствие между офицерами и колеблет их верность. Депутат Обри, заведовавший в Комитете общественного спасения личным составом армии, устроил настоящий переворот против офицеров-патриотов и в пользу тех, кто не служил в двух памятных кампаниях 1793 и 1794 годов. Если бы австрийцы не были до такой степени деморализованы, то поняли бы, что настала удобная минута отомстить за свои неудачи. Но вместо этого они медленно приходили в себя за Рейном и не делали ничего, чтобы помешать единственным двум операциям, предпринятым французами в этом году, – осаде Люксембурга и Майнца. Эти крепости оставались у коалиции на левом берегу. Взятие Люксембурга должно было довершить завоевание Нидерландов, а взятие Майнца лишило бы имперские войска моста, во всякое время дозволявшего беспрепятственно переходить Рейн. Люксембург после блокады, продолжавшейся всю зиму и весну, сдался от голода 24 июня (6 мессидора). Майнц мог пасть только от осады, но осадного материала не хватало. Следовало обложить город на обоих берегах, а для этого Журдану или Пишегрю нужно было перейти Рейн. Эта операция и так была трудна перед лицом австрийцев и совершенно невозможна без лодок для составления моста. В Альпах положение армии было еще менее удовлетворительным. На Рейне по крайней мере был взят Люксембург, приобретение весьма важное, тогда как в Альпах французы даже отошли от границы Италии. Келлерман командовал обеими альпийскими армиями. Они терпели такую же нужду и ослабели еще и потому, что у них несколько раз отнимали отдельные отряды. Правительство вздумало устроить против Рима нелепейшую провокацию с целью отмстить за убийство Басвиля[1]. Посадив 10 тысяч человек на корабли тулонской эскадры, приведенной в полную исправность заботами прежнего Комитета общественного спасения, министры думали послать их к устью Тибра с тем, чтобы они сошли там на берег, двинулись в Рим, взяли с папской столицы контрибуцию и тотчас вернулись на свои суда. К счастью, морская битва с лордом Хотэмом, из которой обе эскадры вышли равно поврежденными, помешала исполнению этого плана. Отряд, взятый у Итальянской армии, был ей возвращен, но требовалось в то же время отправить другой в Тулон для усмирения сторонников террора и еще один – в Лион, чтобы отнять оружие у местной гвардии, которая позволяла резать патриотов. Таким образом, обе армии на Альпах лишились части своих сил, тогда как пьемонтцы и австрийцы, напротив, получили подкрепление – 10 тысяч тирольцев. Генерал Де Винс, пользуясь минутой, когда Келлерман отрядил в Тулон одну из своих дивизий, напал на его правый фланг близ Генуи. Келлерман, будучи не в силах состязаться с таким сильным противником, вынужден был отступить. Его центр всё еще занимал Коль-ди-Тенда, но генерал уже не мог растягивать правое крыло до Генуи и занял позицию за линией Боргетто. Можно было опасаться прекращения сношений с Генуей, как только неприятель занял бы западное прибрежье залива, именуемое Ривьера-ди-Поненте.
В Испании не было сделано решительного ничего. Армия Восточных Пиренеев всё еще занимала Каталонию до берегов реки Флувии. Она дала несколько бесполезных сражений и все-таки не смогла занять позиции за рекой. В Западных Пиренеях Монсей освежил свою армию, снедаемую болезнями, собираясь возвратиться в Гипускоа и двинуться в Наварру. Хотя французы ничего не потеряли, кроме территории в Италии, и даже заняли одну из первейших крепостей в Европе, однако управляли ими вяло и на них сильно сказывался общий беспорядок. Следовательно, это была удобная минута не для того, чтобы победить французов, потому что опасность мгновенно пробудила бы в них всю прежнюю энергию, а чтобы поколебать их преданность революции. Мы видели выше, как роялисты и иностранные кабинеты сговаривались о разных предприятиях против восставших провинций; как Пюизе и Англия занимались планом высадки на берега Бретани; как агенты роялизма в Испании и в Париже предлагали организовать экспедицию в Вандею. Даже эмиграция думала о том, чтобы вторгнуться во Францию с востока, пока Испания и Англия будут приводить в исполнение свои планы на западе. Принц Конце расположил генеральную квартиру на Рейне, где командовал отрядом из 2500 человек пехоты и 15 тысяч кавалерии. Предполагалось приказать всем эмигрантам, скитавшимся по континенту, примкнуть к нему; таким образом, отряд увеличился бы бесполезными до сих пор эмигрантами, и Конце сумел бы сдерживать республиканские армии, постарался бы проникнуть во Франш-Кон-те и даже пойти на Париж, между тем как граф д’Артуа с западными повстанцами приблизился бы к столице с другой стороны. Если бы это не удалось, то всё же оставалась надежда на такую же капитуляцию, на какую согласились вандейцы, и на тех же условиях. Эмигранты, участвовавшие в этой экспедиции, могли бы сказать: «Мы – французы и если прибегли к междоусобной войне, то во Франции же, не мешая в наши ряды иностранцев». Сторонники этого плана даже говорили, что это – единственное средство для эмигрантов вернуться во Францию: либо через контрреволюцию, либо через амнистию. Англия, взяв отряд Конде на жалованье и весьма желая диверсии на востоке Франции, пока она будет действовать на западе, требовала, чтобы принц сделал попытку, всё равно какую. Англичане обещали ему через своего посланника в Швейцарии Уикхема помощь деньгами и все необходимые для формирования новых полков средства. Принц, храбрый до самозабвения, лучшего не мог и пожелать. Он был неспособен руководить сражением, но всегда готов с головой окунуться в сколько угодно рискованную авантюру. Ему подсказали идею соблазнить Пишегрю, командующего Рейнской армией. Грозный Комитет общественного спасения более не пугал генералов, не преследовал их вечно бодрствующим взором и вечно занесенным над их головами мечом. Республика платила своим офицерам жалованье ассигнациями, так что они едва имели возможность удовлетворять самые насущные нужды. Беспорядки, возмущавшие внутреннее спокойствие в стране, угрожали самому существованию Республики и пугали честолюбцев, которые боялись лишиться своих высоких наград. Про Пишегрю было известно, что он охотник до женщин известного рода и до всяких кутежей; что получаемых им ежемесячно 4 тысяч франков ассигнациями, едва равнявшихся 200 франкам на границе, не могло хватить на расходы и что ему надоело служить столь шаткому правительству. Кроме того, припоминали, что во время событий жерминаля он, будучи в Париже, энергично помогал усмирять патриотов. Все эти обстоятельства подали повод к предположению, что генерала Пишегрю можно соблазнить выгодными предложениями. Итак, Конде обратился к одному из своих сторонников, Монгальяру, а этот последний – к некоему книгопродавцу в Невшателе, господину Фош-Борелю, который, будучи гражданином мудрой и благоденствующей республики [Швейцарии], согласился служить темной интриге совершенно чуждой ему династии. Фош-Борель отправился в Альткирхен, где находилась главная квартира генерала Пишегрю. Там он присутствовал на нескольких смотрах и так упорно всюду следовал за генералом, что обратил на себя его внимание. Наконец Фош-Борель решился подойти к Пишегрю в коридоре и сначала заговорил о какой-то рукописи, которую будто бы желал посвятить ему. Пишегрю отчасти сам вызвал книгопродавца на откровенность, и тогда тот объявил ему, в чем дело. Генерал потребовал письма от принца Конце, чтобы точно знать, с кем имеет дело. Фош-Борель вернулся к Монгальяру, а Монгальяр опять обратился к принцу. Ему пришлось просидеть целую ночь, чтобы заставить принца написать письмо в восемь строк. То Конце не хотел называть Пишегрю генералом, опасаясь, чтобы это не равнялось признанию Республики, то не хотел скреплять конверта своим гербом. Наконец, уже с письмом, Фош-Борель вернулся к Пишегрю, который, увидев почерк принца, тотчас же приступил к переговорам. Ему предложили чин маршала, звание губернатора Эльзаса, миллион деньгами, замок и парк Шамбор в полную собственность, а кроме того, пенсию в 200 тысяч франков, которая перейдет после его смерти к жене и детям. Для армии Пишегрю предлагали сохранение всем офицерам их чинов, пенсии для комендантов крепостей, которые сдадутся; наконец, освобождение от налогов лет на пятнадцать для городов, которые добровольно раскроют свои ворота. Взамен требовали, чтобы Пишегрю поднял белое знамя, сдал крепость Гюнинген и пошел с принцем Конде на Париж. Генерал был слишком хитер, чтобы согласиться на подобные условия. Он не хотел сдавать Гюнинген и поднимать белое знамя: это значило бы скомпрометировать себя и слишком связать. Он требовал, чтобы ему дозволили перейти Рейн с отборным отрядом, и там уже обещал поднять белое знамя и взять с собой принца, чтобы потом вместе идти на Париж. План ничего не выигрывал от этого изменения, потому что так же трудно было уговорить армию по ту сторону, как и по эту. Но в этом случае он, Пишегрю, не рисковал попасться при сдаче крепости и не найти предлога, который мог бы объяснить измену. Перейдя Рейн, он, напротив, мог еще не довершить измены, если бы не поладил с принцем и с австрийцами; или, если бы измену открыли слишком скоро, мог воспользоваться переходом, чтобы выполнить операции, предписанные правительством, а потом сказать, что для того только и внял предложениям неприятеля, чтобы воспользоваться ими против него же. В том и другом случае Пишегрю оставлял за собой возможность предать либо Республику, либо Конде, с которым вел переговоры. Фош-Борель возвратился к тем, кто послал его на переговоры, но его отправили обратно с предписанием настаивать на тех же условиях. Он несколько раз ездил взад и вперед и всё никак не мог уладить спорного пункта, который только в том и заключался, что принц непременно требовал сдачи Гюнингена, а Пишегрю – перехода через Рейн. Ни тот ни другой не хотели предоставлять противнику такую большую выгоду в самом начале игры. Главное, что мешало согласиться принцу, – это необходимость обратиться к австрийцам за разрешением перейти через реку; ему хотелось действовать независимо от них, чтобы честь контрреволюции принадлежала ему одному. Однако ему всё же пришлось снестись об этом деле с австрийским государственным советом, а Пишегрю в это время, по причине неусыпного надзора комиссаров, вынужден был отказаться от замышляемой измены. Пока всё это происходило в армии на границе, агенты, находившиеся во Франции, – Леметр, Бротье, Депоммель, Ла Виллеруа, Дюверн де Прель и прочие – продолжали плести интриги. Юный принц, сын Людовика XVI, к тому времени умер от нарыва в колене, следствия слабого здоровья. Роялистские агенты утверждали, что он был отравлен, и поспешили отыскать сочинения о церемониале помазания и послать их в Верону. Регент превратился в короля и назывался теперь Людовиком XVIII.
Замирение непокорных областей было только кажущимся. Жители, ощутив преимущества спокойствия и безопасности, были весьма склонны к окончательному миру, но вожди и вояки, закалившиеся в войне, ждали лишь удобного случая, чтобы снова взяться за оружие. Шаретт, имея в своем распоряжении местные отряды, набранные главным образом из людей, ощущавших решительное влечение к военному делу, только о том и думал, делая вид, будто следит за спокойствием в крае. Он уже не выходил из своего лагеря в Бельвиле и беспрестанно принимал там роялистских агентов. Парижская агентура доставила ему послание из Вероны – ответ на письмо, в котором он извинялся за свое участие в замирении края. Претендент на престол уверял Шаретта, что извинений не требуется, а также оповещал о своей неизменной милости и доверии, утверждал Шаретта в звании наместника и извещал о скорой помощи из Испании. Парижские агенты, еще усиливая выражения принца, льстили честолюбию Шаретта обширной перспективой: они обещали ему начальство над всеми роялистскими областями и значительную экспедицию, долженствующую выйти из испанских портов и привезти подкрепление и французских принцев. Что касается экспедиции, готовившейся в Англии, они делали вид, что не верят в нее. Англичане, говорили агенты, всегда много обещали и всегда обманывали; впрочем, надо пользоваться их средствами, если это возможно, только совсем с другой целью: надо высадить в Вандее подкрепление, назначенное Бретани, и подчинить последнюю провинцию Шаретту, который один пользуется доверием нынешнего короля. Всё это должно было одновременно льстить и честолюбию Шаретта, и его ненависти к Стоффле, и ревности, с которой он смотрел на недавно возросшее влияние Пюизе, и, наконец, неприязни Шаретта к Англии. Что касается Стоффле, он не менее Шаретта желал снова взяться за оружие. Его родина более других областей ценила выгоды мира и выказывала большее отвращение к войне, но сам он чувствовал себя глубоко оскорбленным предпочтением, оказываемым Шаретту. Он также заслужил звание наместника, пожалованное его сопернику, и был сильно уязвлен тем, что называл вопиющей несправедливостью. Бретань была по-прежнему вполне готова к новому восстанию. Шуанские вожди, как и вандейские, получили разрешение образовать из своих лучших солдат милицию, призванную наблюдать за спокойствием края. Каждый из этих вождей составил себе отряд стрелков из самых отважных шуанов и одел их в мундиры: зеленый камзол, зеленые штаны и красный жилет. Корматен, втянувшись в свою роль, важничал до смешного. Он устроил в Ла Превале свою «главную квартиру», как он выражался; публично посылал шуанам приказы, помеченные этим адресом; переходил с места на место, чтобы организовать отрады стрелков, брал на себя право наказывать за нарушение мира, если таковое совершалось; словом, играл роль настоящего губернатора Бретани. Он часто приезжал в Ренн в своем шуанском мундире, который вошел в моду; там он принимал знаки высокого уважения жителей и ухаживания женщин, которые воображали, что видят важное лицо, главу роялистской партии. Втайне же Корматен продолжал готовить шуанов к войне и переписываться с роялистскими агентами. Роль его перед Пюизе была затруднительной: он его ослушался, обманул его доверие, вследствие чего ему не оставалось ничего, как только вполне отдаться парижским агентам, которые сулили ему высокий пост в Бретани и сообщали свои планы относительно Испании: эта держава обещала 1500 франков в месяц с условием действовать независимо от Англии. Ничто так не могло прийтись Корматену по душе, как план, дающий ему возможность разорвать сношения с Англией и Пюизе. Два других офицера, посланные из Лондона в Бретань, – де Ла Вьёвиль и д’Андинье, – тоже примкнули к планам парижской агентуры, придя к убеждению, что Англия вновь намерена обмануть роялистов, как недавно в Тулоне; что она только хочет воспользоваться их содействием, чтоб прибрать к рукам французский порт и заставить французов драться против своих, но не намерена предоставлять существенной помощи, действительно могущей поставить партию принцев на ноги и обеспечить им победу. В то время как часть бретонских вождей вполне отказались от этих взглядов, другие – особенно в Морбигане, Финистере и Кот-дю-Нор, – давно связанные с Пюизе дружбой, привыкшие служить под его началом, окруженные его заботами и чуждые парижских интриг, называли Корматена предателем и писали в Лондон, что готовы опять взяться за оружие. Они закупали военные припасы и материю, пробирались к республиканским солдатам и уговаривали их дезертировать. И это им вполне удавалось, потому что, располагая всем краем, они обладали большими запасами, тогда как республиканским солдатам, дурно кормленным и получающим только ассигнации, не оставалось ничего, как бросать свои знамена, чтобы не умереть с голоду. К тому же правительство имело неосторожность оставить много бретонцев в полках, выступавших против роялистов, и эти бретонцы весьма естественно становились на сторону своих земляков. Гош, всегда бдительный, внимательно наблюдал за состоянием края. Он видел, что патриоты под предлогом закона о разоружении преследуют население; что роялисты задирают носы и хвалятся; что зажиточные крестьяне неохотно продают хлеб и другие продукты; что дороги небезопасны, а дилижансы принуждены передвигаться с конвоем; что у шуанов происходят тайные сходки и беспрестанные сношения с островом Джерси. Он написал комитету и депутатам, что замирение было не чем иным, как хитрой уловкой; что Республика обманута и, судя по всему, можно ожидать скорого возобновления военных действий. Он потратил мирное время на то, чтобы образовать летучие колонны и разместить их по всему краю для обеспечения спокойствия с приказом прекращать первое же подозрительное сборище. Но число войск Гоша было недостаточно для края таких обширных размеров и такой протяженности берегов. Каждую минуту признаки движения в какой-нибудь местности или появление английских судов у берега требовали присутствия этих колонн то тут, то там, и солдат изнуряли беспрестанные переходы. Для того чтобы управиться с подобной службой, от армии и ее славного генерала требовались стойкость и терпение, во сто раз превосходящие ту храбрость, которая пренебрегает смертью в бою. К несчастью, солдаты вознаграждали себя за эти лишения и труды всякими беспутствами; Гош был в отчаянии, но ему так же трудно было присматривать за ними, как и за неприятелем. Наконец ему представился случай поймать Корматена на деле. Были перехвачены его депеши к разным шуанским предводителям, и это послужило уликой его тайных происков. Узнав, что он собирается в Ренн на ярмарку с толпой переодетых шуанов, и опасаясь покушения на арсенал, Гош велел арестовать Корматена и этим положил конец его деятельности. Вожди тотчас же подняли шум и пожаловались на такое нарушение перемирия, но Гош в ответ напечатал письма Корматена и отправил его с сообщниками в тюрьму в Шербур. В то же время он продолжал держать все свои колонны в полной готовности. Шевалье де Зильц только шевельнулся в Морбигане, как на него уже напал генерал Жоне, уничтожил триста человек и разбил его. Сам де Зильц также погиб. В Кот-дю-Нор поднялся Буа-Арди: его отряд был разогнан, он взят в плен и убит. Солдаты, взбешенные изменой этого молодого вождя, самого могущественного во всем крае, отрубили ему голову и долго носили ее на штыке. Гош, возмущенный таким неблагородным поступком, написал своим солдатам выразительное письмо и велел разыскать виновных, чтобы наказать их. Такое быстрое истребление двух вождей, решившихся вновь восстать, заставило задуматься остальных. Они пребывали в нерешительности, с нетерпением ожидая прибытия столь давно обещанной экспедиции. Девизом их оставались слова: «Да здравствуют король, Англия и Боншан!»
В Лондоне тем временем происходили большие приготовления. Пюизе отлично поладил с английскими министрами. Они уже не давали ему того, что обещали сначала, поскольку замирение ослабило их уверенность в успехе, однако предоставляли полки эмигрантов и значительную артиллерию для десанта; кроме того, они обещали поддержать Пюизе всеми средствами, если только появится хоть тень успеха. Интерес Англии заставлял верить в эти обещания: изгнанная с континента завоеванием Голландии, она находила выгодным перенести поле своих действий в самую Францию и послать в бой французов же вместо своих войск. Вот какие средства получил Пюизе. С начала настоящей кампании эмигрантские полки поступили на английскую службу. Те, из которых состоял отряд Конде, должны были, как мы выше видели, остаться на Рейне, другие – отплыть из устья Эльбы прямо в Бретань. Кроме этих старых полков, которые носили черную кокарду и весьма скучали на бесплодной службе, Англия разрешила сформировать еще девять полков, которые получали бы жалованье от англичан, но носили белую кокарду и имели более французский вид. Трудность заключалась в том, чтобы набрать эти полки, потому что эмигранты, в первом порыве согласившиеся служить в качестве солдат, теперь отказывались. Думали было набрать на континенте французских дезертиров или пленных. Но дезертиров не оказалось, потому что победитель не дезертирует к побежденным. Оставались одни только военнопленные. Граф д’Эрвильи отыскал в Лондоне выходцев из Тулона, составивших полк, и причислил их к своему полку, который довел таким образом до 11–12 тысяч, то есть больше чем до двух третей полного комплекта. Граф Гектор составил свои полки из эмигрантов-моряков и набрал шестьсот человек. Граф дю Дрене нашел бретонцев, забранных против воли в первую реквизицию и взятых в плен во время войны, – их оказалось около пятисот. Вот и все французы, каких удалось набрать в эти новые полки с белыми кокардами. В Лондоне находился еще подполковник Ротальё, который командовал четырьмястами канонирами из Тулона. Из них составили полк артиллерии, а из нескольких французских инженеров – инженерный корпус. Что касается эмигрантов, которые хотели служить не иначе как в своих прежних чинах и не находили себе солдат, решили составить из них костяк будущих полков и постепенно наполнять таковые инсургентами в Бретани. Так как в людях там недостатка не было, а сведущие офицеры были большой редкостью, то эмигранты должны были найти там себе настоящее дело. Их послали на остров Джерси, чтобы организовать и держать в готовности к высадке. Пюизе, набирая войска, доставал также и деньги. Англия обещала металлических денег в порядочном количестве, но он хотел добыть именно ассигнаций и выхлопотал у принцев разрешение напечатать на три миллиарда фальшивых. Он также хотел иметь рядом с собой какого-нибудь епископа, который исполнял бы роль папского легата в католических странах. Пюизе помнил, как один интриган, самовластно присвоив титул епископа Агрского, пользовался чрезвычайным влиянием на поселян в первую вандейскую войну, поэтому он взял с собою епископа из Доля, получившего от Рима полномочия. Затем Пюизе добыл у графа д’Артуа нужные полномочия, чтобы иметь право на руководство экспедицией и назначение офицеров всех чинов до личного прибытия принца. Английское правительство, со своей стороны, поручило ему начальство над экспедицией, но, опасаясь его чрезмерной отваги и страстного желания скорее ступить на французскую землю, назначило графа д’Эрвильи начальником эмигрантских полков, пока не совершится высадка. Покончив со всеми приготовлениями, посадили на корабли эскадры полки д’Эрвильи, Гектора, дю Дрене, тулонских артиллеристов под предводительством Ротальё и старый эмигрантский полк Ла Шатра, известный как Royal-Emigrant, от которого осталось только четыреста человек. Эта горстка храбрецов должна была служить резервом для решительных дел. Эскадра была снабжена съестными припасами для шести тысяч человек на три месяца; к этому прибавили сто лошадей, верховых и упряжных, 17 тысяч полных пехотных и 4 тысячи кавалеристских мундиров, 27 тысяч ружей, 10 полевых орудий и 600 бочек пороха. Пюизе получил 10 тысяч золотом и аккредитивы, чтобы дополнить фальшивые ассигнации более верными финансовыми средствами. Эскадра состояла из трех линейных кораблей в 74 пушки, двух фрегатов в 34, четырех кораблей в 80 и 36 пушек, нескольких канонирских лодок и транспортных судов. Ею командовал коммодор Уоррен – один из лучших и храбрейших офицеров английского флота. Это была первая половина обещанного. Кроме того, условились, что тотчас по выходе в море этой части эскадры другая отправится в Джерси за эмигрантами, будет некоторое время крейсировать перед Сен-Мало, где у Пюизе были связи с несколькими изменниками, обещавшими сдать ему этот порт, и затем, если Сен-Мало сдан не будет, догонит Пюизе. В то же время несколько транспортных судов должны были отправиться к устью за эмигрантскими полками с черной кокардой, чтобы и их привезти к Пюизе. Предполагалось, что все эти отряды придут на место почти одновременно с ним. Если высадка совершится без затруднений; если часть Бретани поспешит к Пюизе навстречу; если ему удастся занять прочное положение на французских берегах, получив Сен-Мало, Лорьян, Пор-Луи или другой порт, – тогда новая эскадра, уже с английской армией, с новыми запасами и с самим графом д’Артуа, немедленно выйдет в море. Лорд Мойра уже уехал за принцем. В одном только можно было упрекнуть эти распоряжения: в том, что экспедиция была раздроблена, а еще в том, что французский принц не отправился во главе первого отряда.
Экспедиция вышла в море в середине июня. Пюизе взял с собою епископа Дольского, множество духовных лиц и сорок дворян, носивших славные имена и служивших простыми волонтерами. Никто не знал, где будет происходить высадка, кроме Пюизе, Уоррена и господ Тентеньяка и д’Аллегре, которых Пюизе отправил вперед известить о своем прибытии. После долгих совещаний югу Бретани было отдано предпочтение перед севером, и решили выбрать бухту Киберон, одну из лучших и самых безопасных в Европе, притом хорошо известную англичанам, потому что они долго стояли там на якоре. Пока экспедиция отправлялась, Сидней Смит и лорд Корнуоллис угрожали всему берегу, чтобы обмануть республиканцев насчет настоящего пункта высадки, а лорд Бридпорт с эскадрой, ставшей у острова Уэссан, охранял эскадру Уоррена. Французский флот в Атлантике перестал быть ведущим после несчастной прошлогодней крейсировки, во время которой брестский флот сильно пострадал от непогоды. Тем не менее Вилл аре-Жуайёзу отдали приказ выйти из Бретани с девятью линейными кораблями, стоявшими там на якоре, чтобы соединиться с отрядом, блокированным в Бель-Иле. Он исполнил это, а потом гонялся за несколькими английскими судами и уже возвращался в Брест, когда внезапный шквал разбросал его эскадру. Адмирал потерял много времени, собирая ее, и в этот промежуток встретил экспедицию, направлявшуюся к французским берегам. Он был сильнее и мог бы захватить ее всю; но коммодор Уоррен, заметив опасность, поднял все свои паруса, конвой расставил несколько поодаль, так, чтобы он имел вид второго отряда, и послал два катера разыскивать большую эскадру лорда Бридпорта. Вилларе, не надеясь сразиться с выгодой для себя, опять направился, согласно инструкциям, к Бресту. Но тут лорд Бридпорт подошел к французским кораблям и немедленно напал на них. Всё это происходило 23 июня (5 мессидора). Вилларе решил строиться по «Александру», а так как это был плохой ходок, то флот потерял бездну времени в маневрах. Вся линия пришла в смятение. Адмирал потерял три корабля – «Александра», «Грозного» и «Тигра» – и не мог даже добраться до Бреста, а вынужден был остановиться в Лорьяне. Экспедиция, в самом начале отличившись этой победой, направилась к бухте Киберон. Часть эскадры подошла к Бель-Илю и от имени французского короля пригласила гарнизон сдаться, но в ответ получила от коменданта, генерала Букре, только пушечные выстрелы и бросила якорь в бухте 25 июня (7 мессидора). Пюизе получил сведения, что на берегу мало войска, и хотел высадиться немедленно. Граф д’Эрвильи, человек храбрый, умевший поддержать в полку отличную дисциплину, но неспособный руководить целой военной операцией, а главное – крайне щепетильный относительно долга и начальнической власти, объявил, что командует войсками именно он, а потому ответственен перед английским правительством и не станет рисковать войсками, пуская их на неприятельский и незнакомый берег, предварительно не сделав рекогносцировки. Д’Эрвильи потерял целый день, водя подзорной трубой по всему берегу и, хотя не видел ни единого солдата, однако не позволил войскам высадиться. Он согласился, только когда Пюизе и Уоррен решили, что высадка необходима, и 27 июня (9 мессидора) безумные, ослепленные французы с шумной радостью ступили на родную землю, которой принесли междоусобную войну и на которой их ожидала столь печальная участь. Бухта, в которой стала эскадра, образуется с одной стороны берегом Бретани, с другой – полуостровом, имеющим около мили в длину и около двух в ширину. Это и есть знаменитый Киберонский полуостров. Он соединен с материком узкой песчаной полосой, или перешейком, называемым Ла Фалез. Форт Пентьевр, находящийся между полуостровом и этой полосой, защищает доступ к нему со стороны суши. В форте стоял гарнизон из семисот человек. Бухта, образуемая полуостровом и берегом, представляла судам один из безопаснейших и уютнейших рейдов во всей Европе. Экспедиция высадилась в глубине бухты, близ деревни Карнак. В это же самое время несколько бретонских вождей – дю Буа-Вертело, д’Аллегре, Жорж Кадудаль и Мерсье, – предуведомленных Тентеньяком, пришли встречать ее со своими сторонниками, разогнали небольшие береговые отряды, оттеснили их от моря и сами заняли берег. С ними были 4–5 тысяч человек, закаленных, но дурно вооруженных, дурно одетых, не соблюдавших строя и вообще походивших больше на разбойников, чем на солдат. К шуанам присоединились окрестные поселяне с криками «Да здравствует король!». Они тащили яйца, кур и всякого рода провизию армии-избавительнице, явившейся для того, чтобы возвратить им веру и государя. Пюизе, обрадованный таким началом, уже рассчитывал, что поднимется вся Бретань, но прибывшие с ним эмигранты испытывали ощущения другого рода. Прожив всё это время при дворах или прослужив в лучших европейских армиях, они с отвращением и недоверием смотрели на солдат, которые должны были поступить под их начало. Уже слышались насмешки и сетования. Когда с кораблей принесли ящики с ружьями и платьем, шуаны накинулись на них. Сержанты полка д’Эрвильи хотели восстановить порядок, и последовала драка, которая могла бы иметь пагубные последствия, если бы не вмешательство самого Пюизе. Эти обстоятельства не особенно послужили к водворению доверия между инсургентами и регулярными войсками, к которым шуаны уже потому были расположены относиться с подозрением, что они прибыли из Англии и состояли на службе этой державы. Однако подходившим жителям, которых в два дня набралось 10 тысяч человек, всё же раздали оружие и выдали красные мундиры, а затем Пюизе решил назначить им начальников. У него было мало офицеров, потому что прибывших сорока волонтеров явно не хватало. Поэтому он хотел взять нескольких офицеров из полков, где их было много, отдать им шуанов, затем быстро идти на Ванн и Ренн, не дать республиканцам опомниться, поднять весь край и занять позицию за важной Майеннской линией. Уже там, располагая местностью на протяжении сорока лье, Пюизе думал организовать регулярные войска. Д’Эрвильи, храбрый, но щепетильный человек, презиравший этих дикарей, не дал Пюизе офицеров. Вместо этого он хотел отобрать из них людей получше для укомплектования полков, а затем двинуться вперед по всем правилам, делая рекогносцировки и выбирая позиции. Не таков был план самого Пюизе. Он попробовал сослаться на свою власть, но Д’Эрвильи не признал ее и объявил, что начальник над регулярными войсками по-прежнему он, что он отвечает за них перед английским правительством и не должен рисковать ими. Пюизе стал разъяснять д’Эрвильи, что этот пост был дан последнему только на время плавания, а по вступлении на бретонский берег он, Пюизе, становится начальником и полновластным хозяином положения. Он тотчас же отправил в Лондон курьера за более точным толкованием полномочий, а пока умолял д’Эрвильи не портить дела пагубными раздорами. Д’Эрвильи ощущал сильнейшее отвращение ко всем этим оборванным инсургентам. Впрочем, все эмигранты находили, подобно ему, что им не пристало вести дела на манер шуанов; что Пюизе компрометирует их, приведя в Бретань; что высадиться надо было в Вандее, где они нашли бы доблестного Шаретта и, вероятно, солдат совсем другого вида. Несколько дней прошло в этих препирательствах. Наконец шуанов разделили на три корпуса и расположили на передовых позициях, чтобы обеспечить дороги из Лорьяна в Энбон и Оре. Тентеньяк с отрядом из 2500 шуанов стал левее, в Ландеване; дю Буа-Бертело – правее, у Оре, с почти равными силами. Граф Вобан, один из сорока волонтеров, приехавших с Пюизе, занимал между ними первое место по своей репутации и достоинствам. Он должен был расположиться на центральной позиции в Мендоне с 4 тысячами шуанов, так чтобы иметь возможность подать помощь Тентеньяку и дю Буа-Бертело. Ему была поручена вся линия, которую защищали 9-10 тысяч человек и которая выдвигалась вглубь страны на четыре или пять лье. Шуаны сейчас же спросили, отчего с ними не поставили и регулярных войск. Они на эти войска рассчитывали гораздо более, чем на самих себя; они пришли с тем, чтобы охранять их и поддерживать, следовать за ними, но полагали, что регулярные войска везде будут впереди и первыми будут встречать грозный натиск республиканцев. Вобан потребовал только 400 солдат регулярных войск, отчасти чтобы выдержать первую атаку в случае надобности, а отчасти чтобы успокоить шуанов, подать им пример и доказать, что их не хотят подвергать опасности одних. Д’Эрвильи сначала отказался, потом заставил ждать и наконец прислал требуемый отряд. Прошло уже пять дней после высадки, а продвинулись всего на каких-нибудь три-четыре лье от берега. Пюизе был очень недоволен, однако молчал, всё еще надеясь победить медлительность своих товарищей. Полагая, что на всякий случай не мешает заручиться точкой опоры, он предложил д’Эрвильи взять приступом форт Пентьевр и завладеть полуостровом таким способом. Взяв этот форт, замыкавший полуостров со стороны суши, и опираясь с обеих сторон на английские эскадры, эмигранты получили бы неприступную позицию, и этот полуостров, имеющий лье в длину и два в ширину, стал бы более безопасным и удобным сборным пунктом, чем Лорьян, Брест или Сен-Мало. Такая мера предосторожности не могла не понравиться д’Эрвильи; он согласился, но потребовал, чтобы против форта Пентьевр предприняли правильную атаку. Пюизе не послушался и решил идти на приступ, а коммодор Уоррен предложил поддержать его всеми пушками своей эскадры. Канонада началась 1 июля (13 мессидора), а решительный приступ последовал 3-го. Пока велись приготовления, Пюизе разослал эмигрантов по всей Бретани с целью расшевелить Шаретта, Сепо, Стоффле и других вождей мятежных провинций.
Весть о высадке распространилась с необычайной быстротой: в два дня она обошла всю Бретань, а в несколько дней – всю Францию. Роялисты были вне себя от радости, революционеры – от гнева; и тем и другим уже чудилось, что эмигранты входят в Париж. Конвент немедленно послал к Гошу двух чрезвычайных комиссаров; выбор его пал на Блада и Тальена. Присутствие последнего на угрожаемом пункте должно было служить доказательством того, что термидорианцы столь же враждебны роялизму, сколь и террору. Гош, со своим неизменным хладнокровием, тотчас же написал Комитету общественного спасения: «Нужны спокойствие, энергичность, съестные припасы, которых у нас мало, и те 12 тысяч солдат, которых вы мне обещаете так давно». Нисколько не медля, он отдал нужные приказания начальнику своего главного штаба: велел генералу Шабо стать с отрядом в 4 тысяч человек между Брестом и Лорьяном, чтобы поспешить на помощь к тому из этих двух портов, которому будет грозить наибольшая опасность. «В особенности, – сказал он генералу, – берегите Брест; если что – запритесь в этом городе и защищайтесь до последней капли крови». Гош написал Оберу-Дюбайе, командовавшему войсками на шербурских берегах, чтобы тот отправил часть их на север Бретани – охранять Сен-Мало и берег. Для охраны юга он попросил Канкло, который всё еще присматривал за Шареттом и Стоффле, прислать генерала Лемуана с подкреплением. Затем Гош стянул все свои войска к Ренну, Плоэрмелю и Ванну, чтобы быть обеспеченным с тыла, и, наконец, сам двинулся на Оре со всеми войсками, бывшими у него под началом. Второго июля (14 мессидора) он уже лично был в Оре и с ним 3–4 тысячи человек. Таким образом, Бретань обложили со всех сторон. Здесь должны были рассеяться иллюзии, порожденные первым восстанием Вандеи. Потому что в 1793 году вандейцы, не встречая сопротивления ни от кого, кроме национальных гвардий, состоявших из буржуа, не умевших обращаться с оружием, смогли завладеть всем Пуату и Анжу, а потом, в своих оврагах и вересках, устроить гнездо восстания, которое оказалось нелегко подавить. И эмигранты вообразили, что Бретань поднимется по первому знаку Англии. Но бретонцы были далеки от пыла первых вандейцев. Только несколько банд шуанов твердо настаивали на продолжении войны или, вернее сказать, своих грабежей; а молодой полководец, деятельный настолько же, насколько даровитый, притом располагая опытными войсками, сдерживал население целой провинции твердой и смелой рукой. Могла ли Бретань восстать при таких обстоятельствах, особенно если армия, пришедшая помочь ей, не действовала быстро и решительно, а точно ощупью шла по побережью океана? Это еще не всё: часть шуанов, находясь под влиянием парижских роялистских агентов, не хотела присоединяться к Пюизе, пока с ним не явится хотя бы один из принцев. Эти агенты и все участвовавшие в их интригах кричали, что экспедиция малочисленна и слаба и Англия только собирается повторить в Бретани то, что произошло в Тулоне. Они утверждали, что Англия по-прежнему хочет отдать корону – но не графу д’Артуа, а герцогу Йоркскому, и что следует не помогать экспедиции, а вынудить ее опять сесть на суда и отправиться туда, где стоит Шаретт, который, со своей стороны, был бы этому весьма рад. Шаретт отвечал на настоятельные просьбы агентов Пюизе, что послал Сепо в Париж требовать исполнения одной из статей договора и поэтому должен ждать его возвращения, чтобы, преждевременно возобновив военные действия, не подвергнуть его опасности быть арестованным. Что касается Стоффле, гораздо лучше Шаретта относившегося к делу, тот ответил, что если ему будет обещано звание наместника, то он сейчас же двинется и устроит диверсию в тылу республиканцев. Так всё словно сговорилось против Пюизе: и виды, противные его видам у роялистов во Франции; и личная зависть вандейских вождей друг к другу; наконец, искусный противник, располагавший хорошо организованными силами, достаточными для того, чтобы удержать в границах роялистские порывы бретонцев. Пюизе собрался идти на приступ форта Пентьевр 3 июля (15 мессидора). Солдаты, находившиеся внутри форта, уже три дня сидели без хлеба. Так как их, кроме того, очень беспокоила стрельба с кораблей, то они не дождались штурма и сдались. Но в то же время Гош, расположившийся в Оре, приказал атаковать все передовые посты шуанов, чтобы восстановить сообщение между Оре, Энбоном и Лорьяном, и – одновременно – посты, находившиеся в Ландеване и близ Оре. Шуаны, которыми командовал Тентеньяк, не выдержали энергичного напора регулярных войск. Вобан поспешил на помощь к Тентеньяку с частью своего резерва, но застал его отряд уже разогнанным, а при виде этого поражения разбежался и отряд Вобана. Ему самому пришлось бежать и даже переплыть два маленьких морских рукава, чтобы добраться до шуанов, оставленных в Мендоне. Дю Буа-Бертело тоже был оттеснен и чуть не оказался зажат между республиканцами, шедшими справа и слева от него. В эту минуту Вобану очень пригодились бы те четыреста линейных солдат, о которых он просил; но д’Эрвильи только перед тем отозвал их, чтобы атаковать Пентьевр. Однако Вобан несколько ободрил своих шуанов и уговорил их воспользоваться случаем и напасть на республиканцев с тыла. Он отошел влево и напал на деревню, в которую республиканцы вошли бегом, преследуя шуанов. Они не ждали такого нападения и вынуждены были отступить. Затем Вобан возвратился на свою позицию в Мендон, но очутился там один: кругом него разбежались все, и ему тоже пришлось отступить, но в порядке и только после того, как он своим энергичным нападением умерил прыть неприятеля. Шуаны негодовали по поводу того, что одни должны сдерживать напор республиканцев и что у них отняли регулярный отряд из четырехсот человек. Пюизе обратился к д’Эрвильи с упреками, но тот ответил, что солдаты были нужны ему для приступа. Эти обоюдные укоры ни к чему не привели, и обе стороны сохранили прежнее взаимное раздражение. Между тем форт Пентьевр был взят. Пюизе высадил на полуостров всю артиллерию, присланную англичанами, устроил там свою главную квартиру, перевел туда все войска и решил прочно укрепиться. Он приказал инженерам усовершенствовать оборону форта и поднял на нем белое знамя рядом с английским – в знак союза между королями Англии и Франции. Наконец решили, что каждый полк даст гарнизону отряд соразмерно своей численности. Д’Эрвильи, которому весьма желательно было укомплектовать свой полк, и не какими-нибудь, а хорошими войсками, предложил взятым в плен республиканцам перейти к нему на службу и образовать в его полку третий батальон. Безденежье, голод, наконец, надежда, что скоро представится случай возвратиться к Гошу, заставили республиканцев решиться на это. Пюизе,всё собиравшийся идти вперед и остановившийся только для того, чтобы взять полуостров и обеспечить себе надежную позицию на морском берегу, горячо поговорил с д’Эрвильи, самыми основательными доводами убеждая его помочь в исполнении планов; он даже грозился потребовать смещения генерала, если тот будет упорствовать в своем отказе. Д’Эрвильи как будто уступил. Шуаны, по словам Пюизе, нуждались только в поддержке, чтобы выказать свою храбрость; надо было разместить регулярные войска перед ними и за ними, и, имея 12–13 тысяч человек, из них 3–4 тысячи регулярных солдат, можно было бы побить Гоша, у которого в ту минуту было не более 5–6 тысяч республиканцев. Д’Эрвильи согласился на этот план. В это самое время Вобан, потеряв прежнюю позицию и признавая свое положение весьма рискованным, попросил у д’Эрвильи помощи и дальнейших приказаний. Д’Эрвильи послал ему приказ самого педантического содержания, в котором предписывал графу отступить в Карнак и совершить там движения, которые были под стать только самым поднаторевшим в маневрах войскам. Пятого июля (17 мессидора) Пюизе покинул полуостров, чтобы сделать смотр шуанам, и д’Эрвильи тоже вышел со своим полком, намереваясь исполнить свое вчерашнее решение. Пюизе обнаружил у людей, преисполненных энтузиазмом всего нескольких дней назад, одну только грусть, уныние, досаду. Они говорили, что их нарочно выставляют одних и отдают во власть республиканским войскам. Пюизе успокоил их как мог. Д’Эрвильи, со своей стороны, поглядев на этих солдат, наряженных в красные, неловко сидевшие на них мундиры и не умевших толком держать ружья со штыком, объявил, что нельзя ничего сделать с подобными войсками, и повернул со своим полком назад. Пюизе встретился ему на пути и спросил, так ли он исполняет условленный план. Д’Эрвильи ответил, что никогда не решится действовать с такими солдатами, что остается только сесть опять на суда или запереться на полуострове и ждать новых приказов из Лондона, то есть, по его мнению, – приказа высадиться в Вандее. На следующий день, 6 июля, Вобан получил тайное уведомление о том, что республиканцы задумали атаку на всю его линию. Он видел, что положение его крайне опасно. Левым своим флангом Вобан опирался на пункт под названием св. Варвара, сообщавшийся с полуостровом; но центр его и правый фланг тянулись по берегу, и не оставалось другого пути отступления, кроме как в море. Шуаны его, совсем обескураженные, не могли в случае нападения продержаться хоть сколько-нибудь долго. Графу Вобану не оставалось ничего иного, как завернуть влево и пробраться на полуостров перешейком. Но в таком случае он оказывался запертым, потому что оставленный им пункт св. Варвары был совершенно неприступен со стороны перешейка и господствовал над ним. Стало быть, такое отступление равнялось решению запереть себя на Киберонском полуострове. Вобан послал за помощью, чтобы не быть вынужденным отступить. Д’Эрвильи прислал ему новый приказ, составленный по-прежнему самым чопорным слогом, с предписанием держаться в Карнаке до последнего. Пюизе, однако, настоятельно потребовал, чтобы Д’Эрвильи послал войска, и тот наконец пообещал. На следующий день, 7 июля, республиканцы атаковали шуанов по всей линии. Те смотрят на перешеек, не видят регулярных войск и приходят в дикую ярость. Молодой Жорж Кадудаль, солдаты которого отказываются драться, умоляет их не разбегаться, но они его не слушают. Жорж, в свою очередь взбешенный, восклицает, что эти злодеи англичане и эмигранты только затем и пришли, чтобы погубить Бретань, и что море сделало бы лучше, если бы поглотило их, вместо того чтобы принести к берегу. Вобан приказывает центру и правому флангу свернуть влево, чтобы постараться уйти на полуостров. Шуаны слепо бросаются туда, и с ними бегут их семейства, которые спасаются от мщения республиканцев. Женщины, дети, старики, унося с собою всякий скарб, смешиваются с несколькими тысячами шуанов в красных мундирах, теснятся на этом длинном и узком песчаном перешейке, с обеих сторон омываемом волнами и уже обстреливаемом пулями и ядрами. Вобан собирает вокруг себя вождей и самых храбрых из своих людей, уговаривает их не губить себя беспорядочным бегством, заклинает их ради спасения жизни и чести отступать в порядке. Они заставят краснеть, говорит он им, регулярные войска, которые бросили их одних в опасности. Ему понемногу удается придать несчастным некоторую бодрость, уговорить повернуться лицом к неприятелю, выдержать его огонь и даже начать отвечать на него. Тогда, благодаря твердости вождей, отступать начинают более спокойно: землю уступают лишь шаг за шагом. Однако еще мало надежды справиться с энергичной атакой и не свалиться в море; но храбрый коммодор Уоррен вмешивается в дело, открывает по республиканцам жаркий огонь и не дает им завоевать победу. Беглецы теснятся у входа в форт, но сначала их туда не пускают. Тогда они бросаются на частокол и вторгаются на полуостров как попало. В эту минуту наконец появляется д’Эрвильи со своим полком; Вобан встречает его и, уступая гневному движению, говорит, что потребует у него отчета перед военным советом. Шуаны рассыпаются по всему полуострову. Все квартиры в деревнях оказываются заняты полками; из-за этого завязываются споры и даже схватки. Наконец шуаны укладываются просто на землю; им выдают по полпорции риса, и они съедают его сырым, потому что не в чем и не на чем сварить его. Итак, вся экспедиция, долженствовавшая нести знамя Бурбонов на берега Майенны, очутилась вдруг запертой на полуострове в два лье длиной. Надо было кормить 12–15 тысяч лишних ртов, не имея для них ни квартир, ни дров, ни посуды. Этот полуостров, защищаемый фортом с одного конца и подпираемый с обеих сторон морем, мог оказать серьезное сопротивление; но без съестных припасов он становился крайне слаб. Припасов было привезено, правда, достаточно, чтобы прокормить 6 тысяч человек в продолжение месяца, но теперь вдруг приходилось кормить 18, если не все 20 тысяч. Выйти из этого положения внезапным нападением на Сент-Барб было едва ли возможно, потому что республиканцы с необыкновенным усердием укрепляли эту позицию, чтобы сделать ее неприступной со стороны полуострова. Пока смятение, взаимная ненависть, уныние господствовали среди шуанов и эмигрантов, в лагере Гоша, напротив, солдаты и офицеры с равным увлечением работали над укреплениями. «Я видел, – пишет Пюизе, – как офицеры сами, в рубашках, отличаясь только кокардою, работали кирками и торопили своих солдат». Пюизе решился в ту же ночь сделать вылазку, чтобы прервать эти работы, но темнота и неприятельские орудия расстроили всякий порядок, и пришлось вернуться. Шуаны, в отчаянии, жаловались, что их обманули. Они жалели о своем прежнем способе ведения войны и требовали, чтобы их отпустили в родные леса. Они буквально умирали с голода. Д’Эрвильи, чтобы принудить шуанов поступить в полки, приказал выдавать нерегулярным войскам только половинные порции; они взбунтовались. Пюизе, узнав об этом приказе, отданном без его ведома, отменил его. Пюизе отличался, помимо мощного ума, несокрушимым упорством: он не пришел в уныние. Он решил отобрать лучших из шуанов, высадить их на берег двумя отрядами, чтобы пройти с ними по местности, лежавшей в тылу у Гоша, поднять вождей, от которых еще не было вестей, и двинуть всех большой массой на лагерь при Сент-Барбе, напав на него с тыла, пока войска с полуострова нападут с фронта. Таким образом, он избавлял себя от шести или восьми тысяч лишних ртов, применяя их даже с пользой, возбуждал охладевшее рвение бретонцев и готовил новую атаку. Пюизе тщательно отобрал для этой цели 7 тысяч шуанов – 4 тысячи дал Тентеньяку и трем бесстрашным вождям: Кадудалю, Мерсье и д’Аллегре, а 3 тысячи – Жан-Жану и Лантиви. Тентеньяк должен был высадиться при Сарзо, близ устья реки Вилен; Жан-Жан и Лантиви – близ Кемпера. Оба должны были, сделав довольно длинный обход, соединиться в Бо 15 июля (26 мессидора) и зайти утром следующего дня прямо в тыл лагеря при Сент-Барбе. Перед тем как отправиться, вожди шуанов явились к Пюизе и умоляли его идти с ними, уверяя, что эти изменники англичане его погубят, но он не мог удовлетворить их просьбу. Шуаны отправились и благополучно высадились. Пюизе написал в Лондон, что всё еще можно поправить, но необходимо немедленно прислать съестных и военных припасов, войска и французского принца.
Пока всё это происходило на полуострове, Гош уже собрал в Сент-Барбе от 8 до 10 тысяч человек. Обер-Дюбайе с шербурских берегов переправил к нему войска для охраны севера Бретани. Канкло прислал из Нанта значительное подкрепление под началом генерала Лемуана. Комиссары расстроили все попытки выдать неприятелям Лорьян и Сен-Мало. Следовательно, дела республиканцев поправлялись с каждым днем. Тем временем Леметр и Бротье своими интригами всё еще старались повредить экспедиции. Они поспешили написать в Бретань и заявить, что не одобряют экспедиции; что она имеет опасную цель, так как при ней нет принца; и что они просят, чтобы никто не помогал ей. Везде появились агенты, именем короля приказывавшие не торопиться, в том числе и Шаретту. Согласно своей давнишней системе пользоваться помощью Англии и обманывать ее, они экспромтом придумали новый план. Они хотели нарочно принять участие в интриге, завязанной с целью выдать Сен-Мало Пюизе, призвать туда эмигрантов, крейсировавших на английских судах, и завладеть портом от имени Людовика XVIII, пока Пюизе действовал при Кибероне – может быть, для герцога Йоркского, говорили они. Когда интрига не удалась в Сен-Мало, они перешли в Сен-Бриё, удержали у берега эскадру с эмигрантами и немедленно послали эмиссаров к Тентеньяку и Лантиви с приказанием идти в Сен-Бриё. Их целью было образовать на севере Бретани экспедицию более верную, нежели та, которую затеял Пюизе на юге.
 Гош
Гош
Тентеньяк благополучно высадился и, взяв несколько республиканских постов, пришел в Эльван. Тут он нашел приказ именем короля отправиться в Коэтлогон, чтобы там получить дальнейшие распоряжения. Тщетно Тентеньяк ссылался на данное ему поручение, на необходимость не расстраивать плана, удаляясь от назначенного места: он кончил тем, что уступил в надежде посредством форсированного марша опять оказаться в тылу лагеря при Сент-Барбе 16-го числа. Жан-Жан и Лантиви, тоже благополучно высадившись, собирались идти в Бо, когда, со своей стороны, нашли предписание отправиться в Сен-Бриё. В этот промежуток времени Гош, тревожимый с тыла, был вынужден отделить несколько отрядов, чтобы остановить войска, о приближении которых узнал. Но он оставил в лагере достаточные силы, чтобы дать отпор атаке, если бы таковая последовала. Его беспокоили английские канонирские лодки, которые стреляли по республиканцам, как только те показывались на перешейке, и он рассчитывал покорить эмигрантов почти только голодом. Пюизе, со своей стороны, готовился к делу, назначенному на 16 июля (28 мессидора). Пятнадцатого числа в бухту вошел еще один отряд флота – те суда, которые ходили к устьям Эльбы за эмигрантскими полками с черными кокардами. Они привезли отряды Сальма, Дама, Беона и Перигора – всего только 11 тысяч человек под началом превосходного офицера де Сомбрёйля. Эта же эскадра привезла новые припасы и известие о скором прибытии трех тысяч англичан, предводительствуемых лордом Грэхемом, а вслед за ними и графа д’Артуа с более значительными силами. Письмо от английского правительства извещало Пюизе, что кадры задержаны у северного берега роялистскими агентами, настаивавшими на выдаче одного из портов. Другая депеша, пришедшая в то же время, разрешила спор между д’Эрвильи и Пюизе безусловно в пользу последнего, которому, кроме того, жаловали титул генерал-лейтенанта английской службы. Пюизе, как только ему окончательно развязали руки, всё подготовил к завтрашнему делу. Он охотно отложил бы атаку, чтобы дать дивизии Сомбрёйля время высадиться, но так как всё уже было пригнано к 16-му числу, да и Тентеньяку уже назначили тот же день, то медлить было нельзя. Вечером Пюизе приказал Вобану высадиться в Карнаке с 1200 шуанами, чтобы совершить маневр напротив лагеря при Сент-Барбе и соединиться с шуанами, которые планировали напасть на этот лагерь с тыла. Лодки были приготовлены очень поздно, так что Вобан смог двинуться лишь около середины ночи. Ему приказали пустить ракету, если удастся высадиться, и другую, если нельзя будет удержаться на берегу.
Шестнадцатого июля (28 мессидора), на рассвете, Пюизе выдвинулся с полуострова со всеми войсками. Он шел колоннами. Храбрый полк Royal-Emigrant шел с артиллеристами впереди, под началом Ротальё, справа шли полки Royal-Marine и дю Дрене и шестьсот шуанов под началом герцога Леви. Полк д’Эрвильи и тысяча шуанов под началом шевалье де Сен-Пьера составляли левую колонну. Эти три отряда вместе состояли примерно из четырех тысяч человек. Двигаясь по перешейку, они увидели ракету; второй они уже не видели, поэтому решили, что Вобану всё удалось. Вдруг раздался шум как бы отдаленной ружейной стрельбы. «Это Тентеньяк! Вперед!» – восклицает Пюизе и начинает трубить атаку. Авангард Гоша стоит перед высотами Сент-Барб. При виде приближающегося неприятеля он подается назад и располагается в линию. Нападающие радостно спешат вперед. Вдруг отряд кавалерии, стоявший развернутым, делает движение и открывает грозные батареи. Эмигрантов встречают ружейный огонь и пушечная пальба; на них сыплются картечь, ядра и гранаты. Справа скошены целые ряды у полков Royal-Marine и дю Дрене, но они не колеблются. Герцог Леви тяжело ранен. Слева полк д’Эрвильи молодецки идет под огонь. Между тем стрельбы, послышавшейся за лагерем, теперь уже не слыхать: стало быть, Тентеньяк и Вобан не атаковали и нет надежды взять лагерь приступом. В эту минуту вся республиканская армия, пехота и кавалерия разом выходят из-за своих укреплений. Пюизе, видя, что остается только умереть, предписывает д’Эрвильи приказать отступление правому флангу, между тем как он сам заставит сделать то же левый фланг. Но д'Эрвильи, с величайшей неустрашимостью стоявший под неприятельским огнем, сражен картечной пулей. Он поручает адъютанту передать приказ об отступлении – и адъютанта наповал убивает ядро. Полк д’Эрвильи, не получив приказа к противному, продолжает идти вперед под страшным огнем – вместе с шевалье де Сен-Пьером и его тысячей шуанов. Слева трубят к отступлению, а справа в атаку. Смятение поистине ужасно. Тогда республиканская кавалерия бросается на эмигрантскую армию и в беспорядке оттесняет ее назад на перешеек. Пушки вязнут в песке и достаются республиканцам. Вся армия, явив чудеса храбрости, наконец бежит к форту Пентьевр, республиканцы гонятся за ней и чуть не врываются в форт вместе с роялистами, но неожиданная помощь выручает последних. Вобан, которому следовало бы быть в Карнаке, оказывается со своими шуанами у самого перешейка, а с ним – коммодор Уоррен, оба на канонирских лодках, с которых они поддерживают жаркий огонь и еще раз спасают злополучную киберонскую армию. Итак, Тентеньяк не явился вовсе! Вобан, несколько опоздав с высадкой, не смог совершить неожиданного нападения на республиканцев; потом его обманули шуаны: они струсили и побросали свои ружья в воду, чтобы не драться, и ему пришлось отступить к форту. Когда он пустил вторую ракету, было уже так светло, что ее не заметили. Вот каким образом Пюизе, обманутый во всех своих комбинациях, попал в такое бедственное положение. Все полки понесли ужасные потери: из семидесяти двух офицеров полка Royal-Marine пятьдесят три были убиты; потери остальных полков исчислялись такими же цифрами. Надо признаться, что Пюизе с большой опрометчивостью напал на лагерь. Чтобы идти с четырьмя тысячами против десяти, притом пользовавшихся надежными укреплениями, следовало сначала удостовериться в том, что все атаки, подготовленные с флангов и тыла, действительно могут быть исполнены. Недостаточно было назначить отрядам, которым предстояло преодолеть столько препятствий, лишь место соединения, чтобы вполне рассчитывать, что в назначенный час они непременно будут в назначенном месте. Надо было условиться о каком-нибудь сигнале, каком-нибудь средстве для исполнения задуманного плана. В этом отношении Пюизе, хотя его обманул треск отдаленной ружейной стрельбы, поступил недостаточно осторожно. Впрочем, он себя не щадил и в этот день послужил блистательным ответом тем, кто делал вид, будто не уверен в его личной храбрости в отместку за невозможность отказать ему в уме. Легко понять, почему Тентеньяк не явился. В Эльване он застал приказ отправиться в Коэтлогон, и последовал этому странному приказу в надежде, что наверстает потерянное время форсированным маршем. В Коэтлогоне он обнаружил приказ идти в Сен-Бриё. Это всё были проделки роялистских агентов, которые, говоря именем короля, хотели заставить отряды, отделяемые от армии Пюизе, содействовать задуманной ими контрэкспедиции против Сен-Мало и Сен-Бриё. Пока офицеры обдумывали этот приказ, на замок Коэтлогон напали отряды, посланные Гошем в погоню за Тентеньяком. Сам Тентеньяк прибежал на место сражения и пал убитый пулей в лоб. Офицер, принявший после него начальство, согласился идти в Сен-Бриё. Лантиви и Жан-Жан, со своей стороны, высадившись в окрестностях Кемпера, услышали такие же приказы. Вожди заспорили между собой, а солдаты, и без того уже недовольные, просто разошлись. Таким образом, ни один из отрядов, посланных Пюизе, не пришел на назначенное место, а, стало быть, парижская агентура лишила Пюизе офицерских кадров, которые она задержала у северного берега; двух отрядов, которых не пустили в Бо; и наконец, содействия всех местных вождей, которым не велели трогаться с места. Запертый на полуострове Киберон, Пюизе уже потерял всякую надежду сойти с него. Ему ничего не оставалось, как сесть опять на суда и выяснить, не лучше ли удастся высадка в другом месте на берегу, в Вандее. Большая часть эмигрантов была весьма этим довольна. Имя Шаретта внушало им надежду найти в Вандее великого полководца во главе хорошей армии. Притом Пюизе они предпочли бы любого другого.
Гош тем временем изучал полуостров и искал средства проникнуть на него. Полуостров защищали, во-первых, форт Пентьевр, а затем, с обеих сторон, английские эскадры. Нельзя было и думать причалить к нему на лодках. Взять форт правильной осадой тоже было невозможно, потому что добраться до него можно было только перешейком, а перешеек постоянно обстреливался канонирскими лодками. Республиканцы не могли даже проводить рекогносцировки, не подвергаясь жестокому картечному огню. Только ночной приступ или голод отдали бы полуостров в руки Гоша. Одно обстоятельство заставило его решиться на приступ, как ни было это опасно. Пленных, почти против воли причисленных к эмигрантским полкам, мог бы удержать разве только успех; теперь же их прямые интересы, не говоря уже о патриотизме, требовали добровольного перехода к победителю, который поступил бы с ними как с дезертирами, если бы взял их с оружием в руках. Пленные толпами уходили по ночам в лагерь Гоша и уверяли его, что единственно затем дали себя завербовать, чтобы выйти из казематов или не попасть туда. Они же и указали ему средство проникнуть на полуостров. Слева от форта стоял утес; если войти в воду по грудь, можно было обойти его и выйти на тропинку, которая вела на самый верх форта. Перебежчики обещали от имени своих товарищей, еще составлявших часть гарнизона, помочь отворить ворота. Гош не колебался. Он составил план по полученным указаниям и решил завладеть полуостровом, чтобы накрыть всю экспедицию прежде, чем она успеет опять сесть на суда. Впрочем, 20 июля (2 термидора) небо было мрачным; Пюизе и Вобан разослали патрули для предотвращения ночного приступа. Всё, казалось, утихло, и оба военачальника спокойно легли спать. А в республиканском лагере тем временем были сделаны все приготовления. Около полуночи Гош двинулся вперед. Небо было покрыто темными тучами; сильный ветер вздымал волны и глухим ревом покрывал шум, создаваемый продвижением войск. Гош распределил солдат колоннами на перешейке, придал триста гренадеров молодому генерал-адъютанту Менажу, республиканцу истинно геройской храбрости, приказал ему с гренадерами завернуть направо, войти в воду, обойти утес, на котором стоял форт, подняться по тропинке и постараться войти внутрь. Сделав эти распоряжения, Гош повел людей дальше в глубоком молчании. Патрули, одетые в красные мундиры убитых после сражения солдат и получившие от перебежчиков пароль, обманывают передовые караулы и приближаются незамеченными. Менаж входит в море со своими тремястами гренадерами, и шум ветра заглушает их передвижение. Некоторые падают и опять встают, других поглощает пучина. Наконец, пробираясь от утеса к утесу, они выходят на тропинку и поднимаются по ней. Между тем Гош со своими войсками подходит к самым стенам. Но вдруг караульные узнают одного из передовых, а тотчас затем замечают длинную движущуюся тень – и стреляют. Тревога поднята. Тулонские артиллеристы бросаются к своим пушкам и сыплют картечью. Войска Гоша приходят в беспорядок и готовы бежать. Но в эту минуту Менаж добирается до зубчатых стен форта; солдаты, сообщники республиканцев, выбегают на стены, протягивают товарищам приклады ружей и помогают залезть. Потом они все вместе кидаются на гарнизон, убивают всех, кто оказывает сопротивление, и поднимают трехцветное знамя. Гош ни минуты не поколеблен беспорядком, причиненным его колоннам свирепостью неприятельских батарей. Он сам подходит к каждому офицеру, каждого возвращает назад на его место и приводит всю армию в прежний порядок под этим страшным огненным дождем. Ночная темень между тем начинает редеть – и Гош видит республиканское знамя над фортом. «Как! – обращается он к своим солдатам. – Вы отступаете, когда ваши товарищи водрузили свое знамя на неприятельских стенах!» Он увлекает их за собою к передовым укреплениям, где стоит часть шуанов; его войска врываются туда со всех концов, и вот наконец форт взят. В эту минуту Пюизе и Вобан, разбуженные стрельбой, спешат на место катастрофы – но уже поздно. Они видят только, как бегут беспорядочной толпой шуаны, офицеры, брошенные солдатами, и остатки гарнизона. Гош не останавливается на взятии форта. Он собирает часть своих колонн и проникает на полуостров прежде, чем экспедиционная армия успевает спастись на суда. Пюизе, Вобан и все вожди тоже уходят вглубь полуострова, так как там еще стоят части полков д’Эрвильи, дю Дрене, Royal-Marine и Royal-Emigrant и отряд Сомбрёйля, всего два дня как высадившийся и состоящий из 1100 человек. Если выбрать хорошую позицию – а полуостров таких предоставляет немало – и занять ее с еще остававшимися тремя тысячами регулярных войск, то у эскадры есть возможность принять злосчастных эмигрантов. Их прикрывает, пока они садятся на корабли, огонь с канонирских лодок, но головы у всех идут кругом: шуаны кидаются в море со своими семействами, чтобы успеть разместиться на нескольких рыбацких лодках у берега и в них доплыть до эскадры, которую дурная погода держит на большом отдалении. Войска мечутся, разбросанные по полуострову, не зная, куда идти. Д’Эрвильи, способный энергично защищать позицию и отлично знающий местность, лежит смертельно раненый. Сомбрёйль, заместивший его, местности не знает, не знает, куда отступать, на что опереться, и поэтому, несмотря на всю личную храбрость, теряет необходимое присутствие духа. Пюизе присоединяется к нему и указывает позицию. Сомбрёйль спрашивает, послал ли он сообщить эскадре, чтобы она подошла ближе? Пюизе отвечает, что послал лоцмана, искусного и преданного. Но погода остается бурной, лоцман, по мнению несчастных, которым грозит потопление, слишком медлит, а республиканские колонны приближаются. Сомбрёйль настаивает вновь. Пюизе соглашается отправиться сам, хотя это поручение лучше было бы дать другому. Одно заставляет его решиться: необходимость спасти свою переписку, которая скомпрометировала бы всю Бретань, если бы попала в руки республиканцев. Без сомнения, было столь же важно спасти эту переписку, как и саму армию, но Пюизе мог бы послать ее на корабль с другим, а не идти сам. Он отправляется и всходит на корабль коммодора в одно время с посланным им лоцманом. Отдаление, темнота, непогода стали причиной того, что с эскадры не увидели разгрома. Храбрый адмирал Уоррен, который во всё время экспедиции помогал эмигрантам всеми средствами, распустил паруса и наконец подошел к берегу на расстояние пушечного выстрела в ту самую минуту, когда Гош во главе семисот гренадеров начал так теснить войска Сомбрёйля, что они готовы были попятиться в море. Какое зрелище представлял в это мгновение злополучный берег! Бушующее море едва дозволяло лодкам причалить; множество шуанов и беглых солдат входили в воду по шею, чтобы вброд добраться до лодок, и многие при этом тонули; тысяча несчастных эмигрантов, поставленных между морем и штыками республиканцев, вынуждены были броситься либо в воду, либо на эти штыки, и столько же терпели от огня с эскадры, сколько сами республиканцы. Пришло несколько лодок, но к другому пункту, а тут оставалась только одна шхуна, которая, впрочем, поддерживала такой свирепый огонь, что заставила республиканцев остановиться. Говорят, будто несколько гренадеров стали кричать эмигрантам: «Сдайтесь! Вам ничего не грозит!» Эти слова пробежали по рядам. Сомбрёйль хотел подойти, чтобы вступить в переговоры с генералом Юмбером, но огонь не подпускал его. Тогда один из эмигрантов, офицер, бросился вплавь, чтобы передать эскадре приказ прекратить огонь. Гош не хотел капитуляции. Он слишком хорошо знал законы против эмигрантов, чтобы договариваться о каких-либо обязательствах, и не желал обещать того, что был не в состоянии исполнить. Он заверял в письме, обнародованном позже во всей Европе, что не слышал ни одного из обещаний, приписываемых генералу Юмберу, и никого не уполномочил бы давать такие обещания. Некоторые из его солдат могли крикнуть: «Сдавайтесь!», но он точно ничего не предлагал и ничего не обещал. Он только вышел из рядов, и эмигранты, которым не оставалось иного выбора, как только сдаться или дать себя убить, понадеялись, что с ними, может быть, будет поступлено как с вандейцами, – и сложили оружие. Никакой капитуляции, даже словесной, не было. Вобан, который был тут же, признавал, что не существовало никакого договора, и даже Сомбрёйлю посоветовал не сдаваться на основании такой смутной надежды, какую могли подать крики нескольких солдат. Многие эмигранты пронзили себя собственными шпагами; другие бросились в воду и поплыли к лодкам. Коммодор Уоррен приложил все старания, чтобы преодолеть препятствия, представляемые морем, и спасти как можно больше этих несчастливцев. Многие из них, при виде подходивших шлюпок, входили в море по шею: тогда с берега стреляли по их головам. Иногда они бросались к переполненным уже лодкам, и сидевшие в них, опасаясь, чтобы лодки не потопили, саблями отрубали несчастным руки.
Отвернемся от этих ужасов – то была страшная кара за великую вину. Не одна причина способствовала провалу этой экспедиции. Во-первых, зачинщики слишком понадеялись на Бретань. Народ, в самом деле склонный к восстанию, вспыхивает разом, как вандейцы в мае 1793 года; сам ищет вождей, умоляет их, силой заставляет стать во главе. А не ждет, чтобы его организовали, и не терпит угнетения два года, чтобы восстать, когда угнетение уже прекратилось. А будь у них и больше желания, такой хозяин края, как Гош, не дал бы этому желанию проявиться. Следовательно, Пюизе увлекался иллюзиями. Однако из этого народа можно было бы извлечь силы, отыскать в его недрах многих людей, готовых драться, если бы значительная часть экспедиции прошла прямо в Ренн, прогоняя перед собой армию, стеснявшую край. Для этого требовалось согласие между вождями и Пюизе, между Пюизе и парижской агентурой: чтобы предводителям шуанов не присылались предписания самого противоположного содержания; чтобы эмигранты лучше поняли войну, которую собирались вести, и не так жестоко презирали поселян, жертвовавших собою для них же; чтобы англичане больше доверяли Пюизе, не приставляли к нему другого начальника, выдали ему разом все средства, какие назначили раньше, и не раздробляли сил экспедиции; но, прежде всего, во главе экспедиции нужен был славный принц – пусть даже и не славный, только бы он первым ступил на берег. Перед его появлением рассеялись бы все препятствия. Вид принца пробудил бы весь энтузиазм края, все подчинились бы его воле, все содействовали бы предприятию. Гоша тогда можно было бы окружить со всех сторон и, несмотря на талант и энергию, ему пришлось бы отступить. Конечно, за ним оставались еще доблестные армии, победившие Европу, но Австрия могла задать им дел на Рейне, и армии лишились бы возможности отделять от себя большие отряды. Правительство же не имело более энергии великого комитета, и революции начала бы угрожать большая опасность. Будь она низвергнута двадцатью годами ранее, ее благодеяния не имели бы времени упрочиться; неслыханные усилия, бессмертные победы, потоки крови – всё осталось бы бесплодным; а если бы и не удалось горсти проходимцев покорить храбрую нацию, они бы по крайней мере подвергли опасности ее возрождение, сами не потеряли бы своего дела, почти не постояв за него, и энергией облагородили бы собственные притязания. Неугомонные крикуны, из которых состояла роялистская партия, конечно, всё свалили на Пюизе и Англию. Послушать их, так Пюизе оказывался изменником, продавшимся Питту, чтобы повторить тулонские сцены. Между тем не подлежало сомнению, что Пюизе сделал всё, что мог. Нелепо было также предполагать, чтобы Англия могла хотеть неудачи: собственные ее предосторожности относительно Пюизе; заботливость, с какою она сама выбрала д’Эрвильи, чтобы не пришлось слишком рисковать эмигрантскими отрядами; наконец, усердие, с каким коммодор Уоррен спасал несчастных, оставшихся на полуострове, – всё это доказывает, что Англия не замышляла гнусного и подлого злодеяния, в котором ее обвиняли. Будем справедливы ко всем, даже к непримиримым врагам нашей революции и нашего отечества. Коммодор Уоррен высадил на остров Уайт жалкие остатки экспедиции. Там он решил ждать дальнейших приказаний и прибытия графа д’Артуа на корабле «Лорд Мойра», чтобы выяснить, что делать дальше. Отчаяние воцарилось на этом островке: эмигранты, шуаны, в страшной нужде, притом страдающие от эпидемии, ругали друг друга и Пюизе. Отчаяние было еще ужаснее в Оре и Ванне, куда доставили тысячу эмигрантов, взятых с оружием в руках. Гош, победив их, избавил себя от этого печального зрелища, отправившись в погоню за отрядом Тентеньяка. Участь пленных более его не касалась: что мог он для них сделать? Законы существовали, и он не мог их отменить. Он передал дело Комитету общественного спасения и Тальену.
Тальен тотчас же уехал и прибыл в Париж накануне годовщины 9 термидора. В день годовщины хотели праздновать в самом Конвенте падение Робеспьера. Собрались депутаты в парадных костюмах, большой оркестр исполнял патриотические пьесы; хор пел гимны Шенье. Куртуа прочел доклад о 9 термидора, а Тальен после него сделал доклад о киберонском деле. В словах Тальена отметили намерение обеспечить себе двойное торжество; но собрание с живостью рукоплескало его услугам, прошлогодним и нынешним. В тот же день у Тальена был устроен банкет; там жирондисты встретились с термидорианцами: между ними были Луве и Ланжюине. Ланжюине предложил тост в честь 9 термидора и мужественных депутатов, сразивших тиранию. Тальен ответил тостом в честь семидесяти трех и двадцати двух, павших жертвами террора. К этому тосту Луве присовокупил следующие слова: «И в честь их тесного союза с людьми 9 термидора». В самом деле, все они чрезвычайно нуждались в согласии, чтобы общими силами побороть противников всякого рода, восставших против Республики. Радость была огромной, особенно при мысли о том, какие грозили бы опасности, если бы западной экспедиции удалось встретиться с той, которую принц Конде подготовил на востоке. Следовало решить участь пленных. За них в комитеты поступало много ходатайств, но при настоящем положении дел спасти их не было никакой возможности. Республиканцы говорили, что правительство хочет вернуть эмигрантов и возвратить им их имущество, следовательно, восстановить монархию. Роялисты, всегда грешившие излишней самоуверенностью, утверждали то же самое: они заявляли, что делами управляют их друзья, и дерзость их росла соразмерно надеждам. Выказать малейшую снисходительность в настоящем случае значило оправдать опасения одних и сумасбродные надежды других, довести республиканцев до отчаяния, а роялистов поощрить к самым смелым попыткам. Комитет общественного спасения приказал поступать по закону: депутаты сознавали невозможность поступить иначе. В Ванне снарядили комиссию, чтобы развести пленных, завербованных против их воли, и настоящих эмигрантов. Последних тут же расстреляли. Солдаты помогли, кому успели. Погибло много славных людей, но они не должны были удивляться своей участи после того, как пошли войной на свое отечество и были взяты с оружием в руках. Если бы Республике менее грозили всевозможные опасности и в особенности их же сообщники, она могла бы помиловать заговорщиков, но в том положении – никогда. Сомбрёйль, хотя и был вообще храбрым офицером, перед смертью уступил порыву, недостойному благородного человека: он написал письмо коммодору Уоррену, в котором обвинял Пюизе с неистовством отчаяния. Он поручил Гошу доставить это письмо коммодору. Гош, хоть и знал, что в письме заключаются ложные сведения, однако уважил волю умирающего и отправил письмо, только ответив на него тут же письмом, в котором опроверг слова Сомбрёйля. «Я сам, – писал он, – был во главе семисот гренадеров Юмбера и заверяю, что никакой капитуляции не происходило». Все современники, знавшие характер молодого генерала, считали его неспособным солгать. Притом его заверение подтверждается очевидцами. Письмо Сомбрёйля сильно повредило эмиграции и Пюизе и было признано столь мало делающим чести памяти автора, что нашлись люди, которые уверяли, будто оно было нарочно вымышлено республиканцами, – обвинение вполне достойное жалких небылиц, которые постоянно плели эмигранты. Пока роялистская партия терпела такое жестокое поражение на Кибероне, ей готовили другое такое же в Испании. Монсей опять вступил в Бискайю, взял Бильбао и Виторию и сильно теснил Памплону. Фаворит, управлявший двором, не допустивший мирных предложений, сделанных правительством в начале кампаний, потому что не он был выбран посредником, решился наконец вступить в переговоры и послал в Базель кавалера Ириарте. Мир был подписан с послом Республики Бартелеми в Базеле 12 июля (24 мессидора), в то самое время, когда происходил разгром на Кибероне. Условия мира были следующие: возвращение Францией Испании всего, что она завоевала, и, в вознаграждение, уступка испанской части острова Сан-Доминго. Франция этим уступала довольно много за крайне сомнительную выгоду, потому что Сан-Доминго уже никому не принадлежал. Но этих уступок требовала разумная политика. Франция не могла ничего желать за Пиренеями; она не имела никакого интереса ослаблять Испанию и должна была бы, напротив, возвратить по возможности этой державе силы, утраченные в борьбе, предпринятой против интересов обеих наций.
 Киберон
Киберон
Этот мир был встречен искреннейшей радостью каждым, кто любил Францию и республику. Еще одна держава откололась от коалиции; один из Бурбонов признал Республику; две армии освобождались и могли быть перенесены на Альпы, на запад и на Рейн. Роялисты были в отчаянии. Парижские агенты в особенности боялись, чтобы не обнаружились их интриги, то есть чтобы испанское правительство не сообщило французскому содержания их писем. Англия узнала бы тогда всё, что о ней говорилось, и, хотя эту державу вслух ругали за киберонское дело, однако это отныне была единственная держава, которая давала деньги: надо было щадить ее, обманув после, если это будет возможно. Другую победу, не менее важную, одержали армии Журдана и Пишегрю. После многих промедлений наконец решили перейти Рейн. Французская и австрийская армии стояли одна против другой на обоих берегах реки, от Базеля до Дюссельдорфа. Оборонительное положение австрийцев сделалось превосходным: крепости Дюссельдорф и Эренбрайтштайн прикрывали их правый фланг; Майнц, Мангейм, Филипсбург – центр и левый фланг; реки Неккар и Майн, имея истоки невдалеке от Дуная и протекая почти параллельно Рейну, образовали две важные линии сообщения между наследственными имперскими землями и прикрывали оба фланга армии, которая решила бы действовать против Майнца с нескольких пунктов. План действий на таком поле битвы один и тот же для австрийцев и для французов: и те и другие (по мнению одного великого полководца и знаменитого критика) будут стремиться действовать концентрически между Неккаром и Майном. Французские армии Журдана и Пишегрю должны были бы стараться перейти Рейн близ Майнца, невдалеке друг от друга, потом соединиться в долине Майна, отрезать Клерфэ от Вурмзера и подняться вверх по течению между Неккаром и Майном, стараясь разбить поочередно обоих австрийских военачальников. Точно так австрийцы должны были стараться сосредоточиться, чтобы выйти через Майнц на левый берег. Если бы неприятель предупредил их и перешел Рейн, им следовало сосредоточиться между Неккаром и Майном, помешать соединению французских армий и воспользоваться удобной минутой, чтобы напасть на них. Австрийские генералы обладали всеми преимуществами для проявления инициативы, потому что занимали Майнц и могли выйти на левый берег, когда им будет угодно. Французы проявили инициативу первыми. После долгих промедлений голландские барки наконец дошли до высот Дюссельдорфа, и Журдан приготовился перейти Рейн. Шестого сентября (20 фрюктидора) он перешел реку при Эйхелькампе, Дюссельдорфе и Нойвиде очень смелым маневром: пошел по дороге из Дюссельдорфа во Франкфурт, между прусской нейтральной линией и Рейном, и подошел к реке Лан 20 сентября. В то же время Пишегрю получил предписание постараться перейти Верхний Рейн и потребовать сдачи Мангейма. Чтобы спастись от бомбардировки, этот цветущий город сдался также 20 сентября. С этой минуты все выгоды были на стороне французов. Пишегрю, имея базой Мангейм, собирался привлечь туда всю свою армию и соединиться с Журданом в долине Майна. Тогда можно было бы разлучить австрийских генералов и действовать концентрически между Майном и Неккаром. Особенно важно было вытащить Журдана с позиции, занятой им между Рейном и нейтральной линией, потому что его армия, не обладая нужными транспортными средствами дли перевозки припасов и не имея права поступать с краем как с неприятельским, весьма скоро должна была ощутить недостаток в самом необходимом, если не пойдет вперед. Итак, в этот момент победа везде улыбалась Республике. Мир с Испанией, истребление английской экспедиции, переход через Рейн, удачные наступательные действия в Германии – ей удавалось всё. Делом ее полководцев и правительства было теперь воспользоваться столькими счастливыми событиями.
Глава XLV
Происки роялистской партии в секциях – Возвращение эмигрантов и гонения на патриотов – Конституция, учреждающая Директорию – Восстание парижских секций против фрюктидорских декретов и Конвента – 13 вандемьера – Закрытие Национального конвентаРазбитой на границах, оставленной испанским двором, на который она более всего рассчитывала, роялистской партии оставалось только одно – интриговать во Франции. И надо признать, Париж в то время представлял собой обширное поле для интриг. Момент, когда Конвент должен был сложить с себя власть, а Франции предстояло выбрать новых представителей, был самым удобным для контрреволюционных происков. Свирепые страсти кипели в парижских секциях. Там не было роялистов, но секции служили роялизму, сами того не зная. Большинство секций задались мыслью противодействовать сторонникам террора, разгорячились от борьбы, требовали гонений и сердились на Конвент, который не хотел заводить дела слишком далеко. Люди каждую минуту вспоминали, что террор вышел из недр Конвента, поэтому требовали у депутатов конституции, законов и конца долгой диктатуры. Большая часть людей, требовавших всего этого, нимало не помышляла о Бурбонах. Это были: богатое третье сословие 1789 года, негоцианты, домовладельцы, адвокаты, писатели, которые хотели наконец добиться твердых законов и пользоваться своими правами; молодые люди, искренне преданные Республике, но ослепленные страстной ненавистью к революционной системе; честолюбцы, газетные писаки или секционные ораторы, которые стремились к высшим чинам и богатству. Роялисты скрывались за этой публикой. Между ними насчитывалось несколько эмигрантов, несколько возвратившихся священников и слуг бывшего двора, лишившихся мест, наконец, множество людей равнодушных и трусов, которые боялись свободы. Трусы не ходили на заседания секций, но эмигранты бывали там постоянно и вели агитацию всеми способами. Инструкции, данные роялистскими агентами своим доверенным лицам, заключались в том, чтобы говорить языком секций и требовать того же, то есть наказания сторонников террора, довершения конституции, суда над монтаньярами, но требовать всего этого с большим неистовством, чтобы скомпрометировать секции перед Конвентом и вызвать новые волнения, потому что каждый бунт давал шансы и вызывал большее отвращение к беспутной Республике. К счастью, подобные происки возникали только в Париже, потому что это всегда был самый беспокойный город; город, где с наибольшим жаром шли споры об общественных интересах; где каждый выражал свои претензии и желал влиять на правительство; где всегда начиналась всякая оппозиция. Кроме Лиона, Марселя и Тулона, где происходила взаимная резня, остальная Франция принимала во всех этих политических дрязгах несравненно меньше участия, нежели парижские секции. Ко всему, что они говорили в секциях, сами или через сторонников, интриганы, служившие роялизму, присовокупляли брошюры и газетные статьи. Они лгали, придавая себе значимость, которой не имели, и писали за границу, что подкупили или ублажили главных членов правительства. Этой ложью они добывали денег: так у Англии выпросили несколькотысяч фунтов. Достоверно, впрочем, что хотя роялисты не смогли подкупить ни Тальена, ни Гоша, как они хвастались, однако им удалось проделать это с несколькими членами Конвента – двумя или тремя, не более. В пример приводились Ровер и Саладен, бывшие пылкими революционерами, а теперь сделавшиеся не менее пылкими реакционерами. Полагают также, что роялистским агентам удалось тронуть более деликатными средствами некоторых депутатов, державшихся в своих мнениях середины, которые чувствовали склонность к представительной монархии, то есть к Бурбону, связанному английскими законами. Некоторым законодателям можно было сказать: Франция слишком обширна, чтобы быть республикой; ей жилось бы гораздо лучше с королем, ответственными министрами и наследственными представителями. Эта мысль даже сама по себе, без посторонних внушений, должна была прийти в голову не одному важному лицу, особенно из тех, кто сами годились бы в наследственные пэры. В то время тайными роялистами считались Ланжюине, Буасси д’Англа, Анри Ларивьер и Лесаж, депутат департамента Эры и Луары. Ясно, что агентура располагала не слишком могучими средствами, но и этих было довольно, чтобы смущать общественный покой, тревожить умы, а главное – напоминать французам о Бурбонах, единственных врагах Республики; о врагах, которых оружие победить не могло, потому что воспоминаний штыками не истребишь. В числе так называемых семидесяти трех имелся не один монархист; но по большей части они были республиканцами; жирондистами – все или почти все. Однако газеты, служившие контрреволюции, с аффектацией восхваляли их, чем успели вызвать подозрения термидорианцев. Чтобы защитить себя от таких похвал, семьдесят три и двадцать два горячо заверяли в своей преданности Республике. Да и кто бы посмел холодно отзываться о ней! Следовало ее любить, или по крайней мере говорить, что любишь! Однако, невзирая на все заверения, термидорианцы были настороже, они рассчитывали только на Дону, зная его честность и строгие правила, и на Луве, пылкая душа которого осталась неизменно верна Республике. Потеряв стольких славных друзей, пройдя столькими опасностями, Луве не представлял, что все это может пропасть даром, что столько прекрасных голов слетело только для того, чтобы всё опять кончилось монархией; он всецело примкнул к термидорианцам. Термидорианцы же сами с каждым днем всё больше сближались с монтаньярами, с этой толпой непоколебимых республиканцев, порядочное число которых, однако, уже было принесено в жертву. Они прежде всего хотели вызвать меры против возвращения эмигрантов, которые продолжали появляться толпами, одни – с фальшивыми паспортами и под вымышленными именами, другие – чтобы ходатайствовать об исключении их имен из списков эмигрантов. Почти все представляли фальшивые свидетельства о месте жительства, уверяли, будто не выезжали из Франции, а скрывались или подвергались преследованиям только по случаю событий 31 мая. Под предлогом ходатайства в Комитет общественной безопасности они наводняли Париж и способствовали волнениям в секциях. В числе лиц, возвратившихся в столицу, особенно заметна была госпожа де Сталь, приехавшая во Францию со своим мужем, шведским посланником. Она открыла салон, который вполне удовлетворял ее потребности щеголять своими блистательными способностями. Республика была далеко не противна ее смелому уму, но госпожа де Сталь примирилась бы с нею лишь в том случае, если бы начали блистать ее изгнанные друзья и исчезли все эти революционеры, слывшие за людей энергичных, но грубых и лишенных остроумия. Из их рук, пожалуй, не прочь были принять спасенную республику, но только с тем, чтобы скорее исключить их из правительства и согнать с кафедр. Известные или высокопоставленные иностранцы, посланники держав и ораторы, славившиеся своим умом, – все собирались у госпожи де Сталь. Теперь уже не салон Терезы Тальен, а ее салон привлекал общее внимание, и этим можно было измерить всю громадность перемен, происшедших во французском обществе за последние полгода. Говорили, что госпожа де Сталь ходатайствовала за эмигрантов и хлопотала о возвращении Нарбонна и других. Лежандр официально обвинил ее в этом. Газеты жаловались на влияние, которое получили кружки, образовавшиеся вокруг посланников иностранных держав, а республиканцы требовали, чтобы имена просителей пока не вычеркивались из списков эмигрантов. Термидорианцы, кроме того, предложили декрет, постановлявший, чтобы каждый эмигрант, возвратившийся для ходатайства, отправился в свою общину и там ждал решения Комитета общественной безопасности. Этой мерой надеялись очистить столицу от толпы интриганов, волновавших ее. Термидорианцы в то же время стремились прекратить преследования, начатые против патриотов. Они заставили Комитет общественной безопасности освободить Паша, Бушотта, пресловутого Герона и многих других. Надо признаться, что они могли бы сделать лучший выбор и отдать справедливость патриотам в лице кого-нибудь другого, а не Герона. Секции уже подавали прошения по этому поводу и стали подавать еще новые. Комитеты отвечали, что следовало бы наконец судить арестованных патриотов, а не держать их дольше, если они невинны. Предлагать суд над ними значило предлагать их освобождение, потому что провинности их по большей части были политическими, по самому свойству своему неподсудными. За исключением нескольких членов революционных комитетов, отличившихся ужасными жестокостями, большую часть нельзя было осудить. Некоторые секции просили разрешить им постоянные заседания в течение нескольких дней, чтобы заняться вотированием арестов; они объясняли, что в первую минуту не могли ни отыскивать доказательства, ни приводить причины, но теперь вызывались представить и те и другие. Эти просьбы, маскировавшие желание свободно собираться и добиться права постоянных заседаний, были оставлены без внимания, и Конвент потребовал от комитетов решения о суде над задержанными патриотами. По этому поводу возник жаркий спор. Одни хотели, чтобы патриотов судили департаментские суды, другие, не доверяя местным страстям, требовали снаряжения комиссии из двенадцати членов для разбора, то есть определения, кого освободить, а кого судить уголовным судом. Они говорили, что такая комиссия, будучи непричастна к злобе, накопившейся в департаментах, разберет дело справедливее и не смешает патриотов, скомпрометированных от избытка рвения, с теми преступниками, которые принимали деятельное участие в жестокостях тирании. Всех врагов арестованных возмутила мысль о такой комиссии: они предчувствовали, что комиссия будет поступать так же, как Комитет общественной безопасности по обновлении его после 9 термидора, то есть выпускать заключенных оптом, и спрашивали, каким образом комиссия из двенадцати человек сможет рассмотреть от двадцати до двадцати пяти тысяч дел? Им отвечали, что комиссия справится не хуже комитета, разобравшего до ста тысяч дел во время открытия тюрем. Но именно этого-то способа суда и не хотели допускать враги патриотов. После прений, продолжавшихся несколько дней и прерываемых только петициями одна смелее другой, наконец решили, что патриотов будут судить департаментские суды, и декрет об этом был отослан комитетам для изменения некоторых второстепенных постановлений. Следовало также согласиться на продолжение доклада о депутатах, скомпрометировавших себя в бытность свою комиссарами. Приняли постановление об аресте Лекинио, Лано, Лефьо, Дюпена, Бо, Пьорри, Максио, Шодрона-Руссо, Лапланша и Фуше и приступили к процессу Лебона. В это время сидело в тюрьмах столько же бывших членов Конвента, сколько и во время террора. Следовательно, сторонники милосердия не отставали от других и за зло платили злом же.
Конституция была внесена комиссией одиннадцати. Она обсуждалась в течение трех месяцев и была принята по статьям, с немногими изменениями. Комиссия, выработавшая ее, состояла из следующих членов: Лесаж, Дону, Буасси д’Англа, Крезе-Латуш, Берлье, Луве, Ланжюине, Ларевельер-Лепо, Дюран де Майян, Боден, Арденн, и Тибодо. Сийес не захотел стать членом этой комиссии, потому что по части конституции он был еще более непреклонен, нежели в любом другом вопросе. Разные конституции были предметом размышлений всей его жизни, этот вопрос составлял его специальность, его призвание. У Сийеса в голове имелась конституция совсем готовая, и не такой он был человек, чтобы пожертвовать ею. Он предложил ее прямо, от своего имени, без посредства комитета. Собрание из уважения к этому великому уму согласилось выслушать Сийеса, но проект его не приняло. Проект снова появится на сцене несколько позже, и мы будем иметь случай познакомиться с этим замечательным произведением человеческого гения. Конституция, которая была принята, соответствовала состоянию умов. В 1791 году люди были так неопытны и благодушны, что не могли представить себе существования особого собрания, контролирующего волю национального представительства, однако допустили и сохранили с благоговением, почти с любовью, королевскую власть. Стоило, однако, только подумать лучше, чтобы убедиться, что аристократические собрания имеются везде, во всех странах, и даже особенно полезны в республиках; что большое государство еще может обойтись без короля, но никак не без сената. В 1795 году французы успели насмотреться, каким беспорядкам подвержено собрание, когда оно единственное, и согласились на учреждение законодательного корпуса, разделенного на два собрания. В это время раздражение против аристократии было меньшим, нежели против королевской власти, потому что последней боялись больше, и приложили все старания к тому, чтобы оберечь себя от этого врага при составлении новой исполнительной власти. В комиссии была представлена и монархическая партия в лице Лесажа, Ланжтоине, Дюрана деМайяна и Буасси д’Англа. Эта партия предложила президента, но на такое предложение согласия не дали. «Так выберут еще, пожалуй, кого-нибудь из Бурбонов», – заявил Луве. Боден, депутат Арденн, и Дону предложили двух консулов, кто-то – трех. Предпочтение было отдано пяти директорам, которые решали бы дела большинством голосов. Этой исполнительной власти не были даны самые существенные атрибуты монархической власти: неприкосновенность, право утверждать законы, судебная власть, право объявлять войну и заключать мир. Директора должны были пользоваться лишь такой же неприкосновенностью, как и все депутаты, обнародовать и исполнять законы, руководить войной, но не объявлять ее, вести переговоры, но не ратифицировать мирные договоры. Таковы были основы директориальной конституции. Согласно с ними постановили следующее: 1) учредить совет из пятисот членов, имеющих не менее тридцати лет от роду (Совет пятисот), с тем чтобы этот совет один мог предлагать новые законы и обновлялся по третям каждый год; 2) учредить Совет старейшин из двухсот пятидесяти членов, имеющих не менее сорока лет от роду, непременно или женатых, или вдовых, – с правом утверждать законы и обязанностью тоже обновляться каждый год по третям; 3) наконец, учредить исполнительную Директорию из пяти членов, решающую дела большинством голосов, с тем чтобы каждый год выбывало по одному члену. Директория должна была назначать ответственных министров; обнародовать законы и наблюдать за их исполнением; располагать морскими и сухопутными силами; заведовать сношениями с иностранным державами, с правом давать отпор первым неприятельским военным действиям, но не объявлять и не вести войны без согласия законодателей; вести переговоры и представлять мирные договора для ратификации законодателям, за исключением секретных условий, которые Директории дозволялось заключать самовластно, лишь бы только этими условиями не уничтожались гласные статьи договоров. Назначались эти представители народной власти следующим порядком. Все граждане, достигшие двадцати одного года, собирались по своему неотъемлемому праву и составляли первичные собрания, которые сходились каждой год, 1 прериаля, и избирали членов избирательных собраний. Избирательные собрания сходились каждый год, 20-го числа того же месяца, и избирали членов обоих советов. Оба совета, наконец, назначали Директорию. Последнее распоряжение приняли на том основании, что исполнительная власть, назначенная властью законодательной, будет находиться в большей от нее зависимости; кроме того, так как республика еще не вошла у французов в привычку и была скорее следствием убеждений людей просвещенных или скомпрометированных во время революции, нежели общей потребностью, то не считалось благоразумным предоставлять назначение исполнительной власти народу. Конвент полагал, что авторы революции непременно будут преобладать в законодательном корпусе, особенно в первые годы, и, естественно, станут выбирать директоров, способных защищать их творение. Судебную власть вверили избираемым судьям. Были учреждены и мировые судьи. В каждом департаменте учредили также гражданский суд, который вел в первой инстанции дела, возникшие в данном департаменте, и принимал апелляции по делам, судившимся в соседних департаментах. Наконец, был учрежден уголовный суд из пяти членов с присяжными. Общинные собрания устранили; вместо них назначили муниципальные и департаментские администрации из трех, пяти или большего числа членов, в зависимости от размеров местного населения; администрации эти должны были избираться. Опыт заставил принять некоторые дополнительные, весьма важные распоряжения. Так законодательные органы сами должны были назначать место своего пребывания и могли перебираться в ту общину, в какую им заблагорассудится. Ни один закон не мог быть приведен в исполнение без предварительных чтений или только в случае, если он назывался неотложной мерой и был признан таковою Советом старейшин. Этим предотвращались опрометчивые и беспрестанно отменяемые решения, каких Конвент принимал так много. Наконец, воспрещались общества, именующие себя народными, проводившие публичные заседания, имевшие бюро, трибуны, разветвления. Печати предоставляли полную свободу. Эмигранты навеки изгонялись из страны; национальные имущества бесповоротно укреплялись за покупателями; все вероисповедания объявились свободными, хотя ни одно не признавалось государственным и не получало от государства содержания. Такова, в общих чертах, конституция, с помощью которой Конвент надеялся сохранить во Франции республику. Возникал важный вопрос. Учредительное собрание, чтобы похвалиться своим бескорыстием, исключило себя из нового законодательного корпуса: поступить ли также и Национальному конвенту? Такое решение, нужно признаться, стало бы великой неосторожностью. У народа, который, четырнадцать веков прожив с монархией, низвергнул ее в минутном восторженном порыве, республика была еще не настолько популярна, чтобы можно было предоставить ее упрочение естественному течению дел. Революция нуждалась в поддержке людей, устроивших ее. Конвент по большей части состоял из членов прежних собраний; в него входили и разрушившие старые феодальные порядки 14 июля и 4 августа 1789 года; и низвергнувшие престол 10 августа; и убившие 21 января главу династии Бурбонов, а потом в течение трех лет ценой нечеловеческих усилий отстаивавшие свое творение против всей Европы. Эти люди одни могли надежно защитить Революцию, которую окончательно освятила конституция, учреждающая Директорию. Поэтому, не прибегая к фальшивому бескорыстию, 22 августа (5 фрюктидора) декретом постановили, что в состав нового законодательного корпуса войдут две трети Конвента и избираться будет лишь одна треть членов. Теперь вопрос заключался в том, сам ли Конвент назначит, кто из его членов остается, или предоставит это избирательным собраниям. После бурных прений 30 августа (13 фрюктидора) решили, что выбор этот будет предоставлен избирательным собраниям. Постановили созвать первичные собрания на 6 сентября (20 фрюктидора), чтобы они приняли и утвердили декреты 5 и 13 фрюктидора. Кроме того, Конвент постановил, что затем первичные собрания снова сойдутся и сразу же, в год III (1795-й), а не 1 прериаля следующего года, устроят выборы. Таким способом Конвент заявлял, что слагает с себя верховную власть и собирается немедленно ввести в силу конституцию. Постановили, кроме того, что армии, обыкновенно лишенные совещательных прав, соберутся на тех театрах войны, какие в настоящее время занимают, и примут конституцию, поскольку за людьми, которым предстоит защищать конституцию, следует признавать право изъявить свое согласие на нее. Когда были приняты все эти решения, многочисленные враги Конвента не замедлили заявить свое крайнее неудовольствие. Большинству из них не было никакого дела до конституции. Они согласились бы на всякую, лишь бы она могла послужить поводом к обновлению правительства. Роялистам хотелось такого обновления, чтобы вновь устроить смуту, набрать как можно больше людей по своему выбору и обратить самую республику на пользу монархии. А главное, им хотелось устранить членов Конвента, которые сражались против контрреволюции, и призвать на их место новых, неопытных людей, не связанных своей прежней деятельностью; словом, людей, которых было бы легче обольстить. Многие литераторы, писатели, неизвестные честолюбцы, которым страстно хотелось приобщиться к политической жизни, тоже желали всеобщего обновления, не из чувства вражды к революции, а только из личных интересов. И те и другие бросились во все секции, стараясь возмутить их против декретов. Конвент, говорили они, хочет увековечить свою власть; толкует о народных правах, однако на неопределенное время откладывает их применение; предписывает народу, кого выбирать; не дозволяет оказывать предпочтение людям, не запятнанным злодеяниями; насильно хочет сохранить большинство тех, кто покрыл Францию эшафотами. Таким образом, присовокупляли они, новое законодательство не очистится от сторонников террора, Франция не будет вполне успокоена насчет своей будущности и не обретет уверенность в том, что прежние ужасы никогда не возобновятся. Такие разглагольствования действовали на многие умы. Вся буржуазия, которая была не прочь воспользоваться новыми учреждениями, но опасалась возрождения террора; люди искренние, но не привыкшие много думать, мечтавшие о беспорочной республике и желавшие вручить власть новому, чистому поколению; юноши, влюбленные в те же мечты; множество людей, одаренных пылким воображением, жаждущим новизны, – все эти люди с большим прискорбием узнали, что деятельность Конвента продлится еще года два или три. Поднялись журналисты. В секциях появились люди, занимавшие видное место в литературе или игравшие роль в прежних собраниях. Сюар, Морелле, Лакретель-младший, Фьеве, Воблан, Пасторе, Дюпон де Немур, Катрмер де Кенси, Шарль Делало, пылкий новобранец Лагарп, генерал Миранда, выпущенный из тюрьмы, в которую попал после Неервиндена, испанец Марчена, спасшийся от гонений, последовавших на его друзей жирондистов, глава роялистской агентуры Леметр – все они отличились в это время брошюрами или пылкими речами в секциях, точно сорвались с цепи. Им было вполне ясно, какого плана держаться: следовало принять конституцию и отвергнуть декреты. Так недовольные решили поступить в Париже, так они посоветовали поступить секциям во всей Франции. Но интриганы, волновавшие секции, желали довести оппозицию до открытого восстания и задумали план более обширный. Они хотели, чтобы первичные собрания, приняв конституцию и отвергнув декреты 5 и 13 фрюктидора, объявили себя постоянными, полномочия Конвента – истекшими, а избирательные собрания – свободными выбирать депутатов, каких им заблагорассудится; наконец, они хотели, чтобы первичные собрания разошлись только по вступлении в силу нового законодательного корпуса. Агенты Леметра пустили этот план по парижским предместьям; они написали в Нормандию, где велись интриги с целью восстановления порядков 1791 года, в Бретань, в Жиронду – словом, всюду, где у них только оставались связи. Одно из писем перехватили и прочли с кафедры. Конвент нисколько не испугался затеваемых против него действий и спокойно дожидался решения первичных собраний, уверенный, что большинство голосов окажется за него. Впрочем, подозревая, что замышляется и вооруженное насилие, депутаты передвинули несколько батальонов в лагерь Саблон под Парижем. Тут не могла не отличиться секция Лепелетье, бывшая Сен-Тома: она явилась в Конвент с петициями от себя и секций Майль, Бют-де-Мулен, Елисейских Полей и Французского театра. Все эти секции спрашивали, чем провинились парижане и почему им не доверяют, если призвали войска. Они жаловались на мнимое насилие и употребляли между прочими следующие дерзкие выражения: «Заслужите, чтобы мы вас выбрали, а не приказывайте». Конвент с твердостью ответил на все эти адресы, заявив, что почтительно ждет проявления народной воли, которой покорится и принудит покориться всех. Больше всего недовольные хотели бы организовать некий центр для сношений со всеми секциями, чтобы легче было придать движению общее направление и организовать восстание. Секция Лепелетье вызвалась стать таким центром. Она была вправе присвоить себе эту честь, потому что всегда горячее остальных относилась к подобным делам. Секция начала с того, что обнародовала Акт взаимной гарантии – что было и неосторожно, и бесполезно. Полномочия Конвента, говорилось в этом документе, сами собою прекращаются в присутствии державного народа; первичные собрания представляют этот державный народ; они имеют право выразить какое угодно мнение о конституции и декретах; они взаимно охраняют друг друга и обязаны гарантировать друг другу полную независимость. Никто этого и не отрицал; следовало только прибавить к этим положениям одну оговорку: Конвент сохраняет свои полномочия до тех пор, пока станет известно решение большинства. Впрочем, эти пустые общие фразы должны были служить только средством, чтобы перейти к другой мере. Секция Лепелетье предложила всем сорока восьми парижским секциям назначить по комиссару, чтобы высказать взгляды граждан на конституцию и декреты. Тут уже начиналось нарушение законов, потому что первичным собраниям воспрещалось сноситься между собою, а также посылать друг другу комиссаров или адресы. Конвент отменил это постановление и объявил, что исполнение его будет считаться угрозой общественной безопасности. Секции, еще не успевшие набраться смелости, уступили и стали собирать голоса. Они начали с того, что изгнали патриотов, приходивших голосовать. В одних секциях их просто выгоняли вон из залы; в других посредством афиш патриотам предлагалось оставаться дома. Многие таким образом лишились возможности воспользоваться своими правами, и люди поспешили в Конвент жаловаться на насилие. Конвент выразил неодобрение такому поведению секций, но отказался вмешиваться, чтобы не выглядело так, будто он вымогает голоса, и чтобы само это злоупотребление послужило доказательством полной свободы выборов. Патриоты, изгнанные из своих секций, искали убежища на трибунах Конвента; там они расположились в большом числе и каждый день требовали, чтобы комитеты возвратили им оружие, уверяя, что готовы применить его для защиты Республики.
Все парижские секции, кроме секции Кенз-Вен, приняли конституцию и отвергли декреты, не то, что в остальной Франции. Оппозиция, как это всегда происходит, была не так горяча в провинциях, как в столице. В провинциях же собрания сошлись спокойно, при полной, однако же, свободе, приняли конституцию почти единогласно, а декреты – значительным большинством. Что касается армий, они приняли конституцию с восторгом; в Бретани и Вандее, в Альпах и на Рейне лагеря, превращенные в первичные собрания, оглашались громкими, радостными криками. Лагеря были полны людей, преданных революции, привязанных к ней в силу самых жертв, которые ей принесли. Этот общий восторг доказал Парижу, что в армиях вовсе не было ожесточения против революционного правительства. Ополченцы 1793 года, которыми армии были наполнены, сохраняли благоговейную память о великом комитете, который гораздо лучше управлял ими и кормил их, нежели новое правительство. Оторванные от частной жизни, приученные ни во что не ставить труды и смерть, вскормленные, так сказать, славой и иллюзиями, они еще сохраняли восторженность, которая в провинциях начинала угасать; они гордились тем, что могли называться солдатами республики, защищаемой ими против всех европейских государей; республики, которая могла считаться до некоторой степени делом их рук. Они с полной искренностью клялись не дать ей погибнуть. Армия Самбры-и-Мааса, которой командовал Журдан, разделяла возвышенные чувства своего храброго начальника. Эта армия стала победительницей при Ватиньи, сняла блокаду Мобёжа, победила при Флёрюсе и подарила Франции Бельгию; она, наконец, победила на Урте и Руре, обеспечив Франции линию Рейна. Она только недавно перешла Рейн, и 60 тысяч человек разом приняли новую республиканскую конституцию. Эти известия, ежедневно доходившие до Парижа, радовали Конвент и весьма огорчали секционистов. Каждый день они являлись с новыми адресами, в которых, донося результаты голосования в своих собраниях, с оскорбительной радостью объявляли, что конституция принята, а декреты отвергнуты. Патриоты, толпившиеся на трибунах, роптали; но в ту же минуту зачитывали протоколы, присланные из департаментов и сообщавшие о принятии и конституции, и декретов. И патриоты разражались бешеными рукоплесканиями. Последние дни фрюктидора целиком прошли в подобных бурных заседаниях. Наконец 23 сентября 1795 года (1 вандемьера года IV) был обнародован общий результат голосования. Конституция оказалась принятой почти единогласно, а декреты – подавляющим большинством. Несколько тысяч голосов, однако, были поданы против декретов, попадались даже голоса, осмелившиеся требовать короля: это было достаточным доказательством полной свободы, которой пользовались первичные собрания. В тот же день конституция и декреты были торжественно объявлены государственными законами. Это объявление было принято продолжительными рукоплесканиями. Конвент немедленно постановил декретом, чтобы те из первичных собраний, которые еще не выбрали своих избирателей, сделали это до 2 октября, чтобы избирательные собрания сошлись и кончили дело не позже 21 октября; наконец, чтобы новый законодательный корпус собрался 6 ноября (15 брюмера). Это известие как громом поразило секционистов. Они до последней минуты надеялись, что Франция согласится с Парижем и они таким образом избавятся от двух третей; но последний декрет отнимал у них всякую надежду. Тогда они прикинулись, будто не верят в добросовестное исчисление голосов, и послали комиссаров в комитет декретов проверить протоколы. Эта оскорбительная выходка была принята спокойно: комиссарам показали протоколы, позволили пересчитать голоса, и они вынуждены были признать, что подсчет верен. После этого уже не оставалось возможности ссылаться на мнимую ошибку или нечестность: оставалось лишь одно – восстание. Но это была ужасная мера, и нелегко было на нее решиться. Честолюбцы, воинственно настроенная молодежь и роялисты охотно подвергали себя риску сражения; но миролюбивым гражданам, привлеченным к секционному движению скорее страхом нового террора, нежели политическим мужеством, не так-то легко было решиться на крайние меры. Во-первых, восстание было не в их правилах: как, в самом деле, могли враги анархии открыто восстать против установленной и признанной всей страной власти? Партии, правда, не очень пугаются противоречий; но как посметь мирным буржуа, никогда не покидавшим своих домов и контор, напасть на регулярные войска, снабженные пушками? Однако роялистские интриганы кинулись в секции и стали распространяться об интересах общества; о чести; о том, что нельзя чувствовать себя в безопасности, если власть останется в руках Конвента; что этак каждую минуту может вернуться террор; наконец, что стыдно отступать и покоряться. Тут они прямо обращались к тщеславию своих слушателей. Молодые люди, возвратившиеся из армии, пошумели, похвастались, увлекли за собою робких, не дали им высказать своих опасений, и всё было приготовлено к энергичной выходке. Группы молодежи ходили по улицам и кричали: «Долой две трети!» Когда солдаты Конвента решили их разогнать и помешали кричать и буянить, им ответили ружейными выстрелами. Начались беспорядки по всему городу и даже в Пале-Рояле. Леметр и его соратники, видя такой успех своих трудов, выписали в Париж нескольких шуанских вождей и некоторое число эмигрантов. Их спрятали и только ждали первого сигнала, чтобы выпустить. Удалось вызвать смуты в Орлеане, Шартре, Дрё, Вернёйе и Нонанкуре. В Шартре депутат Летелье пустил себе пулю в лоб с отчаяния, что ему не удалось помешать беспорядкам. Хотя эти волнения и были подавлены, однако успех агитации в Париже вполне мог привести к всеобщему движению. Плана восстания еще не было, но простоватые парижские буржуа понемногу поддавались молодежи и интриганам. Больше всех волновалась, по обыкновению, секция Лепелетье. Прежде чем думать о наступательной тактике, необходимо было учредить центральное управление, и к этому давно уже искали средства. Организаторам пришло на ум, что собрание избирателей, выбранных всеми парижскими первичными собраниями, могло бы стать таковым центром; но, согласно последнему декрету, это собрание не имело права сойтись ранее 6 сентября (20 фрюктидора), а так долго ждать было нельзя. Тогда секция Лепелетье предложила постановление, мотивированное довольно странным соображением. Конституция, говорилось в этом постановлении, полагает промежуток между первичными и избирательными собраниями лишь в двадцать дней. Первичные собрания на этот раз сошлись 6-го числа, стало быть, избирательные собрания должны сойтись 2 октября (10 вандемьера). Конвент же назначил не 2-е, а 12 октября (20 вандемьера), очевидно, чтобы еще замедлить вступление в силу конституции и оттянуть минуту, когда придется делиться властью с новой третью законодательного корпуса. Поэтому, с целью защиты прав граждан, секция Лепелетье постановила, чтобы уже выбранные избиратели тотчас же собрались и сообщили это постановление другим секциям, требуя одобрения. От многих действительно получили одобрение и назначили собрание на 3 октября (11 вандемьера) в театре «Одеон». В этот день часть избирателей собралась в здании театра, под охраной нескольких батальонов Национальной гвардии. Толпа любопытных сбежалась на площадь Одеон и за короткое время заполнила ее. Комитеты общественной безопасности и общественного спасения, а также три депутата, которые после 4 прериаля управляли вооруженными силами Парижа, всегда собирались в важных случаях. Они поспешили в Конвент с донесением об этом первом своевольном поступке, ясно указывавшем на замышляемое восстание. Конвент в этот день собирался отмечать печальную дату – день памяти злополучных жирондистов. Многие хотели отложить торжественный прием, но Тальен заявил, что было бы недостойно собрания прерывать свои занятия и что следует делать то, что положено делать, не обращая внимания ни на какие опасности. Издали декрет, приказывавший разойтись всякому избирательному собранию, собравшемуся незаконным путем или ранее предписанного срока. Чтобы предоставить возможность отступления всем, кто пожелал бы отойти от начатого дела, декрет присовокуплял, что все, кто, будучи вовлечен в противозаконные действия, немедленно вернутся на праведный путь, будут избавлены от всяких преследований. В ту же минуту несколько полицейских офицеров в сопровождении всего только шести драгун отправились на площадь Одеон для объявления декрета. Комитеты хотели по возможности избежать применения силы. Толпа между тем увеличивалась и в «Одеоне», и на площади. Зала театра была дурно освещена, множество секционистов занимало ложи. Те, кто принимали деятельное участие в происшествии, в волнении ходили по сцене. Никто не смел совещаться или решить хоть что-нибудь. Узнав, что пришли полицейские, все выбежали на площадь. Толпа уже обступила офицеров, загасила их факелы и принудила разбежаться. Секционисты вернулись в залу, поздравляя друг друга с этой победой. Они говорили речи, клялись сопротивляться тирании, но не приняли никаких мер, чтобы поддержать совершенный уже решительный шаг. Становилось поздно; многие любопытные, даже некоторые секционисты, начали расходиться; зала начала пустеть, а когда подошли гвардейцы, в ней уже никого не оставалось. Нужно заметить, что комитеты приказали генералу Мену, назначенному начальником внутренней армии, привести из лагеря одну колонну солдат. Колонна пришла и привезла два орудия, но никого более не застала ни на площади, ни в зале «Одеона».
Это происшествие, хоть и не имело последствий, вызвало сильное волнение. Секционисты снова испытали свои силы и приободрились. Конвент и его приверженцы с ужасом следили за событиями этого дня и не сомневались в восстании, не предполагая, что их противники могли еще не принять никакого решения. Патриоты, недовольные Конвентом, который обошелся с ними уж очень немилостиво, однако, исполненные обычного рвения, сознавали, что долг велит им пожертвовать личными чувствами общему делу. В ту же ночь они толпами явились в комитеты – предлагать свои услуги и просить оружия. Одни недавно вышли из тюрем, другие были исключены из первичных собраний: у всех имелись самые уважительные причины усердствовать. К ним присоединилось множество офицеров, исключенных из военной службы реакционером Обри. Термидорианцы, за которыми всё еще оставался перевес в комитетах и которые опять сошлись с монтаньярами, не колеблясь приняли предложения патриотов, и их поддержали многие жирондисты. Луве, на сходках, происходивших у одного общего друга термидорианцев и жирондистов, предлагал снова вооружить предместья и даже открыть Клуб якобинцев, с тем, впрочем, чтобы опять закрыть, если эта мера окажется ненужной. Итак, комитеты, не задумываясь, велели раздать оружие всем желающим, дали им в офицеры военных, находившихся в Париже без занятий, а начальником над ними назначили старого генерала Беррюйе. Это происходило утром 4-го числа. Слухи об этих событиях тотчас же разнеслись по всем кварталам, и это оказалось весьма с руки агитаторам, старавшимся скомпрометировать мирных парижан. Конвент, говорили они, опять хочет начать террор: он раздает оружие террористам, а потом натравит их на порядочных людей; имущество и личность более не в безопасности; надо скорее браться за оружие, чтобы защищать их. Действительно, секции Лепелетье, Бют-де-Мулен, Общественного договора, Французского театра, Люксембурга, Пуассоньер, Брута и Тампля объявили себя в состоянии восстания, подняли тревогу в своих кварталах и приказали гражданам, принадлежавшим к Национальной гвардии, отправляться в свои батальоны, чтобы следить за общественной безопасностью, которой будто бы угрожали сторонники террора. Барабанщики с глашатаями, посланные от секций, смело прошли по городу, подавая сигнал к восстанию. Граждане, волнуемые распускаемыми слухами, вооружились и отправились по секциям, готовые поддаться всем внушениям неразумной молодежи и коварных интриганов. Конвент немедленно объявил свои заседания постоянными и предписал комитетам строго следить за общественной безопасностью и исполнением декретов. Депутаты отменили закон о разоружении патриотов, чтобы придать легальность уже принятым комитетами мерам, но в то же время издали прокламацию с целью успокоить Париж по поводу намерений и патриотизма людей, которым было возвращено оружие. Комитеты, убедившись, что секция Лепелетье становится центром всех интриг и скоро, может быть, сделается главной квартирой бунтовщиков, постановили окружить эту секцию и отобрать у нее оружие. Мену опять получил приказ выступить из лагеря с отрядом и несколькими орудиями. Этому генералу, хорошему офицеру, гражданину кроткому и умеренному, однако, выпала самая трудная работа в течение всей революции. В Вандее он терпел всякие неприятности и притеснения от партии Ронсена. Его привезли в Париж и отдали под суд, и он был обязан жизнью только событиям 9 термидора. Потом Мену назначили начальником внутренней армии и отдали приказ идти усмирять предместья. Но тогда он должен был сражаться против своих природных врагов, притом преследуемых общественным мнением, и наконец, слишком мало щадивших чужую жизнь, чтобы можно было особенно щадить их. Теперь же ему предстояло стрелять по населению самой столицы, по молодежи, принадлежавшей к лучшим семействам, словом – по тому классу, который создавал общественное мнение. Следовательно, генерал Мену находился в жестоком недоумении, как это всегда бывает со слабохарактерными людьми, не умеющими ни отказаться от своей должности, ни решиться исполнить суровое поручение. Он выступил очень поздно; дал секциям возможность объявлять всё, что им было угодно, в течение предыдущего дня; затем, вместо того чтобы действовать, пустился в тайные переговоры с несколькими вдохновителями возмущений; даже заявил трем депутатам, управлявшим вооруженной силой, что не желает командовать батальоном, составленным из патриотов. Депутаты отвечали, что этот батальон будет состоять под исключительным началом Беррюйе, и торопили генерала, не жалуясь еще, однако, комитетам на его колебания и нерешительность. К тому же они не могли не заметить такого же нежелания у многих других офицеров и у обоих бригадных генералов, которые под предлогом болезни не явились вовсе. Наконец, уже к ночи, Мену в сопровождении депутата Лапорта явился в секцию Лепелетье. Зачинщики заседали в женском монастыре Святого Фомы, на месте которого впоследствии соорудили прекрасное здание Биржи. Туда надо было идти через улицу Вивьен. Мену загромоздил эту улицу пехотой, кавалерией, орудиями и оказался в положении, в котором трудно было бы сражаться, окруженным толпами секционистов, запиравших все выходы и заполнявших окна домов. Генерал подкатил свои пушки к воротам монастыря и вошел вместе с Лапортом и с батальоном в залу, где проходило заседание. Члены секции, вместо того чтобы заседать, как надлежит совещательному собранию, оказались вооружены, выстроены в боевом порядке и с председателем во главе. Председателя звали Делало. Генерал и депутат потребовали, чтобы присутствующие сдали оружие; те отказались. Председатель Делало, заметив, что требование было заявлено с некоторым колебанием, ответил на него горячо, обратился к солдатам с большим присутствием духа и объявил, что лишь насилием, доведенным до последней крайности, можно будет отнять у членов секции оружие. Сражаться в этом тесном пространстве или выйти и разгромить здание пушками – это был тяжелый выбор. Однако сомнительно, чтобы секционисты выдержали до конца, если бы Мену говорил с твердостью, предварительно расставив артиллерию. Мену и Лапорт предпочли капитуляцию: они пообещали увести войска с условием, что секция немедленно разойдется. Секция обещала, или, вернее, притворилась, что обещает. Часть членов даже прошли в порядке через залу, как бы собираясь удалиться. Мену, со своей стороны, вывел свой отряд и увел все войска, которые с трудом смогли пробраться сквозь плотную толпу. Секция между тем торжествовала и еще более утвердилась в своих намерениях. Вышедшие члены немедленно вернулись. Пронесся слух, что декреты не исполнены, а победа осталась за бунтовщиками и войска возвращаются, не отстояв власти Конвента. Множество очевидцев этой сцены побежали в Конвент, ворвались на трибуны, рассказали о случившемся, и со всех сторон раздались крики «Измена! Измена!» и «К решетке генерала Мену!». Конвент потребовал комитеты для объяснений. В то же время комитеты, уведомленные о случившемся, со своей стороны, находились в сильнейшем волнении. Они хотели арестовать Мену и немедленно судить его. Только это ничему бы не помогло: следовало исправить его оплошность. Однако едва ли можно было ждать согласия и необходимых энергии и распорядительности от сорока человек, споривших об исполнительных мерах. Три депутата, управлявшие вооруженной силой, тоже не обладали достаточным авторитетом. Первой мыслью было назначить одного главу – как всегда в решительных случаях. В эту минуту, напоминавшую обо всех опасностях термидора сразу, вспомнили о депутате Баррасе, который в качестве бригадного генерала был назначен главнокомандующим и распорядителем в памятный день 9 термидора и справился со своей задачей со всей необходимой энергией. Депутат Баррас был высокого роста, имел сильный голос, не умел говорить длинных речей, но мог экспромтом сказать несколько энергичных сердитых фраз, которые сразу давали о нем понятие как о человеке решительном и преданном своему делу. Он и был назначен начальником внутренней армии, и ему в помощники дали тех самых трех депутатов, которые до него управляли вооруженными отрядами. Это был в одном отношении очень удачный выбор. При Баррасе состоял чрезвычайно способный офицер, а Баррас был не настолько мелочен, чтобы устранять человека, искуснее себя. Все депутаты, бывавшие в Италии комиссарами, хорошо знали молодого артиллерийского офицера, по милости которого были взяты Тулон, форт Саорджио и линия реки Ройи. Этот молодой офицер, потом уже бригадный генерал, был отставлен Обри и проживал в Париже без дела. Его представили госпоже Тальен, которая обласкала его со своей обычной добротой и стала о нем хлопотать.
 Баррас
Баррас
Генерал был небольшого роста, очень худощав, со впалыми, болезненно бледными щеками, но прекрасными чертами лица, пронзительным, пристальным взором, твердой и своеобразной речью; он обращал на себя внимание. Часто говорил он о решительном театре войны, где, по его мнению, Республика должна была найти победу и мир. Этим театром войны была Италия. Поэтому, когда под началом Келлермана все апеннинские линии были потеряны, комитет призвал этого генерала и спросил его мнения. С той поры ему поручали составление декретов, и он участвовал в управлении военными действиями. В ночь на 4 октября (12 вандемьера) Баррас вспомнил о нем и потребовал, чтобы генерала прикомандировали к нему, что и было исполнено. Оба назначения, в ту же ночь представленные на утверждение Конвента, были немедленно одобрены. Баррас поручил заботу о военных распоряжениях молодомугенералу, который в ту же минуту всё принял на себя и начал отдавать приказы с изумительной энергией.
Тревогу продолжали бить во всех кварталах. Во все стороны отправились эмиссары, превозносившие твердость секции Лепелетье и восхвалявшие ее успех, преувеличивая при этом опасности, которым она подвергалась, доказывая, что те же опасности грозят всем секциям, подстрекая их самолюбие и уговаривая не отставать от молодцов из квартала Святого Фомы. Со всех сторон стали стекаться недовольные, и наконец в секции Лепелетье образовался центральный военный комитет под председательством журналиста Рише де Серизи. Проект восстания был уже подготовлен; отряды строились; нерешительные люди завлекались речами и примером; словом, из-за воображаемого вопроса чести вся парижская буржуазия собиралась играть роль, вовсе не согласную ни с ее привычками, ни с ее интересами. Теперь уже было поздно думать о том, чтобы идти на секцию Лепелетье и этим задушить восстание в самом начале. Конвент располагал 5 тысячами регулярного войска. Предполагая, что все секции обнаружат одинаковое усердие и соберут до 40 тысяч хорошо вооруженных и организованных людей, не идти же было 5 тысячам против 40 на улицах громадной столицы. Одно еще можно было сделать: защитить Конвент и обратить его в отлично укрепленный лагерь. Это-то и задумал генерал Бонапарт. У секций не было пушек: 4 прериаля они сдали все, какие у них были, и те самые секции, которые более всех горячились теперь, первыми тогда подали пример, чтобы только обезоружить предместье Сент-Антуан. Это было очень выгодно Конвенту. Весь парк находился в лагере Саблон. Бонапарт тотчас же приказал эскадронному командиру Мюрату ехать за этим парком с отрядом кавалерии из трехсот человек. Мюрат подоспел как раз в то время, когда отряд секции Лепелетье подходил, чтобы завладеть парком, проскакал вперед, обогнал отряд, велел запрячь орудия и повез их к Тюильрийскому дворцу. Затем Бонапарт занялся укреплением всех выходов. У него было 5 тысяч регулярного войска; отряд патриотов, увеличившийся за сутки до полутора тысяч; несколько жандармов, лишенных оружия в прериале, а теперь опять получивших его в виду экстренных обстоятельств; наконец, полицейский легион и несколько инвалидов – всего до 8 тысяч человек. Бонапарт разместил свою артиллерию и пехоту по глухим улочкам, тупикам, имевшим только один выход: Дофин, Л’Эшель, Роган и Сен-Никез, затем на Новом мосту, на Королевском мосту, на мосту Людовика XVI, на площадях Людовика XV[2] и Вандомской, – словом, на всех пунктах, с которых можно было подступиться к Конвенту. Кавалерию и часть пехоты Бонапарт оставил в виде резерва на площади Карусель и в саду Тюильри. Он приказал свезти в Тюильри все съестные припасы, устроить тут же склад зарядов и перевязочный пункт. Он послал отряд с приказом завладеть складом в Мёдоне и занять там возвышенности, чтобы иметь возможность уйти туда с Конвентом в случае неудачи. Затем Бонапарт велел перехватить дорогу на Сен-Жермен, чтобы бунтовщикам не смогли доставить пушки, и послал несколько ящиков с оружием в предместье Сент-Антуан, чтобы вооружить секцию Кенз-Вен, которая одна подала голос за декреты. Кроме того, в эту секцию отправился Фрерон, поддержать ее на месте.
Все эти распоряжения были отданы утром 5 октября (13 вандемьера). Республиканским войскам приказали ждать нападения и не нападать самим. Тем временем комитет восстания тоже отдавал распоряжения. Он объявил правительственные комитеты все закона и создал нечто вроде судилища – для суда над теми, кто не признает верховной власти секций. Несколько генералов предложили комитету свои услуги; некий вандеец, граф Молеврье, и молодой эмигрант по имени Лафон пришли открыто и взялись управлять передвижениями. Генералы Дюо и Даникан, командовавшие республиканскими войсками в Вандее, присоединились к ним. Даникан был человеком, гораздо более годным на то, чтобы ораторствовать в клубе, нежели быть начальником армии. Отставленный от службы, он проживал в Париже, крайне недовольный и готовый принять участие в любых преступных замыслах. Его назначили военным начальником секций. Когда окончательно решено было драться и граждане оказались вовлечены в события почти против своей воли, бунтовщики придумали нечто вроде плана. Секции предместья Сен-Жермен под предводительством графа Молеврье должны были направиться от «Одеона» через мосты и напасть на дворец Тюильри. Секции правого берега должны были повести атаку с улицы Сент-Оноре и всех поперечных улиц, идущих от Сент-Оноре к Тюильри. Один отряд под началом молодого Лафона должен был занять Новый мост, чтобы поддерживать сообщение между двумя отделениями этой армии. Во главе колонн поставили молодых людей, служивших в армии и более других способных выдержать огонь. Из 40 тысяч солдат Национальной гвардии под ружьем были едва ли от 20 до 27 тысяч. Гораздо вернее было бы загородить улицы баррикадами, запереть таким образом Конвент с его войсками в ограде Тюильри, занять окрестные дома, поддерживать оттуда прицельный убийственный огонь, по одиночке убивая защитников Конвента, и в короткое время усмирить их голодом и пулями. Но секционисты рассчитывали на внезапный напор и надеялись одной атакой дойти до дворца и заставить защитников раскрыть перед ними все двери. Тем временем секция Пуассоньер остановила артиллерийских лошадей и повозки с оружием, предназначавшиеся для секции Кенз-Вен; секция Монблан отбила продовольствие, отправляемое в Тюильри; отряд секции Лепелетье завладел Казначейством. Молодой Лафон во главе нескольких отрядов двинулся к Новому мосту, тогда как другие отряды шли из переулка Дофин. Этот мост было поручено защищать генералу Карто, для чего ему дали четыреста человек и четыре пушки. Не желая начинать сражения, он отступил на набережную Лувра. Отряды секций повсюду выстроились всего в нескольких шагах от постов, поставленных Конвентом, – так близко, что с часовыми можно было разговаривать. Войскам Конвента весьма выгодно было бы принять на себя инициативу, и если бы они произвели неожиданное нападение, то, вероятно, привели бы мятежников в смятение. Но офицерам приказали ждать нападения. Поэтому, невзирая на совершенные уже враждебные действия – взятие артиллерийских лошадей, оружия и продовольствия, несмотря даже на смерть одного ординарца, убитого на улице Сент-Оноре, с атакой всё еще медлили. Всё утро прошло в приготовлениях секций и в ожидании со стороны войск Конвента. Вдруг Даникан, прежде чем начинать сражение, решил послать комитетам парламентера, чтобы предложить им свои условия. Баррас и Бонапарт обходили посты, когда к ним привели этого парламентера с завязанными глазами, как в военную крепость. Они сразу же приказали вести его к комитетам. Парламентер начал говорить в угрожающем тоне и предложил мир с условием отобрать оружие у патриотов и отменить декреты 5 и 13 фрюктидора. Подобные условия не могли быть приняты, как, впрочем, и любые другие. Однако комитеты, хоть и не стали даже отвечать, однако решили послать двадцать четыре депутата брататься с секциями. Это средство много раз уже удавалось, потому что живое слово сразу трогает людей, готовых лезть в драку, и они охотно соглашаются на сделку, избавляющую их от необходимости взаимной резни. Между тем Даникан, не получив ответа, приказывает начать атаку. Раздаются выстрелы. Бонапарт велит нести восемьсот ружей и патронташей в одну из зал Конвента, чтобы вооружить депутатов, которые, в случае надобности, могли бы служить резервом. Эта предосторожность сразу дает почувствовать, как велика опасность. Каждый депутат спешит занять свое место, и, как всегда в минуты опасности, собрание в глубочайшем молчании начинает ждать исхода. Уже 4 часа. Бонапарт в сопровождении Барраса садится на лошадь во дворе Тюильри и скачет к посту в переулок Дофин, что против церкви Святого Роха. Секционные отряды уже наполняли улицу Сент-Оноре и доходили до самого переулка. Один из их лучших отрядов стоял на ступенях церкви Святого Роха, откуда удобно было стрелять по канонирам Конвента. Бонапарт, умевший ценить значение первого хода, выдвигает свои орудия и дает залп. Секционисты отвечают живым ружейным огнем; но Бонапарт, закидывая их картечью, заставляет отступить к церкви. В ту же минуту он выезжает на улицу Сент-Оноре и бросается к церкви с отрядом патриотов, которые доблестно сражаются подле него и жаждут мести за многие нанесенные им жестокие оскорбления. Секционисты, несмотря на энергичное сопротивление, вынуждены покинуть это место. Тогда Бонапарт, немедленно развернув орудия вправо и влево, начинает обстреливать улицу Сент-Оноре по всей длине. Мятежники бегут в беспорядке. Бонапарт оставляет офицера, поручив ему продолжать пальбу и довершить разгром мятежников, а сам скачет к посту на площади Карусель, а оттуда к остальным. Везде он стреляет картечью, везде обращает в бегство несчастных секционистов, неосторожно попавших под пушечный огонь плотными колоннами. Имея во главе своей очень храбрых людей, мятежники, однако, с величайшей поспешностью бегут к главной квартире – женскому монастырю св. Фомы. Даникан и прочие вожди только тогда понимают, какую совершили ошибку, отправившись прямо под пушки, вместо того чтобы построить баррикады и засесть по домам, окружающим Тюильри. Однако они не теряют бодрости и готовы к новому усилию. Решено соединиться с колоннами, идущими из Сен-Жерменского предместья, и вместе предпринять атаку на мосты. Они собирают от шести до восьми тысяч человек, направляют их к Новому мосту, где стоит Лафон со своим отрядом, и соединяют с отрядами, идущими из переулка Дофин, под началом графа Молеврье. Все вместе они двигаются плотной колонной от Нового моста к Королевскому, вдоль набережной Вольтера. Бонапарт, присутствуя везде, где того требует опасность, уже на месте. Он расставляет несколько батарей на параллельной набережной Тюильри, выдвигает пушки у входа на Королевский мост и нацеливает их на набережную, по которой идут мятежники. Приняв эти меры, Бонапарт дает секционистам подойти близко и только тогда приказывает стрелять. Картечь сыплется с моста прямо на них и громит сбоку, сея смерть и ужас в их рядах. Молодой Лафон с геройской храбростью собирает около себя наиболее твердых из своих людей и опять идет к мосту, намереваясь взять орудия с бою. Удвоенный огонь разгоняет его колонну; тщетно пытается он еще раз вести ее в атаку: колонна разбегается от выстрелов искусно управляемой артиллерии. В шесть часов сражение, начавшееся в половине пятого, было кончено. Тогда Бонапарт, который вел это дело с беспощадной энергией и стрелял по парижанам точно по австрийским полкам, приказывает зарядить пушки одним порохом, чтобы окончательно разогнать мятежников. Несколько секционистов укрепляются на Вандомской площади, в церкви Святого Роха и в Пале-Рояле; Бонапарт выводит свои войска из всех переулков на улицу Сент-Оноре и отделяет отряд, который, отправившись от площади Людовика XV, переходит улицу Руаяль и идет вдоль бульваров. Таким образом, очищают Вандомскую площадь, освобождают церковь Святого Роха, окружают Пале-Рояль и блокируют его, чтобы избежать ночного сражения. На следующее утро достаточно было нескольких ружейных выстрелов, чтобы заставить мятежников очистить Пале-Рояль и секцию Лепелетье, где они намеревались укрепиться. Бонапарт снял немногочисленные баррикады, которые были настроены близ заставы Сержантов, и остановил отряд, который вез секционистам пушки из Сен-Жермен. Спокойствие было вполне восстановлено в течение следующего дня. Убитые были убраны немедленно, чтобы изгладить всякие следы сражения. С обеих сторон насчитали до трех или четырех сотен человек ранеными и убитыми.
Эта победа обрадовала всех искренних друзей Республики. Конвенту, то есть революции и ее создателям, она вернула авторитет, необходимый для водворения новых учреждений. Однако все придерживались мнения, что не следует пользоваться победой слишком сурово. Конвент мог ожидать упрека в том, что он будто бы сражался только в память о терроре, с целью восстановить его. Поэтому весьма важно было отнять у врагов всякий повод к обвинениям в намерении проливать кровь. К тому же секционисты доказали, что они плохие заговорщики и далеко не обладают такой энергией, как патриоты; они поспешили разойтись по домам, обрадовавшись, что дешево отделались, и гордясь тем, что хоть минуту пренебрегали знаменитыми пушками, столько раз побивавшими ряды Брауншвейга и Кобурга. Они не были опасны, только бы им не мешали восхищаться собственной храбростью. Поэтому Конвент ограничился тем, что сменил Главный штаб Национальной гвардии; распустил отряды гренадеров и стрелков, так как они были организованы лучше других и состояли почти целиком из молодежи, носившей черные воротнички и зачесывавшей волосы вверх; определил Национальную гвардию под начало генерала, командующего внутренней армией; повелел отобрать оружие у секций Лепелетье и Французского театра; наконец, снарядил три комиссии для суда над организаторами мятежа, которые, впрочем, почти все скрылись. Отряды гренадеров и стрелков дали себя распустить беспрекословно; секции Лепелетье и Французского театра сдали оружие без сопротивления – все покорились. Комитеты, соглашаясь с этой политикой милосердия, дали уйти всем виновным или не мешали им оставаться в Париже, где те едва ли считали необходимым прятаться. Комиссии выносили одни только заочные приговоры. Из вождей был арестован только один – Лафон. Этот молодой человек своей храбростью внушил к себе некоторое участие; его хотели спасти, но он заупрямился и заявил о своем звании эмигранта и о своем участии в бунте, так что не оказалось возможности его помиловать. Снисходительность тогда была так велика, что один из членов секции Лепелетье по имени Кастеллан, встретив ночью патруль, который окликнул его вопросом «Кто идет?», ответил: «Кастеллан, заочно приговоренный!» – и не был схвачен. Стало быть, 13 вандемьера не имело кровавых последствий, и столица не была ничем опечалена. Не наказывая своих врагов, Конвент, однако, наградил своих защитников: он объявил их заслуживающими признательности отечества, положил выдать денежные награды и устроил блестящий прием в честь Барраса и Бонапарта. Баррас, уже прославившийся 9 термидора, прославился еще больше 13 вандемьера: ему приписывалось спасение Конвента. Но он не побоялся поделиться этой славой со своим молодым товарищем. «Собрание спас генерал Бонапарт, – сказал он, – своими быстрыми и искусными распоряжениями». Это заявление вызвало рукоплескания. Руководство внутренней армией было утверждено за Баррасом, а Бонапарт был назначен его помощником.
 День 13 вандемьера
День 13 вандемьера
Роялистские интриганы сильно ошиблись в расчете. Они поспешили отписать в Верону, что обмануты решительно всеми; что денег нет; что монархические депутаты, те самые, обещаниями которых они заручились, обманули их и сыграли самую подлую роль; что всё это – якобинское отродье, которому не должно доверять; что, к сожалению, не удалось достаточно скомпрометировать и связать тех, кто соглашался служить делу; что парижские роялисты, рисующиеся в фойе театров, при первом выстреле попрятались под кроватями женщин, которые только терпят их около себя. Леметр, роялистский главарь, был арестован вместе с несколькими агитаторами из секции Лепелетье. У него захватили множество бумаг. Роялисты боялись, как бы эти бумаги не выдали заговора, а особенно как бы сам Леметр не сказал лишнего. Однако они не растерялись, и их агенты продолжали действовать в секциях. Безнаказанность придала им смелости. Если уж Конвент, рассуждали они, одержал победу и не смеет наказать виновных, значит, он признает, что общественное мнение за них; он явно не уверен в правоте своего дела, если колеблется. Побежденные стали держать себя с большей гордостью, нежели Конвент, и снова появились в избирательных собраниях, чтобы влиять на выборы. Собрания должны были сойтись 12 октября (20 вандемьера); новый законодательный корпус должен был собраться 26 октября (5 брюмера). В Париже роялистские агенты устроили так, что был избран член Конвента Саладен, которого они уже заранее переманили на свою сторону. В некоторых департаментах роялисты спровоцировали драки; а некоторые избирательные собрания распались на две половины. Эти происки, эта возрожденная смелость раздражали патриотов, все предсказания которых сбылись 5 октября (13 вандемьера). Они гордились и тем, что верно отгадали, и тем, что своим мужеством преодолели опасность. Они хотели, чтобы победа не осталось без пользы, чтобы она повлекла за собой строгие меры по отношению к их противникам и вознаграждение для их друзей в тюрьмах. Патриоты начали подавать петиции, требуя освобождения заключенных; отставки офицеров, назначенных реакционером Обри; восстановления в прежних чинах смененных офицеров; суда над арестованными депутатами и внесения их в избирательные списки, если они окажутся невиновными. Гора, поддерживаемая патриотами, рукоплескала этим просьбам и требовала их исполнения. Тальен, сблизившийся с монтаньярами и ставший гражданским главой преобладающей партии, в то время как Баррас был ее военным главой, старался сдержать монтаньяров. Он уговорил Конвент отвергнуть последнюю просьбу о внесении в списки заключенных депутатов как противную декретам 5 и 13 фрюктидора. В силу этих декретов депутаты, отрешенные от должности, пусть и временно, не могли быть избраны. Однако монтаньяров сдерживать было не легче, чем секционистов, и последние дни этого собрания, заседания которого должны были продолжаться еще только одну декаду, по-видимому, собирались омрачить непрестанными прениями.
Известия с границ тоже немало усиливали волнения, возбуждая недоверие патриотов и надежды роялистов. Мы видели выше, что Журдан перешел Рейн и пошел дальше, к речке Зиг, а Пишегрю вступил в Мангейм и перебросил одну дивизию за Рейн. Такая удача не внушила хваленому Пишегрю ни одной удачной мысли, и он вполне доказал этим либо свое предательство, либо свою бесталанность. Руководствуясь обыкновенными аналогиями, следовало бы приписать его ошибки неспособности широко мыслить, потому что человек, даже при желании совершить измену, никогда не отказывается от случая одержать великую победу. Однако некоторые современники Пишегрю, заслуживающие доверия, полагают, что причиной его неловких маневров была измена; если это так, то он единственный из известных в истории полководцев, который добровольно дал себя побить. Ему следовало перебросить за Рейн не один корпус, а всю армию, чтобы завладеть Гейдельбергом, так как это самый важный пункт, на котором дороги перекрещиваются и затем расходятся от Верхнего Рейна в долины Неккара и Майна. Таким образом, Пишегрю захватил бы мост, который мог послужить соединению Вурмзера с Клерфэ, разлучил бы этих двух генералов и обеспечил себе такую позицию, благодаря которой мог бы соединиться с Журданом и, образовав одну большую силу, разбить сперва одного, потом другого. Клерфэ, чувствуя опасность, бросил берега Майна и поспешил в Гейдельберг; но его помощник Квазданович с помощью Вурмзера уже успел выбросить из Гейдельберга дивизию, оставленную Пишегрю. Сам Пишегрю сидел, запершись в Мангейме, и Клерфэ, избавленный от опасений за свои сообщения с Вурмзером, не теряя времени, пошел против Журдана. Этот последний, запертый между Рейном и линией нейтралитета, не имея права действовать там как в неприятельской стране, не получая организованного подвоза из Нидерландов, находился в самом критическом положении, так как не мог ни идти вперед, ни соединиться с Пишегрю. Притом Клерфэ не стал соблюдать нейтралитета, а расположился так, чтобы обойти левое крыло Журдана и сбросить его в Рейн. Следовательно, Журдан никак не мог удержаться. По совету находившихся при нем комиссаров и с согласия всех генералов Журдан решил, что отступит к Майнцу и заблокирует этот город с правого берега. Но эта позиция была ничем не лучше прежней: она оставляла его с теми же нуждами, подвергала ударам Клерфэ при невыгодных местных условиях и могла лишить возможности пройти в Дюссельдорф. Поэтому кончилось тем, что решили отступить к Нижнему Рейну. Журдан исполнил это движение в отличном порядке, не тревожимый Клерфэ, который тем временем возвратился на Майн, чтобы приблизиться к Майнцу.
К этой вести о попятном движении армии Самбры-и-Мааса присовокупились еще прискорбные слухи об Итальянской армии. Шерер пришел в Италию с двумя превосходными дивизиями с Восточных Пиренеев, освободившихся вследствие мира, заключенного с Испанией. Однако ходили слухи, что он не уверен в себе и требует такой поддержки материалом и провиантом, какой нет возможности ему доставить, а без оной генерал грозил попятным движением. Наконец, поговаривали о второй английской экспедиции, с графом д’Артуа и новыми десантными войсками. Хотя все эти известия не представляли ничего страшного для существования Республики, – так как она всё еще владела течением Рейна, располагала двумя лишними армиями, которые могла послать и в Италию, и в Вандею, а после киберонского дела убедилась, что может рассчитывать на Гоша и не имеет причин бояться эмигрантских экспедиций, – однако от этих известий встрепенулись роялисты, запуганные недавней неудачей, и рассердились патриоты, недовольные тем, как Конвент воспользовался их победой. Обнародование переписки Леметра произвело самое тяжелое впечатление. В этой переписке разоблачался весь давно подозреваемый заговор. Она достоверно свидетельствовала о существовании тайной агентуры в Париже, имеющей сношения с Вероной, Вандеей и с другими провинциями, и даже с несколькими членами Конвента и комитетов, и везде возбуждающей контрреволюционные волнения. Хвастовство этих жалких агентов, заявлявших, будто они подкупили и генералов, и депутатов и связаны с монархистами и термидорианцами, только возбуждало всё бо́льшие подозрения в отношении депутатов правой стороны. Уже указывали на Ровера и Саладена, и против них собирались верные улики. Саладен издал брошюру по поводу декретов 5 и 13 фрюктидора и был за это награжден голосами избирателей. Как на тайных сообщников роялистской агентуры указывали на Лесажа, депутата департамента Эры и Луары, Ларивьера, Буасси д’Англа и Ланжюине. Своим молчанием в дни вандемьера они очень скомпрометировали себя. Контрреволюционные газеты, с аффектацией расхваливая их, еще более вредили им. Эти самые газеты, так хвалившие семьдесят трех, напропалую ругали термидорианцев. Разрыв, казалось, был неизбежен. Семьдесят три и термидорианцы всё еще продолжали собираться у общего друга, но между ними воцарились тайная злоба и недоверие. В последние дни сессии в собрании зашла речь о новых выборах, об интригах роялизма, о молчании Буасси, Ланжюине, Ларивьера и Лесажа. Лежандр, с обычной своей запальчивостью, попрекнул этим молчанием всех четырех депутатов, которые присутствовали тут же. Они стали оправдаться. У Ланжюине сорвалось странные слова: «Резня 13 вандемьера». Это выражение изобличало большую путаницу понятий или уж совсем нереспубликанские чувства. Тальен, услышав Ланжюине, вспылил и хотел уйти, говоря, что пойдет сообщать о них Конвенту. Его окружили, унимали, старались смягчить слова, сорвавшееся у Ланжюине. Однако собрание разошлось, рассорившись. Между тем в Париже нарастало волнение; недоверие увеличивалось со всех сторон, подозрения в роялизме падали как будто уже на всех. Тальен потребовал, чтобы Конвент назначил тайный комитет и официально обвинил Лесажа, Буасси д’Англа и Ланжюине. Доказательств, приводимых им, было недостаточно: они опирались лишь на более или менее вероятные предположения и выводы, и никто не поддержал обвинения. Луве, хотя и привязанный к термидорианцам, не поддержал обвинения, взведенного на его четырех друзей, но обвинил Ровера и Саладена и в ярких красках изобразил их поступки. Он представил совершенный ими переход от самого ярого террора к такому же ярому роялизму, и добился декрета об их аресте. Противники Тальена потребовали, чтобы отплатить ему, обнародовать письмо претендента к герцогу Гаркуру. В письме говорилось: «Не могу поверить, чтобы Тальен был истинным роялистом». Читатели, вероятно, помнят, что парижские агенты похвалялись, будто подкупили Тальена и Гоша. Но их вечное хвастовство и клевета на Гоша достаточно оправдывают Тальена. Это письмо возымело мало действия, потому что Тальен еще с киберонского дела слыл не только не роялистом, но кровожадным сторонником террора. Так люди, которым следовало бы стараться общими усилиями спасти и защитить революцию – их общее творение, – не доверяли друг другу и позволяли себя компрометировать. Из-за клеветы роялистов последние дни этого славного собрания окончились среди смут и бурь. Тальен наконец потребовал назначения комиссии из пяти членов на время перехода от одного правительства к другому. Конвент назначил его самого, Дюбуа-Крансе, Флорана Гюйо, Ру, депутата Марны, и Пон де Вердена. Целью комиссии было предотвращение роялистских интриг на выборах и успокоение республиканцев насчет состава нового правительства. Гора, исполненная рвения, вообразила, что эта комиссия осуществит все ее желания, и распустила слух, будто выборы отменены и введение в действие конституции будет отложено на неопределенное время. Монтаньяры уверили сами себя, что еще не пришло время предоставить Республику самой себе, что роялисты не совсем разбиты и нужно еще на некоторое время оставить революционное правительство, чтобы окончательно сокрушить их. Контрреволюционеры нарочно стали распускать те же слухи. Депутат Тибодо, – до тех пор не державшийся ни монтаньяров, ни термидорианцев, ни монархистов, но остававшийся искренним республиканцем и теперь избранный тридцатью двумя департаментами, – естественно не мог относиться к состоянию умов с таким недоверием, как термидорианцы. Он думал, что Тальен и его партия клевещут на нацию, принимая против нее столько предосторожностей; ему даже представилось, что у Тальена имеются какие-то личные замыслы, что он хочет встать во главе Горы и сделаться диктатором под предлогом защиты Республики от роялистов. Тибодо с горечью восстал против этого мнимого плана диктатуры и позволил себе неожиданный выпад против Тальена, удививший всех республиканцев, потому что они не понимали его причины. Эта выходка повредила Тибодо во мнении наиболее настороженных членов собрания и заставила их подозревать за ним намерения, которых он не имел. Тибодо напомнил, что был одним из тех, кто приговорил Людовика XVI к смерти, но участие в казни уже не казалось вполне достаточной гарантией. Итак, несмотря на твердую преданность Республике, выпад Тибодо против Тальена повредил ему во мнении патриотов и заслужил преувеличенные похвалы со стороны роялистов. Конвент перешел к очередным делам и дождался отчета, составленного Тальеном от имени комиссии пяти. Результатом трудов этой комиссии явился проект декрета, содержавший следующие положения: 1. Увольнение со всех должностей – гражданских, муниципальных, судебных и военных – эмигрантов и родственников эмигрантов впредь до заключения всеобщего мира; 2. Разрешение на выезд из Франции, с правом увезти с собой имущество, всем, кто не пожелает жить по законам Республики; 3. Отставление от службы всех офицеров, не служивших после 10 августа или возвращенных на свои места после 15 жерминаля, то есть после работы, проделанной Обри. Все эти положения были приняты. Затем Конвент официально, декретом, заявил о присоединении Бельгии к Франции и разделении ее на департаменты. Наконец, 26 октября 1795 (4 брюмера года IV), перед тем как разойтись, депутаты решили ознаменовать великим актом милосердия конец своей долгой и бурной деятельности: постановили, что смертная казнь будет отменена во Французской республике со дня заключения всеобщего мира; переименовали площадь Революции в площадь Согласия; наконец, объявили амнистию за все проступки, касающиеся революции, исключая бунт 13 вандемьера. Это равнялось освобождению представителей всех партий, кроме Леметра, так как он был единственным из заговорщиков, против которого имелись достаточные улики. Приговор к ссылке, произнесенный Бийо-Варенну, Колло д’Эрбуа и Бареру, отмененный потом, с тем чтобы заново судить, то есть приговорить уже к смерти, теперь утвердили снова. Барера, который один еще не был увезен, велели посадить на корабль. Все тюрьмы должны были раскрыть свои двери. В два часа пополудни, когда президент Конвента произнес следующие слова: «Национальный конвент объявляет, что порученное ему дело исполнено и сессия его окончена!» – тысячекратно повторяемые крики «Да здравствует Республика!» раздались отовсюду. Так окончилась продолжительная и достопамятная сессия Национального конвента. Память о себе Конвент оставил грозную; однако в его пользу можно привести один факт – такой важный, что все упреки отпадают сами собой: Конвент спас Францию от иноземного вторжения! Предшествовавшие собрания завещали ему Францию, окруженную опасностями; он же завещал Директории и Империи Францию спасенную. Если бы в 1793 году эмиграция вернулась во Францию – не осталось бы и следа всего, что создало Учредительное собрание: во Франции водворилась бы кровавая, отвратительная анархия, подобная той, которая так давно терзает Пиренейский полуостров. Дав отпор вторжению соседей, сговорившихся погубить Французскую республику, Конвент обеспечил революции преемственность, дал ее творениям время укрепиться и приобрести силу. Людям, с гордостью величающим себя патриотами 1789 года, Конвент может смело ответить: «Вы начали борьбу, а мы поддержали ее и довели до конца».
Глава XLVI
Назначение пяти директоров – Вступление в силу законодательного корпуса и Директории – Затруднительное положение нового правительства – Возобновление военных действий в Бретани и Вандее – Финансовый план, предлагаемый Директорией – Последние усилия Шаретта – Результаты кампании 1795 годаПятое брюмера года IV (27 октября 1795 года) было днем, назначенным для вступления в силу директори-альной конституции. В этот день две трети Конвента, остающиеся в законодательном корпусе, должны были соединиться с вновь выбранной третью; потом законодательный корпус должен был разделиться на два совета и приступить к назначению пяти директоров, долженствовавших принять на себя исполнительную власть. В это время прежние правительственные комитеты должны были еще продолжать свою деятельность, власть как бы вверялась им на сохранение. Члены Конвента, разосланные по армиям и департаментам, должны были продолжать свое дело до оповещения их о действительном вступлении в должность Директории. Господствовало сильное волнение умов. Патриоты умеренные и патриоты экзальтированные выказывали одинаковое раздражение против партии, напавшей на Конвент 13 вандемьера; они были исполнены опасений и стремились к сплочению против роялизма. Они громогласно заявляли, что в Директорию и вообще всюду следует брать лишь людей, всецело преданных делу революции. Они не доверяли членам новой трети и встревожено наводили справки об их именах, прошлой жизни и убеждениях. Секционисты, встреченные картечью 13 вандемьера, но после победы ощутившие на себе милосердие власти, опять зазнались и стали дерзки. Они показывались всюду, похвалялись своими подвигами, держали в салонах дерзкие речи про великое собрание, только что сложившее с себя власть, и делали вид, будто рассчитывают на депутатов новой трети. Между тем эти депутаты, которым предстояло занять места среди ветеранов революции в качестве представителей нового общественного мнения, сложившегося во Франции в результате стольких бурь, не оправдывали ни опасений республиканцев, ни надежд контрреволюционеров. Между ними находились несколько членов прежних собраний: Воблан, Пасторе, Дюма, Дюпон де Немур и честный ученый Тронше, оказавший такие огромные услуги французскому законодательству. Было также много новых людей – не тех необычных людей, которые блистают в начале всякой революции, но тех талантов, которые в политике, как и в искусстве, часто следуют за гениями: такие юрисконсульты и администраторы, как Порталис, Симеон, Барбе-Марбуа и Тронсон дю Кудре. Новые избранники, за исключением весьма немногих отъявленных контрреволюционеров, принадлежали к разряду умеренных, которые не принимали никакого участия в последних событиях, следовательно, не могли сделать ничего дурного и ни в чем ошибиться, а только уверяли в своей преданности революции, отделяя ее от того, что называли ее злодеяниями. Такие люди, конечно, должны были быть весьма склонны критиковать прошедшее, но они уже успели в значительной степени примириться с Конвентом и Республикой благодаря тому, что выбор пал на них: ведь каждый охотно прощает порядку, в котором находит себе место. Притом, чувствуя себя чужими в Париже и в политике, ощущая еще некоторую робость на этих новых для них подмостках, они искали знакомства и расположения наиболее почитаемых членов Национального конвента. Таково было настроение умов 27 октября 1795 года. Недавно избранные члены Конвента сближались и старались договориться между собой насчет предстоящих назначений, чтобы удержать правительственную власть в своих руках. В силу знаменитых декретов 5 и 13 фрюктидора депутатов в новом законодательном корпусе должно было быть пятьсот. Если бы этого числа не оказалось, то члены, присутствующие на собрании 5 брюмера, должны были составить избирательное собрание и пополнить его. В Комитете общественного спасения был составлен проект списка, в который вошли много отъявленных монтаньяров. Список этот был одобрен не весь. Между тем в него внесли имена лишь хорошо известных патриотов. В этот день все собравшиеся депутаты образовали одно избирательное собрание. Во-первых, они пополнили две трети из членов Конвента, затем составили список всех женатых и имеющих не менее сорока лет от роду депутатов и с помощью жребия выбрали из них двести пятьдесят, чтобы составить Совет старейшин. На следующий день Совет пятисот собрался в Манеже, в зале заседаний Учредительного собрания, и выбрал Дону своим президентом, а Ревбеля, Шенье, Камбасереса и Тибодо – секретарями. Совет старейшин собрался в зале заседаний Конвента и избрал Ларевельера-Лепо президентом, а Бодена, Ланжюине, Бреара и Шарля Делакруа – секретарями. Это был выбор весьма достойный, доказывавший, что в обоих советах большинство можно было считать искренними республиканцами. Советы объявили себя организованными, уведомили друг друга о том посланиями, временно утвердили полномочия депутатов и отложили их проверку до тех пор, когда будет организовано правительство.
Самое важное из всех избраний еще оставалось неосуществленным – избрание пяти лиц, которым собирались вверить исполнительную власть. От этого избрания зависели судьбы и Республики, и обычных людей. Обладая правом назначать должностных лиц и всех офицеров армий, директоры могли составить правительство по своему усмотрению и заполнить его людьми, преданными Республике или враждебными ей. Они сверх того обладали властью над судьбой обычных граждан, могли открывать или закрывать для них поприще государственных должностей, награждать или оставлять без поощрения талантливых людей, оставшихся верными делу революции. Влияние им предстояло громадное. Поэтому все были озабочены вопросом: кто же будет избран? Бывшие члены Конвента сошлись для совещаний об этом вопросе. Они решили выбрать людей, участвовавших в произнесении смертного приговора Людовику XVI, чтобы заручиться гарантиями. Мнения, некоторое время колебавшиеся, наконец остановились на Баррасе, Ревбеле, Сийесе, Ларевельере-Лепо и Летурнере. Баррас оказал республике большие услуги во время событий термидора, прериаля и вандемьера; он некоторым образом ратовал против всех фракций и заговоров. Дело 13 вандемьера в особенности придало ему вес, хотя вся честь военных распоряжений принадлежала молодому Бонапарту. Ревбель, запертый в Майнце во время осады и часто призываемый в комитеты после 9 термидора, примкнул к термидорианцам, выказал способность и прилежание к делам и некоторую силу характера. На Сийеса смотрели как на первого гения созерцания того времени. Ларевельер-Лепо добровольно присоединился к жирондистам в день объявления гонений против них, 9 термидора вернулся к своим собратьям и всеми силами боролся против обеих фракций, попеременно нападавших на Конвент. Это был патриот, человек кроткий и гуманный, единственный жирондист, на которого не падали подозрения Горы и добродетелей которого не смели отрицать контрреволюционеры. У Ларевельера был только один недостаток – внешнее уродство; многие говорили, что уж очень не пойдет ему директорская мантия. Наконец, Летурнер, известный патриот, уважаемый за сильный характер, был прежде инженерным офицером и в последнее время заменил Карно в Комитете общественного спасения, но далеко отстал от него по даровитости. Некоторым хотелось, чтобы в число пяти директоров вошел кто-то из наиболее отличившихся генералов – Клебер, Моро, Пишегрю или Гош; но решили отстранить их из опасения, чтобы военные не получили слишком большого влияния. Чтобы обеспечить выбор этих пяти лиц, бывшие члены Конвента договорились применить средство если не противозаконное, но весьма отзывавшееся хитростью и обманом. Согласно положениям конституции Совет пятисот должен был при каждом выборе представлять Совету старейшин список десяти кандидатов на каждую должность, а Совет старейшин уже из этих десяти выбирал одного. Следовательно, нужно было представить список из пятидесяти кандидатов. Бывшие члены Конвента, которые располагали большинством в Совете пятисот, договорились поставить во главе списка Барраса, Ревбеля, Сийеса, Ларевельера-Лепо и Летурнера, а затем набрать сорок пять неизвестных имен, из которых не было бы возможности сделать выбор. Этот план был выполнен в точности; только когда в списке не хватило одного имени, прибавили Камбасереса, имя весьма удобное и новой трети, и всем умеренным. Совет старейшин, когда ему представили список, заметил уловку и остался явно недоволен. Дюпон де Немур, показавший себя уже в предыдущих собраниях отъявленным противником если не Республики, то Конвента, потребовал отсрочки. «Без сомнения, – сказал он, – те сорок пять человек, которые дополняют этот список, достойны нашего выбора, ибо, в противном случае, это значило бы стараться явно склонить решение в пользу пяти человек. Без сомнения, эти имена принадлежат людям скромным, добродетельным и тоже достойным явиться представителями великой страны; но нужно время, чтобы побольше узнать о них. Самая скромность их, причина безвестности, вынуждает нас наводить справки, чтобы оценить их достоинства, и дает нам право требовать на это времени». Старейшины, хоть и недовольные уловкой, согласились во мнении с пятьюстами и кончили тем, что утвердили выбор, о котором те так хлопотали. Ларевельер-Лепо из 218 голосов получил 216 – до такой степени единодушно было уважение к этому превосходному человеку; в пользу Летурнера оказалось 189 голосов, в пользу Ревбеля – 176, в пользу Сийеса – 156, в пользу Барраса – 129. Баррас, принадлежа к известной партии, неизбежно должен был возбудить больше споров и получить меньше голосов. Эти пять назначений доставили революционерам большое удовольствие: они сочли правительственную власть отныне им обеспеченной. Оставался вопрос: примут ли сами избранные свои должности? Относительно трех из них сомнений не было; но о двоих знали, что они не отличаются большой любовью к власти. Ларевельер-Лепо, человек простой, скромный, мало способный управлять делами и людьми, искал и находил наслаждение только в Ботаническом саду; весьма сомнительно было, что его удастся уговорить принять предлагаемый сан. Сийес, при своем могучем уме, способном всё постичь, был, однако, неспособен к правительственным заботам. Вдобавок он был сердит на республику, устроенную не так, как он хотел, и потому имел мало охоты занимать место во главе ее. К Ларевельеру подступились с доводом, всесильным для его честной души: объявили, что его присутствие в числе сановников, которым поручается управлять страной, необходимо и полезно стране. Он покорился. Что касается Сийеса, его не смогли уговорить; он отказался, уверяя, что считает себя неспособным к правительственному делу. Надо было позаботиться о замене. Был во Франции человек, который пользовался громадным уважением в Европе: Карно. Его несомненные военные заслуги увеличивались с каждой кампанией; ему приписывали все победы французов; притом все знали, что он, хоть и был членом пресловутого Комитета общественного спасения и товарищем Робеспьера, Сен-Жюста и Кутона, но выступал против них с большой энергией. В Карно видели слияние военного гения со стоическим характером. Он и Сийес – вот две самых ярких деятеля того времени. В видах достоинства Директории ничего лучше сделать было нельзя, как заменить одного из этих двух мужей другим. И так имя Карно внесли в новый список, рядом с именами, которые не оставляли возможности другого выбора, то Камбасерес и в этот раз был внесен в список, а за ним – восемь совершенно неизвестных имен. Совет старейшин, однако, не задумываясь утвердил Карно; он получил 117 голосов из 213 и сделался одним из пяти директоров. Итак, Баррас, Ревбель, Ларевельер-Лепо, Летурнер и Карно стали главными сановниками и правителями Франции. В числе этих пяти человек не было ни одного гениального или хотя бы выдающегося – за исключением Карно. Но как быть в конце кровавой революции, поглотившей за несколько лет несколько поколений даровитых людей? В собраниях не осталось более ни одного замечательного оратора; еще не явился ни один знаменитый дипломат. Только Бартелеми своими мирными договорами с Испанией и Пруссией приобрел некоторую известность; но он не внушал ни малейшего доверия патриотам. В армиях уже появились великие полководцы, но еще не было ни одного, который приобрел бы решительное первенство; притом опять-таки – военным не доверяли.
Эти сановники вступали в управление делами при условиях истинно плачевных, и, чтобы принять на себя такую задачу, одним нужно было иметь много мужества и доблести, другим – много честолюбия. Они застали страну, так сказать, на другойдень после борьбы, в которой необходимость заставила призвать на помощь одну фракцию против другой. Победа 13 вандемьера была не из тех, которые влекут за собой террор и, отчасти закабалив правительство победившей партии, по крайней мере избавляют его от партии побежденной. Патриоты опять восстали, а секционисты не покорились. Париж был переполнен интриганами, волновался честолюбием и терпел страшную нужду. Как и перед событиями прериаля, во всех больших общинах нечего было есть; бумажные деньги вносили неурядицу в торговые сделки и оставляли правительство без средств. После того как Конвент на захотел отдавать национальные имущества за цену втрое больше их стоимости по оценке 1790 года, продажи приостановились; ассигнации, которые могли вернуться в казначейство только посредством продаж, остались в обращении, и всё падало в цене с ужасающей скоростью. Тщетно придумали специальную шкалу расчетов, чтобы уменьшить потери тех, кто получал ассигнации: согласно этой шкале ценность ассигнаций уменьшалась лишь до одной пятой части номинальной цены, тогда как в действительности они не имели и сто пятидесятой доли этой цены. Казна, получая все налоги одними ассигнациями, терпела такое же разорение, как и простые люди. Половину земельного налога, правда, казна брала натурой, что доставляло ей кое-какие припасы для прокормления армий, но средств перевозки часто не хватало, и эти припасы гнили в магазинах. Наконец, в довершение всего, казне приходилось, как известно, кормить Париж. Она раздавала пищу и брала за нее ассигнациями плату, едва покрывавшую сотую долю расходов. Это, впрочем, было единственно возможное средство снабжать хотя бы хлебом лиц, получавших ренту, и чиновников, которым жалованье платилось ассигнациями; но расходы от этого возросли до неимоверной цифры. Казна выпустила огромное количество ассигнаций, так что в несколько месяцев выпуск с 12 миллиардов дошел до 29. Вследствие прежних сумм, изымаемых из обращения и вновь постоянно получаемых, в обращении в действительности находилось 19 миллиардов – цифра, превосходящая все цифры, известные в финансовом мире. Чтобы еще не увеличивать выпуски, комиссия пяти, учрежденная в последние дни Конвента с поручением предложить полицейские и финансовые меры, внесла и заставила принять проект чрезвычайной военной контрибуции, равняющейся двадцать раз земельному налогу и десять раз пошлине с патентов, что могло дать от 6 до 7 миллиардов ассигнациями. Но это было решено только в принципе, а пока поставщикам выдавались центовые билеты, которые они получали по разорительному курсу: 5 франков ренты получали за 10 франков капитала. Кроме того, сделали попытку устроить добровольный заем по 3 %, но он был разорителен, притом подписчиков набиралось мало. Среди этой вопиющей нужды общественные должностные лица, не имея возможности существовать на свое жалованье, выходили в отставку. Солдаты уходили из армий, которые лишились таким образом трети своего действительного состава, и возвращались в города, где малодушие правительства дозволяло им проживать безнаказанно. Итак, задача пяти сановников, призванных к верховной административной власти, сводилась к следующему: кормить пять армий и громадную столицу с правом выпускать только ассигнации, не имеющие никакой цены; набирать людей для этих армий и перестроить всё правительство, лавируя между двух враждующих фракций. В человеческих обществах так велика потребность в порядке, что они сами всячески способствуют восстановлению такового и всячески содействуют тем, кто берется заново организовать их. Но всё же нельзя не признать мужества и стараний тех, кто осмеливается принять на себя подобное дело. Пять директоров, прибыв в Люксембургский дворец, не нашли в нем никакой мебели. Привратник одолжил им хромоногий стол, лист почтовой бумаги и чернильницу, и они сели писать первое послание, извещающее оба совета, что Директория вступает в должность. В казначействе не было ни одного металлического су. Каждую ночь печатали ассигнации на завтра. По поводу продовольствия господствовала страшная неизвестность, и в течение нескольких дней не было возможности ничего раздать народу, кроме нескольких унций хлеба или риса. Первое, чего потребовали директоры, – денег. По новой конституции каждой трате должно было предшествовать требование нужных сумм по каждому министерству. Оба совета утверждали требование, и тогда казначейство, которое было выведено из-под зависимости от Директории, отсчитывало нужные суммы. Итак, Директория потребовала три миллиарда ассигнациями, которые ей были выданы и которые надо было немедленно обменять на звонкую монету. Казначейству или Директории надлежало устроить эту операцию? Вот первое представившееся затруднение: казначейство, пускаясь в сделки, вышло бы из границ простого надзора. Однако затруднение разрешили тем, что операцию размена поручили самому казначейству. Три миллиарда могли дать – самое большее – от двадцати до двадцати пяти миллионов экю. Такой суммы могло хватить только на первые текущие надобности. Директория немедленно принялась разрабатывать новый финансовый план и уведомила оба совета, что представит им этот план через несколько дней. А пока надо было кормить Париж, которому буквально нечего было есть. Организованной системы реквизиции больше не было. Директория испросила разрешения потребовать от департамента Сены двести пятьдесят тысяч квинталов хлеба в счет земельного налога, который нужно было собирать в марте. Затем Директория собиралась потребовать множества законов для подавления беспорядков всякого рода и в особенности дезертирства, от которого с каждым днем убывала сила армий. В то же время она стала выбирать людей для состава администрации. Мерлен из Дуэ был назначен министром юстиции; Обера-Дюбайе выписали из Шербурской армии, чтобы отдать ему портфель военного министра; Шарль Делакруа был призван к министерству иностранных дел; Фепу – к министерству финансов; Бенезека, блестящего администратора, назначили министром внутренних дел. Потом Директория постаралась отобрать из осаждавшей ее толпы просителей людей, наиболее способных к отправлению общественных должностей. При такой поспешности дело, конечно, не могло обойтись без ошибок в выборе. Так, Директория раздала места многим патриотам, слишком отличившимся, чтобы быть благоразумными и беспристрастными. События 13 вандемьера сделали их необходимыми и заставили забыть внушаемый ими страх. Поэтому всё правительство – директоры, министры, агенты всякого рода – оказалось составлено в духе, враждебном той партии, которая вызвала эти события. Все пять директоров работали без устали и в эту первую пору своей деятельности выказывали такое же рвение, как члены Комитета общественного спасения в навеки достопамятные дни сентября и октября 1793 года.
К несчастью, трудность задачи увеличивалась поражениями армий. Отступление, к которому была принуждена армия Самбры-и-Мааса, давало повод к самым тревожным слухам. Благодаря нелепейшему плану и измене Пишегрю замышляемое вторжение в Германию не удалось вовсе. Имелось в виду перейти Рейн на двух пунктах и занять правый берег двумя армиями. Журдан, весьма удачно совершив переправу и подойдя из Дюссельдорфа, очутился на Лане, стиснутый между прусской линией и Рейном, и терпел недостаток во всем на этой нейтральной земле, где он не мог брать того, что ему было нужно. Эта нужда, конечно, продолжалась бы всего несколько дней, если бы он мог двинуться дальше, в неприятельские земли, и соединиться с Пишегрю, который занятием Мангейма открыл такое неожиданное и легкое средство перейти через Рейн. Этим соединением Журдан исправил бы недостаток навязанного ему плана кампании. Но Пишегрю, который еще торговался с агентами принца Конде об условиях измены, перекинул за Рейн недостаточно сильный отряд. Он упорствовал в том, чтобы не переходить Рейн со всей своей армией, и оставлял Журдана одного, стрелой воткнутого в Германию. Такое положение не могло продолжаться долго. Каждый, кто хоть немного смыслил в военном деле, трепетал за Журдана. И в конце концов ему пришлось переправиться через Рейн; решившись на это, Журдан поступил весьма благоразумно и заслужил общее уважение тем, как повел свое отступление. Враги Республики торжествовали по поводу этого попятного движения и распускали самые тревожные слухи. Их злобные предсказания сбылись в самое время вступления в должность Директории. Недостаток плана, принятого Комитетом общественного спасения, состоял в том, что он разделял французские силы, предоставляя таким образом неприятелю, занимавшему Майнц, все выгоды центрального положения и внушал ему этим мысль соединить свои войска и налечь всей массой на ту или другую из французских армий. Этому положению Клерфэ был обязан счастливой мыслью, обнаруживавшей больше таланта, нежели он выказывал до сих пор. Около тридцати тысяч французов блокировали Майнц. Клерфэ мог сделать вылазку и разбить этот блокадный корпус, не дав Журдану и Пишегрю времени прийти на помощь. Он действительно воспользовался – и весьма ловко – благоприятной минутой. Едва Журдан ушел на Нижний Рейн, Клерфэ, оставив обсервационный отряд, отправился в Майнц и сосредоточил там свои войска с намерением внезапно напасть на блокадный корпус. Этот корпус под началом генерала Шааля располагался вокруг Майнца полукругом, образуя линию приблизительно в четыре лье. Хотя она была укреплена весьма тщательно, но большое протяжение не позволяло запереть ее совсем. Клерфэ, тщательно изучив ее, обнаружил не один легко доступный пункт. Крайний конец этого полукруга, вместо того чтобы вплотную упираться в Рейн, не доставал до реки, так что между ним и рекой оставался обширный луг. Против этого-то места Клерфэ и решил направить свой главный удар. Двадцать шестого октября (7 брюмера) он выступил из Майнца с силами значительными, но всё же недостаточными для решающей операции. Военные упрекают Клерфэ в том, что он оставил на правом берегу корпус, который неизбежно погубил бы часть французской армии, если бы его перевели на левый берег. Клерфэ отправил вдоль луга колонну, которая шла с ружьями наизготовку. В то же время флотилия канонирских лодок поднималась вверх по течению, чтобы поддержать эту колонну. Остальные войска Клерфэ двинул прямо по линии и приказал вести быструю атаку. Французская дивизия, стоявшая в конце полукруга, увидев, что неприятель в одно и то же время идет на нее прямо, обходит с боку и грозит с тыла, испугалась и разбежалась в беспорядке. Дивизия Сен-Сира, стоявшего сразу за этой дивизией, осталась неприкрытой. К счастью, верность взгляда и присутствие духа не изменили ее командиру в эту опасную минуту. Сен-Сир повернул свою дивизию и увел ее в порядке, дав знать остальным дивизиям, чтобы и они сделали то же. С этой минуты весь полукруг был брошен; дивизия Сен-Сира отступила к армии на Верхний Рейн, дивизии Менго и Рено, занимавшие другую часть линии, будучи отрезаны друг от друга, направились к армии Самбры-и-Мааса, колонна которой под началом Марсо, к счастью, шла к горному массиву Хунсрюку. Отступление очень трудно далось этим последним дивизиям и сделалось бы невозможным, если бы Клерфэ сам понял всё значение своего искусного движения и действовал бы с большими силами и достаточной быстротой. Пока Клерфэ разгонял Майнцские линии, Вурмзер, в это же время напавший на Пишегрю, отбил у него мост через Неккар и загнал его назад в Мангейм. Следовательно, обе французские армии, вернувшись на левую сторону, хоть и сохранили Мангейм, Нойвид и Дюссельдорф, но, разделенные Клерфэ, могли подвергнуться большой опасности, имей они дело с предприимчивым полководцем. Последнее происшествие сильно расстроило их, а крайняя нужда еще усиливала уныние, произведенное поражением. К счастью, Клерфэ не очень спешил и тратил на свои операции гораздо больше времени, нежели требовалось на то, чтобы сосредоточить свои силы. Эти печальные вести, полученные в Париже в самую минуту вступления Директории в должность, увеличили трудности нового республиканского правительства. Другие события, в сущности менее опасные, но с виду такие же угрожающие, совершались на западе. Республике грозила новая высадка эмигрантов. После роковой высадки при Кибероне, которая была исполнена, как мы видели, лишь с частью сил, заготовленных английским правительством, остатки экспедиции перевезли на английских судах на маленький остров Уайт. Там же высадили и несчастные семейства из Морбигана, которые радушно встретили экспедицию, и остатки эмигрантских полков. На этом небольшом утесе царили болезни и страшные раздоры. Через некоторое время в Бретань вернулся Пюизе. Он приехал по призыву шуанов, которые приписывали бедственный исход дела при Кибероне единственно англичанам и никак не своему прежнему вождю. Пюизе тотчас же стал готовиться к возобновлению военных действий. Во время киберонской экспедиции вандейские вожди не двигались с места, потому что экспедиция собиралась не к ним; потому что парижские агенты запретили им помогать Пюизе; наконец, потому, что выжидали, на чьей стороне окажется успех, прежде чем решиться скомпрометировать себя. Один Шаретт затеял спор с республиканскими властями по поводу беспорядков, бывших в его краю, и некоторых военных приготовлений, в которых его укоряли, и дошел почти до открытого разрыва. Он только что получил новые милости из Вероны, в том числе звание главнокомандующего в католических землях – то есть то, чего всеми силами добивался. Это назначение, охладив рвение его соперников, разожгло его усердие до последней степени. Шаретт надеялся на новую экспедицию, направленную уже в его сторону, и когда коммодор Уоррен предложил ему военные запасы, оставшиеся от киберонской экспедиции, он не стал более колебаться: произвел общую атаку по всему прибрежью, отогнал республиканские посты – и получил только немного пороха и несколько ружей. Англичане в то же время высадили на берег Морбигана злополучные семейства, которые потащили за собой и которые умирали с голода на острове Уайт. Итак, мир был нарушен, опять началась война. Давно уже генералы Обер-Дюбайе, Гош и Канкло, командовавшие Шербурской, Брестской и Западной армиями, считали мир нарушенным не только в Бретани, но и в Нижней Вандее. Они собрались в Нанте и ничего не сумели решить. На всякий случай они приняли меры, чтобы быть в состоянии лично явиться на первый угрожаемый пункт. Толковали о новой высадке; говорили – и это было правдой, – что киберонская экспедиция была только передовым отрядом, за которым последуют другие. Уведомленное о новых опасностях, угрожающих берегам, правительство назначило Гоша начальником Западной армии. Победитель при Вейсенбурге и Кибероне действительно был достойным национального доверия в минуту опасности больше всех других. Он тотчас же отправился в Нант заступить место Канкло. Все три армии, предназначавшиеся для того, чтобы сдерживать инсургентские провинции, постепенно получали подкрепления с юга, от армий, которыми явилась возможность располагать вследствие мира с Испанией. Гош потребовал разрешения призвать еще несколько отрядов из Брестской и Шербурской армий для усиления Вандейской, которую он таким образом довел до 44 тысяч человек. Он поставил надежно укрепленные посты на реке Севр, протекающей между обеими Вандеями и отделявшей владения Шаретта от земель Стоффле. Целью Гоша было разделить этих двух вождей и отнять у них возможность действовать сообща. Шаретт окончательно сбросил маску и снова провозгласил войну. Стоффле, Сапино, Сепо, из зависти к Шаретту, смущенные приготовлениями Гоша и притом не уверенные в помощи англичан, еще не трогались с места. Наконец появилась английская эскадра: сначала в Киберонской бухте, потом в бухте Иль-Дьё, против Нижней Вандеи. Она привезла 2 тысячи английских пехотинцев, 500 всадников, офицеров для эмигрантских полков, оружие, заряды, провиант, мундиры на целую армию, большой запас денег и наконец – столь давно ожидаемого принца. В случае успеха должны были прийти новые силы, особенно если бы принц доказал, что искренне готов стать во главе роялистов. Как только показалась эскадра, все роялистские начальники послали эмиссаров уверять принца в своей преданности, добиваться чести видеть его у себя и согласовывать дальнейшие действия. Шаретт владел берегом; он располагался выгоднее всех, чтобы содействовать высадке; а его репутация и желания всей эмиграции направляли высадку к нему. Он также послал своих агентов, чтобы условиться о плане действий.
Между тем Гош готовился к делу со своей обычной решительностью. Он решил выступить тремя колоннами из Шалона, Клиссона и Сент-Эрмина, трех пунктов, расположенных по окружности страны, и идти по направлению к Бельвилю, главной квартире Шаретта. Эти три колонны, числом до 22 тысяч человек, должны были сдерживать Вандею, разорить главный пункт Шаретта и сильным натиском отбросить его подальше от берега, чтобы он не мог помочь высадке эмигрантов. Колонны встретились в Бельвиле безо всяких препятствий. Шаретта, которого Гош надеялся разбить, в Бельвиле не было: он с девятью или десятью тысячами человек направился к Дюсону, чтобы перенести войну к югу и удалить от берегов республиканские отряды. План был задуман очень ловко, но не удался вследствие энергичного отпора. Пока Гош со своими колоннами входил в Бельвиль, Шаретт оказался против форта Сен-Сира, прикрывающего дорогу из Дюсона в Ле Сабль. Он напал на укрепление со всеми своими силами. Двести республиканцев засевшие в церкви, оказали такое сопротивление, что дали время Люсонской дивизии, услыхавшей перестрелку, прийти к ним на помощь. Шаретт был совершенно разбит ударом во фланг; войска его разбежались и возвратились к себе, в Маре. Гош, не обнаружив перед собой неприятеля и понимая настоящую причину его движения, вернул колонны по местам и устроил укрепленный лагерь в Сулане, возле самого берега, чтобы быть готовым встретить высадку. Между тем принц, окруженный целым штабом советников, посланных от разных бретонских и вандейских командиров, продолжал совещаться о плане высадки и оставил Гошу довольно времени для приготовлений. Английские паруса, находившиеся всё время в виду, не переставали возбуждать опасений республиканцев и надежд роялистов. Таким образом, с первых дней Директории поражение при Майнце и неминуемая высадка в Вандее стали причинами страхов, которыми враги правительства пользовались с большой ловкостью. Были изданы объявления и опровержения различных слухов, распускаемых насчет положения обеих границ. Поражение, понесенное при Майнце, скрыть было невозможно, но правительство ответило всем беспокоившимся, что Дюссельдорф и Нойвид остаются у него в руках, так же как и Мангейм; что, стало быть, армия Самбры-и-Мааса владеет двумя мостами, а Рейнская – одним, чтобы в удобное время перейти реку. Умалчивалось, однако же, о том, что австрийцы могли точно так же отнять Нойвид и Мангейм и укрепиться на пространстве между Вогезами и Мозелем. Что касается Вандеи, то правительство подробно обнародовало всё то, что делал Гош. Известия были утешительные для умов спокойных, но экзальтированные патриоты продолжали бояться, а реакционеры продолжали распускать всевозможные зловещие слухи.
Среди множества трудностей Директория всеми силами старалась преобразовать правительство, администрацию и в особенности финансы. Было получено разрешение на выпуск ассигнаций на 3 миллиарда, но их продажа дала только 20 миллионов с небольшим. Добровольный заем, открытый по 3 % в последние дни Конвента, был приостановлен, потому что за капитал, вносимый бумажными деньгами, правительство давало действительную ренту и договор оказывался разорительным. Экстраординарная военная такса, предложенная комиссией пяти, еще не начинала взиматься, а на нее уже жаловались как на последний революционный акт Конвента. Во всех отраслях финансов начинались задержки, и частные лица, получавшие деньги по пропорциональной таксе, жаловались так горько, что пришлось остановить выплаты. Почты, получавшие вознаграждение ассигнациями, объявили, что вынуждены прекратить свою деятельность, потому что правительственная помощь не покрывала их потерь; а без почт должно было прекратиться всё сообщение во всей Франции. Финансовый план, обещанный через несколько дней, требовался как можно скорее; в этом заключалась настоятельнейшая государственная надобность и первая обязанность Директории. Масса ассигнаций, находившаяся в обращении, равнялась приблизительно 20 миллиардам. Поскольку ценность ассигнаций равнялась сотой доле их номинальной цены, выходила сумма в 200 миллионов. Ясно, что обладатели их не могли считать себя имеющими сумму выше этой. Можно было начать принимать ассигнации по той цене, какую они в самом деле имели: в сделках между частными лицами, при уплате податей или выплате за национальные имущества. В таком случае мгновенно исчезла бы эта страшная масса бумаги. Правительство владело еще 7 миллиардами франков (столько стоили национальные имущества), считая в том числе королевские дворцы и национальные леса. Это составляло достаточную сумму, чтобы извлечь из обращения 20 миллиардов, обращенных в 200 миллионов, и приготовиться к новым расходам. Но правительство с трудом могло решиться на такой смелый шаг. В самом деле, честные люди находили, что это будет означать банкротство, а патриоты утверждали, что таким образом будет подорвано всякое доверие к ассигнациям. И те и другие не совсем понимали, в чем дело: если это было банкротство, то оно было неизбежно и позже все-таки совершилось бы; пока же следовало только уменьшить общее замешательство и восстановить порядок в финансовой части. Правительство обязано было сделать это по отношению ко всем и каждому. Конечно, с первого взгляда прием за один франк ассигнации, выпущенной в 1790 году с надписью «100 франков» и обещавшей общественных земель на 100 франков, – это было банкротство. Но тогда приходилось принять 20 миллиардов бумажных денег за 20 миллиардов франков. Национальные имущества едва могли покрыть третью часть этой суммы. Следовало, однако, понимать: сколько правительство получило, выпуская эти 20 миллиардов? Может быть, 4 или 5 миллиардов, не больше. Стало быть, в высшей степени несправедливо было бы считать ассигнации по их номинальной цене; приходилось признавать за ними ценность меньшую, и это уже начали делать, установив пропорциональную таксу. Можно предположить, что были еще люди, имевшие на руках первые выпущенные ассигнации и удержавшие их, не разменяв ни разу; они понесли бы огромные потери. Но этого быть не могло; никто не копил ассигнации просто так, все старались передавать их и каждый нес некоторые потери. Таким образом предполагаемое банкротство уже распространилось на очень большое число жителей государства; стало быть, банкротством оно не являлось. И умно, и справедливо было тогда возвратиться к реальности, то есть принимать ассигнации по курсу. Патриоты уверяли, что это значило подорвать ассигнации, которые спасли революцию, и что это выдумки врагов Республики – роялистов; другие говорили, что при упадке бумажных денег прекратится всякая торговля, без этих денежных знаков и при отсутствии металлических денег остановится всё. Последствия доказали, что это было ошибочное мнение; металл, как и всякий товар, появляется там, где он нужен, и при уменьшении бумажных денег, металлические пускаются в оборот гораздо чаще. Комиссия финансов, по соглашению с Директорией, постановила следующее. В ожидании поступления металлических денег от продажи национальных имуществ и от налогов следует временно использовать ассигнации. Ограничить выпуск ассигнаций 30 миллиардами с безусловным обязательством не выпускать больше ни франка. Гравировальные доски, предназначенные для печатания ассигнаций, разбить с большой торжественностью (так общество успокаивалось касательно дальнейших выпусков). На покрытие 30 выпущенных миллиардов отдать национальных имуществ на один миллиард. Другую часть национальных имуществ, еще в один миллиард, отдать для наград республиканским воинам. Из 7 миллиардов оставалось, таким образом, 5; это была стоимость национальных лесов, движимой собственности эмигрантов, королевских дворцов и имущества бельгийского духовенства. Трудность состояла только в том, как распорядиться этими ценностями. Ассигнации давали возможность пустить национальные имущества в обращение прежде, нежели они были проданы; но с упразднением ассигнаций какими знаками заранее выразить ценность имущества? Придумали ипотечные обязательства, о которых говорилось еще за год перед тем. По прежнему плану это был заем, и люди, отдавшие свои деньги, получали закладные листы на имущество, с точностью в этих листах обозначенное. Чтобы найти деньги, пришлось образовать финансовые общества, которые приняли бы на себя распространение закладных листов. Короче, вместо бумаг, имевших обязательный курс и обеспечение общей ипотекой на все национальные имущества, предлагались ипотечные листы на земли или дома, в них поименованные, так что их ценность могла меняться только с изменением ценности предметов, ими представляемых. Собственно говоря, это были не бумажные деньги; падать в цене они не могли, потому что курс их не был обязателен; но, с другой стороны, могло случиться, что некому будет их продать. Одним словом, затруднение оставалось то же, что в начале революции: непонятно, каким образом, с обязательным или добровольным курсом, пустить в обращение национальные имущества. Первое средство было испытано, оставалось попробовать другое. Решили выпустить закладных листов на 5 миллиардов, но исключить из них национальные леса ценностью приблизительно в 2 миллиарда. Финансовые компании, которые взялись бы помещать закладные листы, покупали возможность известное время эксплуатировать эти леса. Вследствие этого проекта, основанного на уменьшении ценности ассигнаций до их курса, бумажные деньги стали приниматься легче прежнего; беспорядок в торговле исчез, и всякая злоумышленная сделка становилась невозможной. Государство рассчитывало получать налоги звонкой монетой, и этих поступлений было довольно для обыкновенных расходов; национальные имущества должны были оплачивать только экстренные военные расходы. Ассигнации должны были приниматься по номинальной цене только при уплате недоимок, а их было до 13 миллиардов. Таким образом, плательщикам податей представлялся очень легкий способ освободиться от недоимок, с условием, однако же, чтобы они это сделали тотчас же. Тридцать миллиардов, которые предполагалось уплатить национальными имуществами, уменьшались на 13 миллиардов. После продолжительных споров план этот был принят в Совете пятисот и тотчас перенесен в Совет старейшин. В то же время возникли вопросы о призыве на службу солдат, ушедших из-под знамен, а также о назначении судей и всякого рода чиновников, которых избирательные собрания не имели ни времени, ни охоты назначать. Директория работала без устали и задавала работу обоим советам. Финансовый план, внесенный в Совет старейшин, основывался на правильных началах; Франция имела еще множество средств. К несчастью, план не побеждал настоящей трудности, то есть не делал движимыми недвижимые имущества. План мог удаться впоследствии, но в настоящем все-таки царило безденежье. Совет старейшин не думал скоро отказаться от ассигнаций. Десяти миллиардов новых бумажных денег, представлявших собой 100 миллионов франков, было недостаточно даже до поступления наличных денег, ожидавшихся вследствие осуществления плана. Никто пока не предлагал своих услуг для дисконта закладных листов. Не понимая, каким образом пользоваться национальными имуществами, правительство не решалось отказаться от прежнего способа их тратить, то есть от ассигнаций с обязательным курсом. Совет старейшин, очень строго относившийся к постановлениям Совета пятисот, воспользовался своим правом вето и отверг финансовый проект. Возникло заметное беспокойство умов. Революционеры, очень довольные происшедшим недоразумением, уверяли, будто положение так затруднительно, что из него выйти невозможно и Республика должна погибнуть от финансовых неустройств; боялись этого люди даже самые просвещенные, которые, как известно, не всегда бывают самыми решительными. Патриоты, дойдя до высшей степени раздражения и видя, что правительство хочет уничтожить ассигнации, кричали, будто бумажные деньги, в свое время спасшие Францию, одни могут спасти ее и теперь, и требовали восстановления ценности ассигнаций способами 1793 года: реквизициями и казнями.
К довершению несчастья события на Рейне становились всё более запутанными. Клерфэ не сумел воспользоваться победой, но все-таки приобрел кое-какие выгоды; он вызвал к себе корпус Латура, двинулся против Пишегрю, атаковал его на канале у города Франкенталь и мало-помалу оттеснил до самого Ландау. Журдан с трудом передвигался по гористой местности, принимал все возможные меры, чтобы освободить Рейнскую армию, но все его усилия только слегка задерживали неприятеля, не вознаграждая потерь. Линия Рейна оставалась в руках французов на всем пространстве нидерландской границы, но на высоте Вогезских гор была потеряна, и, сверх того, большой полукруг около Майнца оказался в неприятельских руках. В таком положении Директория передала Совету пятисот спешное послание с предложением экстраординарных мер, напоминавших самые трудные времена революции. Речь шла об обязательном займе в 600 миллионов, металлическими деньгами или ассигнациями по курсу, со взятием всей суммы с самых богатых людей. Начинался новый ряд самовольных действий, вроде займа у богачей, который организовал в свое время Камбон. Но так как новый заем требовался немедленно, то проект сделался законом: ассигнации принимались по сотой доле своей ценности, 200 миллионов займа поглощали таким образом 20 миллиардов бумажных денег. Все поступившие ассигнации сжигались, и возникла надежда, что таким образом почти совершенно извлеченные из обращения бумажные деньги дадут возможность выпустить ассигнации. Оставалось получить из 600 миллионов займа 400 миллионов металлических денег, которых было бы достаточно на два первых месяца, так как расходы текущего года определялись в 1500 миллионов (год IV, 1795–1796). Некоторые противники Директории заботились не о состоянии своей страны; они хотели только во что бы то ни стало помешать новому правительству и предъявляли бесконечные возражения. Этот заем, говорили они, отнимет у Франции все наличные деньги, не останется капиталов, чтобы его внести, как будто государство, взимая 400 миллионов металлических денег, не отдавало их сейчас же в обращение посредством покупки хлеба, сукна, кожи, железа и т. д. Вопрос был только в том, может ли Франция сейчас же найти 400 миллионов продуктами и товарами и сжечь на 200 миллионов ассигнаций, пышно называвшихся 20 миллиардами? Она могла это сделать, без сомнения; неудобство состояло только в способе взимания. Не зная, на что решиться, предложили собирать деньги насильно. Посредством обязательного займа, говорили тогда, в казну попадет хоть часть бумажных денег, соберется также известное количество звонкой монеты, а знаменитые гравированные доски останутся все-таки целы и еще выиграют вследствие уничтожения большого количества ассигнаций. Предполагались также и другие меры. Составление закладных листов требовало много времени, потому что в закладном листе следовало подробно описать каждый отдельный объект собственности. На основании этих листов должен был вестись торг с финансовыми компаниями. Для начала предполагалось продать дома, построенные в городах, поземельные имения размером меньше ста десятин и все без исключения имения бельгийского духовенства; решили также продать все королевские дворцы, кроме Фонтенбло, Версаля и Компьеня; движимое имущество эмигрантов также поступало в продажу немедленно. Торги допускались только аукционные. Директория не смела пока установить свободного курса ассигнаций, а это прекратило бы самое большое зло, и частные лица и правительство перестали бы терпеть крайнюю нужду. Этой простой и правильной меры боялись. Решили, что при обязательном займе ассигнации будут приниматься по 100 франков за франк; что недоимки будут выплачиваться по номинальной цене; что уплата государством занятых капиталов будет всё еще приостановлена; но все возможные доходы и проценты нужно будет платить из расчета по 10 франков за один, что тоже было очень тяжело. Уплату поземельного налога и государственной аренды оставили на прежних основаниях, то есть половина платилась натурой, а половина ассигнациями. Таможни брали половину ассигнациями, половину – металлическими деньгами. Такое исключение для таможен было сделано потому, что на границах имелось много металлических денег; исключение сделали также и для Бельгии. Ассигнации туда еще не проникали и потому обязательный заем и налоги выплачивались там звонкой монетой. Таким образом, Директория приступила к делу довольно робко, не решаясь одним ударом прекратить затруднительность своего положения.
Важнейшие за этими меры относились к дезертирам и к назначению чиновников. Пора было восстановить состав армий и окончательно организовать общины и суды. В тех случаях, когда солдат бежал за границу, а это случалось очень редко, такое преступление наказывалось смертью. Возник оживленный спор касательно наказания за призывы к побегу, и за это тоже потребовали смертной казни. Постановили, что все отпуска прекращаются по истечении десяти дней. Преследование молодых людей, оставивших знамена, поручили корпусам жандармов. Реквизиция августа 1793 года дала огромное количество рекрутов; в течение трех лет армия сохраняла весьма внушительные размеры. Новый закон, просто продолжающий исполнение прежнего, посчитали достаточным и приняли единогласно. Некоторые избирательные собрания, в виду декретов 5 и 13 фрюктидора, потеряли много времени и не закончили выборы местных администраций и судов. В западных провинциях этого не сделали по случаю междоусобной войны; в других просто действовали вяло. Большинство депутатов Конвента требовали, чтобы Директория сама определяла чиновников. Ясно, что правительство получало все права, от которых отказывались граждане, то есть недостаточные действия отдельных лиц заменялись действиями правительства. По этой причине везде, где собрания пропустили установленные сроки, назначения, естественно, зависели от Директории. Созывать новые собрания значило бы нарушить конституцию, наградить за действия против законов и вообще дать повод к новым смутам; к тому же в конституции уже содержались указания, разрешавшие вопрос в пользу Директории. Она должна была назначать чиновников в колониях и замещать места умерших или вышедших в отставку в промежутках между выборами. Оппозиция восстала против этого толкования. Дюмоляр в Совете пятисот, а Порталис, Дюпон де Немур и Тронсон дю Кудре в Совете старейшин утверждали, что это значит предоставлять Директории королевскую власть. Это меньшинство, тайно склонявшееся скорее в пользу монархии, чем республики, поменялось ролями с республиканским большинством и усиленно развивало демократические взгляды; впрочем, спор, очень оживленный, не был нарушен скандалом. Директория получила право назначать чиновников с одним условием: выбирать их между людьми, которые были уже однажды избраны народом. Это было очень удачное решение, потому что избавляло от необходимости новых выборов, и в результате администрации получала большую однородность.
Директория решила проблему с поступлением денег, пополнила войска, закончила организацию администрации и юстиции; за нею осталось большинство в обоих советах; присутствовала и оппозиция, но умеренная и спокойная. Казалось, все уважали необычайное положение директоров и их мужественные труды. В самом деле, в этом правительстве, избранном Конвентом, проявляла себя Революция, всемогущая и суровая; пятеро директоров делили все труды: Баррас заведовал личными назначениями, Карно – передвижениями войск, Ревбель – внешними сношениями, Летурнер и Лепо – внутренними делами. Но они постоянно совещались между собой о важнейших мерах. Долгое время они собирались в весьма жалкой обстановке, но наконец собрали из дворцов предметы, необходимые для украшения Люксембурга. Их приемные были постоянно наполнены просителями, между которыми нелегко было делать выбор. Директория, верная своему происхождению, выбирала всегда людей с ясным, определенным образом мыслей. После восстания 14 вандемьера организовали защиту Парижа и правительства от нового покушения. Молодой Бонапарт, заправлявший защитой 14 вандемьера, был назначен главнокомандующим этими силами, названными Внутренней армией. Он преобразовал состав этой армии и расположил ее в Гренельском лагере. Особый отряд под названием полицейского легиона составили из патриотов, предложивших 14 вандемьера свои услуги. Эти патриоты принадлежали большей частью к жандармам, распущенным 9 термидора. Затем Бонапарт организовал конституционную гвардию Директории и обоих советов. Военные силы были велики, управлялись, как известно, искусной рукой и удерживали все партии в границах уважения к порядку. С большой твердостью Директория приняла множество мелких, но тем не менее важных мер. Она продолжала отказываться от объявления о своем вступлении в должность депутатам Конвента, имевшим поручения в провинции. Все директора театров получили приказания дозволять пение только одной арии, «Марсельезы». «Пробуждение народа» было запрещено. Такую меру нашли ребяческой; Директория поступила бы лучше, запретив всякое пение, но она хотела немного подогреть республиканский энтузиазм. Несколько роялистских газет, продолжавших писать с той же резкостью, как в вандемьере, подвергли судебным преследованиям. Хотя свобода прессы была не ограничена, но прежние постановления Конвента против писателей, желавших возвращения королевской власти, оставались в руках полиции достаточным оружием. Преследованиям подвергся Рише, начался процесс против Леметра и Бротье, сношения которых с Вероной, Лондоном и Вандеей доказывали, что они роялистские агенты и существенно повлияли на события вандемьера. Леметр был приговорен к смерти как главный агент, а Бротье освобожден от суда. Было доказано, что два секретаря Комитета общественного спасения сообщали им весьма важные сведения. Саладен, Ломон и Ровер, депутаты, арестованные 13 вандемьера, но вновь избранные в Париже, получили свои места под тем предлогом, что уже были депутатами, когда были арестованы. Корматен и шуаны, арестованные вместе с ним за нарушение спокойствия, были преданы суду. Корматена приговорили к ссылке за то, что он тайным образом содействовал междоусобной войне; прочие были освобождены, к величайшему неудовольствию патриотов, которые горько жаловались на излишнюю снисходительность судей. В случае с посланником флорентийского двора Директория доказала, что в ней еще живо республиканское чувство: с Австрией наконец договорились, что ей возвратят дочь Людовика XVI, заключенную в Тампле, с условием, что депутаты, выданные изменником Дюмурье, будут доставлены на французские аванпосты. Принцесса выехала из Тампля 19 декабря (28 фримера). Министр внутренних дел сам приехал за ней и проводил со всевозможными выражениями почтения; ей дали возможность выбрать кого-нибудь из своей прежней прислуги, проводили до заставы и выдали на расходы достаточно денег. Роялисты не упустили случая написать стихи по поводу несчастной судьбы пленницы, наконец возвращенной свободе. Граф Карлетти, посол Флоренции, присланный в Париж по случаю своей преданности Франции и революции, попросил у Директории позволения увидеться с принцессой в качестве посланника союзного двора. В ответ на эту просьбу Директория предложила графу немедленно оставить Париж, но в то же время объявила, что эта мера принята относительно него лично, а с флорентийским двором Французская республика остается в дружеских отношениях.
Директория управляла всего только полтора месяца, но уже начала укореняться: партии стали привыкать к тому, что у них имеется установившееся правительство; уже не заботились о том, чтобы его свергнуть, а готовились к борьбе в пределах, установленных конституцией. Патриоты, не отказываясь от своих любимых клубов, стали собираться в клубе «Пантеон»[3]; их накопилось более четырех тысяч, и сборища их очень походили на собрания якобинцев. Исполняя, однако же, требования конституции, они не организовывались в политическое собрание: у них не было бюро, члены не получали дипломов, присутствующие не разделялись на зрителей и членов, не было никаких сношений с другими подобными обществами. Члены секций собирались в кружки сообразно своим вкусам и нравам; как во времена Конвента, между ними имелись тайные роялисты, но их было немного; большая часть из страха или из моды выказывала себя врагами сторонников террора и порицала то, что таковые еще встречаются в новом правительстве. Образовались общества, где читали газеты; со всей присущей аристократическим гостиным вежливостью вели политические диспуты; танцы и музыка перемежались с чтением и беседами. Наступила зима, и французы предались удовольствиям, выражая этим оппозицию той революционной системе, которую уже никто не хотел возобновлять. Обе партии имели свои газеты. Патриоты в своих клубах и газетах казались очень раздраженными, хотя правительство высказывало большую преданность Революции. Правда, они были раздражены скорее против событий, нежели против правительства; потери на Рейне, новое движение в Вандее, страшный финансовый кризис – всё это стало поводом к возвращению их любимых идей. Если проигрывалось сражение, если ассигнации падали в цене, по их мнению, всё это происходило оттого, что Директория слишком снисходительна, что она не умеет принимать великих, революционных мер. Особенно новая финансовая система, склонявшаяся к изъятию ассигнаций из обращения, казалась им возмутительной. Противники их считали достаточным поводом для своих жалоб именно это раздражение; по их мнению, террор готов был возвратиться, потому что его сторонники были неисправимы. Таково было положение дел в течение ноября и декабря 1795 года (фримера года IV). Военные операции продолжались, несмотря на время года, и уже обещалилучшие результаты: Журдан совершил чрезвычайно трудный поход среди невообразимых лишений, и это несколько поправило дела на Рейне. Австрийские генералы, войска которых были почти так же утомлены, как и французские, предлагали перемирие, в течение которого имперские войска сохраняли бы свои настоящие позиции. Перемирие было принято бессрочно, с тем чтобы за десять дней до открытия военных действий об этом возвестил главнокомандующий. Обе армии, французская и австрийская, разделялись Рейном, от Дюссельдорфа до Нойвида; затем от Бингена до Мангейма линия проходила у подошвы Вогезских гор, доходила до Рейна выше Мангейма и рекой тянулась до Базеля. Таким образом, французы потеряли весь полукруг на левом берегу; но эта потеря могла быть возращена ловко задуманным маневром. Наибольшее зло состояло пока в том, что потеряны были моральные силы, даваемые победой. Утомленные войска заступили на зимние квартиры, и правительство начало деятельные приготовления, чтобы весной открыть решительную кампанию. На итальянской границе время года не мешало военным операциям: армия с Восточных Пиренеев перешла на Альпы. Поход от Перпиньяна до Ниццы потребовал очень много времени, потому что не заготовили провианта и солдаты были без обуви; наконец в ноябре появился Ожеро со своей дивизией, прославившейся на равнинах Каталонии. Келлерман, как мы видели выше, вынужден был отодвинуть свое правое крыло и отказаться от непосредственного сообщения с Генуей; левое крыло его стояло в Альпах, центр – в Коль-ди-Тенда, правое – позади линии Боргетто, которую Бонапарт назначил еще в прошлом году на случай отступления. Генерал Де Винс, гордясь своей маленькой победой, отдыхал в долине Генуи и мечтал о различных проектах, ни одного из них не исполняя. Келлерман нетерпеливо ожидал подкреплений с испанской границы, чтобы перейти в наступление и вернуть сообщение с Генуей; он хотел закончить кампанию блистательным сражением, которое открыло бы французам проход в Италию и оторвало пьемонтского короля от коалиции. Французский посланник в Швейцарии Бартелеми беспрестанно писал, что победа в Приморских Альпах тотчас даст возможность заключить мир с Пьемонтом; французское правительство соглашалось с Келлерманом касательно необходимости атаковать, но не спешило исполнить его план и назначило на его место Шерера, прославившегося сражением в Каталонии. Шерер прибыл с армией во второй половине брюмера и решил попытать счастья в битве. Известно, что в том месте, где Альпы переходят в Апеннины, они очень близко подходят к Средиземному морю, так что между морем и горами – крутые обрывы; напротив, с другой стороны, то есть там, где начинается долина реки По, склоны спускаются очень полого и занимают большее пространство. Французская армия стала между горами и морем; пьемонтская под началом Колли располагалась в укрепленном лагере у города Чева и оберегала дорогу в Пьемонт против левого крыла французской армии; австрийские войска, расположенные частично на хребте Апеннинских гор в Рокка-Барбена, а частично на приморском склоне этих же гор, правым крылом доставали до Колли, а левым отделяли французов от Генуи. В таком положении у французов появилась следующая мысль: выступить с большими силами против правого крыла и центра австрийской армии, атаковать ее, сбросить с Апеннинских гор и занять горные проходы. Таким образом австрийцы отделялись от пьемонтцев и быстрый переход вдоль моря к Генуе должен был довершить победу. План этот придумал Массена, один из дивизионных генералов. Шерер принял этот план и решил выполнить. Де Винс, занимая французскую линию в Боргетто, отказался в этом году от решительной атаки; он был болен, и на его место назначили генерала Валлиса. Французские офицеры весьма приятно проводили время на зимних квартирах; Шерер добыл для своей армии немного продовольствия и 24 тысячи пар башмаков и решил двинуться 23 ноября (2 фримера). С 36 тысячами солдат он должен был напасть на 45 тысяч, но удачный выбор пункта атаки вознаграждал неравенство сил. Шерер приказал Ожеро ударить в левое крыло неприятеля, в Лоано; Массена он приказал нападать на центр в Рокка-Бар-бена и завладеть вершиной горы; Серюрье должен был сдерживать генерала Колли, стоявшего на противоположном склоне горы. Ожеро следовало действовать медленно, Массена, напротив, должен был идти как можно скорее и запереть левое крыло австрийцев в Лоано; Серюрье было приказано обманывать Колли фальшивыми атаками. Утром 23 ноября 1795 года (2 фримера) австрийцы проснулись от звука выстрелов. Сражения они никак не ожидали, и офицеры поспешили из Лоано и Финале, чтобы стать во главе своих изумленных солдат. Ожеро повел атаку, но был остановлен храбрым Роккавиной. Этот генерал, стоя на небольшом возвышении у Лоано и упрямо защищаясь, был уже окружен дивизией Ожеро, но не сдавался. Он пробился сквозь ряды французов и соединился с австрийскими войсками, истребив при этом целую неприятельскую бригаду. Шерер, сдерживая горячность Ожеро, приказал ему ограничиться только перестрелкой перед Лоано, чтобы не слишком быстро оттолкнуть австрийцев на линию отступления. В это время Массена, которому поручили исполнение самой блестящей части плана, с обычной своей смелостью перешел вершину горы, напал на дАржанто, командовавшего правым австрийским крылом, обратил его в бегство на всех пунктах и вечером оказался на высотах Мелоньо, так что замкнул котловину Лоано с тыла. Серюрье хорошо рассчитанными и упорными атаками сдерживал Колли и всё правое австрийское крыло. Вечером того же дня французы разбили биваки уже на новых позициях. Наутро движение возобновилось; Серюрье, получив подкрепление, теснил Колли серьезнее прежнего. Массена продолжал контролировать ущелье и вершины Апеннин. Ожеро напал на австрийцев со всей силой. С этой минуты, среди ужасной осенней погоды началось отступление по невообразимым дорогам. Правое крыло и центр бежали по склонам в беспорядке; левое крыло, запертое между горами и морем, с трудом отступало вдоль берега. Дождь и снег, затрудняя отступление, мешали также и преследованию; впрочем, французы взяли в плен 5 тысяч человек, 40 пушек и склады. С начала войны сражение это оказалось одним из самых пагубных для союзников и одним из самых благоприятных для французов. Пьемонт был в ужасе, и всем казалось, что французские войска вот-вот вступят в Италию; жители успокоились только из-за времени года, которое делало невозможным продолжение военных операций. Во Франции эта победа произвела очень благоприятное впечатление и послужила к усилению нового правительства.
В это же время события приняли не менее благоприятный оборот в западных провинциях: Гош довел свои войска в обеих Вандеях до 44 тысяч человек; поставил укрепление на Севре, чтобы отделить Стоффле от Шаретта; рассеял войска первого из них и благодаря своему лагерю сдерживал всю границу Маре, так что имел возможность помешать высадке. Напротив, английская эскадра, стоявшая лагерем возле Иль-Дьё, находилась в самом плачевном положении: остров, на который высадилась экспедиция, имел меньше лье в длину и никакой защиты для высадившихся; у берегов не было верных якорных мест; корабли подвергались ударам бурь со всех сторон; скалистое дно перетирало якорные канаты; противоположный берег оказался громадной песчаной равниной. Каждый день положение английской эскадры становилось всё опаснее – и всё возрастали силы Гоша. Уже более полутора месяцев французский принц сидел на Иль-Дьё; окружающие его представители шуанов и вандейцев спорили о том, что делать дальше. Все соглашались только в одном: надо как можно скорее высадиться на твердую землю. Следует заметить, что полуторамесячное пребывание на Иль-Дьё сделало высадку почти невозможной. Высадка может быть удачна только в том случае, если совершается быстро и неприятель не успевает узнать, в каком именно пункте грозит опасность. Если бы заговорщики высадились на берег, а не на остров, и вступили бы в сношения с вандейцами и шуанами, не теряя сообщения с английскими эскадрами, то дело пошло бы иначе. Конечно, 10 тысяч роялистов в Бретани и Вандее успели бы соединиться гораздо раньше, нежели Гош двинулся бы со своими полками. Если припомнить, как обстояло дело при Кибероне, как легко совершилась высадка, сколько времени потребовалось для соединения республиканских войск, то понятно, что высадка удалась бы и здесь, если бы ей не предшествовало продолжительное курсирование у берега. Правда и то, что высадившимся пришлось бы выдержать несколько сражений, может быть, несколько раз отступать, прятаться по лесам, показываться вновь, опять прятаться и подвергаться опасности попасть в плен и быть расстрелянным, но таковы условия войны. Сила обстоятельств привела к тому, что подобная война в лесах Бретани, в болотах и кустах Вандеи не считалась предосудительной. Принц, который вышел бы из такой войны победителем и вступил на престол своих предков, был бы славен точно так же, как Густав Ваза[4], вышедший из рудников Далекарлии; к тому же весьма возможно, что присутствие принца пробудило бы уснувшее усердие роялистов: они объединились бы в многочисленное войско и стала бы возможной большая война. С другой стороны, так как возле принца не было способного человека, чтобы сражаться против республиканской армии, то, вероятно, он был бы разбит. Но и в поражении иногда есть своего рода утешение. Находил же Франциск I хорошую сторону в своем поражении при Павии! Если высадка была возможна в минуту прибытия эскадр, то через полтора месяца стало трудно на нее решиться. Английские моряки объявили, что скоро не останется никакой возможности держаться в море и надо что-то предпринимать. Весь берег был покрыт войском. Если можно было высадиться, то не ближе, чем около устья Вилена, с противоположной стороны Луары, но эмигранты и принц соглашались выйти на землю не иначе как у Шаретта: они доверяли только ему. Принц, как говорит Вобан, требовал, чтобы английское правительство отозвало его обратно. Англия не соглашалась на это, чтобы не сделать бесполезным весь расход на экспедицию. Принцу предоставили полную свободу действий, и он начал готовиться к отъезду; его свита писала длинные и бесполезные инструкции, которые надлежало отослать роялистским вождям. В инструкциях говорилось, что приказ свыше мешает исполнению высадки в настоящую минуту; что Шаретт, Стоффле, Сапино и Сепо должны собрать до 30 тысяч человек на той стороне Луары, чтобы вместе с жителями Бретани составить до 50 тысяч отборного войска, достаточного для обеспечения безопасной высадки принца; что пункт высадки будет назначен тогда, когда будут приняты эти предварительные меры, и все средства английской монархии будут употреблены на содействие усилиям роялистов. К этим инструкциям прибавили по нескольку тысяч фунтов для каждого из вождей, несколько ружей и немного пороха и выгрузили всё это ночью на берег в Бретани. Масса провианта, заготовленного англичанами, испортилась и была выброшена за борт; пришлось также выбросить пятьсот кавалерийских и артиллерийских лошадей; они передохли от болезней вследствие продолжительного плавания. Английская эскадра подняла паруса 15 ноября (26 брюмера), и роялисты были в отчаянии: им сказали, что англичане заставили принца удалиться. В негодовании они принялись раздувать друг в друге ненависть против предательства англичан; больше всех сердился Шаретт и имел на это право, потому что был скомпрометирован больше прочих. Он взялся за оружие в надежде на большую экспедицию, на то, что ему будут доставлены серьезные средства и силы его уравняются с республиканскими. Надежды были обмануты: он мог ожидать только неизбежного поражения; угроза высадки стянула против него все республиканские силы, и на этот раз Шаретт вынужден был отказаться от всяких переговоров. Он достоверно мог рассчитывать только на смерть, не имея даже возможности роптать на неприятеля, перед тем даровавшего ему прощение. Шаретт решил дорого продать свою жизнь и потратить последние минуты на отчаянную борьбу. Он дал несколько сражений, чтобы разорвать линию Гоша, пробиться за Севр, броситься к Стоффле и заставить своего товарища взяться за оружие. Это ему не удалось: он был опрокинут. Сапино, взявшийся за оружие по настоянию Шаретта, захватил город Монтегю, хотел пробиться до Шатильона, но был разбит и вынужден распустить свое войско. За линию Севра он проникнуть не смог. За линией вынужден был сидеть Стоффле сложа руки, да он и не хотел ничего делать и наблюдал за поражением своего соперника, осыпанного почестями и титулами, с тайным удовольствием.
В Бретани царило общее несогласие: дивизия Морбигана под командованием знаменитого Кадудаля восстала; она одна только и признавала власть генералиссимуса. В таком положении Гош приступил к великому делу – умиротворению края. Этот молодой генерал, будучи искусным политиком, видел, что ему нечего и пробовать победить неприятеля, ускользающего из рук. За Шареттом послали несколько летучих отрядов, но тяжело вооруженные солдаты, принужденные носить всё с собой и незнакомые с краем, не могли двигаться так быстро, как местные жители, которые не носили ничего, кроме ружей, везде находили продовольствие и отлично знали все овраги и кустарники. Поэтому Гош тотчас приказал прекратить преследование и составил план, который должен был умиротворить этот разоренный край. Житель Вандеи был крестьянином и в то же время солдатом; среди ужасов междоусобной войны он не переставал обрабатывать свои поля и ухаживать за скотом. Ружье было зарыто в землю или в солому; по первому сигналу начальников он являлся, атаковал республиканцев и исчезал в лесах, возвращался к себе и прятал ружье. Республиканцы находили только безоружного мужика, в котором никак не могли узнать неприятельского солдата. Таким образом, вандейцы дрались, содержали свои семьи и ускользали от преследований. У них всегда оставались средства вредить республиканцам и пополнять свои ряды, тогда как республиканские войска, почти не получая продовольствия, нуждались во всем. Можно было дать вандейцам почувствовать всю тяжесть войны при помощи разорения. Это средство было испытано во времена террора, но возбудило только большую ненависть, а междоусобной войны не прекратило. Гош, не разоряя страны, придумал средство покорить ее, отняв оружие и часть продовольствия в пользу республиканских войск. Сначала он настаивал на устройстве нескольких укрепленных лагерей на Севре, чтобы отрезать Шаретта от Стоффле, и возле Нанта, для прикрытия берегов и Ле Сабля; потом он очертил большой круг, который захватил Севр и Луару: линия была образована из сильных фортов, соединенных между собой патрулями, так что не оставалось места для прохода сколько-нибудь значительного неприятельского отряда. Постой должен был занимать каждую деревню и каждое местечко и обезоруживать жителей; следовало захватить скот и зерно, собранное в амбарах, а также арестовать влиятельных жителей. Скот и хлеб возвращались хозяевам, а захваченные заложники отпускались на свободу только тогда, когда крестьяне добровольно сдавали оружие. А так как вандейцы гораздо крепче держались за свой скот и за свой хлеб, чем за Бурбонов и за Шаретта, то не было сомнений, что они сдадут оружие. Чтобы не быть обманутыми крестьянами, которые могли отдать несколько старых ружей и сохранить хорошие, офицеры требовали в каждом приходе призывные списки и столько ружей, сколько было показано стрелков. Если списка не оказывалось, приказано было требовать, чтобы число ружей равнялось одной четверти мужского населения прихода. По получении оружия скот и хлеб возвращались владельцам за исключением некоторой части, удерживаемой в качестве налога. Гош приказал обращаться с жителями с большой кротостью: возвращать скот с педантичной точностью, так же, как зерно и заложников; офицерам приказали разговаривать с крестьянами, иногда даже угощать их и делать им подарки. По отношению к духовенству требовалось величайшее уважение. «Вандейцы, – говорил Гош, – имеют одно только истинное чувство – привязанность к своим священникам, а духовенство требует только покровительства и спокойствия. Обеспечьте за ними эти две вещи, прибавьте кое-какие подарки – и страна будет возвращена Республике». Линия обезоружения обнимала Нижнюю Вандею огромным кругом и понемногу подвигалась вперед, захватывая весь край. Позади линии оставались земли, покоренные и даже примиренные с Республикой. Сверх того, край предохранялся от возвращения предводителей, которые наказывали разорением за преданность Республике. Перед линией постоянно находились два летучих отряда, предназначенные для боя. Начальникам постов приказали держаться как можно осторожнее, постоянно сообщаться посредством патрулей и не позволять вооруженным бандам прорываться за линию. Но как бы ни был внимателен надзор, могло случиться, что Шаретт и некоторые из его приверженцев перейдут линию. В этом случае они могли прорваться только с немногими единомышленниками и попасть в страну обезоруженную, а стало быть, такое событие не имело бы никакой важности. Предвидели и восстания в тылу. Гош приказал, чтобы в этом случае один из летучих отрядов тотчас направлялся в восставшую общину. Тогда в наказание за то, что не всё оружие было сдано, отбирали весь скот и весь хлеб, и на этот раз без возврата. В ноябре и декабре план начал исполняться. Линия Гоша проходила чрез Сен-Жиль, Леже, Монтегю, Шантоне и образовала полукруг, правый конец которого упирался в море, а левый в реку Ле. Наступление заперло бы Шаретта в непроходимых болотах Маре. Инструкцию Гош составил очень предусмотрительную и ясную, да и сам успевал везде. Это была уже не война, а большая полицейская операция. Жители начали сдавать оружие и мириться с республиканскими солдатами; некоторым беднякам Гош помогал продовольствием со складов армии. Он сам принимал всех жителей, задержанных в качестве заложников, и потом сам же их отпускал; одним он вручал кокарды, другим республиканские шапки, а иногда выдавал и зерно на посев. Он состоял в переписке со многими священниками и заслужил такое их доверие, что они сообщали ему некоторые тайны. Одним словом, Гош начал завоевывать огромное нравственное влияние. Тем временем наполнялись склады в тылу армии, образовались большие стада скота, армия начала жить в относительном довольстве при помощи простого средства – налогов и штрафов натурой. Шаретт скрывался в лесах с сотней или полутораста человек, столь же отчаянных, как он сам. Сапино предлагал сложить оружие – лишь бы ему сохранили жизнь. Стоффле со своим помощником Бернье, запертый в Анжу, принимал всех офицеров Шаретта и Сапино и набирал силу. В главной квартире в Лавуаре его окружал целый двор из эмигрантов и вандейских офицеров. Стоффле набирал людей, собирал налоги – и всё это под предлогом организации местной стражи. Но Гош не переставал бдительно следить за ним; он стеснял его укрепленными лагерями и угрожал обезоружить при первом к тому поводе. Предписанное Гошем движение в Ле-Лору – местность фактически независимую ни от Республики, ни от вандейцев – привело Стоффле в ужас. Последняя экспедиция в эту изобильную местность должна была доставить армии Гоша вино и хлеб, так как окрестности Нанта были совершенно истощены. Стоффле в испуге попросил у Гоша личного объяснения; он ссылался на свою верность заключенному договору, просил снисхождения Сапино и шуанам, являлся некоторым образом посредником в новом умиротворении края, желая этим путем обеспечить усиление своего влияния, а также разузнать намерения Гоша на свой счет. Гош высказал Стоффле все поводы для неудовольствия и указал, что если его местопребывание будет служить убежищем всяким разбойникам, а сам он пожелает держать себя как независимый государь – собирать налоги и вооруженную силу, – то его, конечно, не замедлят арестовать, а затем обезоружат и всю его провинцию. Стоффле, напуганный таким будущим, обещал полную покорность. Гошу предстояло, однако, большее затруднение, чем наблюдать за подозрительным вандейским вождем. Грозная опасность высадки англичан заставила его усилить армию частями Брестской и Шербурской армий; с этими подкреплениями численность Вандейской армии доходила до 44 тысяч человек. Теперь, когда основная опасность миновала, главнокомандующие этих двух армий требовали отсылки своих войск, и Директория находила это требование основательным. Гош писал, что начата самая важная военная операция; что с отсылкой войск сама собой снимется линия обезоружения вокруг Маре; реальное и близкое в настоящее время покорение местности, занимаемой Шареттом, и окончательное уничтожение этого вождя отложится на неопределенное время. Гош настаивал на необходимости окончить уже начатое и обещал немедленно за тем отослать в Бретань не только требуемые войска, но и часть своих для умиротворения края тем же способом, какой принес столь благотворные результаты в Вандее. Правительство, согласившееся с доводами Гоша и вполне доверяя ему, вызвало его в Париж с намерением вверить командование всех трех армий. Гош выехал в Париж в конце декабря для обсуждения с Директорией военных операций, которые должны были положить конец этой бедственной войне.
Кампания 1795 года закончилась. Взятие Люксембурга, переход чрез Рейн, победы в Пиренеях и мир с Испанией, а также уничтожение армии эмигрантов на Кибероне отметили ее начало и середину. Конец ее был менее удачен. Отступление армий за Рейн, потеря Майнцских линий и части территории у подошвы Вогезских гор на время омрачили успех французского оружия. Но победа при Лоано открыла ворота в Италию и опять восстановила потерянное преимущество над неприятелем; деятельность же Гоша на западе положила начало действительному замирению Вандеи, до сих пор только обещанному столько раз напрасно. Коалиция, в которой теперь оставались Англия, Австрия и еще несколько мелких германских и итальянских государей, истощила свои последние усилия; она просила бы мира, если бы не последние победы на Рейне. Клерфэ составил ими громадную репутацию; коалиция рассчитывала даже, по-видимому, начать кампанию будущего года во французских рейнских провинциях. Питту нужны были новые субсидии, он созвал осенью парламент и требовал от него новых пожертвований для продолжения войны; жители же Лондона просили мира с прежней настойчивостью. Лондонское корреспондентское общество собралось на открытом воздухе и в самых смелых и даже грозных выражениях обсуждало адресы с требованием парламентской реформы и против войны. На пути короля в парламент карету его встретили камнями и вышибли в ней стекла; полагали даже, что кто-то выстрелил из духового ружья. Когда народ узнал Питта, ехавшего верхом, его проводили до самого дома, закидывая грязью. Фокс и Шеридан красноречивее, чем когда-либо, требовали у правительства строгого отчета за его неискусную политику. И действительно, имелось много оснований для обвинений: покорение французами Голландии; присоединение Нидерландов, становившееся окончательным по взятии Люксембурга; огромные суммы, бесплодно растраченные в Вандее; наконец, несчастные французы, бесполезно отданные на растерзание. Питт оправдывался; он говорил, что при этом не текла английская кровь. «Да, – возразил Шеридан с энергией, которую трудно передать, – да, английская кровь не текла, текла только английская честь, и из всех пор тела!» Питт, по-прежнему холодный и сдержанный внешне, назвал события прошлого года лишь случайными несчастиями, к которым следовало быть готовыми, вверяясь обманчивому жребию войны. Он выставлял на передний план последние победы австрийцев на Рейне и преувеличивал значение и влияние, какое они могли оказать на ход мирных переговоров. Он продолжал утверждать, что конец могущества Французской республики близок; что неизбежное банкротство приведет ее в полный беспорядок; что, наконец, продолжив войну еще на один год, добились бы полного истощения неприятеля. В заключение Питт требовал карательных законов против печати и политических обществ, необузданности которых приписывал оскорбления, нанесенные королю и ему лично. Оппозиция возражала, что эти столь восхваляемые победы на Рейне недолговечны и поражение в Италии уже уничтожило их значение; что Республика, которая – как все утверждают – находится при последнем издыхании, напротив, к открытию всякой новой кампании является еще более сильной. Если ассигнации и потеряли ценность, прибавляли в оппозиции, то это продолжается уже давно и не привело к банкротству: средства Франции заключаются не в одних ассигнациях. Положим, Франция истощена, но Великобритания истощается с каждым днем еще более: долг ее громаден, не перестает расти день ото дня и грозит поглотить все средства Соединенного Королевства. Переходя же к предложению нового закона о печати и политических обществах, Фокс в порыве негодования заявил, что если только они будут приняты, английскому народу ничего тогда более не остается, кроме восстания; при этом он прибавил, что сам смотрит на восстание лишь с точки зрения полезности, а не права. Это открытое провозглашение права на восстание произвело большое волнение, окончившееся принятием предложения Питта о новом займе и карательных мерах; в то же время министр пообещал при первой возможности открыть переговоры о мире. Сессию парламента отсрочили до 2 февраля 1796 года. Питт между тем нисколько не думал о мире: он только устраивал демонстрации, чтобы удовлетворить общественное мнение и ускорить успех своего займа. Обладание Франции Нидерландами делало для него самую мысль о мире невозможной; Питт хотел открыть переговоры просто для вида и предложить невозможные мирные условия. Австрия, со своей стороны, тоже хотела успокоить Европу, жаждавшую мира, и начала переговоры при посредничестве Дании. Последняя пригласила Францию от имени Австрии созвать европейский конгресс; на это ей справедливо ответили, что конгресс сделает невозможными всякие мирные переговоры: пришлось бы согласить для того слишком много противных друг другу интересов; а если сама Австрия желает мира, то ей следует прямо обратиться к французскому правительству, которое не хочет принимать ничьего посредничества в переговорах о мире. И действительно, конгресс усложнял дело: связывая мир с Австрией с миром с Англией и Германской империей, он делал его практически невозможным. Австрия и не ждала другого ответа: только для вида она не прочь была вступить в мирные переговоры, потому что потеряла слишком много, а последние победы заставили ее слишком на многое надеяться, чтобы она могла согласиться сложить оружие. Австрия ободряла короля Сардинии, напуганного победой при Лоано, и обещала ему выслать на будущий год большую армию и другого генерала. Следует еще упомянуть, что Клерфэ удостоился особых воинских почестей при въезде своем в Вену: из его коляски выпрягли лошадей, а милости двора присоединились к проявлениям народного энтузиазма. Таким образом кончилась для Европы четвертая кампания этой памятной войны.
Глава XLVII
Продолжение административных трудов Директории – Установление ежегодного празднования 21 января – Недовольство якобинцев – Учреждение министерства полиции – Финансовые затруднения, выпуск мандатов – Военные действия – Замирение Вандеи – Смерть Стоффле и ШареттаПоследние удачи, которыми закончились военные действия, успокоили и упрочили республиканское правительство. Конвент, соединив Бельгию с Францией и введя это соединение в текст Конституции, обязал таким образом своих преемников не заключать мира иначе как удержав за Францией левый берег Рейна. Чтобы вынудить к такой уступке Австрийский дом и Англию, нужны были новые усилия, новая, более решительная кампания; для достижения этой цели Директория усиленно трудилась над пополнением комплекта армий, устройством финансов и обузданием партий. С большей заботливостью стали применять законы, относящиеся к призыву: разного рода льготы были уничтожены, и в каждом кантоне образовали комиссию медиков для освидетельствования новобранцев. Множество молодых людей к тому времени затесались в администрации и грабили республику, демонстрируя вместе с тем враждебный правительству образ мыслей. Были отданы строжайшие предписания не допускать к работе в канцелярии молодых людей, подлежащих воинской повинности. Финансы обращали на себя особое внимание Директории: принудительный заем в 600 миллионов взимался с необыкновенной энергичностью. Несмотря на это, все-таки приходилось дожидаться поступления этого займа, сумм от продажи национальных имуществ (мелких земель и лесов) и недоимок. А в ожидании всего этого предстояли расходы, накопившиеся из-за откладывания всех платежей до начала работы нового правительства; кроме того, зимой готовились к открытию новой кампании. Для удовлетворения насущных потребностей Директория вынуждена была прибегнуть к последнему предоставленному ей средству – ассигнациям. В течение одного месяца уже выпустили от 12 до 15 миллиардов и получили за них только несколько миллионов металлическими деньгами; дошло уже до того, что ассигнаций больше нигде не принимали. Директория придумала выпустить текущие краткосрочные обязательства, которые представляли бы собой годовой доход, как это происходило в Англии с билетами казначейства, а во Франции происходило с королевскими бонами. Выпустили билеты на предъявителя, оплачиваемые в казначействе звонкой монетой, которая должна была поступать или в виде вынужденного займа из Бельгии, или доходами с таможен, или через компании, которые взяли бы на себя эксплуатацию государственных лесов. Сначала таких билетов было выпущено на 30 миллионов, затем благодаря содействию банкиров цифра выпуска удвоилась. Финансовые компании не были более запрещены, ими думали воспользоваться для основания банка, помощи которого недоставало кредиту. Банк этот должен был выпускать закладные листы, обеспечиваемые землей и оплачиваемые как все банковые билеты; в свою очередь, он должен был ссудить правительству сумму, пропорциональную количеству имуществ, данных ему в залог. Таким путем думали реализовать ценность национальных имуществ. Успех последней меры был маловероятен; но в том несчастном положении, в котором находилось правительство, оно прибегало к любым мерам и имело на то основания. Лучшей мерой стала отмена рационов парижскому населению и возврат к продаже съестных припасов по свободным ценам. Известно, каких забот стоило правительству взять на себя доставку хлеба в Париж, какой убыток терпело казначейство, платившее за хлеб его настоящую цену и продававшее по уменьшенной: выходило, что Республика даром кормит парижан. Новый министр внутренних дел Бенезек сознавал все недостатки этой системы и думал, что обстоятельства наконец позволяют ее отменить, что и советовал сделать Директории. Состояние промышленности улучшалось, на рынках появился хлеб, заработная плата стала выплачиваться металлическими деньгами. На основании всего этого Бенезек предложил отменить рационы, оплачиваемые ассигнациями, и сохранить раздачу только для чиновников и кредиторов государства, ежегодный доход которых не превышал тысячи экю. Всё прочее парижское население должно было покупать хлеб у булочников по свободной цене. Требовалось истинное мужество, чтобы решиться на такую смелую меру. Директория немедленно привела ее в исполнение, не опасаясь ни раздражения жителей, ни повода к смутам, который давался таким образом партиям. Кроме этих мер, Директория придумала и другие, которые также причинили бы вред интересам некоторых частных лиц, но были необходимы. Как всегда происходит после продолжительной войны, армия терпела недостаток больше всего в лошадях. Директория потребовала от обоих советов разрешения отобрать всех лошадей, составляющих предмет роскоши, и выкупить тридцатую часть всех рабочих и упряжных лошадей страны. Квитанции о приеме лошади должны были приниматься в уплату налога. Эта суровая, но необходимая мера также была принята. Оба совета помогали Директории и сохраняли одинаковое с нею направление, за исключением довольно умеренной оппозиции меньшинства. В ее среде возникло несколько споров по поводу проверки полномочий, обсуждения законов 3 брюмера, о наследстве эмигрантов, о священниках и событиях на юге. Проверку полномочий депутатов поручили комиссии, которой приходилось давать множество справок; ее доклад мог быть представлен лишь очень нескоро. Особо оспаривалось приложение закона 3 брюмера. Закон этот предоставлял амнистию всем правонарушениям, совершенным во время революции и не входящим в разряд обыкновенных уголовных преступлений, таких как убийство и воровство. Из этого списка, однако, исключили проступки и преступления, касающиеся 13 вандемьера. Отстранялись от общественных должностей родственники эмигрантов и лица, которые возмутились в избирательных собраниях против декретов 5 и 13 фрюктидора. Закон этот был последним энергичным действием Конвента, он особенно оскорблял людей умеренных, за которыми прятались контрреволюционеры; его еще надлежало применить к нескольким депутатам, главным образом к некоему Эме, депутату от Дрома, возмутившему избирательное собрание своего департамента; Эме, кроме того, еще обвиняли в принадлежности к обществу иезуитов. Один из членов Совета пятисот решился даже требовать уничтожения самого закона. Это предложение вывело из себя все партии; спор, подобный прежним, столь частым бурным сценам Конвента, разгорелся в совете. Луве вскочил на трибуну для защиты закона. Тальен, которому только недостаток личной представительности помешал занять место в Директории, и на этот раз показал себя упорным защитником революции: он сказал речь, которая произвела сильное впечатление. «Пусть не устрашают нас, – вскричал Тальен, – именем Террора! Припоминая время, столь непохожее на настоящее, нельзя пугать нас его возвращением. Конечно, времена изменились значительно: в то время, о котором пытаются нам напомнить, роялисты не осмеливались подымать голову, священники-фанатики и возвратившиеся эмигранты не находили покровительства, предводителей шуанов не оправдывали. К чему сравнивать обстоятельства, не имеющие ничего общего? Очевидно, хотят устроить процесс 1–3 вандемьера; осудить решения, принятые в этот памятный день, людей, среди таких опасностей спасших Республику. Пусть же наши враги взойдут на трибуну! Мы, сторонники революции, ее защитим. Даже те, кто в смутное время толкали на пушки растерянных людей, даже они упрекают нас за усилия, предпринятые для их усмирения; они пожелали бы отменить меры, на которые нас вынудила самая настоятельная необходимость; но они в том не преуспеют! Закон 3 брюмера – самая важная из этих мер – будет удержан: он необходим для Конституции, а вы, не сомневаюсь, захотите отстоять Конституцию!» «Да, да, мы этого хотим!» – раздалось множество голосов. Затем Тальен предложил исключить Жан-Жака Эме, и многие из депутатов новой трети хотели оспорить это исключение. Тем не менее, среди оживленных прений, закон 3 брюмера был все-таки вновь подтвержден, а Эме исключен. После этого подняли вопрос об эмигрантах и их правах на еще не объявленные наследства. Еще законом Конвента, для того чтобы воспрепятствовать оказанию помощи эмигрантам, их собственность была конфискована и, чтобы на нее невозможно было получить права впоследствии, объявлена принадлежащей Республике; таким же образом наложили запрет и на имущество родственников эмигрантов. Теперь, для снятия этого запрета, Совету пятисот предложили утвердить разделение этого имущества: часть его, причитающуюся на долю эмигрантов, получит правительство. Среди депутатов новой трети это новое мероприятие встретило довольно существенную оппозицию; против этой вполне революционной меры приводили доводы, почерпнутые из гражданского права, утверждали, что это будет насилием над правом собственности. Тем не менее решение было принято. В Совете старейшин оно не прошло: последний, вследствие возраста своих членов и своего более высокого положения, как решающего судьи, обладал большей умеренностью, чем Совет пятисот; менее подверженный влиянию революционных страстей, он занимал как бы положение посредника между большинством и оппозицией Совета пятисот. Как учреждение по самому существу своему умеренное, Совет старейшин отверг последнее предложение, так как оно вело к исполнению несправедливого закона. Затем советы декретировали, что высшим судьей при поступлении просьб об исключении из списка эмигрантов будет Директория. Закон против священников, не принесших гражданской присяги или впоследствии от нее отказавшихся, был возобновлен. Постановили, что если такие священники самовольно появятся на территории государства, то с ними поступят как с вернувшимися эмигрантами; снисхождения удостаивали лишь больных, которым изгнание заменяли заключением. Деятельность Фрерона на юге, где он составлял администрацию и суды из горячих республиканцев, доставила в обоих советах повод к волнению и даже стала причиной взрыва. Иезуиты и контрреволюционеры, перешедшие к убийствам после 9 термидора, теперь опять могли подвергнуться возмездию и потому кричали об опасности. Это дало в Совете пятисот повод к декламаторским речам: некоторые депутаты после пререканий чуть не вступили в схватку, но были разняты товарищами. Назначили комиссию для составления доклада о положении дел на юге.
Все эти события заставили партии проявить себя. Хотя значительное большинство в обоих советах поддерживало Директорию, меньшинство становилось с каждым днем всё смелее и открыто выказывало свою преданность реакции. Это было проявление духа 9 термидора: сначала справедливо нападали на крайности террора, но с каждым днем становились всё более пристрастными. Бывшие члены Конвента ухватились за представившийся случай, годовщину 21 января, чтобы подвергнуть своих сотоварищей, скрытых роялистов, тяжелому испытанию. Они предложили ежегодное празднование 21 января, дня смерти короля; постановили, что в этот день каждый из членов обоих советов и Директории должен дать клятву в ненависти к королевской власти. Проект был принят обоими советами. Члены Конвента с нетерпением ждали заседания 21 января (1 плювиоза года IV), чтобы посмотреть, как будут приносить клятву их новые сотоварищи. Заседания советов в этот день были весьма торжественны. В Париже устроили празднество, на котором должны были присутствовать Директория и все власти. При произнесении клятвы некоторые из вновь избранных депутатов были, по-видимому, смущены. Бывший член Учредительного собрания Дюпон де Немур, ныне член Совета старейшин, при всяком случае высказывавший самую смелую оппозицию существующему правительству, выразил некоторую досаду, произнеся: «Я клянусь в ненависти к королевской власти… и всякого рода тирании». В этой фразе сквозило желание хотя бы окольным путем отомстить Директории. Поднялся ропот, и Дюпон был вынужден остановиться на официальной формуле. В Совете пятисот хотели прибегнуть к тому же способу выражения, но и эту попытку остановили. К тому времени возвратились депутаты, обмененные на дочь Людовика XVI: Кинет, Банкаль, Камю, Ламарк, Друэ и бывший военный министр Бернонвиль. Они рассказали о своем плене; слушали их с живым негодованием, принимали с участием, и, ко всеобщему удовольствию, депутаты заняли места, оставленные для них в советах. Таково было положение правительства и партий в течение зимы IV года (1795 и 1796 годы). Франция, ожидавшая прочного правительства и восстановления порядка, начинала привыкать к новому положению вещей и совсем примирилась бы с ним, если бы не те усилия, которые еще предстояло совершить. Строгое исполнение законов о наборе, принудительный заем, реквизиция лошадей, плачевное положение кредиторов государства, получавших ассигнации, – всё это подавало повод к жалобам; не будь того, страна нашла бы, быть может, правительство превосходным. Весьма немногие могут довольствоваться славой, свободой, благородными и великодушными идеями, ради которых они готовы на все жертвы; люди желают прежде всего спокойствия и возможно меньшего количества тягот. Бывают, правда, времена, когда восстает весь народ, волнуемый великими и глубокими страстями, как, например, в 1789 году, когда нужно было завоевать свободу, или в 1793-м, когда нужно было ее защитить. Но теперь, истощенные последними усилиями, французы ничего более не хотели. Только ловкое и сильное правительство могло добиться от них средств, необходимых для спасения страны. К счастью, молодежь, всегда склонная к приключениям, представляла богатые возможности для комплектования армий; хотя молодые люди с неохотой оставляли свои очаги, но после некоторого сопротивления свыкались с новым положением: в лагерях и походах они начинали испытывать склонность к войне и показывали чудеса храбрости. Сладить с плательщиками налогов, от которых требовались деньги, и примирить их с правительством было гораздо труднее. Враги революции пользовались новыми жертвами, требуемыми от Франции, как лучшим средством громить в своих газетах Директорию. Они делали вид, что смотрят на правительство как на правительство революционное, опирающееся на произвол и насилие; по их мнению, на правительство нельзя было положиться, нельзя было с доверием относиться к мерам, которые оно предпринимает. Но более всего контрреволюционеры восставали против продолжения новой кампании; они заверяли, что жертвуют погоне за завоеваниями спокойствием, состоянием, жизнью граждан, и, казалось, были обижены, что Революции выпала честь присоединить Бельгию к Франции. Впрочем, неудивительно, говорили они, что правительство одушевлено таким духом и проникнуто подобными замыслами, ведь и Директория и ее советы заполнены членами собрания, очернившего себя такими преступлениями. Патриоты, в свою очередь, не отставали в упреках и нареканиях в отношении правительства; они считали его чересчур слабым и готовы были обвинять в снисходительности к контрреволюции. Они, наоборот, находили, что зря разрешают вернуться эмигрантам и священникам и каждый день оправдывают вандемьерских заговорщиков; что с недостаточной строгостью разыскивают солдат, оставивших знамена; что, наконец, обязательный заем взимается вяло. Более всего они нападали на принятую правительством финансовую систему. Еще прежде патриотыбыли раздражены предложением уничтожить ассигнации и требовали революционных мер 1793 года для поднятия ассигнаций до их номинальной цены. Предложение прибегнуть к помощи финансистов и учредить банк разбудило все их предубеждения. По мнению патриотов, правительство таким образом отдавало себя в руки биржевых игроков; учреждая банк, подрывали ассигнации, уничтожали бумажные деньги с государственным обеспечением и заменяли их частными бумагами биржевых спекулянтов. Отмена рационов также приводила патриотов в негодование. Прекратить продовольствование Парижа, установить свободную продажу съестных припасов, по их мнению, равнялось открытому нападению на Революцию, тому, чтобы предать народ голоду и довести его до отчаяния. В последнем были согласны роялистские и якобинские газеты, и министра Бенезека осыпали бранью со всех сторон. Раздражение патриотов достигло своего предела вследствие строгого применения к ним закона 3 брюмера; последний предоставлял амнистию за беспорядки, совершенные во время революции, но не освобождал от преследования в случае нарушения прав частных лиц – воровства и убийства. Преследование, начатое против сентябрьских убийц в последние дни Конвента, шло своим порядком, как против убийц обыкновенных. В то же самое время судили и вандемьерских заговорщиков, и они почти все были оправданы. Судопроизводство же против виновников сентябрьской резни проходило чрезвычайно строго. Патриоты были возмущены. Некто Бабёф, бешеный якобинец, попавший в тюрьму в прериале и выпущенный на свободу после амнистии, в подражание Марату стал издавать газету «Трибун народа». Более резкая, чем газета Марата, газета Бабёфа была не столько циничной, сколько плоской. То, что раньше вызывалось лишь чрезвычайными обстоятельствами, здесь возводилось в систему и защищалось с еще невиданной, впрочем, бестолковостью и запальчивостью. Всякая отживающая идея вырождается у последних ее защитников в манию и безумие. Бабёф был главой сектантов, которые утверждали, что сентябрьские убийства были недостаточно обширны, что их нужно возобновить и расширить. Его приверженцы громогласно заявляли о необходимости аграрного закона – чего даже эбертисты требовать не осмеливались; и для обозначения цели своего нового учения избрали девизом выражение общее счастье. Одно уже это достаточно ясно характеризует их стремление к демагогическому деспотизму; читая страницы с изложением учения, невольно содрогаешься. Люди здравомыслящие сочувствовали их безумию; алармисты же воспользовались случаем и немедленно возвестили о наступлении террора. Следует, впрочем, сознаться: собрания «Пантеона» давали им отличный повод высказывать подобные опасения. Мы уже говорили, что якобинцы возобновили собрания своего клуба в обширном помещении церкви Святой Женевьевы. На собраниях бывало множество народу, больше чем прежде: до четырех тысяч человек; и вся эта толпа вопила и бесновалась до поздней ночи. Мало-помалу они переступили границы, определенные Конституцией для публичных собраний: устроили бюро, выбрали президента, выдавали членские дипломы; словом, клуб вновь принял вид политического собрания. Там декламаторствовали против эмигрантов, попов, биржевых спекулянтов – всех пиявок народных; а также против банков, отмены раздач хлеба, уничтожения ассигнаций и мер против патриотов. Правительство, упрочавшееся с каждым днем, уже меньше опасалось контрреволюции. Директория искала одобрения и поддержки всех умеренных и благоразумных людей и потому считала необходимым карать эту разнузданность якобинской фракции; директоры решили применить предоставленные им законами и Конституцией средства. Сначала приказали изъять несколько номеров газеты Бабёфа за призывы к ниспровержению Конституции; затем прекратить собрания «Пантеона», а чтобы мера эта не показалась слишком пристрастной – и несколько вполне невинных клубов в Пале-Рояле и на Итальянском бульваре, где танцевали или читали светские газеты. Постановление было напечатано и приведено в исполнение 27 февраля 1796 года (8 вантоза). У Совета старейшин требовали постановления о том, что народные собрания не должны состоять более чем из шестидесяти членов. Министр Бенезек, обвиняемый обоими направлениями общественного мнения, просил отставки. Директория отклонила его просьбу, поддержав его в ответном письме выражениями признательности за его заслуги и труды. Новая система продовольствования Парижа была удержана, и только бедные государственные чиновники и кредиторы с доходом менее тысячи экю продолжали получать рационы. Подумали, наконец, и о несчастных кредиторах государства, которым выплачивались проценты ассигнациями. Оба совета согласились, что имеющие ренту получат ассигнациями в десять раз больше своего капитала: вознаграждение всё равно недостаточное, так как ассигнации стоили два процента от своей номинальной стоимости. В добавление ко всем этим мерам Директория наконец решила отозвать депутатов Конвента, посланных с особыми полномочиями; их заменяли назначенными ею же правительственными комиссарами. Последние уже не имели безграничной власти в армиях, были при них только представителями правительства, следившими за исполнением законов; лишь в обстоятельствах неотложных и когда власть главнокомандующего оказалась бы недостаточной, например, в случае реквизиции людей или продовольствия, они могли принять временное решение, которое подлежало утверждению Директории. Гражданским комиссарам в провинциях поручили рассмотрение жалоб на чиновников и надзор за исполнением последними их обязанностей, а в случае надобности – представление правительству об их замещении. Меру эту вызвал тот факт, что многие чиновники впервые были назначены Директорией, в них могли обмануться, и на многих уже жаловались.
Для надзора за партиями, которым теперь приходилось прятаться и действовать скрытно, Директория прибегла к образованию особого министерства полиции. Полиция во всякое смутное время имеет важнейшее значение. Во всех трех предшествовавших собраниях круг ее деятельности поручался особому комитету; Директория не сочла возможным отвести полиции второстепенное место в министерстве внутренних дел. Когда в оба совета представили проект отдельного министерства полиции, оппозиция начала утверждать, что хотят устроить учреждение инквизиционного характера. Последнее было совершенно верно, но, к несчастью, неизбежно в смутное время, особенно же тогда, когда партии вступают в тайные заговоры. Проект был одобрен; управление новым министерством поручили депутату Кошону. Директории хотелось бы еще ограничить свободу печати, не подлежавшей по Конституции никаким ограничениям. Оба совета после торжественного обсуждения отвергли все карательные законопроекты, стеснявшие свободу печати. Роли партий в прениях и на этот раз, как бывало прежде, переменились: сторонники революции требовали карательных мер, а оппозиция, в которой имелись тайные защитники монархии, стояла за безусловную свободу печати. Впрочем, это решение оказалось благоразумным. Нет никакой опасности в полной свободе печати; только истина могущественна; ложь – бессильна: чем более она преувеличивает, тем менее внушает доверия; ложь не подорвала еще ни одного правительства. Зачем обращать внимание на то, что Бабёф кричит об аграрном законе или как «Ежедневная газета» унижает величие Революции, клевещет на ее героев и старается возвеличить изгнанных принцев! Правительству стоит только не вмешиваться: не пройдет и недели, как напыщенная декламация, преувеличение и ложь лишат авторов, памфлетистов и клеветников, всякого внимания и доверия. Нужны, однако, время и известная склонность к философичности, чтобы проникнуться этой истиной. Для Конвента она была, быть может, и несвоевременной. Директория, более обеспеченная и упроченная, могла понять и применить ее.
Последние меры Директории – закрытие «Пантеона», отклонение отставки Бенезека, снятие с депутатов Конвента особых полномочий, перемещение некоторых чиновников – произвели благоприятное впечатление. Они успокоили тех, кто боялся террора; заставили замолчать тех, кто кричал, будто только его и боится; наконец, вполне удовлетворили всех благоразумных людей, которые желали, чтобы правительство стало выше партий. Последовательность в трудах внушала к Директории уважение; начинали надеяться на спокойствие и прочность существующего порядка. Каждого из пяти директоров окружала официальная обстановка. Баррас, любивший и умевший жить, устраивал приемы в Люксембургском дворце; он как бы принял на себя представительство вместо своих товарищей. Общество сохраняло почти тот же характер, что и в прошлом году; оно представляло собой оригинальное смешение характеров и состояний, в нем царствовали большая свобода нравов, необузданное стремление к наслаждению и необыкновенная роскошь. Приемы Барраса были полны генералами, которые получили образование и завоевали общественное положение в два последних года; поставщиками и дельцами, нажившимися спекуляцией и грабежом; возвратившимися изгнанниками, заискивающими перед правительством; талантливыми людьми, начинавшими верить в возможность порядка и желавшими получить место; наконец, интриганами, искавшими милостей. Женщины разного происхождения украшали своей красотой эти салоны и пользовались влиянием: в то время всего можно было требовать и всё получить. Может быть, в манерах и не всегда можно было заметить то достоинство, которым во Франции так дорожат и которое составляет принадлежность высшего общества, спокойного и замкнутого; но зато на этих салонах царствовала чрезвычайная смелость ума и обнаруживался тот избыток практических идей, который всегда появляется у очевидцев или участников великих событий. Общество это состояло из людей, свободных от всякой рутины; от них нельзя было услышать повторения затверженных преданий; то, что они знали, они узнали из опыта. На их глазах совершались великие исторические события; они принимали и еще продолжали принимать в них участие. Легко представить, какую пищу для размышлений могло дать подобное зрелище людям молодым, честолюбивым и полным надежд. На первый план в обществе выдвигался молодой Гош; из простого солдата Французской гвардии, в течение всего одной кампании, он сделался главнокомандующим и в два года успел обогатить себя самым обширным и изысканным образованием. Красивый, вежливый, прославившийся как лучший полководец своего времени, притом всего в двадцать семь лет, Гош был надеждой Республики, идолом всех женщин, восторгавшихся его красотой, талантами и славой. Рядом с ним уже обращал на себя внимание молодой Бонапарт, которого – хотя известность его и не была еще так громка – отличали заслуги под Тулоном и 13 вандемьера; его характер и личность привлекали; ум же поражал оригинальностью и силой. В этом обществе госпожа Тальен блистала своей красотой, госпожа Богарне своей грацией, а госпожа де Сталь расточала весь блеск своего ума, который еще более развили обстоятельства и свобода. Молодые люди, занимавшие высшее положение в государстве, искали себе жен или между особами старых фамилий, для которых их выбор теперь мог быть только лестным, или в семействах богачей, составивших себе недавно состояние и желавших облагородить свое богатство родственным союзом с известностью и репутацией. Бонапарт женился на несчастной вдове генерала Богарне. Каждый мог добиться и надеялся достигнуть высокого общественного положения; все карьеры были открыты: сухопутная война, война морская, кафедра того или другого совета, суды. Словом, все способности могли считать себя призванными и принять участие в управлении страной; такие цели воистину вдохновляли умы! В то же время правительство сделало большое приобретение: оно нашло себе защитника перед общественным мнением в лице писателя остроумного и глубокого – Бенжамена Констана. Он только что издал брошюру «О силе правительства», которая произвела на всех большое впечатление. В ней Бенжамен Констан доказывал необходимость поддержки правительства, остававшегося единственной надеждой Франции и всех партий. Финансы по-прежнему вызывали у правительства наибольшее затруднение; последние принятые меры только отдаляли, но не устраняли проблем. Советы предоставили правительству право продать часть национальных имуществ, отдать в аренду государственные леса, взимать принудительный заем и, как самое крайнее средство, разрешили печать новых ассигнаций. Как уже было сказано, выпустили на 60 миллионов билетов государственного казначейства; билеты эти должны были оплачиваться первой поступившей в казну наличной монетой. И несмотря на это, обращение билетов оставалось весьма затруднительным. Банкиры, составившие было общество для учреждения поземельного банка, отказались, услыхав о выходках патриотов против откупщиков. Принудительный заем взимался медленнее, чем предполагали. Раскладка его производилась самым произвольным образом, и каждый протестовал и оспаривал ее. В два месяца поступила едва ли треть займа: несколько миллионов металлическими деньгами и несколько миллиардов ассигнациями. За неимением других средств оставалось прибегнуть к крайнему – к новому выпуску ассигнаций. В течение двух последних месяцев их количество дошло до неслыханного размера в 45 миллиардов; 20 миллиардов давали едва 100 миллионов металлическими деньгами. Вследствие такой почти ничтожной ценности они не имели никакого обращения: ими разве что могла оплачиваться половина арендной платы и налогов, другая взималась натурой; на рынке же их вовсе не принимали, а если и принимали, то по реальной, а не по номинальной цене. При продаже национальных имуществ ассигнации принимали ниже их рыночной цены: падение курса заставляло стекаться на аукционы бумажные деньги, а их повышенное предложение еще более понижало их курс. И нельзя было придумать средства придать ассигнациям хоть какую-нибудь ценность. Предстоявшие дальнейшие выпуски, конца которым не предвиделось, заставляли ожидать появления на рынке громадных сумм бумажных денег, которые еще более понизили бы ценность ассигнаций. То падение, которого следовало ждать, отвергнув предложение Бурдона запретить продажи национальных имуществ с аукционов, – осуществилось. Умы, зараженные предрассудками революции – всякое учение и система имеют свои предрассудки, – желали поднять курс ассигнаций, обеспечив их залогом большей части национальных имуществ, затем прибегнув к принудительным мерам для их обращения. Но восстановить репутацию денег труднее всякой другой репутации; от ассигнаций необходимо было отказаться. Отчего тотчас же не уничтожили бумажные деньги, принимая их везде по рыночной цене, что составило бы всего двадцать миллионов, и не потребовали уплаты налогов и взносов за национальные имущества или металлическими деньгами, или ассигнациями, но принимая последние по курсу? Металлические деньги появились в обращении, в них не ощущалось недостатка; ошибочно было опасаться, что их не хватит; притом бумажных денег имелось в обращении, считая по курсу, на 200 миллионов. Следует, однако, признаться, что все-таки единственным богатством, на которое могло рассчитывать государство, оставались национальные имущества; скорая продажа последних ничем не была гарантирована, и нельзя было сказать, когда она состоится; не было времени ждать, когда ценность национальных имуществ обратится в деньги и поступит в сундуки казначейства. Выпуск особых закладных листов, обеспечиваемых каждый отдельным видом собственности, был весьма затруднителен: требовалось перечисление всех особенностей отдельных земель – для включения в кадастр; притом обращение подобных листов не могло быть общим и касалось лишь отдельных покупателей. Тогда прибегли к ценным бумагам другого рода – мандатам, обеспеченным фиксированной стоимостью земельных участков. Национальные имущества продавались без аукциона, упрощенно, с помощью специального протокола. Мандатов нужно было выпустить на два миллиарда четыреста миллионов, и на обеспечение их отделить на такую же сумму национальных имуществ по оценке 1790 года. В колебаниях своей ценности мандаты должны были следовать изменениям ценности самих имуществ; они не могли иметь собственной номинальной ценности. Часть мандатов пошла на извлечение из обращения ассигнаций. Гравировальные доски для их печатания были разбиты еще 19 февраля (30 плювиоза); в обращении оставалось еще 36 миллиардов; вскоре и этот остаток должен был сократиться до 24 миллиардов. Часть мандатов замещала собой ассигнации; еще какое-то количество должно было пойти на текущие государственные расходы, а остаток – заперт в особой кассе на три ключа и выниматься оттуда по мере надобности – не иначе как в силу особых декретов.
Этот выпуск мандатов оказался повторением ассигнаций: на меньшую сумму, с другим названием и с консолидированием ценности. Вся новая финансовая операция сводилась к тому, что только сокращали цифру выпуска, приравнивали ценность земли к цене бумажных денег и меняли название последних. Мандаты пустили в обращение 16 марта (26 вантоза). Имущества тотчас же были пущены в продажу и закреплялись за предъявителями мандатов специальным актом. Половину стоимости следовало выплачивать в первую декаду по совершении сделки, вторую половину – через три месяца. Леса оставались нетронутыми, из поземельных имуществ отчуждались только мелкие – менее 300 акров. Немедленно приняли меры, превращавшие мандаты в официальные бумажные деньги: ими выплачивались долговые претензии, займы всякого рода, проценты на капитал, налоги, за исключением недоимок, государственная рента, пенсии, жалованье чиновникам. Касательно поземельного налога имелись большие разногласия. Те, кто предвидел будущее падение ценности мандатов, как это случилось уже с ассигнациями, желал обеспечить государству постоянный доход, сохранив уплату поземельного налога натурой; им возражали, ссылаясь на затруднительность взимания подобного налога, и в конце концов было решено, что налоги поземельный, таможенный и почтовый, гербовый сбор и все канцелярские пошлины будут взиматься мандатами. Прибегли и к обыкновенным принудительным мерам, сопровождающим поддержание номинального курса не укрепившихся еще на рынке ценностей: объявили, что золото и серебро не могут считаться товаром и что бумажные деньги нельзя обменивать на золото, как и обратно. После стольких уже опытов подобных мер это решение было поистине жалким. Приняли и другую меру, которая сильно навредила Директории в общественном мнении: закрыли биржу. Прошлое так и не научило, что с закрытием рынка в одном месте он только переходит на другое. Заменяя мандатами наличные деньги, правительство совершало важную ошибку: даже если бы их курс и не подлежал падению, в любом случае мандаты не могли конкурировать со звонкой монетой по той простой причине, что они представляли ценность земли, а земля имела менее половины ценности 1790 года: родовое поместье в 100 тысяч франков стоило теперь лишь 50 тысяч. Как же 100 тысяч мандатов могли стоить 100 тысяч франков? Новую финансовую меру торопились осуществить возможно скорее; в государственном казначействе не было средств, и тогда в ожидании мандатов выпустили кредитивы на них. Как только кредитивы поступили в обращение, они сейчас же оказались значительно ниже своей номинальной ценности, что заставляло опасаться за будущность мандатов; говорили, что новые ценные бумаги так же быстро упадут в цене, как упали ассигнации, и Республика останется без всяких средств. Существовала, однако, причина такого быстрого падения, и ее можно было устранить. Требовалось издать инструкции для местных администраций и определить в них все частные условия продажи и передачи имущества тем упрощенным способом, который предписан законом; но подобная работа требовала много времени, а за невыполнением ее замедлялись продажи. Между тем падение курса мандатов продолжалось; говорили, что ценность их падет скоро так низко, что правительство не захочет открывать продажи земель за бесценок. Люди злонамеренные прибавляли, что новые бумаги – это приманка, имущества так и не будут отчуждены, потому что республика хочет сохранить их залогом всякого рода ценных бумаг, какие ей вздумается выпустить в обращение. Открывшиеся наконец продажи устранили подрыв государственного кредита. Мандаты в 100 франков, упавшие до 15, постепенно поднялись до 30, 40, а иногда и до 88 франков. Поначалу можно было даже надеяться на успех новой финансовой операции.
В то время как Директорию занимали финансы, обе политические партии составляли против нее тайные заговоры. Агенты роялистов продолжали свои происки. Смерть Леметра их не остановила. Оправданный Бротье стал во главе агентуры; Дюверн де Прель, Ла Виллеруа, Депоммель собрались вокруг него и составили тайный королевский комитет. Эти жалкие крамольники, впрочем, не имели влияния; они по-прежнему интриговали, просили денег, писали статьи и обещали чудеса. Они продолжали служить посредниками между претендентом и Вандеей. Упорствуя в своих замыслах и видя, что вандейское восстание подавлено и близко к концу, они день ото дня убеждались в необходимости сосредоточить свои усилия в Париже, чтобы устроить переворот хотя бы в столице. Как и во времена Конвента, роялисты хвастались, что состоят в сношениях со многими депутатами нового собрания, и полагали, что следует повременить, подготовить общественное мнение с помощью газет, лишить правительство уважения и постараться добиться того, чтобы выборы будущего года ввели в советы новую треть, вполне преданную контрреволюции. Этот их план был явно менее химеричен, чем прочие, и может дать наилучшее представление о способностях роялистских агентов. Патриоты, более опасные, если судить по средствам, находившимся у них в распоряжении, тоже готовили заговор. Выгнанные из «Пантеона», осужденные отшатнувшимся от них правительством, которое лишило их должностей и объявило себя их противником, они, естественно, сделались его непримиримыми врагами. Их преследовали, за ними следили, и им не оставалось ничего, кроме заговора. Они выбрали в свой тайный комитет общественного спасения четырех человек, в их числе были Бабёф и Друэ. Патриоты собирались действовать при помощи двенадцати тайных агентов, не знавших друг друга, и организовать патриотические общества во всех парижских кварталах. Двенадцати агентам нельзя было называть четырех членов тайной директории; они должны были говорить от имени некой таинственной верховной власти, учрежденной для направления усилий к достижению общего счастья. Нити заговора оставались почти неуловимы: даже если бы один из заговорщиков был схвачен, прочие остались бы неизвестны. Бабёф и его товарищи искали способ осуществить то, что они называли освобождением; затем представлялся вопрос: кому поручить власть, когда вырежут Директорию, разгонят советы и восстановят державные права народа. Судя по отношению к ним провинций и всего общественного мнения, они имели основания не доверять случайностям избирательной борьбы, созывая новое собрание. Они хотели составить его по своему желанию, назначив от каждого департамента по одному ими самими избранному якобинцу; в это собрание, кроме того, должны были войти все монтаньяры старого Конвента, не избранные в состав обоих советов. Впрочем, и эти сторонники Горы, казалось патриотам, не представляли достаточных гарантий: многие из них в последние дни Конвента соглашались на меры, которые, по их словам, были губительны для свободы, они даже принимали должности от Директории. Однако в конце концов патриоты сошлись на том, что допустят в свое собрание шестьдесят восемь монтаньяров, которых считали самыми незапятнанными. Их новое собрание должно было захватить всю власть и удерживать ее до тех пор, пока общее счастье не будет установлено и упрочено. Следовало вступить в соглашение с конвенционалистами, которых они прочили в свое собрание, и которые большей частью проживали в Париже. Бабёф и Друэ начали с ними переговоры, и довольно скоро возникли разногласия относительно способа переворота. Конвенционалисты находили весьма странными меры, которые предлагала тайная директория. Они желали восстановления старого Конвента и Конституции 1790 года. Тем не менее соглашение все-таки состоялось, и восстание назначили на апрель. Средства, какие предполагала пустить в ход тайная директория, были поистине ужасны. Она вступила в письменные сношения с главнейшими городами Франции, чтобы революция вспыхнула одновременно в нескольких пунктах и приняла общее направление. В Париже патриоты должны были выступить разом из всех кварталов, неся лозунги «Свобода, Равенство, Конституция 1793 года!» и «Общее счастье!». Всякого, кто вздумал бы им противиться, предполагалось убивать. Полагали зарезать всех пятерых директоров, некоторых членов Совета пятисот и главнокомандующего Внутренней армии, завладеть Люксембургом, казначейством, телеграфами, арсеналом и артиллерийским депо в Мёдоне. Чтобы склонить народ к восстанию и не обольщать его больше лживыми обещаниями, планировали принудить всех зажиточных жителей принимать к себе и кормить всякого, кто будет участвовать в восстании. Булочники и виноторговцы, под страхом в случае отказа быть повешенными на фонарях, обязаны были доставлять народу хлеб и напитки, за что им правительство должно было заплатить. Каждый солдат, перешедший в ряды восстания, должен был получить всё свое снаряжение в собственность и быть отпущен домой. Этим путем надеялись привлечь тех, кто служил с неохотой. Солдаты же, свыкшиеся с военным ремеслом и желавшие остаться, получали право грабить дома роялистов. Для пополнения армий и замещения тех, кто возвратится домой, предполагалось предоставить солдатам такие выгоды, чтобы можно было рассчитывать на приток новых волонтеров. Теперь уже наглядно видно, какие безумные планы составили эти отчаянные головы. В начальники мятежной армии прочили Россиньоля, бывшего главнокомандующего в Вандее. Патриоты завязали сношения с полицейским легионом, входившим в состав Внутренней армии; он состоял исключительно из патриотов, жандармов революционных трибуналов и прежних солдат Французской гвардии. Он восстал, но слишком рано, и был распущен Директорией. Министр полиции Кошон следил за заговором, о котором ему донес один из офицеров Внутренней армии, и не трогал заговорщиков, чтобы лучше отследить все нити. Девятого мая (20 флореаля) Бабёф, Друэ и прочие начальники и тайные агенты должны были сойтись на улице Блё, у знакомого столяра. Полицейские офицеры, спрятавшиеся поблизости, схватили заговорщиков и тотчас же отправили их в тюрьму. Кроме того, арестовали бывших членов Конвента Леньело, Бадье, Амара, Рикора, Шудье, пьемонтца Буаноротти, бывшего члена Законодательного собрания Антонелли и Лепелетье де Сен-Фаржо, брата убитого. У обоих советов потребовали предания суду Друэ, который был членом Совета пятисот; всех заговорщиков решили предать верховному суду, который для этой цели предстояло еще составить. Бабёф, самомнение которого равнялось его фанатизму, написал Директории странное письмо, вполне характеризующее его сумасбродство. «Я – сила, – писал он пяти директорам, – вы не скомпрометируете себя, вступая со мною в сношения. Я – глава многочисленной секты, которую вы не уничтожите, посылая меня на смерть, напротив – с моею смертью она будет еще более раздражена и станет еще опаснее. Вы уловили только одну нить заговора; схватить нескольких – еще ничего не значит; предводители найдутся снова. Не проливайте напрасно крови; до сих пор вы не делали много шума из этого дела, не делайте и далее, примиритесь с патриотами; они вспомнят, что вы были искренними республиканцами, и простят вам, если вы захотите вместе с ними содействовать благу Республики». Директория не обратила никакого внимания на это неуместное письмо и приказала продолжать следствие; последнее не могло быть скоро кончено, так как хотели соблюсти все формальности. Энергичные меры, принятые против заговора, упрочили положение Директории в общественном мнении. Зима заканчивалась; внутри страны партии сдерживали и строго за ними следили, администрацией руководили ревностно и тщательно; одни бумажные деньги беспокоили правительство, однако они доставили временное средство для приготовлений к предстоящей кампании.
Наступало время открытия военных действий. Английское правительство, всегда вероломное в своей политике, сделало попытку, к которой его обязывало общественное мнение. Оно поручило своему агенту в Швейцарии Уикхему обратиться к французскому посланнику Бартелеми с малозначащими предложениями. Эта попытка была сделана 7 марта 1796 года (17 вантоза) с целью выпытать, расположена ли Франция к миру, согласится ли она на конгресс для обсуждения мирных условий и не благоугодно ли ей будет указать заранее те условия, на которых она согласна вести переговоры. Питт пошел на это с единственной целью удовлетворить желанию англичан, дабы потом, вследствие отказа Франции от мира, с большей настойчивостью требовать от парламента новых жертв. Если бы Питт в самом деле был искренен, он не облек бы такими полномочиями незначительного второстепенного агента; не требовал бы европейского конгресса, который уладить ничего не мог, и притом Франция в нем уже отказала Австрии; наконец, ему не было надобности спрашивать о главных основаниях мирных переговоров: он знал, что Нидерланды составляют часть французской территории и действующее правительство не согласится их уступить. Директория, не желая быть обманутой, отвечала Уикхему, что ни форма, ни цель его попытки не дают оснований верить в ее искренность; впрочем, чтобы доказать свое миролюбие, она согласится дать письменный ответ на вопросы, которые того не заслуживают и переговариваться о которых она может только в пределах, ограниченных Конституцией. Эти выражения подтверждали, что Франция ни в коем случае не откажется от Бельгии. Письмо Директории, составленное прилично по форме и решительно по содержанию, напечатали вместе с письмом Уикхема. Это был первый опыт дипломатии открытой и твердой, но без всякой хвастливости. И с той и с другой стороны в Европе шли приготовления к открытию военных действий. Питт потребовал у парламента нового займа в 7 миллионов фунтов и старался получить другой, в 3 миллиона, для австрийского императора. Он прилагал все старания вывести прусского короля из нейтралитета и заставить его вмешаться в борьбу. Фридриху-Вильгельму предлагали субсидии и убеждали его, что, вмешавшись в конце войны, когда соперники уже истощены, он приобретет неоспоримое превосходство. Но король Пруссии не хотел повторять своих прежних ошибок и сохранял нейтралитет. Часть его армии стояла в Польше и охраняла новые завоевания; другая – вдоль Рейна – была готова защищать нейтралитет, а также взять на себя охрану тех государств Германской империи, которые попросили бы ее об этом. Россия обещала коалиции войска, но не выслала их и также заботилась о гражданском устройстве той части Польши, которая досталась ей после раздела. Австрия, воодушевленная последними успехами кампании прошлого года, ревностно готовилась к войне и питала себя самыми тщеславными надеждами. Однако генерала, которому были обязаны этой военной удачей, сменили, несмотря на славу: Клерфэ не понравился придворному совету и был заменен молодым эрцгерцогом Карлом, на которого возлагали большие надежды, хотя не предвидели еще всего его военного таланта. В предшествовавшие кампании он выказал только качества толкового офицера. Вурмзер по-прежнему командовал армией Верхнего Рейна. Чтобы подвинуть короля Сардинского на продолжение войны, имперской армии в Италии послали значительное подкрепление и назначили главнокомандующим Больё, приобретшего известность в Нидерландах. Испания теперь наслаждалась миром и только следила за борьбой, скорее уже с сочувствием к Франции.
Директория, деятельная, как всякое новое правительство, хотела прославить свое правление и обдумывала обширные планы. Она значительно усилила армии, но могла выслать только солдат; у нее не было средств снабдить армии необходимым довольствием. Со всей Бельгии собрали контрибуции для продовольствования армии Самбры-и-Мааса, сделали всё для снабжения Рейнской и Вогезской армий; однако все-таки недоставало средств перевозки и обновления кавалерии. Альпийская армия снабжалась австрийскими складами, взятыми после сражения при Лоано, но не была ни одета, ни обута и не получала жалованья. Победа при Лоано не принесла должных результатов. Западная армия благодаря стараниям Гоша находилась в лучшем положении по сравнению с прочими, хотя и она не имела всего необходимого. Но французские армии привыкли к лишениям, привыкли довольствоваться, чем придется, – солдаты были закалены победоносными кампаниями и способны к самым великим военным подвигам. Мы уже сказали, что у Директории были великие планы. Уже весною она хотела закончить Вандейскую войну и перейти в наступление на всех пунктах. Рейнские армии должны были вторгнуться в Германию, блокировать и осадить Майнц, окончательно подчинить имперских князей и оставить Австрию в одиночестве, перенести театр войны на юг Германии и продовольствовать свои армии за счет неприятеля в богатых долинах Майна и Неккара. Еще более важные намерения имела Директория относительно Италии; они были внушены генералом Бонапартом. Не воспользовавшись как следует победой при Лоано, по мнению этого молодого офицера, следовало одержать другую победу и принудить сардинского короля к миру или лишить его королевства, затем перейти По и отнять у Австрии лучшее украшение ее короны – Ломбардию. Там располагался театр решительных действий; там можно было нанести самые чувствительные удары, приобрести залог, уступкой которого во время переговоров о мире можно было бы вознаградить Австрию за потерю Нидерландов и таким образом добиться мира, а быть может, и возвратить свободу прекрасной Италии. Кроме того, на плодороднейших равнинах можно было снабдить армию всем. Приняв эти идеи, Директория внесла в командование некоторые перестановки. Журдан сохранил заслуженное командование армией Самбры-и-Мааса. Пишегрю, изменивший своему отечеству и уже в том подозреваемый, был заменен Моро. Командование Голландской армией вместо Моро принял Бернонвиль, только что вернувшийся из плена. Шерера, которым были недовольны из-за его бездействия после победы при Лоано, заменили: на его место хотели назначить предприимчивого молодого человека, который мог решиться на смелую кампанию. Бонапарт, уже отличавшийся в Итальянской армии и так хорошо сознававший необходимость перейти Альпы, представлялся более всех способным заменить Шерера. Его повысили от командования Внутренней армией до главнокомандующего Итальянской армией, и он тотчас же отправился в Ниццу. Полный воодушевления и радости, Бонапарт говорил при отъезде, что через месяц будет или в Милане, или в Париже. Пыл этот можно было считать скорее добрым предзнаменованием. Такие же перемены были произведены и в командовании армиями, занимавшими восставшие западные провинции. Гоша, вызванного в Париж для совещания касательно мирного плана, встретили с большим вниманием и уважением. Директория признала всё благоразумие его планов, вполне их одобрила и, чтобы предоставить Гошу полную возможность их выполнить, назначила его главнокомандующим трех береговых армий – Брестской, Шербурской и Западной, соединив их все в одну под названием Армии Берегов Океана. Последняя была самой многочисленной армией Республики, так как в ней собралось более ста тысяч человек; она расположилась в нескольких провинциях и требовала соединения в руках главнокомандующего чрезвычайных полномочий – как гражданских, так и военных. Подобное командование было лучшим свидетельством того доверия, какое можно оказать генералу. Несомненно, Гош его заслуживал. В двадцать семь лет он соединял в себе такие гражданские и военные качества, которые в другом человеке могли бы стать опасными для свободы страны; но Гош не обладал тем честолюбием и той дерзостью ума, которые могут подвинуть знаменитого полководца желать большого, чем предписывает долг гражданина; он был искренним республиканцем и равным Журдану в патриотизме и честности. Гош только месяц пробыл в Париже. Он торопился возвратиться на Запад – окончить покорение Вандеи к концу зимы или началу весны. Его план обезоружения и умиротворения Директория разделила на статьи и придала им силу правительственного постановления. Согласно этому плану линия обезоружения должна была охватить все восставшие провинции, последовательно подвигаясь внутрь них. В ожидании полного замирения страна объявлялась на военном положении, города же – на осадном. Приняли за основание, что армия должна жить за счет восставшего края, вследствие чего Гошу было предоставлено право взимать налоги и принудительный заем – натурой или наличными деньгами; а также устраивать склады и кассы для довольствования армии. Те города, которым крестьяне объявили войну, не доставляя припасов с целью истощить их, должны были снабжаться продовольствием с помощью летучих колонн, расположенных неподалеку. Всем бунтовщикам, сложившим оружие, даровалось прощение. Вожди, взятые с оружием в руках, должны были быть расстреляны, сдавшиеся – или лишены свободы, или удалены из пределов Франции. Директория, одобряя план Гоша – замирить сначала Вандею, прежде чем думать о Бретани, – уполномочивала его сначала закончить операцию на левом берегу Луары, а затем перевести войска на правый берег. С замирением Вандеи линия обезоружения должна была обнять всю Бретань, и таким же образом продвигаться до Финистера. Гошу поручили определить также время, когда можно будет снять военное положение и управлять краем на основании Конституции и мирных законов.
Прибыв в Анжер к середине января (к концу нивоза), Гош нашел положение дел ухудшившимся. Успех плана зависел главным образом от способа исполнения: требовал личного присутствия Гоша, так как генерал Вилл о заменял его плохо. Линия обезоружения двигалась мало; через нее прорвался Шаретт, внезапно появившись в тылу армии. Обычная система продовольствования велась дурно: войска часто нуждались в необходимом, сказывалось отсутствие дисциплины, и они позволяли себе насилие, которое могло оттолкнуть от них жителей. Сапино, совершивший нападение на Монтегю, добился от Вилло странного мира, на который Гош не мог согласиться. Стоффле, наконец, по-прежнему разыгрывал роль независимого владетеля, а Бернье – его министра. Ни Нант, ни Анжер не имели продовольствия; к тому же там собрались множество бежавших из столицы патриотов, которые то и дело пускались в бешеные разглагольствования в клубах. Распускали слухи, что Гоша вызвали, чтобы снять с него командование: одни говорили, что он роялист, другие – что якобинец.
 Шаретт
Шаретт
Возвращение его рассеяло все эти слухи и исправило зло, причиненное его отсутствием. Гош возобновил разоружение, наполнил склады, снабдил продовольствием города, объявив их в то же время на осадном положении, и – пользуясь предоставляемой ему военными законами диктатурой, – закрыл все якобинские клубы, прежде всего один в Нанте, под названием Пылающая палата. Он отказался ратифицировать мир, заключенный с Сапино, занял его провинцию и предоставил ему право удалиться из Франции, а если он того не хочет – скрыться в леса, но под страхом расстрела, если попадется. Затем Гош еще сильнее стеснил Стоффле и поручил преследовать Шаретта своему адъютанту, генералу Траво, соединявшему с большой храбростью всю энергичность партизана. Летучие отряды Траво не давали Шаретту ни минуты отдыха и никакой надежды. У последнего практически не оставалось средства ускользнуть. Жители Маре, обезоруженные, находившиеся под неусыпным надзором, не могли ему помочь. Они выдали уже более семи тысяч ружей, несколько пушек, сорок бочонков пороху и были не в силах вновь взяться за оружие; да если бы и могли, то не захотели бы, потому что наслаждались спокойствием, которое принес мир, и боялись навлечь на себя новые опустошения. Крестьяне указывали республиканским офицерам пути прохождения Шаретта и места, где он отдыхал, а когда могли захватить кого-либо из его товарищей, выдавали их войскам. Тем не менее Шаретт, едва с сотней преданных товарищей и с несколькими женщинами, переносившими с ними все опасности, и не думал сдаваться. Полный недоверия, он убивал приютивших его хозяев, когда боялся измены с их стороны; говорят, он умертвил священника, которого заподозрил в доносе. Траво несколько раз сталкивался с ним, причем убил до шестнадцати человек, нескольких офицеров, в том числе брата Шаретта. В отряде оставалось не более пятидесяти человек.
В то время как Гош без устали преследовал Шаретта и двигал свою линию обезоружения, Стоффле с ужасом обнаружил себя стесненным со всех сторон; он очень хорошо сознавал, что как только Шаретт и Сапино будут уничтожены, а шуаны покорены, более не потерпят «княжества», которое он устроил у себя в Верхнем Анжу. Стоффле решил, что не следует ждать, пока все роялисты будут уничтожены, а потому, под предлогом неприятия новых порядков, взялся за оружие и вновь поднял знамя возмущения. Гош находился на берегу Луары и хотел отправиться в Кальвадос, чтобы лично убедиться в положении дел в Нормандии и Бретани; он отложил отъезд и отдал распоряжение схватить Стоффле прежде, чем возмущение примет значительные размеры. Гош, впрочем, был очень рад, что Стоффле сам подал повод разорвать примирение: борьба с ним мало беспокоила молодого генерала, позволяя в то же время поступить с Анжу так же, как с Маре и Бретанью. Отряды Гоша отправились одновременно с нескольких пунктов: с Луары, Лаона и Севра. Стоффле, атакованный со всех сторон, нигде не смог выдержать натиска. Крестьяне Анжу были еще больше довольны миром, чем крестьяне Маре: они не ответили на призыв своего вождя и оставили его вести войну вместе с бродягами и эмигрантами, наводнившими его лагерь. Оба сборища, сформированные Стоффле, были рассеяны, а сам он вынужден, как Шаретт, бежать в леса. Ему не хватало, однако, ни упорства, ни ловкости Шаретта; к тому же местность не представляла удобств к укрытию мародеров. Стоффлевыдали его же сообщники: под предлогом совещания его завлекли на какую-то ферму, схватили, связали и выдали республиканцам. Утверждают даже, что верный его министр Бернье сам принимал участие в захвате. Взятие Стоффле имело огромное значение для подавления восстания. Его перевезли в Анжер и после допроса расстреляли 26 февраля (7 вантоза) в присутствии огромной толпы. Известие о его смерти было встречено с большой радостью и предвещало близкий конец междоусобной войны, разорявшей несчастную страну.
Гош, обремененный обязанностями военачальника, подвергался всякого рода поношениям. Роялисты, естественно, называли его злодеем и кровопийцей, хотя он боролся с ними самыми честными средствами; даже патриоты на него клеветали. Все якобинцы Вандеи и Бретани, крайности которых он обуздывал, а лености не потворствовал, доносили на него Директории. Местные администрации городов, объявленных на военном положении, доносили на него также. Общины, на которые накладывали штрафы или военный налог, жаловались в свою очередь. Раздавалась целая симфония жалоб и обвинений. Гош, будучи достаточно раздражительным по характеру, доходил до отчаяния и несколько раз требовал отставки. Директория ему отказывала и утешала новыми свидетельствами уважения и доверия. Ему прислали двух прекрасных лошадей с полным убором; подарок этот был не наградой, а необходимой помощью. Молодой генерал, любивший жить, стоявший во главе стотысячной армии, располагавший доходами нескольких провинций, часто нуждался в самом необходимом. Его жалованье бумажными деньгами сводилось к минимуму; у него не было ни лошадей, ни седел, ни уздечек, и он просил разрешения взять в счет жалованья шесть седел, шесть уздечек, несколько подков, несколько бутылок рома и сахарных голов со складов, оставленных англичанами на Кибероне, – пример деликатности, часто представляемый республиканскими генералами и всё реже встречающийся по мере расширения завоеваний и порчи военных нравов новыми победами! Ободренный правительством, Гош продолжал свои труды в Вандее. Для полного замирения оставалось взять Шаретта. Этот вождь, доведенный погоней до крайности, попросил позволения отплыть в Англию. Гош согласился, имея в виду постановление Директории, дозволявшей последнее вождям, добровольно слагающим оружие. Но Шаретт просил пощады только для того, чтобы отдохнуть; он не желал воспользоваться разрешением всерьез. В свою очередь, Директория не хотела щадить Шаретта, опасаясь, что этот знаменитый вождь навсегда останется пугалом для страны; директора велели Гошу не входить с Шареттом ни в какие сделки. Когда Гош получил этот новый приказ, Шаретт уже объявил, что его просьба была лишь военной хитростью, чтобы выиграть время, и вновь стал совершать набеги из лесов. Однако продолжать партизанскую войну ему оставалось недолго. Его преследовали с нескольких сторон пехотные и кавалерийские летучие колонны, за ним следили переодетые солдаты, на него доносили жители, желавшие избавить свою страну от опустошения. Наконец Шаретта схватили в лесу, как хищного зверя: 22 марта (2 жерминаля) он попал в засаду, расставленную Траво. Вооруженный с головы до ног, окруженный храбрецами, прикрывавшими его собой, он защищался как лев и пал, пораженный несколькими сабельными ударами. Израненный, Шаретт не соглашался отдать свою саблю никому, кроме Траво, который обращался с ним с уважением, какого заслуживало такое удивительное мужество.
 Расстрел Шаретта в Нанте
Расстрел Шаретта в Нанте
Шаретта препроводили в главную квартиру; начальник штаба Гедувиль пригласил его там к столу, и Шаретт спокойно беседовал, нисколько не беспокоясь об ожидавшей его участи. Сначала его перевезли в Анжер, затем в Нант. Он держался на допросе безмятежно; на вопрос относительно тайных статей договора в Ла Жонэ признался, что таковых не существовало, причем не старался ни приуменьшить свою виновность, ни извинить личные намерения; объявил прямо и с достоинством, что был слугою монархии и делал всё возможное для ниспровержения республики. Шаретт пошел к месту казни окровавленный и изувеченный – без трех пальцев, с рукой на перевязи и повязанной головой; он, не теряя самоуверенности, шел среди громадной, враждебной ему толпы народа, обвинявшей его во всех бедствиях междоусобной войны. У столба он не дал завязать себе глаза и не опустился на колени; стоя лицом к солдатам, он сорвал с руки перевязь и сам подал знак… Казнь совершилась 29 марта (9 жерминаля). Так закончил свою жизнь этот знаменитый человек, неукротимая храбрость которого принесла столько зла его стране и заслуживала бы того, чтобы прославиться на другом поприще. Смерть Шаретта вызвала такую же радость, как самая большая победа над австрийцами: она принесла окончание гражданской войне. Деятельность Гоша в Вандее закончилась; он перевел большую часть войск за Луару, чтобы обезоружить Бретань, оставив лишь достаточное число для уничтожения разбойничьих шаек, обыкновенно остающихся после междоусобицы. Перед выступлением Гоша задержало возмущение по соседству с Анжу – в Берри. На усмирение этой провинции потребовалось несколько дней; затем с двадцатью тысячами Гош двинулся в Бретань и, следуя своему плану, окружил ее линией обезоружения от Луары до Гранвиля. Несчастные шуаны не могли удержаться против таких значительных и хорошо направленных сил; Сепо, застряв между Виленом и Луарой, покорился первым и сдал значительное количество оружия. Шуаны делались всё упорнее по мере того, как их гнали к океану; не имея пороха и свинца, они дрались в рукопашную на штыках и кинжалах. Наконец их вывели к морю. Морбиган, давно уже отказавшийся от Пюизе, сложил оружие; другие местности последовали его примеру. Вскоре вся Бретань была покорена, и теперь Гошу оставалось разместить свою стотысячную армию по границе для надзора и удобного продовольствования. Далее оставались лишь заботы об администрации и полиции; нескольких месяцев ловкого и мягкого правления было достаточно, чтобы успокоить страсти и вполне восстановить мир. Несмотря на все выходки партий, Гоша в стране боялись, любили и уважали, даже роялисты прощали Республике, имевшей столь достойного представителя. Духовенство, доверие которого Гош успел заслужить, было ему вполне предано и сообщало всё, что ему могло быть нужно. Всё предвещало мир и конец бедственного положения края. Англия не могла уже больше рассчитывать на западные провинции как на средство нести войну вглубь территории; напротив, она видела в Вандее стотысячную армию, половина которой была свободна и могла быть применена в каком-нибудь предприятии, опасном для нее самой. И в самом деле Гош к середине лета готовил что-то важное. Обрадованное его заслугами и успехами, правительство желало выразить генералу и его армии свою признательность: оно объявило, что Армия Берегов Океана и ее начальник заслужили благодарность отечества. Такой чести армии удостаивались только за большие победы. Итак, Вандея была замирена, и Директории можно было теперь без опасения приступить к большим военным операциям.
Глава XLVIII
Кампания 1796 года – Завоевание Бонапартом Пьемонта и Ломбардии – Сражение при Монтенотте и Миллезимо – Утверждение французов в Италии и их политика – Переход чрез Рейн Журдана и Моро – Сражение при Раштатте и ЭттлингенеНачиналась пятая кампания за свободу Франции; она должна была открыться на интереснейшем театре войны, изобиловавшем препятствиями и местными особенностями наступательных и оборонительных линий. Его образовали с одной стороны большая долина Рейна с поперечными долинами Майна и Неккара; с другой – Альпы, По и Ломбардия. Армии противников были закалены войной и достаточно многочисленны, чтобы охватить весь театр военных действий; однако не настолько, чтобы сделать любые военные комбинации бесполезными и обратить войну в простое нашествие. Во главе армий стояли молодые генералы, чуждые рутины, свободные от старых преданий, однако достаточно образованные и, кроме того, вдохновляемые важными историческими событиями. Всё как будто соединялось для того, чтобы сделать войну упорной, разнообразной, обильной комбинациями и весьма поучительной. План войны французского правительства, как мы уже видели, состоял в следующем: вторгнуться в Германию и содержать свои армии за счет неприятельской страны; отвлечь от коалиции имперских князей; обложить Майнц и угрожать государствам на юге Германии. В то же время Франция хотела попытаться вторгнуться в Италию, вести и там войну за счет этой изобильной страны и вырвать ее из-под влияния Австрии. Две отличные армии, каждая от 70 до 80 тысяч человек, были поручены на Рейне двум знаменитым генералам. Тысяч 30 полуголодных солдат вверились неизвестному, но смелому молодому человеку с целью попытать счастья в Альпах. Бонапарт прибыл на главную квартиру в Ниццу 26 марта 1796 года (6 жерминаля года IV) и нашел всё в ужасном беспорядке: войска обнищали до последнего, у них не было ни одежды, ни обуви, они не получали жалованья, а иногда даже продовольствия. Впрочем, солдаты переносили эти лишения с большим мужеством и снабжали себя сами, мародерствуя отдельными отрядами в долинах Пьемонта; так или иначе их выручал дух предприимчивости, свойственный французскому солдату. В артиллерии недоставало лошадей, а кавалерию пришлось за неимением фуража отослать назад, к берегам Роны. Ни тридцатая лошадь, ни принудительный заем на юге не взимались. На все нужды армии Бонапарт получил всего две тысячи луидоров и на миллион векселей, часть которых была уже предъявлена. Чтобы как-нибудь поправить это бедственное положение, вступили в переговоры с Генуэзской республикой. У генуэзского сената, в порядке компенсации за нарушение нейтралитета при насильственном захвате французского фрегата La Modeste, потребовали согласия на заем, а также выдачи крепости Гави, контролирующей дорогу из Генуи в Милан. Требовали также позволения для семейств, изгнанных из Генуи за преданность Франции, вернуться. Таково было положение дел в армии при прибытии Бонапарта.
В отношении личного состава ситуация была иной. Солдаты были большей частью из первого революционного призыва, обученные, привыкшие к лишениям и закаленные в колоссальной борьбе в Альпах и Пиренеях; генералы – опытные боевые. Главнейшими из них были: Массена – ум хоть и неотшлифованный, но точный и светлый, а вместе с тем непоколебимо упорный; Ожеро – бывший фехтмейстер, в высшей степени храбрый и умевший увлекать за собою солдат, – эти качества возвысили его в армии до первых степеней; Лагарп – выходец из Швейцарии, соединявший образование с храбростью; Серюрье, бывший до революции майором, методичный и храбрый; наконец, Бертье, которого делали весьма полезным начальником штаба его энергичность, точность в обработке деталей, географические познания и глазомер в определении расстояний и силы неприятельских колонн. Депо армии были расположены в Провансе; сама она вытянулась вдоль Альп, связываясь слева с армией Келлермана, защищавшего проход Коль-ди-Тенда, а справа с Апеннинами. Вся действующая армия не превосходила 36 тысяч человек. Дивизия Серюрье стояла у Гарессио, по северную сторону Приморских Альп, и наблюдала за сардинской армией при Чеве. Дивизии Ожеро, Массена и Лагарпа, всего около 30 тысяч человек, стояли на побережье, между Савоной и Лоано. Сардинцы, от 20 до 22 тысяч человек, стояли лагерем в Чеве, у подошвы северного склона гор. Австрийцы, от 36 до 38 тысяч, шли к Генуе из Ломбардии. Больё, командовавший ими, составил себе известность в Нидерландах; несмотря на старость, он отличался энергичностью молодого человека. Итак, неприятель мог противопоставить 36 тысячам Бонапарта 60 тысяч человек. Но союзникам не хватало согласия: Колли, следуя прежнему плану, хотел прикрывать Пьемонт, а Больё желал поддерживать связь с Генуей и англичанами. Таковы были силы враждующих сторон. Хотя Бонапарт и был известен Итальянской армии, но находили, что он слишком молод для главнокомандующего. Небольшого роста, сухощавый, он не имел во внешности ничего представительного, кроме своего римского профиля и живого и проницательного взгляда; в его личности и прошлой жизни не было ничего, что могло бы внушить трепет или почтение. Итак, в армии Бонапарта приняли не особенно радушно, и он обратился к армии с энергичной речью. «Воины! – сказал он. – Вы наги, голодны; правительство в долгу перед вами и не в состоянии ничего дать вам. Ваше терпение, ваше мужество внушают справедливое удивление, но не доставляют вам никакой славы. Я укажу вам путь в страну изобильнейшую. Вы получите в свое распоряжение большие города, богатые области; вас ожидают там слава и богатство. Воины Италии! Неужели не достанет у вас постоянства?!» Армия приняла его слова с удовольствием: молодые генералы, которые хотели сделать карьеру и нажить состояние, а также солдаты, бедные, предприимчивые и склонные к приключениям, большего и не желали, как увидеть прекрасные страны, обладание которыми им сулил главнокомандующий. Бонапарт заключил сделку с поставщиком и выдал своим солдатам часть невыплаченного жалованья, а каждому генералу роздал по четыре луидора. Свою главную квартиру он перенес в Альбенгу. План, который предстояло выполнить, был тот же, что и в сражении при Лоано. Пройти через наиболее доступный проход Апеннин, ударить в центр расположения союзников, отрезать сардинцев от австрийцев – таков был простой план, которому решил следовать Бонапарт, ознакомившись с местностью. Он так скоро открыл военные операции, что мог рассчитывать захватить своих противников врасплох; однако это ему не удалось. Еще до его прибытия в армию генерал Червони отправился в Вольтри, около Генуи, чтобы повлиять на сенат этого города и получить согласие на требование Директории. Больё, опасаясь последствий этого движения, поспешил сам направить свою армию на Геную. План Бонапарта оставался осуществимым, он только не сумел застать австрийцев врасплох. Несколько дорог ведут от одного склона Апеннин к другому – приморскому: первая – на Геную через горный перевал Боккета, вторая – на Савону через Акви, Дето и горный перевал Монтенотте. Больё оставил свое правое крыло в Дето, направил центр под руководством д’Аржанто в Монтенотте, а сам двинулся с левым крылом на Вольтри вдоль побережья. То есть его расположения были похожи на расположения Де Винса у Лоано. Часть австрийской армии находилась между Апеннинами и морем, д’Аржанто поддерживал сообщение с сардинцами, расположенными в Чеве, по другую сторону гор.
Армии столкнулись во время наступления 11 апреля (22 жерминаля). Больё встретил на побережье авангард дивизии Лагарпа, которая двигалась на Вольтри, и оттеснил его. Д’Аржанто прошел Монтенотте с целью ударить в центр французов. В Монтенотте он встретил только отряд в тысячу двести человек полковника Рампона и принудил его отступить к редуту Монте-Леджино, запиравшему этот перевал. Храбрый полковник, оценивая значение последней позиции, заперся в редуте и упорно выдерживал натиск австрийцев. Три раза австрийская пехота атаковала укрепление и всякий раз была отбита. Рампон под убийственным огнем заставил своих людей дать клятву в том, что они скорее лягут до последнего, но не сдадутся и не оставят редута. Солдаты сдержали клятву, и только ночь прекратила бой. Блистательный подвиг Рампона спас план генерала Бонапарта, а может быть, и будущность кампании. Бонапарт в это время находился в Савоне. Он не укрепил перевал на Монтенотте по той простой причине, что не укрепляются, если сами хотят наступать. Когда ему дали знать о том, что произошло в Вольтри и Монте-Леджино, он понял, что наступила минута осуществить свой план. В течение ночи Бонапарт отвел назад дивизию Лагарпа, свое правое крыло, и поставил ее позади редута, занятого Рампоном. Массена он послал обходным путем обойти левый фланг д’Аржанто, а Ожеро – зайти к нему в тыл. Утром 12 апреля все французские колонны двинулись на неприятеля. Бонапарт, поместившись на холме, следил за наступлением. Австрийская пехота храбро встречает французов, но, окруженная со всех сторон превосходными силами, оказывается отброшенной и оставляет две тысячи пленными и несколько сотен убитыми. Австрийцы в беспорядке бегут на Дето, к главным силам. А Бонапарт, о котором Больё думал, что он наступает на Геную, вдруг меняет свое положение, располагается на дороге через Апеннины, разрывает центр неприятельских сил и победоносно дебуширует. Однако мало было разорвать и разгромить центр союзников, следовало прервать всякое сообщение между ними. В тот же день Бонапарт занимает Каркаре и оказывается в долине Бормиды, впадающей в По. Ниже в долине стоят австрийцы; слева видны теснины Миллезимо, соединяющиеся с долиной Бормиды: их занимали сардинцы, запирая дорогу в Чеву и далее в Пьемонт. Бонапарту нужно было разом завладеть ущельями Миллезимо – открыть дорогу в Пьемонт, и взять Дего – открыть дорогу на Акви и Ломбардию. Владея обеими дорогами, он разобщал союзников и мог обрушиться на того или другого. На следующий день, 13 апреля утром, французская армия продолжает наступление; Ожеро слева атакует Миллезимо, а дивизии Лагарпа и Массена движутся на Дего. Ожеро так стремительно подступает к теснине, входит в нее, проходит и доходит до конца, что сардинский генерал Провера, находившийся на гребне холма, разделяющего два истока Бормиды, уже не имеет времени отступить; окруженный, он хочет защищаться. Ожеро требует сдачи. Провера желает выиграть время и вступает в переговоры; однако нельзя было останавливаться перед этой преградой, и французы штурмуют позицию сардинцев у старого замка Коссариа. Они закидывают замок грудой камней, сваливают целые скалы и выводят из строя полные шеренги солдат. Храбрый Жубер ободряет своих солдат и всходит на высоту во главе колонны, но падает, раненый; солдаты отступают. Вечером французы вынуждены разбить биваки у подножия горы, защитив себя несколькими засеками, и стерегут Проверу, чтобы не дать ему уйти. Дивизии, которым поручили наступать на Дего вдоль Бормиды, со своей стороны, завладевают неприятельскими подступами. Следующий день должен был стать решающим. И в самом деле, 14 апреля атаку начинают на всех пунктах. Слева в теснинах Миллезимо Ожеро отбивает все атаки Колли, который стремится выручить Проверу, весь день одерживает над ним верх и доводит Проверу до отчаяния. Наконец храбрый полковник складывает оружие и сдается с тысячью пятьюстами солдат. Лагарп и Массена, в свою очередь, наступают на Дего, где австрийская армия уже усилилась подкреплениями, пришедшими со стороны Генуи. Атака оказывается такой же стремительной, и после нескольких штурмов французы завладевают полевыми укреплениями, которыми был обнесен Дего; австрийцы теряют часть своей артиллерии и четыре тысячи пленных, в числе которых двадцать четыре офицера. Во время сражения Бонапарт впервые обращает внимание на молодого офицера по фамилии Ланн, атаковавшего неприятеля с большой храбростью: прямо на поле сражения Бонапарт производит Ланна в полковники.
После четырехдневного боя чувствовалась необходимость в отдыхе, но едва успели об этом распорядиться, как вновь послышались выстрелы. Шесть тысяч гренадеров вступили в Дего и отняли у французов позицию, стоившую им стольких усилий. Австрийский отряд с побережья перешел Апеннины и случайно попал в центр французских расположений. Начальник отряда, храбрый Вукасович, принял смелое решение – атаковать Дего, чтобы попробовать спастись. Итак, вновь нужно было начинать бой и возобновлять вчерашние усилия. Бонапарт скачет к войскам, собирает колонны и бросает их на Дего. Их останавливают австрийские гренадеры; адъютант главнокомандующего, генерал Ланюс, надевает шляпу на острие своей шпаги и увлекает за собой солдат, они врываются в Дето и довершают победу, захватив несколько сотен пленных. Бонапарт завладел долиной Бормиды: австрийцы бежали на Акви по направлению к Милану, пьемонтцы, потеряв теснины Миллезимо, отступили на Чеву и Мондови. Бонапарт господствовал над всеми дорогами, взял девять тысяч пленных и вызвал панику в рядах неприятеля. Ловко направляя свои войска то на Монтенотте, то на Миллезимо и Дето, он сумел обрести превосходство численности в каждом столкновении с неприятелем. И вот наступила минута, когда Бонапарту приходилось принимать под свою ответственность исключительно важное решение. План Карно предполагал преследование австрийцев при условии оставления позади себя пьемонтцев; но Бонапарт не настолько пренебрегал сардинской армией, чтобы оставить ее у себя в тылу; притом он сознавал, что достаточно одного нового удара, чтобы ее уничтожить. Ему представлялось более благоразумным сначала добить сардинцев. Вместо того чтобы спуститься за австрийцами в долину Бормиды и далее к По, Бонапарт взял влево, углубился в теснины Миллезимо и вышел на дорогу в Пьемонт; для наблюдения за австрийцами он оставил дивизию Лагарпа в лагере Сан-Бельбо, господствующем над течениями Бельбо и Бормиды. Солдаты устали донельзя: 11-го и 12-го они сражались под Монтенотте, 13-го и 14-го – под Миллезимо и Дето, отдохнули всего один день, а уже 16 апреля шли на Мондови. Во время этих быстрых переходов не было возможности прилично кормить солдат, вследствие чего было совершено несколько грабежей. Бонапарт в негодовании строго наказал грабителей и показал в восстановлении порядка столько же энергии, сколько и в преследовании неприятеля. В течение нескольких дней он вполне приобрел доверие солдат. Дивизионные генералы тоже сознавали его превосходство; с вниманием и удивлением они слушали точную и образную речь молодого полководца. На вершинах Монте-Земото, перед Чевой, армия увидела наконец прекрасные долины Пьемонта и Италии. Внизу текли Танаро, Стура, По – реки, несущие свои воды в Адриатику; вдали синели высокие Альпы. Войска пришли в восхищение при виде прекрасных долин земли обетованной[5]. Бонапарт, шедший впереди солдат, был тронут. «Аннибал, – воскликнул он, – перешел Альпы, мы же их обошли!» Эти слова полководца объясняли всю цель кампании и предвещали славную будущность, которая открывалась для французской армии. Колли оборонял укрепленный лагерь в Лево недолго, он хотел только замедлить наступление французской армии. Превосходный генерал, Колли сумел ободрить своих солдат и поддержать их храбрость. У него не оставалось надежды победить своего грозного противника; он стремился только отступать шаг за шагом и дать время австрийцам подойти на помощь, как они обещали. Колли остановился позади Кураглии, перед Мондови. Серюрье, оставленный в Гарессио для наблюдения за Колли, объединился с французской армией, которая усилилась таким образом еще одной дивизией. Колли был защищен Кураглией, быстрой и глубокой речкой, впадающей в Танаро. Жубер попробовал перейти ее справа, но чуть не потонул при этой попытке. Серюрье решил перейти мост Сан-Мишель; это ему удалось, но Колли выждал время, вдруг бросился на него с лучшими войсками, отбросил к мосту и принудил в беспорядке вновь перейти его. Положение армии стало затруднительным: в тылу ее находился Больё, реорганизовавший свои войска; впереди – Колли, с ним нужно было покончить поскорее, а между тем его позицией, по-видимому, нельзя было овладеть даже в случае упорной обороны. Бонапарт отдал приказ произвести назавтра новую атаку. Двадцать первого апреля (2 флореаля) двинулись к Кураглии и нашли мосты оставленными: Колли отбил вчерашнюю атаку только для того, чтобы прикрыть свое отступление. Его настигли на позиции при Мондови; Серюрье решил победу французов взятием главнейшего неприятельского укрепления. Колли оставил три тысячи пленными и убитыми и продолжил свое отступление. Бонапарт подошел к Кераско, слабо вооруженной крепости, важной благодаря своему расположению при слиянии рек Стуры и Танаро, которую легко было привести в хорошее оборонительное состояние, вооружив взятой у неприятеля артиллерией. Французы находились теперь в двадцати лье от Савоны, пункта, с которого начали свое наступательное движение, – в десяти лье от Турина и в пятнадцати от Алессандрии. Туринский двор был в смятении. Король, обладатель весьма упорного характера, не хотел уступать. Английский и австрийский посланники настаивали на своих представлениях, предлагали запереться в Турине, а армию отослать за По, следуя в том великому примеру своих предков. Они устрашали короля революционным влиянием, которое французы могут получить в Пьемонте, и просили для Больё три крепости – Алессандрию, Тортону и Валенцу; в треугольнике, образованном последними на берегах По, Больё мог запереться со своей армией. Но именно это было более всего не по сердцу королю Сардинии: отдать три свои лучшие крепости корыстному соседу было для него невыносимо. Кардинал Коста склонил Виктора Амадея обратиться к французам. Он дал ему почувствовать невозможность сопротивления такому стремительному победителю, опасность раздражить его продолжительной борьбой и подвинуть на возмущение его подданных; и всё это единственно лишь в пользу чужеземного и даже неприязненного честолюбия Австрии. Король уступил и уполномочил Колли открыть переговоры с Бонапартом. Они сошлись в Кераско 13 апреля (4 флореаля). Бонапарт не имел полномочий для подписания мира, но мог заключить перемирие, на что и решился. Он отступил от плана Директории, чтобы ослабить сардинцев, – не с целью завоевать Пьемонт, а для обеспечения тыла. Для завоевания Пьемонта требовалось взять Турин, но у Бонапарта не было ни осадного парка, ни столько людей в армии, чтобы можно было ее разделить на осадный и обсервационный корпуса, не говоря уже о том, что вся кампания ограничилась бы одной осадой. Потребовав при договоре с Пьемонтом необходимых гарантий, он мог спокойно напасть на австрийцев и изгнать их из Италии. Вокруг толковали, что не следует вступать в переговоры, а нужно свергнуть короля, родственника Бурбонов, и распространить в Пьемонте революцию. Последнее мнение было популярно в армии, среди солдат, офицеров и генералов, особенно его защищал Ожеро, который разделял все идеи Сент-Антуанского предместья, откуда сам был родом. Молодой Бонапарт не разделял этого мнения: ему казалось весьма затруднительным вызвать революцию в единственной в Италии монархии, которая обладала военным духом и сохранила прежние нравы. Не следовало создавать новых препятствий на пути, когда предстояло завоевание всей Италии. Бонапарт просто старался устранить всё, что могло осложнить положение и замедлить движение армии. Он согласился на перемирие, но прибавил, что при взаимном положении армий оно будет гибельным для него без достаточных гарантий к обеспечению тыла и сообщений; а потому он требует выдачи трех крепостей – Кони, Тортоны и Алессандрии – со всеми их складами и определения размеров компенсации. Кроме того, французам должны были открыть все дороги Пьемонта, что значительно сокращало путь из Франции к долине По; для передвижения войск и всякого рода подкреплений на дорогах должны были быть устроены этапные пункты, а сардинские войска – размещены по крепостям, чтобы ничто не угрожало тылу французской армии. Эти условия были приняты, и перемирие подписали в Кераско 28 апреля (9 флореаля) полковник Лакост и граф Латур. Постановили, что уполномоченные немедленно отправятся в Париж для окончательных переговоров о мире. Все требуемые крепости были сданы с огромными складами. С этого времени путь армии защищали три сильнейшие крепости Пьемонта; путь этот значительно сокращался по сравнению с тем, который проходил через Генуэзское побережье, дороги становились безопасны и удобны; французская армия не нуждалась более в продовольствии и усилилась значительным числом солдат, которых весть о победе заставила покинуть госпитали; у французов появилась и многочисленная артиллерия, взятая в Кераско и других крепостях; в лошадях также не чувствовалось недостатка; словом, французы обладали теперь всем, чего требовали, и обещания генерала были выполнены вполне. Правда, при своем вступлении в Пьемонт солдаты грабили, так как не получали продовольствия; но за прекращением голода порядок тотчас же восстановился. Граф Сен-Марсан, посол Пьемонта, посетил Бонапарта и сумел ему понравиться; даже наследник самого короля желал видеть победителя и продемонстрировал ему знаки уважения, тронувшие молодого генерала. Бонапарт сумел, в свою очередь, ловко им польстить и успокоить относительно видов Директории и опасений по поводу распространения революции. В последних своих уверениях он был искренен, потому что уже лелеял мысль, которую высказал в нескольких разговорах. Не в интересах Пьемонта было вступать в союз с Австрией: его естественным союзником была Франция, отделенная от него Альпами, она не могла думать о его завоевании; напротив, только она могла защитить Пьемонт от честолюбия Австрии и, быть может, даже доставить случай к расширению его. Бонапарт не думал, чтобы Директория согласилась отдать Пьемонту какую-то часть Ломбардии, к тому же последняя еще и не была завоевана, да и завоевать ее хотели лишь затем, чтобы было чем заплатить за Нидерланды. Но смутная надежда расширения территории могла подвигнуть Пьемонт на союз с Францией, что усилило бы французскую армию двадцатью тысячами превосходных солдат. Бонапарт не обещал ничего, но несколькими словами сумел возбудить алчность и надежды туринского правительства.
Соединявший с острым умом мощное и богатое воображение, любивший затрагивать чувства, Бонапарт хотел возвестить свои победы новым и внушительным способом: он послал своего адъютанта Мюрата для торжественного поднесения Директории двадцати одного знамени, взятых у неприятеля. Засим он обратился к солдатам со следующей прокламацией: «Воины! В пятнадцать дней вы одержали шесть побед, взяли двадцать одно знамя, пятьдесят пять орудий, несколько крепостей и завоевали лучшую часть Пьемонта! Вы захватили пятнадцать тысяч пленных; более десяти тысяч выбыло из неприятельских рядов убитыми и ранеными. Вы сравнялись подвигами с Голландской и обеими рейнскими армиями. Лишенные всего, вы всё заменили собою. Вы одерживали победы без орудий; переправлялись через реки без мостов; совершали усиленные переходы без обуви; располагались под открытым небом без вина и нередко без хлеба. Благодарю вас, воины, но вы еще ничего не сделали: так много еще остается сделать! Ни Турин, ни Милан не принадлежат вам; прах победителя Тарквиниев попирается убийцами Басвиля. Найдутся ли между вами люди, упавшие духом, желающие возвратиться на вершины Апеннин и Альп? Не хочу верить этому. Победители при Монтенотте, Миллезимо, Дето, Мондови горят желанием распространить славу французского народа, дабы, возвратившись на родину, сказать с чувством гордости: “Ия служил в армии, завоевавшей Италию!”» Получив известия с театра войны, а затем знамена и прокламации, Париж ликовал. В первый день победа открыла Апеннины и дала две тысячи пленных; во второй победа еще более решительная отрезала пьемонтцев от австрийцев и доставила шесть тысяч пленных. Следующие дни несли новые успехи: уничтожение пьемонтской армии при Мондови, покорность Пьемонта в Кераско и уверенность в близком мире, предвещавшем и последующие. Стремительность успеха и число пленных были доселе невиданными, язык же прокламаций напоминал язык древних героев и удивлял всех. Все спрашивали, кто этот молодой генерал, известный до того лишь немногим, имя которого теперь гремело по всей Франции. Ему не придавали еще всего им заслуженного значения, но с радостью говорили, что с каждым днем в Республике появляются новые таланты для прославления и защиты ее. Советы решили, что Итальянская армия заслужила признательность отечества, и декретировали праздник в честь победы для прославления счастливого начала кампании.
Подчинив своему влиянию Пьемонт, генерал Бонапарт собирался теперь преследовать австрийцев и начать завоевание Италии. Весть о победах французов глубоко взволновала все народы этой страны. Чтобы быть благоразумным в таком положении, следовало быть столь же глубоким политиком, сколь великим полководцем. Бонапарт, наступая с запада, перешел Альпы, полукругом охватывающие Северную Италию, в том месте, где они понижаются и направляются, уже под названием Апеннин, к югу, образуя собственно Апеннинский полуостров, омываемый Адриатикой и Средиземным морем. Перед ним располагались Северная Италия, долина По, а справа – узкий и длинный полуостров Южной Италии. Масса мелких владений разделяла эту страну, всегда мечтавшую о единстве, без которого невозможно величие нации. Бонапарт уже миновал Генуэзскую республику, отделявшуюся Апеннинами от Пьемонта; основанная Дориями, она одна из всех государств полуострова еще сохраняла силы. На протяжении четырех лет находясь между враждующими армиями, Генуя сумела поддержать нейтралитет и сохранить все выгоды торговли. В республике проживало сто тысяч жителей; в армии она содержала обыкновенно от трех до четырех тысяч человек, в случае надобности могла образовать, кроме того, превосходную милицию, вооружив апеннинских крестьян; доходы ее были велики. В Генуэзской республике боролись две партии: враждебная Франции партия одержала верх и изгнала несколько семейств. Директория требовала возвращения этих семейств и вознаграждения за насилие, совершенное над французским фрегатом. Направо от Генуи, в верхней части полуострова, на южном склоне Апеннин, лежит счастливая Тоскана, расположенная по обоим берегам Арно. Она обладает благодатным климатом и составляет лучше всего укрытую часть Италии. В Тоскане находится небольшая Луккская республика с населением в сто тысяч жителей; остальным герцогством Тосканским управлял герцог Фердинанд. В этой области, самой просвещенной и цивилизованной во всей Италии, философия XVIII века уже пустила свои ростки. Еще до Фердинанда Леопольд провел прекрасные законодательные реформы и с успехом осуществлял правление, делающее честь человеческому разуму. Даже епископ Пистон, и тот ввел нечто вроде религиозной реформы, распространяя янсенистские[6] доктрины. Несмотря на то, что революция напугала спокойные и робкие умы Тосканы, все-таки Франция находила здесь наибольшее число своих почитателей и друзей. Эрцгерцог, хоть и принадлежал к Австрийскому дому, был первым государем, признавшим Французскую республику; у него имелись шесть тысяч войска, миллион подданных и пятнадцать миллионов годового дохода. К своему несчастью, Тоскана менее всех итальянских владений обладала оборонительными средствами. За Тосканой следовала Папская область. Папские владения простирались по обоим склонам Апеннин, по берегам Адриатики и Средиземного моря; образ правления в них был наихудшим во всей Европе. Тут только и оставалось, что прекрасное земледелие, наследие отдаленных времен, общее для всей Италии, заменявшее ей богатства промышленности, которой она давно уже была лишена. За исключением легатств Болоньи и Феррары, в которых царило глубокое презрение к правлению попов, и Рима, древнего хранилища знания и искусств, где некоторые сеньоры разделяли философию европейской аристократии, остальное население обреталось в самом постыдном варварстве. Суеверный и дикий народ, ленивые и невежественные монахи образовали население в два с половиной миллиона человек. В армии было от 4 до 5 тысяч солдат, трудно уже сказать, какого качества. Папа, государь тщеславный, расточительный и ревнивый в отношении своей власти, питал глубочайшую ненависть к философам XVIII века; он надеялся возвратить престолу Святого Петра часть его прежнего величия и влияния, окружая себя блестящей обстановкой и принимая меры, полезные для процветания искусств. Рассчитывая на собственную представительность и обаяние своего красноречия, папа предпринял путешествие ко двору Иосифа II, чтобы вернуть его к учению церкви и заставить отречься от философии, завладевшей, по-видимому, умом этого государя. Но путешествие не оказалось удачным. Первосвященник, полный ужаса перед Французской революцией, торжественно проклял ее и призывал на нее крестовый поход; он даже допустил в самом Риме убийство французского посланника Басвиля. Возбуждаемые монахами, подданные папы разделяли ненависть своего государя к Франции и пришли в бешенство при известии об успехах французского оружия. Южная оконечность полуострова и Сицилия составляли Неаполитанское королевство, самое обширное в Италии, наиболее близкое по своему невежеству и варварству к Папской области; правление в нем было еще хуже, чем в последней, если только это возможно. Там царствовал государь из дома Бурбонов, кроткий, но крайне ограниченный и преданный лишь одному занятию – рыболовству. Он посвящал ему всё свое время, а дела правления оставил жене, австрийской принцессе, сестре французской королевы Марии-Антуанетты. Королева, женщина вздорного характера и необузданных страстей, имела фаворитом министра Актона, который, будучи подкуплен англичанами, вел все дела самым безумным образом. Политикой англичан всегда было упрочение положения на континенте с помощью подчинения своему влиянию второстепенных прибрежные государств; теперь они пытались прибрать к рукам Неаполь, как уже сделали это с Португалией и Голландией. Англичане поддерживали в королеве ненависть к Франции, а вместе с ненавистью внушали ей честолюбивые мечты об обладании всей Италией. Население Неаполитанского королевства доходило до 6 миллионов человек; армия – до 60 тысяч; впрочем, неаполитанские солдаты, истые лаццарони[7], далеко не походили на послушных и храбрых солдат Пьемонта: без выправки и дисциплины, они были трусливы, как и всякие дурно организованные войска. Неаполь всё обещал прислать в подкрепление армии Де Винса 30 тысяч солдат, а прислал лишь 2400 человек кавалерии, правда, на хороших лошадях и достаточно обученных.
Таковы были главнейшие государства Италии, расположенные справа от Бонапарта. Перед ним, в полукруге Северной Италии, на склоне Апеннин, лежали герцогства Парма, Пьяченца и Гвасталла, с населением в 500 тысяч жителей, 3 тысячами войска и 4 миллионами годового дохода; ими правил испанский принц, прежний воспитанник Кондильяка[8] тем не менее, несмотря на философское воспитание, находившийся под влиянием монахов и духовенства. Немного правее, всё еще на склоне Апеннин, лежали герцогства Модена, Реджо и Мирандола, с населением в 400 тысяч жителей, 6 тысячами войска, под управлением последнего потомка знаменитого дома д’Эсте. Этот подозрительный государь до такой степени не доверял духу своего века, что сила страха сделала из него пророка: он предсказал революцию. В своей боязни он желал предохранить себя от всех случайностей будущего и скопил огромные богатства, обременяя налогами жителей. Скупой и боязливый, он был презираем своими подданными, самым умным и самым хитрым населением Италии, наиболее способным к восприятию новых идей. Далее, за По, следовала Ломбардия, австрийская провинция, управляемая австрийским эрцгерцогом. Эта прекрасная и плодоносная долина, находившаяся между альпийскими водами, ее оплодотворяющими, и Адриатикой, несущей ей богатства Востока, покрытая зерном, рисом, пастбищами, стадами, богатейшая провинция на свете, была недовольна своими чужеземными владыками. Несмотря на уже продолжительное рабство, в Ломбардии сохранялся старый гвельфский дух. Население Ломбардии доходило до миллиона двухсот тысяч жителей. Милан, ее столица, всегда оставался одним из просвещеннейших городов Италии; хотя положение его и было менее благоприятно для процветания искусств, чем положение Флоренции или Рима, но Милан был более близок к северному просвещению, и привлекал значительное число людей, желавших гражданского и политического возрождения Италии. Наконец, последним государством Северной Италии была Венецианская республика. Эта республика со своей древней аристократией, вписанной в Золотую книгу[9], с государственной инквизицией, ее тайнами и молчанием, подозрительной и придирчивой политикой, не была опасна ни для своих подданных, ни для соседей. Считая с провинциями Террафермы, расположенными у подножия Тирольских и Иллирийских Альп, в ней едва насчитывалось 3 миллиона подданных. Они могли выставить до 50 тысяч славонцев, хороших солдат, дисциплинированных, хорошо обеспеченных и оплачиваемых. Венеция была богата, но уже старым богатством: прошло два века, с тех пор как ее торговля перешла за океан и несла свои сокровища островитянам Атлантического океана. Республика едва сохранила несколько кораблей, проходы же в лагунах были почти засорены; но ее доходы все-таки были еще значительны. Вся политика республики заключалась в том, чтобы забавлять свое население, усыплять его наслаждением и спокойствием и сохранять строжайший нейтралитет в отношении прочих держав. Но дворянство провинций ревниво следило за пополнением Золотой книги и с недовольством несло иго аристократии. В самой Венеции начинала задумываться достаточно богатая буржуазия. В 1793 году коалиция принудила сенат высказаться против Франции; он уступил давлению, но опять возвратился к нейтральной политике, как только другие державы начали вступать в сношения с правительством Французской республики. Как мы уже видели, Венеция, вслед за Пруссией и Тосканой, поспешила отправить в Париж посланника. В настоящее время, уступая требованию Директории, она предъявила главе дома Бурбонов, Людовику XVIII, требование оставить Верону. Принц выехал, но потребовал возвращения доспехов, подаренных Генрихом IV венецианскому сенату, а также исключения своей фамилии из списков Золотой книги.
Таково было положение дел в Италии. Общий дух века проник в нее и воспламенил многие умы. Не все жители желали революции, особенно не желали ее те, кто мог представить себе ужасные сцены, сопутствующие революции во Франции; тем не менее все, хотя и в различной степени, желали реформ; не было сердца, которое не забилось бы при мысли о единстве и независимости отечества. Все сословия – земледельцы, горожане, артисты, дворяне – все, кроме духовенства, признававшего своим отечеством только Церковь, вдохновлялись надеждой увидеть все разрозненные части страны соединенными в одно целое, под властью одного правительства, монархии ли, республики ли, но толькоправительства национального. Очевидно, что население в 20 миллионов человек, обладая такой береговой линией и удивительно плодородной почвой, большими портами, богатыми городами, могло бы составить государство славное и могущественное! Недоставало только армии. Один Пьемонт, постоянно втянутый в континентальные войны, имел послушные и дисциплинированные войска. Без сомнения, недостатка в природной храбрости не было и у жителей других итальянских провинций, но природная храбрость ничто без прочной военной организации. В Италии не было полка, который мог бы выдержать даже вида французских или австрийских штыков. При приближении французов враги политической реформы пришли в ужас, а ее сторонники преисполнились радости. Народ начал беспокоиться; зародились смутные, неясные предчувствия; люди не знали, следует им бояться или надеяться. План Бонапарта и инструкции, данные ему правительством, ставили конечной целью изгнание из Италии австрийцев. Директория желала завоевания Ломбардии только для того, чтобы было чем заплатить Австрии за уступку Нидерландов. Бонапарт, следовательно, не мог думать об освобождении Италии; к тому же мог ли он с немногим более 30 тысяч солдат ставить себе какую-либо политическую цель? Тем не менее, в случае если бы австрийцы были отброшены, а сила французов в стране упрочена, они могли бы получить большое влияние и начать какое-нибудь обширное предприятие. Если бы, например, австрийцы были разбиты повсюду и вынуждены уступить также и Ломбардию; если бы народ действительно так стремился к свободе, что высказался бы за нее при приближении французских войск, тогда бы Италии, по мнению Бонапарта, могла открыться великая будущность! В ожидании же того Бонапарт не должен был выказывать никакой политической цели, чтобы не раздражать государей, которых оставлял у себя в тылу. В его намерения не входило высказывание каких-либо политических планов, но в то же время не следовало и сдерживать народное брожение, терпеливо ожидая его дальнейших результатов. Таким образом, Бонапарт не ободрял недовольных Пьемонта, потому что находил, что в этом королевстве недостаточно революционных элементов, правительство прочно и обладает военной силой, поддержка которой ему могла быть очень выгодна.
Едва в Кераско было подписано перемирие, как Бонапарт опять выступил в поход. Многие в армии не одобряли его дальнейшего наступательного движения. «Как, – говорили они, – нас едва тридцать тысяч с небольшим, мы не возмутили ни Пьемонта, ни Генуи и оставляем за собою эти правительства, наших тайных врагов! И после этого мы хотим совершить переправу через такую большую реку, как По, пройти Ломбардию и заставить, быть может, Венецианскую республику положить на весы войны против Франции ее пятьдесят тысяч солдат!» Но Бонапарт получил приказание наступать, а он был не из тех людей, которые колеблются при исполнении смелого приказа; мало того, это приказание он исполнял потому, что вполне одобрял его. «Как Пьемонт, так и Генуя, – говорил он, – озадачили бы нас гораздо более, если бы в них вспыхнула революция; благодаря же перемирию наш путь обеспечен тремя крепостями; все итальянские правительства подчинятся нам, если мы сумеем отбросить австрийцев за Альпы; гром наших победоносных пушек заставит робкую Венецию присоединиться к нам. Нам следует перейти не только за По, но и за Адду, за Минчио, дойти до оборонительной линии Адидже, осадить там Мантую и заставить дрожать всю Италию у себя в тылу». Ум молодого генерала, вдохновленный наступлением, составлял еще более обширные планы, чем те, которые он развивал перед армией. Бонапарт желал, разбив Больё, вторгнуться в Тироль, перейти Альпы и броситься в долину Дуная на соединение с армиями, наступающими от берегов Рейна. Этот громадный и неосторожный план был невольной данью обширного и точного ума самомнению, вызываемому молодостью и поразительным успехом. Бонапарт просил у Директории позволения его выполнить. Кампания началась 9 апреля (20 жерминаля), Пьемонт изъявил покорность 23 апреля; по прошествии восемнадцати дней кампании Бонапарт уже преследовал Больё. Он условился с Пьемонтом о выдаче ему Валенцы для переправы через По; последнее условие было лишь военной хитростью, потому что в этом пункте вовсе не предполагалась переправа. Больё, узнав о перемирии, хотел стремительно завладеть тремя крепостями: Тортоной, Валенцей и Алессандрией. Он застал врасплох только Валенцу, в которой оставил неаполитанцев; в виду быстрого наступления Бонапарта Больё перешел обратно за По, защищаясь от французской армии с помощью этой реки. Он стал лагерем в Валеджо, при слиянии рек По и Тичино, в вершине угла, образуемого обеими реками. Там, для противодействия переправе французов и для усиления своей позиции, он насыпал несколько земляных укреплений. Бонапарт, выйдя из владений сардинского короля, вступил во владения герцога Пармы; его встретили посланники этого государя, которые просили у победителя снисхождения. Пармский герцог был родственником короля Испании, следовательно, ему требовалось оказать некоторое внимание, что к тому же входило в планы генерала. Бонапарт принял посланников при переправе через Треббию; он для вида выказал раздражение из-за того, что герцог Пармский не воспользовался для заключения мира временем, когда испанский король примирился с Французской республикой, а затем согласился на перемирие, требуя контрибуции в размере двух миллионов серебряной монетой, в которых нуждалась казна армии; шестисот лошадей, необходимых для артиллерии и обоза; известного количества хлеба и овса; права перехода через герцогство и, наконец, устройства госпиталей для его армии за счет герцога. Этим Бонапарт не удовольствовался: он любил и ценил искусство как итальянец по происхождению; он знал, сколько оно придает блеска государству и какое оказывает действие на людей; а потому потребовал выдачи двадцати картин по выбору французских комиссаров для высылки их в Париж. Посланники герцога были рады хоть этой ценой избежать гнева Бонапарта; они согласились на всё и поспешили выполнить условия перемирия. Они хотели спасти только картину, изображающую святого Иеронима, предлагая за нее целый миллион, но Бонапарт отказал, мотивируя перед армией свой отказ в таких выражениях: «Этот миллион мы скоро истратили бы и всегда сумеем завоевать его в другом месте. Творение же художника вечно, оно украсит наше отечество».
Приобретя, таким образом, все преимущества завоевания без его затруднений, Бонапарт продолжал свое наступление. Всё заставляло ожидать переправы французской армии в направлении Валенцы: и движение к этому городу главнейших колонн армии, и условия перемирия в Кераско относительно переправы через По. В то время как главные силы его армии собрались там, где Больё ожидал переправы, Бонапарт 6 мая (17 флореаля) с отрядом гренадеров в 3500 человек, со всей кавалерией и 24 пушками двинулся вниз по течению По и 7-го утром подошел к Пьяченце, совершив за тридцать шесть часов переход в шестнадцать лье. Кавалерия захватила все суда на реке и также пустила их к Пьяченце; вместе с тем она обнаружила значительное количество фуража и аптекарских запасов австрийской армии. Авангард полковника Данна переправился на баркасе. Данн, лишь только высадив свои войска на берег, бросился на австрийские отряды, наблюдавшие за левым берегом По, и рассеял их. За ним переправились и остальные гренадеры и приступили к постройке моста, чтобы переправилась армия, которая тоже получила приказ двинуться к Пьяченце. Благодаря военной хитрости и смелому маршу Бонапарт, переправившись через По, обошел и Тичино. Назначь он переправу выше, ему пришлось бы совершать ее в виду Больё, и затем, в случае успеха, перед ним опять была бы река и предстояла бы новая переправа. Вместо этого он ограничился переправой у Пьяченцы. Тринадцатого мая дивизия Липтая, первой получив сведения о переправе французов, двинулась к Фомбио, находившемуся на небольшом расстоянии от По. Бонапарт не мог позволить австрийской дивизии утвердиться на этой позиции, где ее вскоре поддержала бы вся армия, которая принудила бы французов принять сражение, имея у себя в тылу По. Он решил разбить ее, атаковал в ее укреплениях и после кровопролитного дела захватил две тысячи пленных. Остатки дивизии поспешили скрыться в крепости Пичигетоне. Вечером того же дня Больё, уведомленный о переходе французов у Пьяченцы, пришел на помощь дивизии Липтая. Он не знал еще об ее поражении, наткнулся на французские аванпосты, где был встречен мужественно и принужден к поспешному отступлению. К несчастью, храбрый генерал Лагарп, столь полезный армии своим умом и храбростью, был убит своими же в темноте схватки. Вся армия оплакивала храброго швейцарца, которого привел во Францию деспотизм Бернского кантона. Перейдя По, обойдя Тичино, разбив Больё и лишив его возможности продолжать кампанию, французы открыли себе путь на Милан. Естественно, двадцатишестилетний победитель горел нетерпением вступить в этот город. Но прежде всего Бонапарт желал окончательно уничтожить Больё; а для этого недостаточно было его разбить, следовало обойти его, отрезать путь к отступлению и принудить, если это будет возможно, сложить оружие. Всего этого можно было достичь, лишь опередив австрийцев при переправе через какую-либо реку. Значительное число рек стекают с Альп и протекают по Ломбардии, впадая в По или Адриатику: за По и Тичино следуют Адда, Ольо, Минчио, Адидже и многие другие. Теперь перед Бонапартом текла Адда, которую уже нельзя было обойти, как Тичино, потому что тогда пришлось бы переправиться через По у Кремоны. Бонапарт спешил подняться вверх по Адде, чтобы предупредить переправу Больё через мост у Лоди; но Больё прибыл туда раньше него с 12 тысячами пехоты и 4 тысячами кавалерии. Две другие австрийские дивизии, Колли и Вукасовича, повернули на Милан, чтобы оставить гарнизон в его цитадели, а затем уже направиться к Адде и перейти ее значительно выше Лоди, у Кассано. Попытавшись форсировать переправу через Адду у Лоди, напротив Больё, можно было завладеть другим берегом прежде, чем две дивизии, которым предстояла переправа у Кассано, окончили бы свое движение; и в таком случае их можно было бы отрезать. Бонапарт прибыл к Лоди 9 мая (20 флореаля). Город расположен на том же берегу, с которого наступала французская армия; она атаковала его внезапно и проникла в него, несмотря на сопротивление австрийцев. Те, оставив город, отступили за мост и присоединились к своим главным силам. Чтобы перейти Адду из Лоди, нужно было пройти по тому же мосту; но на противоположном берегу стояли 12 тысяч пехотинцев и 4 тысячи кавалерии, 20 артиллерийских орудий обстреливали мост, и множество стрелков были рассеяны по берегу. Идти напролом при таких условиях – вещь на войне совершенно необыкновенная. Вся французская армия скрывается от огня за стенами Лоди, ожидая приказаний своего генерала. Бонапарт, выйдя из города, сам рекогносцирует берега реки под градом пуль и картечи и, составив план, возвращается в Лоди для его исполнения. Он приказывает кавалерии подняться по Адде и попытаться перейти ее вброд выше моста; затем образует колонну из 6 тысяч гренадеров, обходит их ряды, ободряет их и своим присутствием и речью сообщает им необыкновенную храбрость. После этого Бонапарт приказывает отворить ворота и идти на мост беглым шагом: он рассчитывает, что вследствие быстроты движения колонна не понесет значительного урона. Грозная колонна смыкает ряды и быстро выходит на мост. Страшный огонь извергается на нее; почти вся голова колонны уничтожена. Тем не менее она всё идет вперед, но у середины моста колеблется; тогда генералы ободряют ее своим призывом и примером, и она снова приходит в движение, подходит к орудиям и убивает канониров, которые пытаются защитить свои пушки. В эту минуту австрийская пехота, в свою очередь, является поддержать артиллерию, но после всего, что она совершила, страшная колонна больше не боится штыков: она бросается на австрийцев в ту минуту, когда французская кавалерия, отыскав брод, угрожает их флангам; австрийцы опрокинуты, рассеяны и оставляют две тысячи пленных. Этот необыкновенный подвиг привел в изумление австрийцев, но, к несчастью, оказался бесполезен: Колли и Вукасович уже вышли на дорогу к Брешии и не могли быть отрезаны. Однако Бонапарт, если и не достиг своей цели, то все-таки завладел линией Адды; храбрость солдат достигла высшей степени, так же как их преданность своему генералу. Они придумали шутливый обычай благодарить генерала: находя его слишком молодым, старые солдаты стали сами давать ему последовательно военные степени: в Лоди они произвели его в капралы и по прибытии Бонапарта в лагерь приветствовали столь известным впоследствии названием маленького капрала. Они давали ему и следующие звания по мере того, как он их заслуживал. Отступление австрийской армии к Тиролю обеспечили, а следовательно, не было никакой пользы в дальнейшем ее преследовании. Бонапарт решил возвратиться в Ломбардию, чтобы упрочить свое обладание этой областью и начать в ней реформы. Остатки дивизии Липтая укрепились в Пичигетоне и могли сделать из нее настоящую крепость. Бонапарт двинулся туда, чтобы изгнать их; Массена он послал в Милан, а Ожеро – в Павию. Посылая туда одну из лучших дивизий своей армии, Бонапарт сделал это не без цели: он хотел произвести впечатление на этот большой город, столь славный своим университетом. Дивизии Серюрье и Лагарпа были оставлены в Пичигетоне, Лоди, Кремоне и Кассано для охраны линии по реке Адде. Только после всего этого Бонапарт решил вступить в Милан. При приближении французской армии сторонники Австрии и все, кого пугала репутация наших солдат, о которых говорили, что их храбрость равняется их варварству, бежали по всем дорогам в Брешию и Тироль. Эрцгерцог со слезами на глазах оставил свою прекрасную столицу. Большая часть жителей Милана надеялась на освобождение и ожидала французскую армию с самыми радушными чувствами. Когда с прибытием первой дивизии Массена миланцы увидели, что солдаты с такой ужасной репутацией уважают собственность и личность каждого, что доброжелательность составляет естественную черту их характера, то пришли в восторг и самым благосклонным образом приняли французские войска. Патриоты, прибывшие со всех концов Италии, ждали молодого победителя, подвиги которого следовали один за другим так быстро и итальянское имя которого льстило национальному чувству. К Бонапарту послали графа Мельци с изъявлениями покорности. Образовали национальную гвардию и одели ее в трехцветную форму – зелено-желто-белую; начальником ее назначили герцога Сербеллони. Для встречи французского генерала воздвигли триумфальную арку. Пятнадцатого мая (26 флореаля), спустя месяц после открытия кампании, Бонапарт вступил в Милан. Всё население высыпало ему навстречу. Национальная гвардия стояла в строю. Муниципалитет передал главнокомандующему ключи от города. Во всё время шествия до самого дворца Сербеллони, где Бонапарту приготовили помещение, его провожали восторженными криками. С этого времени он привлек к себе сердца итальянцев, так же как и своих солдат, а значит, обладал теперь не только силой оружия, но и нравственной силой. Бонапарт не думал останавливаться в Милане, как не остановился он и в Кераско, приведя к покорности Пьемонт. Он желал пробыть в нем лишь такое время, какого окажется достаточно для установления в Ломбардии временного правления, снабжения всем необходимым армии и, наконец, – для устройства своего тыла. План оставался прежним: наступать до Адидже и Мантуи и, если будет возможно, даже в Тироль и за Альпы. Австрийцы оставили в миланской цитадели две тысячи человек гарнизона; Бонапарт немедленно осадил ее. Он условился с комендантом, что тот не будет стрелять в город, так как он составляет австрийское владение и не в интересах австрийцев уничтожать его. Не мешкая приступили к осадным работам. Бонапарт не слишком связывал себя обещаниями: не гарантируя миланцам независимости, которой не мог им дать, он подал им некоторые надежды для усиления патриотизма. Он говорил им, что для того, чтобы получить свободу, нужно уметь ее заслужить, помогая ему окончательно избавить Италию от влияния Австрии. Бонапарт учредил временное муниципальное правление и вооружил национальную гвардию, положив таким образом начало военной организации Ломбардии. Затем он занялся снабжением своей армии и был принужден взять с жителей Милана контрибуцию в 20 миллионов. К этой мере он прибег неохотно, так как она могла дурно подействовать на общественное мнение; впрочем, это решение было принято жителями не слишком враждебно, тем более что было необходимым. Благодаря складам, обнаруженным в Пьемонте, и провианту, доставленному герцогом Пармским, армия получила продовольствия в изобилии. Солдаты ели хороший хлеб, хорошую говядину и пили превосходное вино. Они были довольны и начали соблюдать самую строгую дисциплину. А Бонапарт вскоре нашел новые средства: к нему явились посланники герцога Моденского, который желал мира на тех же условиях, что и герцог Пармский. Этот старый и скупой государь, видя все свои предсказания сбывшимися, спасся со своими сокровищами в Венецию, оставив управление в руках регентства. Не желая, однако, совсем потерять власть, он просил мира. Бонапарт не мог заключить мирного соглашения, в его власти было только перемирие, которое по своей силе равнялось миру и превращало Бонапарта в господина всех итальянских держав. Он потребовал десяти миллионов, продовольствия всякого рода, лошадей и картины. Приобретя такие запасы, Бонапарт устроил по берегу По большие склады и госпитали на пятнадцать тысяч больных и наполнил кассу своей армии. Считая себя достаточно богатым, Бонапарт выслал через Геную несколько миллионов Директории. Так как ему было известно, что в Рейнской армии не хватает денег и недостаток средств не позволяет ей начать поход, он послал Моро через Швейцарию миллион франков. Это был товарищеский поступок, который приносил Бонапарту столько же чести, сколько и выгоды: ему было очень важно, чтобы Моро поскорее выступил в поход и помешал австрийцам направить их главные силы в Италию.
При ближайшем знакомстве с обстановкой Бонапарт еще более убедился в верности своих планов. Не было никакой надобности начинать неприязненные действия против итальянских владетелей; войну следовало вести против одной Австрии; пока французы будут одерживать верх над австрийцами и запирать вход в Ломбардию, до тех пор итальянские владетели, дрожа перед могуществом французской армии, будут подчиняться все до одного. Герцоги Пармы и Модены уже изъявили свою покорность; то же сделают Неаполь и Рим, если французы останутся обладателями ворот Италии. Следовало держаться стратегии наблюдения и, не свергая правительств, ожидать, пока народы восстанут сами. Но среди таких обширных трудов Бонапарта внезапно остановило самое неприятное препятствие. Директория была в восторге от его заслуг, однако, читая депеши, написанные с точностью и энергией, но также и с порывами слишком смелого воображения, Карно испугался обширных замыслов генерала. Он находил, и не без оснований, что пройти Тироль и перейти вторично Альпы – план слишком необыкновенный и даже невозможный; но, в свою очередь, исправляя план молодого полководца, Карно составил другой, еще более опасный. По его мнению, следовало наступать вдоль полуострова: наказать папу и неаполитанских Бурбонов и выгнать англичан из Ливорно, где им позволил утвердиться тосканский герцог. Для этой цели Карно предписывал именем Директории разделить Итальянскую армию на две части, одну под началом Келлермана оставить в Ломбардии, а другую под началом Бонапарта отправить на Рим и Неаполь. Этот пагубный план возобновлял старинную и всегдашнюю ошибку французов углубляться вглубь полуострова, не обосновавшись сначала в Северной Италии. Не у папы и неаполитанского короля следовало оспаривать обладание Италией, но у Австрии, и тогда операционная линия оказывалась не на Тибре, но на Адидже. В нетерпении обладать всей страной французы торопились занять Рим и Неаполь, и каждый раз, пока они победоносно шли по полуострову, неприятель запирал за ними дорогу. Естественно, республиканцы желали наказать папу и Бурбонов, только они повторяли при этом ошибку прежних королей Франции. План Бонапарта – вторгнуться в долину Дуная – имел в виду только австрийцев и выдавал до крайности прозорливый, но молодой ум; имея такие убеждения, Бонапарт не мог согласиться идти вдоль полуострова; притом он отлично чувствовал всю важность общего командования при завоевании страны, которое требовало столько же политического гения, сколько и военного; он не мог перенести мысль о разделении командования со старым генералом, храбрым, но посредственным и притом крайне самолюбивым. Это был естественный эгоизм гения, желавшего решить задачу, которую, как он чувствовал, он один в состоянии решить. Бонапарт выказал себя и в этом случае так же, как на поле сражения; он рискнул своей будущностью и подал в отставку в письме столь же смелом, сколь и почтительном. Он чувствовал, что отставку не примут, но решился бы лучше потерять звание главнокомандующего, чем, повинуясь Директории, потерять свою славу и погубить армию, выполняя дурной план. Представляя самые убедительные доводы в опровержение ошибочных предположений Карно, Бонапарт настаивал на том, что французской армии следует выступать лишь против одних австрийцев; для того же, чтобы держать в страхе весь полуостров и принудить к покорности Рим и Неаполь, вполне достаточно расположить эшелонами за По до Анконы лишь одну дивизию. Он предполагал выступить из Милана к Адидже для осады Мантуи тотчас же, как придут новые приказания Директории и ответ на его донесения. Вместе с тем, чтобы ободрить своих солдат и повлиять на папу и короля Неаполитанского, Бонапарт обратился к армии с новой прокламацией. «Солдаты! – писал он. – С вершин апеннинских скал, как бурный поток, низверглись вы в долины, опрокидывая и разрушая всё, что противилось вашему движению. Освобожденный вами от австрийской тирании, Пьемонт предался естественным чувствам мира и дружбы к Франции. Милан ваш, и знамя Республики развевается над всею Ломбардиею; Парма и Модена обязаны своим сегодняшним существованием только вашему великодушию. Армии, столь недавно и столь гордо угрожавшие вам уничтожением, бегут перед вами и не могут найти оплота против вашего могущества. Ни По, ни Тичино, ни Адда, эти вечные оборонительные линии Италии, не смогли удержать вас; вы перешли их так же быстро, как хребет Апеннинский. Эти успехи распространили радость в вашем отечестве, представители народа устраивают празднества в честь побед ваших; ваши отцы, матери, жены, сестры и все милые сердцу радуются успехам вашим, гордятся честью принадлежать вам. Да, воины! Вы многое сделали… Но неужели нам не остается сделать более ничего? Позволим ли мы сказать о нас, что мы умели побеждать, но не умели пользоваться победами? Не упрекнет ли нас потомство в том, что мы нашли в Ломбардии новую Капую[10]?.. Но вы уже хватаетесь за оружие! Постыдное бездействие томит вас: вы знаете, что дни, потерянные для славы, потеряны и для вашего счастья… Идем же! Нам предстоит еще совершать усиленные переходы, и поражать неприятеля, и пожинать лавры, и мстить за обиды… А вы, раздувавшие пламя междоусобной войны во Франции, вы, которые так низко умертвили наших посланников и сожгли корабли наши в Тулоне, трепещите!.. Настал час отмщения! Но да будет священно спокойствие народов, и в особенности потомков Брута, Сципиона и других великих мужей древности. Восстановить древнюю столицу мира, воздвигнуть в ней статую героев, ее прославивших, пробудить народ римский от сна, в который его погрузили многие столетия рабства – вот цель ваших побед, солдаты! Вам будет принадлежать слава преобразования прекраснейшей страны Европы. Торжествующая Франция даст Европе славный мир, который вознаградит наш народ за все шестилетние усилия и жертвы; тогда вы возвратитесь на родину, и граждане, с восторгом встречая вас, будут говорить: “Он служил в Итальянской армии!”»
Бонапарт пробыл в Милане только восемь дней; он выступил к Адидже 21 мая (2 прериаля), но неожиданное обстоятельство вызвало его опять в Милан. Дворяне, монахи, прислуга бежавших семейств, множество людей, живших за счет австрийского правительства, задумали восстание против французской армии. Они распускали слухи, что Больё получил подкрепление и возвращается с 60 тысячами; что в то же время принц Конде выступает из Швейцарии в тыл французской армии, которой теперь нет спасения. Духовенство, пользуясь своим влиянием на крестьян, пострадавших от прохода армии, подстрекало их взяться за оружие. Воспользовались благоприятным случаем, когда Бонапарта не было в Милане, Ломбардию возмутили в его тылу. Сигналом к восстанию послужила вылазка миланского гарнизона. Тотчас же во всех окрестных деревнях забил набат, и вооруженные крестьяне двинулись на Милан, но дивизия, оставленная Бонапартом, принудила гарнизон возвратиться в цитадель и разогнала крестьян. В окрестностях Павии инсургентам повезло больше. Они вступили в город и заняли его, несмотря на 300 человек, оставленных там Бонапартом; те – отставшие или больные, спасаясь от резни, заперлись в форте. Мятежники окружили их и потребовали сдачи, а между тем схватили проезжавшего через Павию французского генерала. С ножом к горлу его принудили подписать приказ гарнизону капитулировать. Приказ был подписан и исполнен. Это восстание могло иметь пагубные последствия; оно могло вызвать общее возмущение во всей стране и привести к гибели всей французской армии. Развитие народа не одинаково в городах и селах: в то время как города единодушно высказались в пользу французов, крестьяне, убеждаемые монахами и страдающие от военных постоев, были против них. О событиях в Милане и Павии Бонапарт узнал в Лоди 23 мая; он повернул назад с 300 кавалеристами, батальоном гренадеров и шестью артиллерийскими орудиями. Так как в Милане уже восстановили порядок, он двинулся на Павию, впереди же него поехал миланский архиепископ. Инсургенты выставили свой авангард до местечка Бинаско, но Лани его рассеял. Бонапарт, желая выказать свою решимость и силу и остановить зло в самом начале, поджег местечко, чтобы напугать Павию пожарищем. Подойдя к городу, он остановился. В городе проживало 30 тысяч человек, он был кругом обнесен старинной крепостной стеной и занят 7 или 8 тысячами восставших крестьян, которые заперли ворота и встали на стены. Взять город с 300 кавалеристами и батальоном пехоты было делом нелегким; но Бонапарту нельзя было терять времени: его армия стояла уже на Ольо, и было необходимо присутствие главнокомандующего. Ночью Бонапарт прибивает к воротам Павии угрожающую прокламацию; в ней он объясняет, что обманутая толпа без реальных средств к сопротивлению решается противостоять армии, победившей королей, и таким образом хочет погубить народ итальянский; но он, Бонапарт, упорствует в своем намерении не вести войны с народом, он хочет простить это безумие и дать возможность заблуждающимся раскаяться. Те же, кто не сложат оружия немедленно, будут считаться бунтовщиками, и их деревни будут сожжены, чему Бинаско может послужить примером. Но утром крестьяне, занимавшие город, отказываются сдаться. Бонапарт велит обстреливать стены картечью и гранатами, затем отправляет вперед гренадеров, и те выламывают ворота топорами, проникают в город и завязывают с его защитниками бой на улицах. Сопротивление оказывается непродолжительным; крестьяне разбегаются и оставляют несчастную Павию гневу раздраженного победителя. Солдаты требуют разрешить грабежи; Бонапарт решает подать суровый пример и отдает город во власть солдат на три часа. Их была едва тысяча человек, и они не могли произвести большого опустошения в таком большом городе, как Павия. Солдаты бросаются к ювелирным лавкам и завладевают драгоценностями. Самым осуждаемым проступком оказывается ограбление городского ломбарда; но и тут, по счастью, вещи заложены лишь тщеславным и расточительным высшим классом. Дома Спалланцани[11] и Вольты[12] охраняли офицеры, добровольно взявшиеся оберегать жилища этих знаменитых ученых. Бонапарт выслал из города своих кавалеристов и перебил значительное число бунтовщиков. Это быстрое подавление восстания везде восстановило спокойствие и усмирило партию, враждебную свободе и Франции. Всегда жаль прибегать к подобным мерам, но Бонапарт должен был на них решиться, если не хотел пожертвовать своей армией и судьбами Италии. Партия монахов дрожала; слухи о несчастье Павии, переходя от одного к другому, естественным образом преувеличивались, и французская армия вновь возвратила себе свое страшное обаяние.
Окончив эту экспедицию, Бонапарт вновь повернул на соединение с армией на Ольо, готовой вступить на венецианскую территорию. При приближении французов в венецианском сенате возобновилось обсуждение давнего вопроса о том, к кому примкнуть, – к Франции или к Австрии. Немногие старые олигархи, сохранившие свою энергию, советовали немедленно вступить в союз с Австрией, естественной союзницей старых правительств; в будущем они опасались австрийского честолюбия, но в настоящем страшней была угроза, исходящая от французской армии. Следовало взяться за оружие, а эта решимость была тяжела для ослабевшего правительства. Молодые олигархи, тоже энергичные, но заблуждавшиеся в меньшей степени, также предлагали вооружиться для сохранения нейтралитета, угрожая пятьюдесятью тысячами солдат той державе, которая нарушит неприкосновенность венецианской территории. Это решение было смелым, даже слишком смелым, чтобы быть принятым. Наконец, несколько благоразумных людей предлагали третью меру – союз с Францией. Сенатор Батталья, человек остроумный, проницательный и умеренный, представил соображения, которые впоследствии оказались пророческими. По его мнению, нейтралитет, даже вооруженный, был самой дурной мерой. Заставить уважать свою неприкосновенность было невозможно, какие бы силы венецианцы ни выставили; не вступить же в союз ни с одной из враждующих сторон означало рано или поздно оказаться пожертвованным обеими. Итак, приходилось выбирать между Австрией и Францией. В настоящее время австрийцы были изгнаны из Италии; предполагая даже, что они найдут средства вернуться, было понятно, что они не смогут сделать этого раньше двух месяцев – время, в которое республика может быть окончательно уничтожена французской армией. И это не говоря о том, что честолюбие Австрии для Венеции опаснее всего. Австрия всегда хотела завладеть ее провинциями в Иллирии и Северной Италии и теперь воспользуется первым же представившимся к тому предлогом. Единственной гарантией против этого честолюбия оставалось могущество Франции: ей нечего было ждать от Венеции, напротив, в ее интересах было защищать последнюю. Правда, французское правление отталкивало венецианское дворянство; но следовало решиться на необходимые духу века жертвы и на уступки провинциальному дворянству, чтобы примирить их с республикой и Золотой книгой. Внеся небольшие изменения в старую конституцию, можно было удовлетворить честолюбие всех сословий венецианцев и привязать к себе Францию; если к тому же стать на ее сторону открыто, с оружием в руках, то можно было бы рассчитывать в качестве вознаграждения за услуги получить часть австрийской Ломбардии. Во всяком случае, повторял Батталья, нейтралитет никуда не годится. Это мнение, всю мудрость которого показали последующие события, слишком оскорбляло гордость и закоренелые предрассудки старой венецианской аристократии, чтобы его могли легко принять. Притом сторонились союза с Францией еще и потому, что не рассчитывали на продолжительность ее могущества в Италии, придерживаясь старой итальянской поговорки Италия – могила французов; венецианцы боялись остаться потом беззащитными перед гневом Австрии. Всем трем предыдущим предложениям предпочли меру более удобную, отвечавшую рутине и бездеятельности старого правительства, – полный нейтралитет. Решили послать к Бонапарту проведиторов[13] с объявлением нейтралитета и просьбой уважать территорию и венецианских подданных. Французов боялись, но уже знали, что они обходительны и податливы при хорошем с ними обращении. Всем правительственным чиновникам было послано приказание обходиться с ними и принимать их как можно лучше и стараться приобрести расположение генералов и офицеров. Бонапарт, вступая на территорию республики, был вынужден прибегнуть к такой же осторожности, как и венецианское правительство. Хотя эта держава и находилась в слабых руках, но силы ее были еще значительны, и не следовало вооружать ее против себя, иначе положение французов в Северной Италии становилось чрезвычайно затруднительным. Однако, соблюдая нейтралитет, следовало все-таки заставить Венецию терпеть французскую армию на своей территории; мало того, требовалось добиться, если возможно, чтобы она и продовольствовала французов за свой счет. Венеция позволила австрийским войскам пройти через свои владения, что давало Франции повод разрешить себе всё и требовать всего, оставаясь в границах нейтралитета. Бонапарт, вступив в Брешию, издал прокламацию, в которой заявлял, что, вступая на венецианскую территорию, дабы преследовать императорскую армию, получившую свободный через нее проход, будет уважать права Венецианской республики, сохранит строжайшую дисциплину в своей армии и собирается платить за всё ею взимаемое; что он, наконец, не забудет старых уз, связывающих обе республики. В итоге Бонапарт был хорошо принят венецианским проведитором в Брешии и продолжал движение. Он перешел Ольо, следующий за Адой приток По, и дошел до реки Минчио, которая, вытекая из озера Гарда, течет по Мантуанской долине и вскоре образует другое, меньшее озеро; у последнего и расположена Мантуя. Затем Ольо впадает в По. Больё, подкрепленный 10 тысячами, решился защищать линию реки Минчио. Он выставил авангард в 4 тысячи пехотинцев и 2 тысячи кавалерии прямо перед рекой, в деревне Боргетто. Главные силы заняли позицию за Минчио у Валеджо; резерв расположился немного дальше в Виллафранке; отдельные отряды охраняли течение Минчио выше и ниже Валеджо. На выходе Минчио из Гарды лежит город Пескьера. Больё хотел завладеть этой крепостью, чтобы лучше прикрыть свое правое крыло, и обманул венецианцев: под предлогом прохода через крепость пятидесяти человек он захватил ее врасплох и поставил в ней сильный гарнизон. Крепость эта имела бастионную ограду и восемьдесят орудий. Бонапарт при наступлении на оборонительную линию австрийцев не обращал внимания на остававшуюся справа от него Мантую, которую еще не следовало блокировать. Он расположил свое левое крыло в Пескьере, решил переправиться через Минчио в Боргетто и Валеджо и собирался ввести Больё в заблуждение насчет своего намерения. Он поступил так же, как и при переправе через По: направил один отряд на Пескьеру, а другой на Лонато – беспокоить Больё в верхнем течении Минчио и заставить его предположить, что французы желают переправиться в Пескьере или обойти Гарду. В то же время Бонапарт повел главную атаку на Боргетто. Как мы помним, эту деревню занимали 4 тысячи пехоты и 2 тысячи кавалерии. Бонапарт начал наступление 28 мая (9 прериаля). До сих пор он не мог добиться того, чтобы его кавалерия принимала деятельное участие в сражении. Она мало привыкла к атакам, и ей редко приходилось их совершать, притом она как будто опасалась репутации, заслуженной австрийской кавалерией. Бонапарт во что бы то ни стало желал приучить своих кавалеристов атаковать, так как придавал большое значение ее роли во время сражений. Приближаясь к Боргетто, он поместил кавалерию в центр, между гренадерами и карабинерами, позади нее он поставил артиллерию, и, заперши таким образом, направил ее на неприятеля. Поддерживаемая со всех сторон и увлекаемая вперед пылким Мюратом, кавалерия показала чудеса храбрости и обратила в бегство австрийские эскадроны; тогда французская пехота бросилась на деревню Боргетто и немедленно завладела ею. Австрийцы отступили за мост, ведущий из Боргетто в Валеджо, и хотели его разрушить, но успели уничтожить лишь одну арку. Небольшое число гренадеров под командованием генерала Гардана вошли в Минчио, доступный в некоторых местах для переправы вброд, и перешли его под огнем с противоположного берега, подняв ружья над головами. Австрийцы сочли это появлением при Лоди новой колонны и удалились, не разрушив моста. Разрушенную арку поправили, и армия смогла совершить переправу. Бонапарт с дивизией Ожеро направился вверх по Минчио преследовать австрийцев, но в течение целого дня не мог их настичь. Он оставил дивизию Ожеро продолжать преследование, а сам возвратился в Валеджо, где нашел дивизию Массена, собиравшуюся перекусить. Вдруг раздались звуки кавалерийских труб, и в местечке появились австрийские гусары. Бонапарт едва успел спастись, вскочив на лошадь. Вскоре выяснилось, что это неприятельский отряд, направлявшийся на соединение с Больё. Дивизия Массена взялась за оружие и бросилась преследовать австрийцев, которые всё же успели соединиться с Больё. Переправа через Минчио была завершена. Бонапарт вторично принудил имперские войска к отступлению, окончательно отбросив их теперь в Тироль. Он достиг немаловажного преимущества, заставив сражаться свою кавалерию, которая больше не боялась австрийской. Этому результату он придавал большое значение: до него кавалерией пользовались мало, Бонапарт же находил, что с ее помощью можно сделать много, применяя ее для прикрытия артиллерии. Он рассчитал, что кавалерия с легкой артиллерией, использованные уместно, могут сделать то же, что в десять раз большие силы пехоты. Он уже полюбил Мюрата, умевшего так хорошо водить на неприятеля эскадроны, – заслуга столь редкая у кавалерийских офицеров. Пережитая опасность внушила Бонапарту другую идею – собрать для своего личного конвоя отряд отборных солдат под названием гвардии. При этом личная безопасность была в его глазах делом второстепенным; он имел в виду, главным образом, выгоду всегда иметь при себе отряд преданных людей, способных на самые смелые предприятия. Впоследствии он в самом деле решал многое, вовремя кидая туда и сюда своих храбрецов. Командование ими Бонапарт поручил кавалерийскому офицеру, мужественному и хладнокровному, ставшему потом знаменитым Бессьеру.
Пока Больё оставлял Пескьеру, отступая в Тироль, у его арьергарда завязалась довольно оживленная стычка с французской армией, которая вступила после этого в город. Венецианцы не защитили Пескьеру от Больё, и она перестала быть нейтральной, французы уже могли обосноваться там. Бонапарт очень хорошо знал, что Больё обманул венецианцев, но он решил воспользоваться этим случаем, чтобы получить от них всё, что ему было нужно. Он желал получить линию реки Адидже с Вероной; а главное – ему было необходимо продовольствовать свою армию. Старому проведитору Фоскарелли, венецианскому олигарху, закоренелому в своих предрассудках и полному ненависти к Франции, поручили явиться в главную квартиру Бонапарта. Там ему сообщили, что генерал чрезвычайно раздражен случившимся в Пескьере, и гнев его ужасен. Бинаско и Павия служили образцами его строгости; две уничтоженные им армии и завоеванная Италия говорили о его могуществе. Проведитор прибыл в Пескьеру полный ужаса и написал своему правительству: «Боже, прими меня как жертву!» Требовалось воспрепятствовать вступлению французов в Верону. Этот город, бывший убежищем претендента на французский престол, находился в страшном беспокойстве. Молодой Бонапарт, гнев которого бывал грозен, но который умел в то же время лишь притворяться разгневанным, не упустил ничего, чтобы еще более увеличить ужас проведитора. Он вознегодовал против венецианского правительства, которое, представляясь нейтральным, не умеет заставить уважать свой нейтралитет; которое, дав возможность австрийцам завладеть Пескьерой, заставило французскую армию потерять у стен этой крепости значительное число своих мужественных воинов. Бонапарт говорил, что кровь его товарищей по оружию требует отмщения, и отмщения ужасного. Проведитор всеми силами старался оправдать венецианские власти, а затем перешел к главному предмету своего поручения – Вероне. Он заявил, что получил приказ воспретить доступ в этот город обеим воюющим армиям. Бонапарт отвечал, что уже поздно: туда отправился Массена и, кто знает, может быть, в это время он уже поджигает город, имевший дерзость считать себя некоторое время столицей Французского государства. Проведитор снова стал умолять его; тогда Бонапарт, притворившись смягченным, отвечал, что самое большее, на что он может согласиться, – это отсрочка вступления французов в город на двадцать четыре часа; если только Массена не завладел уже им открытой силой. По истечении же этого времени Бонапарт в любом случае прибегнет к бомбам и пушкам. Проведитор удалился совершенно пораженный, возвратился в Верону и объявил, что следует принять французов. При их приближении богатейшие горожане бежали в Тироль, забирая с собой свои драгоценности, из страха, что им не простят пребывание в их городе претендента. Однако простые веронцы вскоре успокоились и могли собственными глазами убедиться, что республиканцы вовсе не такие варвары, какими представляла их молва. Тогда в Верону к Бонапарту прибыли два других венецианских посланника, сенаторы Эрицо и Батталья. Выше были приведены доводы Баттальи, представленные венецианскому сенату, чтобы склонить его к союзу с Францией; в Венеции ожидали, что новым посланникам скорее удастся умерить гнев генерала. Достигнув своей цели, Бонапарт принял их лучше, чем Фоскарелли, сделал вид, что успокоился и согласен выслушать их доводы. В будущем требовалось продовольствовать армию, а если возможно, и заключить союз Венеции с Францией. «Первое условие жизни – это средства к выживанию. Я желал бы избавить Венецианскую республику от заботы кормить нас; но нас привела сюда судьба войны, и мы вынуждены кормиться плодами той земли, где находимся. Пусть Венецианская республика доставит всё необходимое моим солдатам, и засим она сочтется сФранцузской республикой». Условились, что подрядчик еврей доставит армии всё требуемое, а Венеция тайно заплатит подрядчику, чтобы не получилось, что она нарушила нейтралитет. После того Бонапарт перешел к вопросу о союзе. «Я занял Адидже, потому что мне нужна оборонительная линия, а эта линия – наилучшая, и ваше правительство не способно ее защищать. Пусть оно вооружит свои пятьдесят тысяч солдат и поставит их на Адидже, тогда я возвращу ему крепости Верону и Порто-Леньяго. Впрочем, – прибавил Бонапарт, – вы должны видеть нас здесь с удовольствием; всё, что Франция повелевает мне делать в этой стране, всё это согласно и с интересами Венеции. Я изгоню австрийцев за Альпы и, возможно, образую из Ломбардии независимое государство: разве вашей республике что-нибудь может быть выгоднее? Мы не ведем войны ни с каким правительством; напротив, мы – друзья всех, кто поможет нам заключить австрийское владычество в должные границы». Обоих венецианцев до глубины души поразил гений молодого человека, который поочередно то угрожая, то льстя, затрагивал все политические и военные вопросы с глубиной и красноречием, показывавшими уже зрелого государственного человека, а не только опытного воина. «Этот человек, – писали они в Венецию, – будет со временем иметь большое влияние на дела своего отечества[14]. Теперь Бонапарт наконец обладал линией Адидже, которой он придавал такое большое значение. Все ошибки прежних кампаний французов в Италии он приписывал дурному выбору оборонительной линии. Самая значительная и самая знаменитая оборонительная линия, линия реки По, казалась ему неудачной, так как была слишком растянута. По его мнению, армия не могла успешно оборонять целых пятьдесят миль; всегда можно обмануть противника в выборе пункта переправы, как он сделал совсем недавно. Одна река Адидже, выходя из Тироля и впадая в море, закрывала собой всю Италию. Она была достаточно глубока, и протяжение ее течения от гор до моря было незначительным. Течение было прикрыто двумя крепостями – Вероной и Порто-Леньяго, расположенными близко друг от друга; они хотя и не были особенно сильны, но могли устоять против открытой атаки. К тому же, начиная с Леньяго, Адидже протекала по непроходимым болотам, прикрывавшим всю нижнюю часть ее течения. Таковы были основания, заставившие Бонапарта избрать эту оборонительную линию, и последовавшая вскоре бессмертная кампания доказала всю основательность его соображений. Заняв реку, следовало теперь приступить к осаде Мантуи. Эта крепость стоит за Адидже, на Минчио, и прикрыта ею; она всегда считалась оплотом Италии. Поставленная среди озера, образуемого водами Минчио, она сообщалась с твердой землей посредством пяти дамб. Несмотря на репутацию, она имела недостатки, значительно уменьшавшие ее действительное военное значение. По причине болотистой местности крепость была подвержена лихорадкам; со взятием же головных укреплений перед дамбами осажденный отбрасывался в крепость и мог быть блокируем корпусом значительно меньшим, чем гарнизон крепости. Бонапарт рассчитывал взять Мантую прежде, чем на помощь подойдет другая армия. Третьего июня (15 прериаля) он атаковал дамбы и занял их. С этой минуты Серюрье с 8 тысячами человек блокировал 14 тысяч солдат гарнизона, из которых 10 находилось в строю, а 4 – в госпиталях. Бонапарт приступил к осадным работам и укреплению оборонительной линии Адидже. Менее чем в два месяца он завоевал Италию; теперь ему нужно было сохранить ее. В этом еще можно было сомневаться, и это было последним испытанием для молодого полководца. Директория ответила на возражения Бонапарта относительно разделения армии и наступления вглубь полуострова. Мнения Бонапарта были слишком основательны, чтобы не убедить Карно, а его заслуги – слишком блистательны, чтобы отставка могла быть принята. Директория поспешила одобрить его планы и поручила ему главное командование над всеми военными силами в Италии, обнадеживая в полном доверии к нему правительства. Если бы правители республики могли обладать даром предвидения, они приняли бы отставку молодого человека, несмотря на всю основательность его доводов, хотя бы эта отставка и повлекла за собой потерю Италии и великого полководца. Но в то время в Бонапарте находили только молодость, гений и славу побед, к нему чувствовали участие и уважение, внушаемые его великими качествами. Директория предъявила Бонапарту только одно условие – заставить Рим и Неаполь почувствовать могущество республиканского оружия; этого желали все искренние патриоты Франции. Папа, проклявший Францию, проповедовавший против нее новый крестовый поход, позволивший умертвить в своей столице французского посланника, заслуживал наказания. Бонапарт, теперь свободный во всех своих операциях, рассчитывал добиться такового, не оставляя линии Адидже. Тогда как часть его армии охраняла линию этой реки, а другая – осаждала Мантую и миланскую цитадель, он хотел только с одной дивизией, поставленной эшелонами за По, навести страх на весь полуостров и заставить первосвященника и неаполитанскую королеву просить у Франции милости. Уже ходили слухи о приближении с берегов Рейна большой армии, имеющей целью вырвать Италию из рук новых завоевателей. Эта армия должна была пройти Шварцвальд, Форарльберг и Тироль и не могла прибыть раньше чем через месяц. Бонапарт имел достаточно времени закончить все операции в своем тылу, не слишком удаляясь от Адидже, чтобы, вновь повернув назад, стать лицом к неприятелю. Ему было пора подумать о прочей Италии. Присутствие французской армии с замечательной быстротой ускоряло брожение умов. Венецианские провинции не хотели более переносить ига аристократии. Город Брешия был близок к возмущению. Во всей Ломбардии и особенно в Милане идеи революции быстро завладевали умами. Герцогства Модена и Реджо, легатства Болонья и Феррара не хотели более знать ни их старого герцога, ни папы. Напротив, партия, враждебная французам, становилась всё более активной. Нерасположение генуэзской аристократии росло, и она таила враждебные замыслы в тылу французской армии. Генуэзская республика была заполнена маленькими феодальными владениями. Местные сеньоры собрали дезертиров, разбойников, беглых австрийских пленных, распущенных солдат пьемонтской армии и образовали партизанские шайки, известные как шофферы. Они кишели в Апеннинах в том месте, где вошла французская армия, перехватывали курьеров, грабили транспорты, вырезали малочисленные французские отряды и внушали ужас на всем пути во Францию. В Тоскане англичане завладели портом в Ливорно, и с ведома и при поддержке губернатора торговля с Францией стала считаться неприемлемой. Рим готовился к неприязненным действиям, Англия обещала ему несколько тысяч солдат, а Неаполь, волнуемый капризами своенравной королевы, объявлял о начале вооружения. Слабый король [Фердинанд], оставив на минуту заботы рыболовства, всенародно испрашивал помощи небес; в торжественной церемонии он сложил с себя королевские регалии и посвятил их алтарю. Вся неаполитанская чернь аплодировала, изрыгая страшные ругательства; толпа бродяг, не умевшая взяться за ружье и выдержать одного вида французского штыка, требовала оружия и желала идти против французской армии. Хотя все эти события и не означали ничего страшного до тех пор, пока Бонапарт мог свободно располагать 6 тысячами солдат, но все-таки он должен был поторопиться обезопасить свой тыл до прибытия австрийской армии, которая потребовала бы присутствия уже всех его сил на Адидже. Бонапарт получил некоторые подкрепления из Альпийской армии, что позволяло ему выделить 15 тысяч солдат на блокаду Мантуи и миланской цитадели, 20 тысяч на охранение Адидже и одну дивизию направить на По для выполнения планов относительно Южной Италии. Он немедленно отправился в Милан, чтобы начать осадные работы у цитадели и ускорить ее сдачу. Ожеро, стоявшему у нижнего течения Минчио, приказали перейти По в Боргофорте и направиться на Болонью. Вобуа с 4 или 5 тысячами подкрепления от Альпийской армии должен был направиться из Тортоны в Модену. Таким образом, Бонапарт мог располагать 8 или 9 тысячами человек в Болонье и Ферраре и угрожать оттуда всему полуострову. Чтобы двинуть свои колонны, он выждал несколько дней, пока в нижнем течении По спадала вода. Тем временем неаполитанский двор, столь же бесхарактерный, сколь и увлекающийся, перешел от ярости к унынию; узнав о победах французов в Северной Италии, он отправил князя Пеньятелли с изъявлениями покорности победителю. Не в видах Бонапарта было идти с несколькими тысячами человек до самого Неаполя, особенно учитывая ожидавшееся прибытие австрийцев. Для настоящей минуты ему было вполне достаточно обезоружить Неаполь, лишить его поддержки Рима и поссорить с коалицией. На Неаполь нельзя было налагать контрибуции, как на мелких владетелей, но от него потребовали открыть свои порты французам, забрать у англичан свои пять кораблей и несколько фрегатов, которыми последние пользовались, а также отозвать из австрийской армии 2400 кавалеристов, служивших в ее рядах. Этот кавалерийский отряд должен был оставаться в руках Бонапарта и служить залогом на случай нарушения перемирия. Бонапарт хорошо сознавал, что подобные условия не понравятся Директории, но в эту минуту он главным образом заботился об обеспечении своего тыла и требовал только того, что мог получить. После покорения французам неаполитанского короля папа не мог более думать о сопротивлении; и тогда экспедиция на правый берег По ограничивалась, как и хотел того Бонапарт, только несколькими днями, по истечении которых он мог снова вернуться на Адидже. Бонапарт подписал перемирие и отправился за По стать во главе двух колонн, идущих в Папскую область: Вобуа, подходившего с подкреплениями из Альпийской армии, и Ожеро, который направлялся через По с нижнего течения Минчио. Бонапарт придавал также большое значение ходу дел в Генуе вследствие ее положения на одном из путей во Францию и силы ее сената. Он сознавал, что для упрочения влияния Франции в Генуе необходимо потребовать изгнания двадцати австрийских и неаполитанских вассальных семейств; но он не имел никаких приказаний на этот счет и боялся прибегать к революционным мерам. Он ограничился тем, что послал в сенат письмо, в котором требовал, чтобы губернатор Нови, покровительствующий разбойникам, был примерным образом наказан, а австрийский посланник выслан; затем он требовал категорического объяснения. «Можете вы или не можете, – говорил Бонапарт, – освободить вашу территорию от наводняющих ее разбойников? Если вы не можете принять мер, то это сделаю за вас я: буду жечь города и деревни, в которых совершится убийство, и дома, в которых дадут убежище разбойникам; а также примерно наказывать чиновников, которые будут их терпеть. Убийство одного француза должно вызывать несчастье целых общин, тому не воспрепятствовавших». Знакомый с медлительностью дипломатии, Бонапарт послал своего адъютанта Мюрата с письмом для прочтения его в сенате. «Необходим, – писал он послу Фепу, – такой род сообщения, который наэлектризовал бы этих господ». В то же время он послал для наказания имперских вассалов Ланна с 1200 человек. Замок Августина Спинолы, главного подстрекателя бунта, был сожжен. Партизаны, схваченные с оружием в руках, были безжалостно расстреляны. Испуганный генуэзский сенат отрешил от должности губернатора Нови, выдал паспорты австрийскому посланнику и пробрюзжал, что будет охранять дороги собственными войсками. В Париж послали Винцента Спинолу, чтобы вступить в соглашение с Директорией относительно всех спорных вопросов: вознаграждения за фрегат La Modeste, изгнания вассальных семейств и возвращения семейств прежних изгнанников. Бонапарт прибыл на Модену 19 июня (1 мессидора); в тот же день Ожеро вступил в Болонью. Энтузиазм жителей Модены был безмерным. Они вышли навстречу Бонапарту и выслали к нему депутации с поздравлениями. Знатнейшие из них обращались к нему с искательствами и умоляли освободить их от ига герцога, который бежал в Венецию с награбленным. Но так как регентство, оставленное герцогом, выполняло все условия перемирия, Бонапарт не имел никакого основания пользоваться в герцогстве правами завоевателя и потому не мог удовлетворить желания жителей Модены; это был вопрос, который политические соображения заставляли его до времени откладывать. Он ограничился тем, что подал повод к надеждам и советовал сохранять спокойствие. На его пути находился форт Урбино, первая крепость, принадлежащая папе римскому. Крепость с шестьюдесятью пушками большого калибра и несколькими сотнями человек гарнизона сдалась в ответ на требование. Найденную там тяжелую артиллерию Бонапарт направил на Мантую для вооружения осадных батарей. Он вступил в Болонью, куда уже прибыла дивизия Ожеро; жители встретили Бонапарта с большой радостью. Болонья – прекрасно выстроенный город с населением в пятьдесят тысяч человек, славный своими художниками, учеными и университетом. Преданность Франции и ненависть к папскому престолу достигали в Болонье крайней степени. Здесь Бонапарт уже не стеснял народного неудовольствия, так как находился во владениях заклятого врага, папы, и мог пользоваться правами завоевателя, не будучи связан никакими обязательствами. Легатства Болонья и Феррара окружили его своими депутатами: он объявил временную независимость обоих легатств, обещая признать ее при заключении мира. Ватикан встревожился; немедля послали посредника ходатайствовать за Папскую область перед французским главнокомандующим; для этой цели избрали уже становившегося посредником испанского посланника Азару, известного своим умом и симпатиями к Франции. Последний прибыл в Болонью и положил папскую тиару к ногам победоносной Республики. Бонапарт, верный своему плану не создавать пока в Италии никакого прочного порядка вещей, потребовал, чтобы Болонья и Феррара остались при объявленной им независимости, Анкона приняла французский гарнизон, папа заплатил 21 миллион, доставил хлеба и скота для армии и выдал сто картин или статуй. Эти условия были приняты. Бонапарт много беседовал с Азарой и вполне очаровал его. От имени Французской республики он написал письмо знаменитому астроному Ориани и просил свидания с ним. Скромный ученый был смущен при виде молодого победителя и выразил ему почтение только своим замешательством. Бонапарт не упускал ни одного случая оказать честь Италии, пробудить ее гордость и патриотизм. Он являлся не варваром-завоевателем, а героем свободы, который хотел вновь зажечь факел гения в древней колыбели цивилизации. Двадцать шестого июня (8 мессидора) он с дивизией Вобуа перешел Апеннины и вступил в Тоскану. Испуганный герцог отправил к нему посланником Манфредини. Бонапарт успокоил последнего относительно своих намерений, которые, однако, скрыл. Между тем его колонна направилась форсированными маршами на Ливорно, вошла туда неожиданно и завладела английской факторией. Губернатор был арестован, заперт в портшез и отправлен к герцогу с письмом, в котором объяснялись мотивы такого неприязненного поступка относительно дружественной державы. Великому герцогу указывалось, что губернатор нарушал все законы нейтралитета, притесняя французскую торговлю, давая убежище всем эмигрантам и всем врагам Республики; добавлялось, что из уважения к власти герцога ему предоставляют самому наказать вероломного чиновника. Этот энергичный поступок доказал всем нейтральным государствам, что французский главнокомандующий примет на себя заботы о полиции в их владениях, если они сами не сумеют о ней позаботиться. Бонапарт оставил в Ливорно гарнизон и назначил комиссаров для секвестрования английских, австрийских и русских товаров. Затем он отправился во Флоренцию, и великий герцог устроил ему великолепный прием. Пробыв там несколько дней, Бонапарт возвратился в свою главную квартиру в Ровербелле около Мантуи. Таким образом, в течение двадцати дней и с одной дивизией, размещенной на правом берегу По, он оказал давление на все итальянские владения и обеспечил у себя в тылу спокойствие на время новой борьбы, которую ему предстояло выдержать с австрийским могуществом.
В то время как Итальянская армия с таким рвением выполняла задачу, поставленную ей общим планом кампании, армии в Германии не могли даже начать поход. Затруднения в устройстве складов и недостаток лошадей принуждали их оставаться в бездействии. Со своей стороны, Австрия, в интересах которой было воспользоваться ситуацией, совершала свои приготовления с непостижимой медлительностью и не была готова открыть военные действия ранее первых чисел июня (середины прериаля). Численность ее армий много превосходила французские, но поражения в Италии принудили ее отделить Вурмзера с 30 тысячами лучших рейнских войск: ему поручалось присоединить к себе и реорганизовать остатки армии Больё. Таким образом, кроме своих завоеваний, Итальянская армия оказывала важную услугу армиям в Германии, уменьшая численность их противников. Придворный совет, задумавший было действовать наступательно и перенести театр войны в провинции Франции, теперь думал только об обороне и отражении нашествия французов. Он даже желал продолжения перемирия, но его уже прекратили, и враждебные действия должны были начаться 31 мая (12 прериаля). Общий обзор театра войны был уже представлен. Рейн и Дунай, вытекая один из Альп, другой – из Шварцвальда, сближаются между собой в окрестностях озера Констанц, откуда один направляется на север, а другой – на восток Европы. Долины рек Майна и Неккара образуют как бы естественные проходы через хребет Шварцвальда в долину Дуная или обратно – из долины Дуная в долину Рейна. Этот театр войны и операционные планы, им продиктованные, не были тогда еще известны так, как известны теперь благодаря великим военно-историческим примерам. Карно, управлявший военными операциями на основании кампании 1794 года, доставившей ему европейскую известность, выработал свою теорию. Во время того сражения не имело смысла ждать успеха от фронтальной атаки против центра неприятельского расположения, защищенного лесом Мормаль; тогда вышли вдоль неприятельских крыльев, обошли их и принудили неприятеля к отступлению. Пример этот запечатлелся в памяти Карно. Одаренный творческим, но вместе с тем и слишком систематическим умом, он составил себе целую теорию войны на основании одной кампании, с предвзятой идеей, что следует наступать разом на оба крыла армии и стараться их обойти. Военные считали эту идею успешной в сравнении с кордонной системой, предполагавшей атаку неприятеля на всех пунктах, но она превращалась у Карно в затверженную и потому опасную систему. Обстоятельства, при которых начиналась кампания, как будто сами ее навязывали. Армия Самбры-и-Мааса и Рейнско-Мозельская армия были расположены на Рейне и значительно удалены друг от друга: в местах их расположения в долину Дуная выходили две долины. Это уже оказывалось для Карно достаточным основанием составить из французов две колонны, из которых одна шла бы вдоль Майна, другая вдоль Неккара, обе старались бы обойти крылья имперских армий и заставить их отступать к Дунаю. Он предписал генералам Журдану и Моро отправиться одному из Дюссельдорфа, а другому из Страсбурга и наступать изолированно друг от друга. Как доказали впоследствии события, разделиться на две армии – значит дать противнику возможность сосредоточиться и броситься всей массой на одну из них. Клерфэ годом ранее почти выполнил этот маневр, сначала отразив Журдана в нижнем течении Рейна, а затем бросившись на Майнцские линии. И не обладай неприятельский генерал высокими военными способностями, его как бы вынуждали следовать этому плану и доставляли случай, который иначе мог бы найти только гений. На таком ошибочном плане было основано наступление. Способы его выполнения были придуманы столь же дурно, как и сам план. Демаркационная линия между враждующими армиями шла по Рейну от Дюссельдорфа до Бингена, описывала дугу по склонам Вогезов от Бингена до Мангейма, затем опять шла по Рейну до Базеля. Карно желал, чтобы армия Журдана в числе 40 тысяч человек дебушировала из Дюссельдорфа и Нойвидского тет-де-пона[15] на правый берег Рейна для маневра и привлечения к себе внимания неприятеля; остальная часть этой армии численностью 25 тысяч человек под началом Марсо должна была подняться вверх по Рейну, идя в тылу Моро, и затем тайно перейти реку в окрестностях Страсбурга. Как Моро, так и Журдан одинаково представляли Директории все неудобства этого плана. Журдан с 40 тысячами солдат в нижнем течении Рейна мог быть раздавлен многочисленным неприятелем и уничтожен, в то время как часть его армии бесцельно теряла время, чтобы подняться по Рейну от Майнца до Страсбурга. Всего естественнее было совершить переправу у Страсбурга правому крылу Моро, что можно было сделать так же тайно и вместе с тем не терять драгоценного на войне времени. Это изменение плана, к счастью, приняли. Журдан, пользуясь двумя тет-де-понами в Дюссельдорфе и Нойвиде, должен был перейти первый и привлечь к себе внимание неприятеля, отвлекая его от верхнего течения Рейна, где Моро предстояло открыто совершить переправу. Таким образом, план был окончательно составлен, и все готовились к его выполнению. Враждебные армии были почти одинаковы по численности. С отбытием Вурмзера австрийцы на всем протяжении Рейна имели немногим более 150 тысяч человек, которые были расположены от Базеля до окрестностей Дюссельдорфа. У французов имелось столько же, не считая 40 тысяч, охранявших Голландию. Однако в составе армий присутствовала значительная разница: у австрийцев в числе 150 тысяч было 38 тысяч кавалерии и 115 тысяч пехоты; у французов – более 130 тысяч пехоты, но только от 15 до 18 тысяч кавалерии. Это превосходство в кавалерии давало австрийцам значительное преимущество, особенно при отступлении. Кроме того, они имели и другое преимущество – единое командование. С отбытием Вурмзера обе имперские армии находились под командованием молодого эрцгерцога Карла, отличившегося уже под Туркуэном. У французов было два превосходных главнокомандующих, но они действовали отдельно, были разобщены значительным расстоянием и управлялись правительством, находившимся в двухстах милях от театра войны. Перемирие окончилось 30 мая. Враждебные действия начались общей рекогносцировкой на аванпостах. Как мы уже знаем, армия Журдана растянулась от окрестностей Майнца до Дюссельдорфа. В Дюссельдорфе у него имелся тет-де-пон для переправы на правый берег, затем он мог подняться вверх между Рейном и нейтральной прусской границей до реки Лан и остановиться там или наступать далее до Майна. Против него расположились от Майнца до Дюссельдорфа 15 тысяч австрийцев под началом принца Вюртембергского. Журдан приказал Клеберу дебушировать из Дюссельдорфа с 25 тысячами человек. Последний оттеснил австрийцев и разбил их при Альтенкирхене 4 июня (16 прериаля), после чего продолжал наступление. Когда Клебер подошел к переправе при Нойвиде и прикрыл ее, Журдан переправился там с остальными войсками своей армии и соединился с ним; таким образом, к 5 июня у него на Лане находилось около 45 тысяч человек. Марсо с 30 тысячами оставался перед Майнцем. Эрцгерцог Карл находился в Майнце; узнав, что французы, как и в прошлом году, дебушируют из Дюссельдорфа и Нойвида, он переправился с частью своей армии на правый берег, чтобы остановить их. Журдан предполагал настичь и атаковать принца Вюртембергского прежде, чем тот получит подкрепление. Но, будучи задержан на один день, он упустил этот случай и сам был атакован в Вецларе 7 июня. Теперь Журдан занимал течение Лана: правое крыло его упиралось в Рейн, а левое оканчивалось у Вецлара. Эрцгерцог с главными своими силами направился на Вецлар и разбил на крайнем левом крыле дивизию Лефевра, принудив ее к отступлению. Журдан с разбитым левым крылом должен был опираться на правое крыло, примыкавшее к Рейну. Чтобы не быть окончательно припертым к реке, ему приходилось дать эрцгерцогу сражение, имея в тылу Рейн. В случае поражения отступление к Нойвиду и Дюссельдорфу стало бы весьма затруднительным и даже гибельным. Потому Журдан решил начать отступление, которое и совершил спокойно и в полном порядке. Он перешел на левый берег в Нойвиде, Клебер же должен был сделать это, спустившись по Рейну до Дюссельдорфа. Ему было приказано отступать медленно, но избегать сражения, однако, увлекаемый своей воинственностью и будучи сильно тесним австрийцами, он остановился и дал славное и бесполезное сражение; после чего подошел к дюссельдорфскому укрепленному лагерю. В интересах Рейнской армии Журдан принял на себя неблагодарную задачу вести наступление, чтобы опять отступить. Люди, мало знакомые с военным делом, могли счесть его маневр поражением. Но самоотвержение храброго генерала не остановилось перед этим; чтобы начать новое наступление, он ожидал, пока Рейнская армия воспользуется его диверсией.
Моро, уже выказавший редкое благоразумие, твердость и хладнокровие в военных действиях на Севере, обладал всеми качествами, чтобы достойно выполнить возложенную на него задачу. Он решил перейти Рейн в Страсбурге. Там Моро мог собрать много продовольствия, судов и достаточно войск. Лесистые острова на Рейне около Страсбурга облегчают переправу; форт Кель на противоположном берегу легко захватить, а раз заняв, его можно привести в оборонительное положение и воспользоваться им, как и тет-де-поном для моста, наведенного перед Страсбургом. Всё было приготовлено для переправы, а внимание неприятеля отвлечено на нижнее течение Рейна, когда Моро 14 июня (26 прериаля) предписал общую атаку против Мангеймского укрепленного лагеря. Целью атаки было обратить на Мангейм внимание генерала Латура, командовавшего войсками на Рейне под общим руководством эрцгерцога Карла. Эта искусно и энергично поведенная атака вполне достигла своей цели. Сейчас же после нее Моро направил часть своих войск на Страсбург; распустили слух, что они идут в Италию на подкрепление армии, и стали заготавливать продовольствие во Франш-Кон-те. Другие войска направлялись к Страсбургу вниз по Рейну из окрестностей Гюнингена с целью стать гарнизоном в Вормсе. Все маршруты были рассчитаны таким образом, чтобы войска прибыли к пункту назначения 23 июня (5 мессидора). И в самом деле, в этот день 28 тысяч человек собрались под началом генерала Дезе, расположившись или у Страсбурга, или в окрестностях города. Десять тысяч должны были переправиться ниже Страсбурга в окрестностях Гамбсхейма, 15 тысяч – перейти из Страсбурга в Кель. Двадцать третьего вечером закрыли страсбургские ворота, чтобы до неприятеля не могли дойти сведения о готовящейся переправе. Войска ночью направились к реке, сохраняя полное молчание. Суда были спущены в Рейн. Большой остров Эрлен-Рейн представлял удобный промежуточный пункт для переправы, на него отправили на судах 2600 человек. Эти храбрецы не хотели подавать перестрелкой сигнала неприятелю, они прямо кинулись в штыки на войска, занимавшие остров, смяли их, преследовали и не дали времени развести мосты. Они перешли мосты вслед за бегущими и, хотя кавалерия и артиллерия не могли за ними следовать, решились выйти на большую равнину и подошли к Келю. Недалеко от этого городка, в Вилыитете, располагался швабский контингент; его отряды, показывавшиеся на дороге, и особенно кавалерия делали положение французской пехоты весьма опасным. Тогда послали за подкреплением суда, не поколебавшись таким образом лишить себя на время всякого пути к отступлению. Когда подкрепление прибыло, приблизились к Келю, атаковали укрепления в штыки и взяли их. Артиллерия, найденная в форте, была немедленно обращена навстречу неприятельским войскам, подходившим из Вилыптета, и они были отброшены. Тогда приступили к наводке моста между Страсбургом и Келем и закончили наведение 25 июня; через этот мост переправилась вся армия. Десяти тысячам человек, посланным в Гамбсхейм, переправа не удалась. Они поднялись к Страсбургу и перешли реку по наведенному мосту. Последняя переправа через Рейн была исполнена скрытно, точно и смело; однако разбросанность австрийских войск от Базеля до Мангейма значительно уменьшала ее затруднения. Принц Конде находился на Верхнем Рейне, в Брайзахе, с 3800 человек; швабский контингент в числе 7500 человек находился в Вилынтете, на высоте Страсбурга, и около 8 тысяч генерала Старая растянулись от Страсбурга до Мангейма. Неприятельские силы были весьма незначительны, но преимущество французов было достигнуто исключительно скрытностью переправы, а скрытность стала возможна благодаря благоразумию, с которым всё было подготовлено. Такое положение дел представляло случай к самым блестящим триумфам. Если бы Моро действовал с быстротой победителя Монтенотте, он мог бы броситься на рассеянные вдоль реки отряды, уничтожить их один за другим и раздавить даже самого Латура, перешедшего в Мангейм на правый берег едва с 36 тысячами. Прежде чем эрцгерцог Карл вернулся бы с берегов Лана, армии Верхнего Рейна уже не существовало бы. История доказывает, что быстрота всесильна на войне так же, как она всесильна во всех обстоятельствах жизни. С ее помощью неприятеля разбивают по частям, наносят удар за ударом, не дают ему оправиться, деморализуют и лишают способности что-то обдумать и на что-нибудь решиться. Но эта быстрота, великие примеры которой мы видели в Альпах и на По, требует великой цели, великого ума и великих страстей, которые дерзали бы к такой цели стремиться. В мире нет ничего великого без страстей, увлечения и смелости, которые одни сообщают уму и характеру силу. Моро, ум ясный и прочный, не обладал тем душевным жаром, который на трибуне, на войне, во всех обстоятельствах жизни увлекает за собой людей и ведет их вопреки их желанию к обширным целям. Промежуток времени 25–28 июня Моро потратил на сосредоточение своих дивизий на правом берегу Рейна. Дивизия Сен-Сира, оставленная им у Мангейма, подходила форсированными маршами. В ожидании этой дивизии у Моро оставалось в распоряжении 53 тысячи человек, а перед ним было разбросано около 20 тысяч неприятельских солдат. Двадцать восьмого июня он атаковал 10 тысяч австрийцев, укрепившихся в Ренхене, разбил их и забрал восемьсот пленных. Остатки этого отряда принял на себя Латур, поднимавшийся по правому берегу. Сен-Сир прибыл 30 июня, и армия в полном составе расположилась за рекой. Она составляла 71 тысячу человек, из которых 63 тысячи были пехотинцы, 6 тысяч кавалерия и т. д. Моро поручил правое крыло Ферино, центр – Сен-Сиру, а левое крыло – Дезе. Сам он стоял у подошвы Шварцвальда. Швабские Альпы, как известно, образуют горный массив, отклоняющий Дунай к востоку, а Рейн к северу; его расчленяют долины Майна и Неккара, притоков Рейна. Это горы средней высоты, лесистые и изрезанные узкими дефиле. Долина Рейна отделяется от долины Неккара горной цепью, которая именуется Шварцвальдом. Перейдя на правый берег Рейна, Моро оказался у подошвы Шварцвальда; он должен был перейти через эту горную цепь, чтобы выйти в долину Неккара. Швабский контингент и отрад принца Конде отступили к Швейцарии для охранения верхних проходов Шварцвальда. Латур с главным корпусом подходил из Мангейма для защиты нижних проходов – Раштатта, Эттлингена и Пфорцхайма. Моро без всякого вреда мог бы пренебречь отрадами, направлявшимися к Швейцарии, и со всеми своими силами броситься на Латура, которого неизбежно бы раздавил. Тогда он вышел бы победителем в долину Неккара прежде эрцгерцога Карла. Однако, как генерал вполне благоразумный, он не хотел ничего упустить из виду; он поручил Ферино преследование отдельных швабских отрядов и принца Конде; Сен-Сира с центром направил вперед к горному хребту занять несколько возвышенностей; сам же направился вдоль подножия хребта к Раштатту, в сторону Латура. Подобное распределение сил было двойным результатом благоразумия Моро и плана Карно. Моро желал обезопасить себя повсюду и в то же время иметь возможность протянуть свои расположения до самой Швейцарии, чтобы быть в состоянии в случае надобности оказать поддержку Итальянской армии в Альпах. Французский генерал выступил 30 июня; двинулся между Рейном и горами по холмистой, изрытой горными потоками местности. Он подвигался вперед с крайней осторожностью и дошел до Раштатта только 3 июля. Еще можно было разбить Латура, с которым эрцгерцог Карл не успел соединиться; последний оставил 36 тысяч на Лане, а 27 – перед Майнцем против Журдана; руководство этими силами он поручил генералу Вартенслебену. Эрцгерцог торопился, как только мог, но голова его колонн была еще далеко. За вычетом гарнизона в Мангейме у Латура оставалось не более 36 тысяч солдат. Его войска тянулись по Мургу, притоку Рейна; левое крыло стояло в горах и занимало Гернсбах; центр находился у подножия гор, немного впереди Мурга; правое крыло – на равнине вдоль лесов Нидербюля, доходящих до самого Рейна; наконец, резерв – в Раштатте. Латуру не следовало принимать сражения до прибытия эрцгерцога; но, полагаясь на сильную позицию, он желал прикрыть большую дорогу из Раштатта в долину Неккара. Моро имел при себе только свое левое крыло, центр под командованием Сен-Сира оставался позади, с целью завладеть некоторыми пунктами в Шварцвальде; обстоятельство это уравновешивало силы противников. Моро атаковал Латура 5 июля. Войска его выказали большое мужество, овладели Гернсбахом на Мурге и взяли Куппенхайм в центре неприятельских расположений; но на равнине под огнем австрийской артиллерии и в присутствии многочисленной кавалерии французские дивизии развернуться не смогли. Наконец все-таки завладели и Нидербулем, и Раштаттом, заняли всё течение Мурга и захватили тысячу пленных. Моро остановился на поле сражения и не пожелал преследовать неприятеля; он мог бы довершить поражение Латура до прибытия эрцгерцога, но находил свои войска слишком уставшими и для новой атаки чувствовал необходимость располагать большими силами, подкрепив себя Сен-Сиром, которого и ожидал до 4 июля. Этот четырехдневный промежуток дал эрцгерцогу возможность подойти с 25 тысячами подкрепления и опять принять сражение на равных условиях. Взаимное положение враждующих армий оставалось почти таким же, как и прежде. Обе они стояли перпендикулярно к Рейну, одним крылом – в горах, центром – у их подножия, другим – на лесистой и болотистой береговой равнине. Моро, оценивавший обстановку хотя и медленно, но всегда точно, так как сохранял необходимое хладнокровие для исправления собственных ошибок, еще в сражении при Раштатте почувствовал важность направления основных усилий в горы. В самом деле, тот, кто был их обладателем, имел в своих руках проход в долину Неккара – главную цель, которую противники оспаривали; кроме того, так он мог обойти эрцгерцога и оттеснить его к Рейну. Моро имел и другое основание считать горы главным ключом сражения: свое превосходство в пехоте и слабость в кавалерии. Эрцгерцог также сознавал значение горного хребта, но многочисленная кавалерия вынуждала его держаться равнины. Он исправил позицию, занятую Латуром, направил саксонцев в горы для обхода Моро, укрепил Ротензольское плато, куда упиралось его левое крыло, центр свой развернул у подножия гор впереди Малыиа, а кавалерию – на равнине. Он хотел атаковать 10 июля. Моро его опередил и сам атаковал 9-го. Генерал Сен-Сир с правым крылом атаковал Ротензоль; при этом он выказал обычную для всей его славной военной карьеры точность и искусство маневрирования. Не имея возможности выбить неприятеля из его грозной позиции, он обхватил ее застрельщиками, затем повел фальшивую атаку с умышленным отступлением, дабы заставить австрийцев покинуть позицию и броситься преследовать французов. Маневр удался: австрийцы, видя наступление, а затем и беспорядочное бегство французов, кинулись за ними. Сен-Сир в это время направил на австрийцев, оставивших свою позицию, заблаговременно приготовленные войска, и завладел плато. Дальнейшим наступлением он угрожал саксонцам и принудил их к отступлению. Около Малыпа, в центре, устроил жаркое дело с австрийцами Дезе: сначала завладел этой деревней, потом потерял ее и закончил день тем, что занял последние хребты у подножия гор. На равнине наша кавалерия не начинала сражения, и Моро держал ее у опушки леса. Итак, повсюду, исключая горы, сражение оставалось нерешительным; но горы были важнейшим пунктом, так как, продолжая там наступление, Моро мог захватить проходы в долину Неккара, обойти эрцгерцога и оттеснить его к Рейну. Правда, в свою очередь, если эрцгерцог и терял горы, то у него оставалась возможность заставить Моро потерять Рейн. В подобных обстоятельствах теряет всегда менее смелый; тот, кто считает себя обойденным, и бывает обойден на самом деле. Эрцгерцог не желал рискованным движением подвергать опасности самое существование австрийской монархии, последним оплотом которой оставалась его армия. Это решение осуждали, так как оно влекло за собой отступление и подвергало нашествию всю Германию. Можно удивляться прекрасной и возвышенной смелости гения, достигающего великих результатов ценою великих опасностей, но ее нельзя делать общим законом. Благоразумие – единственная обязанность в положении, подобном положению эрцгерцога, и его нельзя обвинять за отступление с целью опередить Моро в долине Неккара и защитить государства юга Германии. Он принял решение отступить из Германии, не прикрываемой более никакой оборонительной линией, и подняться вверх по Майну и Неккару к главной линии Южной Германии – Дунаю. Эта река, прикрытая двумя крепостями Ульмом и Ратисбоном[16], была лучшей защитой для Австрии. Сосредоточивая на ней свои силы, эрцгерцог был у себя дома, владел обоими берегами реки и при равной численности с неприятелем, маневрируя на обоих берегах, мог броситься на любую из наступающих армий. Неприятель, напротив, находился в чужой стране, на огромном расстоянии от своих опорных пунктов, не обладая превосходством в силах, а кроме того, и при наступлении, и в случае отступления ему приходилось перемещаться по труднопроходимой стране, будучи разделенным на две армии. Всё, что имперские войска выигрывали, приближаясь к Дунаю, то теряли французы. Однако, чтобы обеспечить себе эти выгоды, эрцгерцог должен был избежать поражения при своем отступлении, для чего следовало отступать в порядке и неторопливо, вместе с тем избегая сражения. Оставив гарнизоны в Майнце, Эренбрайтштайне, Касселе и Мангейме, эрцгерцог предписал Вартенслебену шаг за шагом отступать в долину Майна, а затем Дуная; он должен был ежедневно выдерживать натиск неприятеля для поддержания духа своих войск, но не вступать в серьезное сражение. Так же точно эрцгерцог повел и свою армию; он направил ее из Пфорцхайма в долину Неккара, там остановился на время, чтобы притянуть к себе свои полки и дать им успеть выступить. Вартенслебен отступал с 30 тысячами пехоты и 15 тысячами кавалерии, сам эрцгерцог с 40 тысячами пехоты и 18 кавалерии. Остальная часть армии отступила в Швейцарию.
После того как Моро принудил австрийцев к отступлению, армия Журдана вновь перешла Рейн в Нойвиде и Дюссельдорфе и, маневрируя как прежде, двинулась к реке Лан, чтобы оттуда выйти в долину Майна. Итак, французские армии наступали двумя колоннами вдоль Майна и Неккара, преследуя две имперские армии. Многочисленная австрийская кавалерия сдерживала наступающих, прикрывала собой пехоту и делала бесплодными все усилия французов завязать сражение. Моро, так как ему не нужно было оставлять войск ни перед какой крепостью, наступал с 71 тысячью солдат. У Журдана, оставившего 27 тысяч на блокаду Майнца, Касселя, Эренбрайтштайна, оставалось лишь 46 тысяч, не больше, чем у Вартенслебена. На основании ошибочного плана Карно следовало по-прежнему охватывать крылья противника, то есть отступать от главной цели – соединения обеих армий. Соединив армии, можно было направить на Дунай 115 или 120 тысяч человек, которые могли бы заставить эрцгерцога обмануться во всех его расчетах и не дать сосредоточиться, затем переправиться на его глазах через Дунай, взять Ульм и, уже обладая этим опорным пунктом, угрожать Вене и трону императора. Согласно плану Карно Моро должен был опираться на верхнее течение Рейна и Дунай, Журдану же следовало идти на Богемию. Достаточным основанием к исполнению такого приказа являлась возможность сообщения с Итальянской армией через Тироль, что, однако, предполагало выполнение гигантского плана Бонапарта, справедливо неодобряемого Директорией. И так как, естественно, Моро не хотел отодвигаться со своим левым крылом от армии Журдана, а правое он протягивал к Итальянской армии, то его армии на берегах Неккара пришлось занять линию в пятьдесят лье. Журдан же, исполняя приказ обходить Вартенслебена, отдалялся от Моро всё более и более, потому что Вартенслебен, посредственный генерал, не понимая плана эрцгерцога, вместо того чтобы приближаться к Дунаю, непременно хотел прикрывать Богемию. Каждая из враждующих армий делала именно то, чего ей делать не следовало. Между Вартенслебеном и Журданом имелась, однако, та разница, что первый не исполнял превосходного плана, а второй был вынужден следовать дурному. Ошибка Вартенслебена должна быть приписана исключительно ему, ошибка же Журдана – Карно. Открыв себе сражением при Канштадте переправу через Неккар, Моро углубился в горные дефиле Альп, отделяющих Неккар от Дуная так же, как Шварцвальд отделяет Неккар от Рейна. Моро потратил на это движение целый месяц и вышел в долину Дуная в конце июля (к середине термидора). Журдан, наступая от Лана к Майну, настиг австрийцев и завязал с ними сражение при Фридберге, после чего подступил к Франкфурту-на-Майне, от которого потребовал немедленной сдачи под страхом бомбардирования. Австрийцы согласились, но лишь с условием отсрочить капитуляцию на два дня; это давало им возможность беспрепятственно переправиться через Майн и вместе с тем – значительный выигрыш во времени. Журдан, однако, согласился ждать в виду того, что этим оставался цел богатый и значительный город, воспользоваться запасами которого было весьма важно для его армии. Город сдали 16 июля (28 мессидора); Журдан с большой умеренностью воспользовался своим правом наложить на него контрибуцию; подобным снисхождением к неприятельской стране он возбудил даженеудовольствие своей армии. Слухи об изобилии, каким пользовалась Итальянская армия, возбуждали воображение солдат: они желали обладать тем же и в Германии. По занятии Франкфурта Журдан поднялся по Майну и овладел Вюрцбургом 25 июля (7 термидора), затем, обойдя Швабские горы, вышел к реке Нааб, притоку Дуная; в это время, в начале августа, он стоял на одной высоте с армией Моро. Швабия и Саксония искали нейтралитета: они послали в Париж своих агентов для заключения мира и соглашения относительно контрибуций. Швабские и саксонские войска отделились от австрийской армии и ослабили ее таким образом на 12 тысяч человек, правда, малополезных и неохотно сражавшихся. Итак, к середине лета наши армии, господствуя над всею Италией и половиной Германии, занятой ими до Дуная, угрожали всей Европе. Уже два месяца как было окончательно подавлено восстание в Вандее, и из 100 тысяч солдат на западе можно было располагать 50. Обещания Директории не могли быть выполнены с большей точностью и славой.
Глава XLIX
Внутреннее состояние Франции в середине 1796 года (года IV) – Падение мандатов и бумажных денег – Нападение на Гренельский лагерь якобинцев – Французская дипломатия в Италии – Марш Бонапарта к Бренте – Отступление Журдана на Майн – Сражение при Вюрцбурге, отступление МороПо-видимому, Франция еще никогда не достигала такого величия, как в лето 1796 года; внутреннее состояние ее далеко не соответствовало внешнему блеску. Париж представлял странное зрелище столицы, большинство населения которой враждебно правительству. Патриоты, крайне раздраженные арестами Бабёфа, Друэ и других предводителей, проклинали правительство и не желали более побед республике до тех пор, пока они приносят пользу Директории. Победы эти упорно отрицались противниками революции; люди делали вид, что не верят им. Несколько новых денежных тузов, разбогатевших благодаря биржевой игре или подрядам, демонстрировали необузданную роскошь и полное равнодушие к республике, создавшей их богатства. Подобное нравственное состояние Франции было неизбежным результатом общей усталости, застарелых страстей партий и алчности, вызванной финансовым кризисом. Правда, во Франции все-таки оставалось еще достаточное число республиканцев, энтузиастов, сохранявших истинные патриотические чувства; их радовали наши победы, они восторженно принимали известия о них и с любовью и удивлением повторяли имена Гоша, Журдана, Моро и Бонапарта. Они желали, чтобы государство совершило новые усилия и принудило злоумышленных и равнодушных содействовать славе и величию Республики. Дабы затмить блеск наших побед, партии старались очернить генералов, а особенно – Бонапарта, который в два месяца успел достичь такой славы. Он уже навел ужас на роялистов 13 вандемьера, и они неблагосклонно отзывались о нем в своих газетах. Было известно, что он распоряжается в Италии почти как властелин; были поражены его манерой держаться с владетельными государями этой страны, которым он даровал перемирие или отказывал в нем; знали, что он без посредства казначейства выслал деньги в Рейнскую армию. На основании всего этого зло подтрунивали, говоря, что он недостаточно послушен, а потому его сменят и – великий полководец был бы потерян для республики, а беспокоившая всех слава была бы остановлена в самом начале пути. Люди злоумышленные старались распространять самые нелепые слухи; они утверждали даже, что Гош, находившийся тогда в Париже, отправляется арестовать Бонапарта среди его армии. Правительство послало Бонапарту письмо, опровергавшее все эти слухи; в нем повторялись свидетельства большого к нему доверия. Это письмо напечатали в газетах. Храбрый Гош, неспособный к низкой зависти в отношении соперника, в такое короткое время сумевшего стать выше лучших генералов республики, также написал письмо, чтобы уклониться от роли, которую ему навязывали. Письмо следует цитировать как факт, делающий честь обоим молодым героям; оно было адресовано министру полиции и сделано гласным. «Гражданин министр, некоторые из тех, кто прятался или был неизвестен в первые годы Республики, теперь только и ищут средств под нее подкопаться; если они и упоминают о ней, то только для того, чтобы оклеветать ее опоры. Вот уже несколько дней они распространяют оскорбительные для всей армии слухи об одном из главнокомандующих. Означает ли это, что им уже более недостаточно для достижения своей цели вступать в открытые письменные сношения с шайкой заговорщиков, жительствующих в Гамбурге? Разве им так необходимо позорить главнокомандующих для достижения милости повелителей, которых они хотят навязать Франции? Не воображают ли они, что последние теперь так же бессильны, как и прежде, и оставят без внимания оскорбления, не представив никаких оправданий? Почему же Бонапарт является предметом ненависти этих господ? Не потому ли, что он разбил их и их приверженцев в вандемьере? Не потому ли, что он распускает королевские армии и доставляет республике средства славным образом окончить эту достопамятную войну? Храбрый молодой человек! Кто из военных чинов не пожелал бы тебе подражать? Мужайся, Бонапарт! Веди в Неаполь и Вену наши победоносные армии, придавай новый блеск нашему оружию, здесь же мы возьмем на себя попечение о твоей славе! Нельзя без улыбки сожаления глядеть на человека, к тому же весьма умного, объявляющего об опасениях – несуществующих, – которые у него вызывают полномочия, предоставляемые французским генералам. Гражданин министр, последние вам почти все известны. Кто из них, – предполагая даже, что он достиг бы такого влияния в своей армии, что мог бы подвинуть ее идти на правительство, – кто из них, скажу я, решится это когда-либо сделать, не будучи тотчас же раздавлен своими товарищами? Главнокомандующие едва знают друг друга и почти не состоят между собою в переписке! То, что их уже несколько, дает достаточную гарантию против замыслов, которые произвольно предполагают у одного из них. Разве не безызвестно, как сильно могут действовать на людей зависть, честолюбие, ненависть, а также – надеюсь, могу прибавить – любовь к отечеству и честь? Итак, успокойтесь вы, современные республиканцы. Некоторые журналисты простерли нелепость до того, что приписали мне поручение отправиться в Италию с целью арестовать человека, которого я лично только уважаю, а правительство может только ценить. Можно смело утверждать, что в настоящее время мало кто из высших военных чинов возьмет на себя обязанности жандарма, хотя многие и готовы бороться с партиями и возмутителями спокойствия. В течение моего пребывания в Париже мне пришлось видеть людей всякого образа мыслей; я имел возможность оценить некоторых по достоинству. Есть среди них и такие, которые думают, что правительство не может существовать без их содействия: они громко требуют себе мест. Другие, хотя о них никто и не знает, воображают, что ищут их гибели; они кричат о том, чтобы на них обратили внимание. Я видел эмигрантов, более французов, чем роялистов, которые плакали от радости во время рассказов о наших победах; видел и парижан, подвергающих их радость сомнению. Мне казалось, что одна партия – решительная, но без всяких средств – хочет поколебать правительство и заменить его анархией; вторая, более опасная и ловкая, имеющая всюду приверженцев, стремится к разрушению республики, с тем чтобы возвратить Франции хромую конституцию 1791 года и междоусобную войну на тридцать лет; третья, наконец, – если сумеет пренебречь прочими и приобрести над ними влияние, какое дают законы, – победит их, потому что она состоит из истинных республиканцев, трудолюбивых и честных, средства которых – талант и добродетель. К ее сторонникам принадлежат все добрые граждане и армии, побеждавшие в течение пяти лет, без сомнения, не для того, чтобы служить порабощению отечества». Оба письма остановили слухи и заставили замолчать злопыхателей. Несмотря на все успехи, правительство внушало сожаление своей нищетой. Новые бумажные деньги продержались мало, и падение их лишило Директорию важного средства. Известно уже, что 16 марта (26 вантоза) выпустили 2 миллиарда 400 миллионов мандатов, которые обеспечивались соответственной поземельной ценностью. Часть мандатов должна была пойти на извлечение из обращения 24 миллиардов ассигнаций, другая – на удовлетворение последующих государственных надобностей. 24 миллиарда ассигнаций были заменены 800 миллионами мандатов, и вместо того чтобы выпустить еще ассигнаций, выпустили на оставшийся миллиард 600 миллионов мандатов. Разница заключалась в названии и номинальной цене. Правда, мандаты обеспечивались землей, ассигнации же, стекаясь на аукционы, не представляли никакой определенной ценности в имуществах; но это не помешало падению мандатов, происшедшему от многих причин. Франция не желала более бумажных денег и решительно не хотела им верить. Как бы велики ни были гарантии, если к ним не хотят прибегать, то их как бы и вовсе не существует. Кроме того, хотя количество бумажных денег и было сокращено, но не вполне достаточно, и если бы даже и возможно было возвратить доверие к бумажным деньгам, то и тогда преувеличение их ценности заставило бы их вновь упасть. Несмотря на обязательное обращение, они продержались весьма недолго. Принудительные меры 1793 года в настоящее время были бессильны. Никто не хотел обменивать металлические деньги на бумажные. Монета же, как думали, спрятанная или вывезенная за границу, вновь появилась в обращении. Южные провинции были полны испанскими пиастрами, попавшими во Францию благодаря требованиям денежного рынка. Золото и серебро, как и всякий другой товар, идут туда, где на них появляется спрос; причем цена возвышается до тех пор, пока количество их не станет вполне достаточным и спрос не окажется удовлетворен. На всех рынках обращались только золото и серебро; ими же выплачивалась и заработная плата; можно было подумать, что во Франции не существует бумажных денег. Мандаты находились только в руках спекулянтов, приобретавших их у правительства и затем перепродававших скупщикам национальных имуществ. Таким образом, хотя финансовый кризис и продолжался для государства, он почти прекратился для частных лиц. Пользуясь этим и открытием сообщения с континентом, торговля и промышленность постепенно восстанавливались. Они таким образом как бы доказывали, насколько неправы правительства, тщеславно утверждая, что для процветания производства нужно его поощрять; его достаточно только не стеснять, и оно воспользуется первым случаем, чтобы развить кипучую деятельность. Но если частные лица и возвращали себе прежний достаток, то правительство, то есть его главы, чиновники всякого рода, военные чины, администрация и суды, а также все его кредиторы впали в ужасную нищету. Мандаты, которые они получали, не могли служить ничему; их могли только перепродавать спекулянтам, которые за сто франков платили пять или шесть, а затем перепродавали мандаты скупщикам национальных имуществ. Кредиторы государства умирали с голоду, чиновники подавали в отставку; против обыкновения, мест не искали, от них отказывались. Армии в Германии и Италии жили за счет неприятеля и избегали таким образом общей нищеты, но Внутренняя армия нуждалась ужасно. Гош не мог продовольствовать свою армию иначе чем поборами с западных провинций, в которых он исключительно с этой целью сохранял военное положение; его же офицеры и он сам не имели во что одеться. Этапов, устроенных во Франции для передвижения войск, часто как бы вовсе не было, потому что подрядчики не хотели поставлять ничего вперед без немедленной уплаты. Отдельные отряды, посланные с берегов океана на подкрепление Итальянской армии, не могли продолжать движение; приходилось иногда запирать госпитали и выгонять из них несчастных больных солдат, которым республика не могла доставить ни лекарств, ни пищи. Жандармы были совершенно дезорганизованы; они не были ни одеты, ни вооружены, а потому и не несли никакой службы: они не охраняли дорог из опасения за своих лошадей, при потере которых они не получали новых. Между тем разбойники, неизбежное следствие междоусобных войн, делали небезопасным всякое сообщение. Они проникали в деревни и даже в города, где совершали грабежи и убийства с неслыханной дерзостью. Таково было внутреннее состояние Франции. Характерной чертой нового кризиса была нищета правительства рядом с возраставшим богатством частных лиц. Директория существовала за счет остатков бумажных денег и благодаря нескольким миллионам, которые присылали ей ее армии из-за границы. Генерал Бонапарт выслал ей уже тридцать миллионов и около ста дорогих упряжных лошадей, чтобы правительство могло хоть сколько-нибудь соответствовать своему положению. Речь шла теперь о том, чтобы уничтожить так много обещавшие, но ни к чему не приведшие новые бумажные деньги, а для этого необходимо было лишить их обязательного обращения и принимать в уплату по действительному курсу. Шестнадцатого июля (28 мессидора) постановили, что всем предоставляется право вступать в сделки и заключать договора с какими угодно монетами; что мандаты не будут приниматься иначе как по курсу, который будет утверждаться и объявляться казначейством. Решились, наконец, объявить, что налоги будут взиматься наличной монетой или мандатами, но не иначе как по курсу; исключение делали для одного поземельного налога. Со времени выпуска мандатов его желали непременно взимать бумажными деньгами, а не натурой; теперь осознали, что лучше было бы не отказываться от последнего; среди колебания ценности бумажных денег можно было бы рассчитывать хотя бы на съестные припасы. После долгих и оживленных прений, окончившихся баллотированием нескольких проектов в Совете старейшин, решили, что в пограничных и близких к расположению армии департаментах налог может взиматься натурой, в прочих же – мандатами по их курсу на зерно. Взимание принудительного займа еще не было кончено: у администрации не хватало более той энергии произвола, которая одна может обеспечить успех подобной меры. Займа еще следовало бы добыть на 300 миллионов. Решили, что в уплату его и налога мандаты будут приниматься по номинальной цене, а ассигнации – в один процент их номинальной стоимости, но чтобы принудить запоздавших заплатить необходимые взносы, срок этой меры ограничивали пятнадцатью днями, по истечении которых бумажные деньги должны были приниматься по курсу. Объявив, таким образом, падение мандатов, их было уже невозможно принимать в уплату за национальные имущества, которые их обеспечивали; предсказанное банкротство делалось неизбежным. И в самом деле, постановили, что мандаты, выпущенные на сумму в 2 миллиарда 400 миллионов, упали значительно ниже и стоят не более двух или трех сотен миллионов, а потому и государство не может ныне отдавать за них национальные имущества, оцененные в прежнюю сумму. Государственное казначейство могло рассчитывать на близкие поступления; но с этими средствами было то же, что и с национальными имуществами: их следовало сделать средствами не близкого будущего, но настоящего. Предстояло получить 300 миллионов обязательного займа; 300 миллионов поземельного налога; 25 миллионов налога на движимое имущество; всю арендную плату за национальные имущества и недоимку по этой аренде, достигавшую 60 миллионов; различные военные контрибуции; стоимость движимого имущества эмигрантов; наконец, разные недоимки. Все эти ожидаемые поступления вместе с 200 миллионами – стоимостью последней четверти национальных имуществ – доходили до триллиона, громадной суммы, реализовать которую было затруднительно. Правительству, чтобы закончить свои годовые счеты к 1 вандемьера, требовалось только 400 миллионов; оно было бы спасено, если бы только могло реализовать последнюю сумму из ожидаемых гигантских сумм. Для будущего года оно имело постоянных налогов на 500 миллионов, их уже рассчитывали получить звонкой монетой и надеялись покрыть ими все текущие расходы. На военные же расходы в случае открытия новой кампании имелся остаток; наконец, были готовы к продаже национальные имущества. Главная трудность заключалась по-прежнему в способе, каким можно было бы собрать все эти суммы. Наличные деньги представляют собой вообще всё годовое производство страны; было затруднительно получить всё разом и обязательным займом, и налогом на землю и движимое имущество, и, наконец, продажей имуществ. Вновь обратились к контрибуциям и Директорию уполномочили заложить за 100 миллионов имущества в Бельгии. Билеты казначейства, выпускаемые под обеспечение будущих годовых поступлений, разделили участь всех бумажных денег. Не имея возможности пользоваться этими средствами, министр платил подрядчикам векселями, которые предполагалось обналичить при первом поступлении денег в казначейство.
Такова была нищета правительства, несмотря на всю его военную славу. Партии не переставали скрытно волноваться. Хотя окончательная покорность Вандеи и ослабила надежды роялистов, но их агенты в Париже еще больше убедились в достоинствах своего прежнего плана – отказаться от междоусобной войны, но стараться извратить общественное мнение и мало-помалу завладеть обоими советами и должностными лицами. Последней цели они старались достичь через печать. Патриоты, со своей стороны, были крайне возмущены: они способствовали побегу Друэ из тюрьмы и замышляли новые заговоры, несмотря на неудачу заговора Бабёфа. Множество старых конвенционалистов и термидорианцев, имевших связи с правительством, которое было обязано своим существованием их голосованию 13 вандемьера, – и те начинали переходить в ряды недовольных. Известно, что закон обязывал бывших конвенционалистов, не избранных вновь в советы, и чиновников, лишенных должностей, оставить Париж. Полиция, по ошибке, послала напоминание об этом четырем конвенционалистам, членам действующего законодательного корпуса. На эти оповещения полиции с горечью указали в Совете пятисот. Тальен, который после раскрытия заговора Бабёфа заявлял свое полное одобрение действиям правительства, на этот раз с горечью высказался как против полиции Директории, так и против той подозрительности, предметом которой сделались патриоты. Его обычный противник Тибодо возражал ему, и после довольно оживленного спора каждый остался при своем мнении. Министр полиции Кошон, его чиновники и шпионы особенно навлекали на себя ненависть патриотов, так как строже надзирали за последними. Всё это не могло остановить совершенно определенной политики правительства: если директоры высказывались против роялистов, то они не имели также никаких сношений и с патриотами, то есть с той частью революционной партии, которая хотела возвратиться к демократической республике и находила настоящий порядок слишком снисходительным к аристократам. Вообще же – вне состояния финансов – положение Директории, стоящей выше всех партий, сдерживающей их твердой рукой и опирающейся на великолепные армии, было довольно успокоительно и величаво.
Со времени установления Директории правительство обуздало две попытки к возмущению со стороны патриотов: оно закрыло возобновившийся клуб якобинцев «Пантеон», а полиция раскрыла заговор Бабёфа и арестовала новых вождей патриотов; но те не переставали волноваться и замышляли новую попытку. Оппозиция, еще раз напав на закон 3 брюмера, довела их до последней степени раздражения. Патриоты уже и прежде хотели возмутить полицейский легион; теперь он был распущен и переформирован в 21-й драгунский полк. Патриоты надеялись поколебать верность этого полка, а за ним увлечь и всю Внутреннюю армию, расположенную лагерем на Гренельской равнине. Они предполагали в то же время вызвать возмущение в Париже, а для этой цели решили начать ружейную пальбу, разбрасывая при этом по улицам белые кокарды и крича «Да здравствует король!», надеясь заставить этим поверить, что для уничтожения республики поднялись роялисты. Пользуясь этим предлогом, патриоты взялись бы за оружие, завладели правительством и вынудили Гренельский лагерь склониться на их сторону. Часть своего плана патриоты осуществили 29 августа (12 фрюктидора); они зажгли несколько петард и разбросали белые кокарды. Полиции была предупреждена об этой попытке и приняла меры предосторожности, дабы не возникло никакого волнения. Патриоты не отчаялись и несколько дней спустя, 3 сентября, решили осуществить свой заговор; тридцать главных заговорщиков собрались в Гро Кайу и в ту же ночь назначили сборным пунктом своих единомышленников Вожирарский квартал. Последний располагался недалеко от Гренельского лагеря и изобиловал садами с каменными оградами, за которыми можно было удобно собраться и дать отпор в случае нападения. Решительно настроенные люди, вооружившись ружьями, пистолетами, саблями и тростями со шпажными клинками, действительно собрались вечером в количестве семисот или восьмисот человек; на их сборище присутствовали несколько отставных офицеров в форме, несколько бывших конвенционалистов и даже, говорят, Друэ, скрывавшийся в Париже со времени своего побега. Офицер гвардии Директории с девятью кавалеристами в качестве патруля объезжал город; ему сообщили о сборище в Вожирарском квартале. Он бросился туда со своим крошечным отрядом, но был встречен ружейными выстрелами: на него накинулись двести человек, от которых ему едва удалось ускакать. Офицер немедленно отправился призвать гвардию к оружию и послал офицера с известием о случившемся в Гренельский лагерь.
 Бой у Гренельского лагеря
Бой у Гренельского лагеря
Патриоты тоже не теряли времени и в числе нескольких сотен человек поспешно двинулись к Гренельскому лагерю, туда, где стоял 21-й драгунский полк, бывший полицейский легион. Они старались склонить солдат на свою сторону, уверяя, что пришли брататься с ними. Командовавший полком эскадронный командир Мало, полуодетый, тотчас же выбежал из палатки, вскочил на лошадь, собрал около себя нескольких офицеров и первых попавшихся солдат и бросился с ними на толпу, предлагающую братанье. Его пример подействовал на солдат, они также вскочили на своих лошадей и бросились на патриотов, которых и не замедлили рассеять; те потеряли немало убитыми и ранеными, а тридцать два из них были взяты в плен. Шум схватки пробудил войска, и те стали под ружье; по Парижу распространилась паника, но вскоре все успокоились, узнав как о результатах, так и обо всем безрассудстве попытки. Директория заключила в тюрьмы пленных и потребовала у обоих советов разрешения произвести в некоторых кварталах домашние обыски, дабы арестовать бунтовщиков, которым раны не позволили покинуть Париж. Участвуя в вооруженном восстании, они подлежали военному суду, а потому были преданы военной комиссии, начавшей свою деятельность расстрелом некоторых из них. Организация верховного суда еще не была кончена; с этим тоже поспешили, дабы начать процесс Бабёфа. Вспышка была принята за то, чем она и была на самом деле, то есть за неосторожность партии, у которой нет будущего. Только враги революции придавали ей большое значение, пользуясь ею как новой возможностью кричать о терроре и беспокоить общественное мнение. На самом деле эта бесполезная попытка мало кого устрашила и лучше всех прочих успехов Директории доказала, что правительство упрочилось и партии должны отказаться от надежды его свергнуть. Таково было положение дел внутри государства. В то время как готовились к новым военным действиям, в Европе завязывались важные дипломатические сношения. Французская республика со многими державами состояла в мире, но ни с одной в союзе. Ее хулители когда-то утверждали, что она не будет признана; теперь они говорили, что она не будет иметь союзников. Как бы отвечая на подобные злоумышленные толкования, Директория думала возобновить прежний договор с Испанией и замышляла четырехсторонний союз Франции, Испании, Венеции и Порты. Этот союз государств юга против государств севера господствовал бы над Средиземным морем и Востоком, беспокоил бы Россию, угрожал тылу Австрии и вызвал бы к жизни новую морскую силу, враждебную Англии. Кроме того, он доставлял большие выгоды Итальянской армии, обеспечивая ей поддержку венецианской эскадры и тридцати тысяч славонцев. К этому союзу легче всего было склонить Испанию: Англия подавала ей значительные поводы к неудовольствию с самого начала войны. Главнейшими из них были: образ действия англичан в Тулоне и экспедиция на Корсику, скрытая от испанского адмирала. Со времени мира с Францией поводы к неудовольствию еще более возросли: англичане преследовали испанские корабли, секвестровали назначаемое им снаряжение, нарушали неприкосновенность испанской территории, занимали угрожающее положение в Америке, нарушали таможенные законы в колониях Испании и открыто старались возмутить их. Это неудовольствие вместе с блестящими предложениями Директории, сулившей Испании территориальные приобретения в Италии, – а исполнение этих обещаний при настоящих победах французов было вполне осуществимо, – подвигли Испанию заключить наступательный и оборонительный союз с Францией на основаниях прежнего договора. По заключенному трактату обе державы взаимно гарантировали безопасность европейских и колониальных владений друг друга и обязывались в случае надобности поддержать друг друга вспомогательным корпусом в восемнадцать тысяч пехоты и шесть тысяч кавалерии, пятнадцатью линейными кораблями первого ранга, пятнадцатью 74-пушечными кораблями, шестью фрегатами и четырьмя корветами. Посланникам Франции в Порте и Венеции были отправлены инструкции с доводами, способными воздействовать на державы, при которых посланники были аккредитованы. Французская республика не была теперь совершенно изолирована, а напротив, вызвала против Англии нового врага. Всё заставляло предполагать, что объявление войны Испанией Англии последует вскоре за заключением союза с Францией. Директория готовила Питту затруднения и другого рода. Гош со стотысячной армией стоял на берегах океана; Вандея и Бретань были покорены, и он горел нетерпением применить свои войска более достойным образом и прибавить к своим лаврам новые. Он внушил правительству уже давно обдуманный план – экспедицию в Ирландию. Затушив междоусобную войну на берегах Франции, по мнению Гоша, следовало перенести этот бич в самую Англию; возмутив католиков в Ирландии, следовало ей той же мерой воздать за зло, которое причинила она, поддерживая восстание в Пуату и Бретани. Обстоятельства тому благоприятствовали: ирландцы более чем когда-либо чувствовали угнетение со стороны английского правительства; население трех королевств терпело от войны страшные убытки, а если бы ко всем его бедствиям прибавилось еще и неприятельское вторжение, то это могло бы довести людей до отчаяния. Финансы Питта колебались, и предприятие Гоша могло иметь важные последствия. Его план был принят. Морской министр Трюге, искренний республиканец и способный министр, деятельно содействовал Гошу; он собрал в Бресте эскадру и на вооружение ее потратил все средства, которыми дозволяло располагать состояние финансов. Гош отобрал лучшие войска своей армии и подвел их к Бресту для предстоящей операции; между тем распускали слухи то об экспедиции в Сан-Доминго, то о высадке в Лиссабон для изгнания совместно с Испанией англичан из Португалии. Англия, подозревавшая об истинной цели экспедиции, находилась в крайнем беспокойстве. Наступательный и оборонительный союз Испании с Францией предвещал ей новые опасности, а поражения Австрии заставляли бояться потери могущественного и последнего союзника. Финансы находились в особенно плачевном положении; банк поднял ставки, в капиталах чувствовался такой недостаток, что остановили заем для австрийского императора. Итальянские порты закрылись для английских кораблей, океанские порты были закрыты до острова Тексел, а теперь то же предстояло и в Испании: торговля Великобритании несла огромные убытки. Ко всем этим затруднениям прибавлялись общие выборы в новый парламент; выборы проходили при криках проклятия против Питта и войны.
Германская империя почти вся отступилась от коалиции. Баден и Вюртемберг подписали мир, дозволяя воюющим армиям переход через свою территорию. Австрия в страхе наблюдала две французские армии на Дунае и третью, запиравшую для нее Италию, на Адидасе. Туда был направлен Вурмзер с 30 тысячами солдат, он должен был собрать в Тироле резервы, присоединить к себе и реорганизовать остатки армии Больё и спуститься в Ломбардию с 60 тысячами войска. С этой стороны Австрия была спокойна и считала себя вне опасности, но она сильно беспокоилась за Дунай и обратила сюда всё свое внимание. Дабы воспрепятствовать распространению тревожных слухов, придворный совет запретил беседовать в Вене о политических событиях; организовали волонтеров и трудились над снаряжением и вооружением новых войск. Наконец, Австрии оказала некоторую поддержку императрица Екатерина; она гарантировала ей безопасность Галиции, что позволило австрийцам вывести оттуда войска и направить их на Альпы и Дунай. Франция повсюду наводила ужас на своих врагов; с нетерпением ждали, чем решится судьба войны на берегах Дуная и Адидже. На громадном протяжении от Богемии до Адриатического моря находились три армии, от столкновения которых зависела судьба Европы. В ожидании открытия военных действий в Италии продолжались дипломатические переговоры. С Пьемонтом два месяца назад заключили окончательный мир, на основании которого Франции уступались герцогство Савойя и графство Ницца, защищавшие альпийские дефиле; форты Суза и Брунетта должны были быть разрушены; французам предоставлялось занимать во время войны Кони, Тортону и Алессандрию; их войскам открывался свободный проход через Пьемонт, причем последний обязывался доставлять всё необходимое. По настоянию Бонапарта Директория собиралась заключить наступательный и оборонительный союз с сардинским королем, чтобы иметь в своем распоряжении от 10 до 15 тысяч человек. Но король в вознаграждение за это требовал Ломбардию, которой Франция еще не могла располагать и которую она по-прежнему хотела сохранить как вознаграждение Австрии за уступку Нидерландов. Получив отказ, король не хотел соглашаться на союз. Хотя сношения с Тосканой были дружественными, тем не менее, вследствие мер, принятых против ливорнских торговцев, там росло раздражение Францией: торговцев вынуждали заявлять о товарах, принадлежащих врагам Франции. Неаполь и Рим, согласно условиям перемирия, послали своих уполномоченных в Париж, но с заключением мира медлили; очевидно, обе державы ожидали дальнейших событий. Население Болоньи и Феррары по-прежнему оставалось пристрастно к свободным учреждениям, временно им дарованным. Регентство Моденское и герцогство Пармское оставались спокойны. Ломбардия с тревогой ждала исхода кампании. Венецианский сенат старались вынудить согласиться на четырехсторонний союз и дать вспомогательные войска Итальянской армии. Кроме прямых предложений самому венецианскому правительству, французские посланники в Константинополе и Мадриде старались доказать выгоды этого проекта венецианским посольствам; но все попытки оставались бесплодны. Венеция ненавидела французов с тех пор, как они вступили на ее территорию и их идеи стали распространяться среди ее населения. Венецианская республика фактически отказалась от нейтралитета и вооружалась. Губернаторам островов послали приказ выслать в лагуны свободные войска и корабли, а славонские полки должны были выступить из Иллирии. Бергамский проведитор тайно вооружал храбрых и суеверных жителей своей провинции. Бонапарт находил, что в настоящий момент не следует связывать себя никакими обязательствами, в то же время стараться медлить с переговорами, выжидать обстоятельств, как бы не замечать враждебного к нам отношения до тех пор, пока новые сражения в Италии или окончательно упрочат наше в ней положение, или заставят из нее выйти. Следовало не поднимать спора с Генуей, а делать вид, что мы удовольствовались компенсацией, чтобы не вооружить ее против нас в случае отступления. Не следовало также возбуждать неудовольствия герцога Тосканского [Фердинанда] тем образом действий, какой приняли в Ливорно: без сомнения, Бонапарт не думал поддерживать трон брата императора Германской империи, он только находил несвоевременным беспокоить его теперь. Комиссары Директории Гарро и Саличетти постановили изгнать французских эмигрантов из окрестностей Ливорно. Бонапарт написал им письмо, в котором, не обращая внимания на их звание, строго выговаривал им за превышение власти и возбуждение неудовольствия тосканского герцога нарушением его державных прав. В отношении Венеции он также хотел сохранить существующее положение вещей и только громко жаловался на убийства, совершаемые на больших дорогах, и на ее вооружение прямо на глазах французской армии. Придерживаясь такой политики, Бонапарт желал заставить продовольствовать свою армию и сохранить повод потребовать от республики несколько миллионов, если он победит австрийцев. «Если я останусь победителем, – писал он, – достаточно будет простой эстафеты, чтобы окончить все затруднения, которыми ныне меня беспокоят». Миланская цитадель находилась во власти Бонапарта. Гарнизон сдался, а артиллерию отправили под Мантую, где был собран значительный осадный парк. Бонапарт желал бы закончить осаду крепости до прибытия австрийской армии, но мало надеялся преуспеть в этом. Вследствие эпидемии лихорадки в ее окрестностях на блокировку ее выделили только минимальное число войска. Тем не менее крепость была обложена, и Бонапарт хотел прибегнуть к внезапному нападению, успех которого, по его выражению, зависит от какого-нибудь гуся или собаки; но спад воды в озере помешал движению судов, которые должны были перевезти передовые отряды. Тогда Бонапарт отказался от мысли овладеть Мантуей; подходил Вурмзер, и дать ему отпор было более важным. Итальянская армия, начав кампанию с численностью немногим более 30 тысяч, в пополнение своего урона получила подкрепления только 9 тысяч человек из Альпийской армии; дивизии же, отделенные от армии Гоша, не успели выйти из Франции. Благодаря этому подкреплению и больным, выписавшимся из депо Прованса и Вара, армия не только пополнила убыль, но даже усилилась. По окончании операций Бонапарта на полуострове в ее рядах, как на Адидже, так и вокруг Мантуи, насчитывалось 45 тысяч человек; эпидемия уменьшила эту численность до 40 или 42 тысяч человек. Таковы были силы французов к концу июля (к середине термидора). Бонапарт оставил депо только в Милане, Тортоне и Ливорно. Он уже уничтожил две неприятельских армии; теперь ему предстояло сразиться с третьей, более сильной, чем предыдущие.
Вурмзер приближался с 60 тысячами человек. Тридцать тысяч были взяты с Рейна и состояли из превосходных войск; прочие включали остатки армии Больё или батальоны, подошедшие с внутренних земель Австрии. Десять тысяч, не считая больных, были заперты в Мантуе. Итак, численность австрийских войск в Италии превосходила 70 тысяч человек. Бонапарт, со своей стороны, имел около 10 тысяч под Мантуей и не мог противопоставить более 30 тысяч 60 тысячам австрийцев, которые собирались дебушировать из Тироля. Чтобы восстановить равновесие при таком неравенстве сил, нужна была большая храбрость войск и гениальные способности главнокомандующего. Театром борьбы должна была сделаться линия Адидже, которой Бонапарт придавал большое значение. Эта река впоследствии сделалась театром столь замечательных событий, что следует несколько подробнее описать ее течение. Воды Тироля собираются в две почти параллельные соседние долины рек Минчио и Адидже. Одна часть их образует в горах большое продолговатое озеро – Гарду, откуда под названием Минчио течет по Мантуанской равнине, образует новое озеро около Мантуи и затем вливается в По. Река Адидже, образуемая водами верхних долин Тироля, течет выше предыдущей долины, идет в горах параллельно Гарде, выходит в долину в окрестностях Вероны, оттуда направляется параллельно Минчио широким и глубоким руслом до Леньяго, а в нескольких милях ниже разливается, образуя непроходимые заводи между Леньяго и Адриатикой. Неприятелю представлялись три пути: первый переходил на другой берег Адидже у Роверето, выше Гарды, шел по берегу озера и выходил в тыл французам на Сало, Гавардо и Брешию; два других пути от Роверето имели общую часть и шли левым берегом Адидже, сохраняя направление, параллельное Гарде, затем второй переходил на правый берег, проходил горы и выходил на равнину между Минчио и Адидже; а третий, следуя левым берегом, выходил у Вероны на равнину, перед фронтом оборонительной линии. Первый путь представлял то удобство, что обходил обе оборонительные линии Минчио и Адидже и вел в тыл обороняющемуся; но в то же время он был неудобопроходим и доступен лишь для горной артиллерии, а следовательно, им можно было воспользоваться для диверсии, но не как основным путем. Второй путь, спускаясь с гор, переходил на другой берег в Ривальте или Дольче, где обороняться было бы затруднительно, но затем он проходил горы у весьма удачных оборонительных позиций Да Короны и Риволи. Третья дорога, наконец, шла по берегу реки до самой середины равнины и упиралась в наиболее защищенную часть реки от Вероны до Леньяго. Итак, все три пути представляли значительные затруднения. Первый мог быть занят только отрядом; второй, между рекой и озером, встречал позиции Да Короны и Риволи; третий упирался в Адидже в том месте, где поток и широк, и глубок, и, кроме того, защищен двумя крепостями. Бонапарт оставил 3 тысячи человек в Сало под командованием генерала Соре; они должны были охранять дорогу у Гарды. Массена с 12 тысячами стал на дороге между озером и Адидже и занял Да Корону и Риволи. Депинуа с 5 тысячами стоял в окрестностях Вероны; Ожеро с 8-ю – в Леньяго. Кильмен с 2 тысячами кавалерии и конной артиллерией стоял в резерве на центральной позиции при Кастельнуово; последний пункт Бонапарт избрал и местом главной квартиры, так как он отстоял одинаково от Сало, Риволи и Вероны. Бонапарт придавал большое значение Вероне и в то же время не мог доверять намерениям Венеции, а потому он задумал удалить из Вероны славонские полки, представив к тому предлогом то, что они находились в неприязненных отношениях с французскими солдатами и, чтобы предупредить драки, следовало вывести их из города. Проведитор повиновался, и в Вероне остался один французский гарнизон. Вурмзер перенес свою главную квартиру из Тренто в Роверето. Он отправил 20 тысяч под началом Кваздановича на Сало, мимо Гарды, а сам с 40 тысячами направился по обоим берегам Адидже; часть его сил должна была атаковать позиции при Ла Короне и Риволи, а другая выйти против Вероны. Вурмзер рассчитывал таким образом обхватить французскую армию; атакованная с фронта на Адидже, а с тыла с Гарды, она рисковала не только быть разбитой, но и потерять линию отступления. Молва опередила прибытие Вурмзера. Его ожидали по всей Италии, и противники итальянской независимости не скрывали своей радости. Венецианцы не могли более сдерживать проявлений своего удовольствия. Славонские солдаты бродили по площадям и просили подачек у прохожих как цену за французскую кровь, которую они вскоре будут проливать. Уполномоченные Франции в Риме были оскорблены; папа, успокоенный надеждой близкого освобождения, велел вернуть повозки, которые везли первую часть контрибуции; он вновь послал своего легата в Болонью и Феррару. Наконец, безумный неаполитанский двор забыл все условия перемирия и двинул свои войска к границам Папской области. Страшное беспокойство царило в городах, преданных французам и свободе; там с нетерпением ждали вестей с Адидже. Пылкое воображение итальянцев еще больше преувеличивало диспропорцию сил. Утверждали, что Вурмзер идет с двумя армиями, одна в 60, а другая – в 80 тысяч человек. Спрашивали себя, каким образом горсть французов сможет устоять против таких сил, и повторяли знаменитое изречение об Италии, могиле французов.
Двадцать девятого июля (11 термидора) австрийцы подошли к французским передовым постам и захватили их врасплох. Отдельный корпус, обойдя озеро Гарду, подступил к Сало и вытеснил оттуда генерала Соре. Только генерал Гиё остался там с несколькими сотнями человек; он заперся в каком-то старом строении и не покидал его, хотя у него едва хватало патронов и вовсе не было ни хлеба, ни воды. Австрийцы наступали по обоим берегам Адидже с одинаковым успехом; между рекой и Гардой они завладели важной позицией при Ла Короне, прошли и по третьей дороге и вышли к Вероне. Бонапарт получал все эти известия в своей главной квартире при Кастельнуово. Один за другим к нему прибывали курьеры, и на следующий день он узнал, что австрийцы направились из Сало в Брешию и отступление на Милан, таким образом, отрезано; что французы выбиты и из Риволи, как и из Ла Короны; что, наконец, австрийцы перешли Адидже во всех пунктах. В подобных обстоятельствах, потеряв свою оборонительную линию и в то же время путь к отступлению, трудно было не колебаться. Это было первое испытание Бонапарта неудачей. Был ли он озадачен безмерностью опасности, или хотел разделить ответственность за смелое решение со своими генералами, только он в первый раз решился выслушать их мнение и собрал военный совет. Все генералы высказались за отступление; потеряв уже один путь во Францию, никто не находил благоразумным держаться дольше. Только Ожеро, для которого эти дни составили лучшее украшение жизни, настаивал на том, что следует попытать военной удачи. Он был молод и пылок, жизнь в предместьях научила его сильной и бесхитростной речи: Ожеро прямо заявил, что у него хорошие гренадеры, которые не отступят без сражения. Мало способный оценить средства, которые представляли взаимное положение армий и свойства местности, он вдохновлялся только своей храбростью и разогрел своим пылом гений Бонапарта. Бонапарт отпустил генералов, не высказав своего мнения, но план свой уже составил. Хотя оборонительная линия Адидже была форсирована, а линия Минчио и озера обойдена, тем не менее местность была настолько благоприятной, что представляла еще достаточно средств для человека талантливого и решительного. Два австрийских корпуса двигались по обоим берегам Гарды; они должны были соединиться у конца озера и тогда, числом 60тысяч, легко раздавили бы 30 тысяч французов. Последние, сосредоточившись ранее у конца озера, могли помешать соединению австрийцев; они могли раздавить 20 тысяч, обошедших озеро, а затем развернуться против 40 тысяч, стоявших между озером и Адидже. Но чтобы занять оконечность озера, следовало подтянуть туда все войска с низовьев Адидже и Минчио, отвести Ожеро из Леньяго, а Серюрье из-под Мантуи. Решиться на это значило принести большую жертву, потому что Мантую осаждали уже два месяца и к ней была подвезена значительная материальная часть войск; крепость уже была близка к сдаче, а предоставляя ей возможность снабдить себя припасали, теряли плод многих трудов и почти верную добычу. Бонапарт, однако, не поколебался и из двух важных целей сумел избрать важнейшую, которой и пожертвовал другою, – решимость верная, обличавшая не только великого полководца, но и великого человека. Не только на войне, но и в политике, во всех обстоятельствах жизни часто преследуют две цели, обеих хотят достигнуть разом и обе упускают. Бонапарт нашел в себе великую и редкую силу выбрать одну, пожертвовав другой. Он пожертвовал Мантуей и сосредоточился у оконечности озера Гарда. Немедленно были отправлены приказания: Ожеро – очистить Леньяго, Серюрье – оставить Мантую, обоим – сосредоточиться на верхнем Минчио. Ночью 31 июля Серюрье сжег свои лафеты, заклепал пушки, зарыл снаряды и затопил порох, спеша соединиться с действующей армией. Бонапарт, не теряя времени, решил наступать сначала на 20-тысячный корпус Кваздановича, дебушировавший через Сало, Гавардо и Брешию и угрожавший его сообщениям с Миланом; этот корпус более всего выдавался вперед и более всего был опасен. В тот же день, когда Серюрье покидал Мантую (31 июля), Бонапарт отошел назад, чтобы ударить по Кваздановичу; он перешел Минчио в Пескьере с большей частью своей армии. Ожеро перешел в Боргетто по тому же мосту, который был свидетелем славного дела при первом занятии реки. Для наблюдения за движением неприятеля, перешедшего Адидже, оставили арьергарды. Бонапарт приказал генералу Соре высвободить генерала Гиё, запершегося с тысячью семьюстами человек без хлеба и воды и геройски отбивавшегося в течение уже двух дней. Сам он решил идти на Донато, куда Квазданович уже направил одну дивизию. Ожеро же было приказано двинуться на Брешию и открыть сообщение с Миланом. Соре удалось освободить Гиё; он отбросил австрийцев в горы и захватил у них несколько пленных. При приближении Бонапарта к Донато австрийцы не дождались его атаки, а атаковали сами; после горячего дела французы отбросили неприятеля, вошли в Донато и взяли шестьсот пленных. Ожеро в это время двигался на Брешию, вступил в нее на следующий день без выстрела, освободил там нескольких французских пленных и принудил австрийцев отступить к горам. Квазданович, думавший застать врасплох тыл французской армии, был изумлен, встретив такие значительные силы, действующие с такой энергией. Хотя он и не потерпел особенно большого урона при Сало и Донато, но счел нужным остановиться и не ввязываться больше в драку, пока не узнает, что сталось с Вурмзером и главными австрийскими силами. Он остановился. Бонапарт, в свою очередь, прекратил наступление. Время было ему дорого: на этом пункте ему ни к чему было добиваться большого успеха. Достаточно было, что он смутил Кваздановича; теперь следовало вновь развернуться к Вурмзеру. Бонапарт опять отошел с дивизиями Массена и Ожеро; 2 августа он поставил дивизию Массена в Понте-Сан-Марко, а дивизию Ожеро – в Монтикьяри. Арьергарды, оставленные им на Минчио, превратились в авангарды. И пора было вернуться, потому что 40 тысяч Вурмзера перешли не только Адидже, но и Минчио. Дивизия Баялича, оставив отряд у Пескьеры, перешла Минчио и двигалась на Лонато. Дивизия Линтая также перешла Минчио в Боргетто и отбросила генерала Валетта от Кастильоне. Сам Вурмзер с двумя пехотными дивизиями и одной кавалерийской отправился снимать блокаду Мантуи. Обнаружив обгорелые лафеты, заклепанные пушки и все следы отступления, он увидел в них не расчет гения, а только последствия страха, крайне обрадовался и вступил триумфатором в крепость, освободителем которой являлся; это произошло 2 августа (15 термидора).
Возвратившись в Понте-Сан-Марко и Монтикьяри, Бонапарт более не останавливался. Его солдаты не делали привалов, сам он всё время оставался верхом: он решил начать сражение на следующий день утром. Перед французами находились Баялич в Лонато и Липтай в Кастильоне. Их необходимо было сбить прежде, чем Вурмзер возвратится из Мантуи. Соре вторично уступил Сало; Бонапарт опять послал туда Гиё отнять местечко и удерживать Кваздановича. Приняв эти меры на левом крыле и в своем тылу, Бонапарт решил идти на Лонато с Массена, а Ожеро двинуть на высоты Кастильоне, оставленные накануне генералом Валеттом. Он сменил последнего перед армией, дабы продемонстрировать своим подчиненным долг твердости. На следующий день, 3 августа, вся армия двинулась вперед; Гиё вступил в Сало и отделил таким образом Кваздановича от австрийской армии; Бонапарт двинулся на Лонато, но его авангард опрокинули, отняли несколько орудий. Баялич, гордясь своим успехом, самонадеянно двинулся вперед и охватил флангами французскую дивизию. Этим маневром он преследовал две цели: потеснить Бонапарта и, протянув свое правое крыло, соединиться с Кваздановичем, пушки которого он слышал в Сало. Бонапарт, не опасаясь за свой тыл, с невозмутимым хладнокровием позволяет окружить себя, затем берет 18-ю и 32-ю пехотные полубригады, поддерживает их драгунским полком и бросается на неприятельский центр, ослабленный и растянутый. Он опрокидывает всё и прорывает австрийскую линию. Австрийцы, разрезанные надвое, теряются; часть дивизии Баялича поспешно отступает к Минчио; другая, протянувшаяся к Кваздановичу, отходит к Сало, который уже занят Гиё. Бонапарт преследует австрийцев безостановочно, стараясь зажать их меж двух огней, и направляет на них Жюно с кавалерийским полком. Жюно пускается в галоп, собственноручно убивает шестерых всадников и падает раненый несколькими сабельными ударами. Бегущая австрийская дивизия, попавшая между французами, занявшими Сало, и преследовавшими ее со стороны Донато, рассеивается и обращается в беспорядочное бегство, оставляя на каждом шагу множество пленных. Бонапарт отправляется направо, туда, где с утра с замечательной храбростью сражается Ожеро, стараясь завладеть высотами, занятыми дивизией Липтая. После упорного, несколько раз возобновлявшегося боя храбрый генерал достигает своей цели, и по прибытии на поле сражения Бонапарт застает неприятеля, отступающего по всем направлениям. Таково было сражение при Донато, данное 3 августа (15 термидора). Результаты дня были значительны: у дивизии, разорванной и отброшенной на Сало, захватили три тысячи пленных и двадцать орудий и преследовали ее рассеянные остатки в горах; у Кастильоне неприятель потерял три тысячи убитыми и ранеными и от тысячи до полутора тысяч плечными; наконец, Квазданович был крайне смущен, обнаружив французскую армию прямо перед собой в Сало, он слышал ее теперь вдали, в Донато, и считал вездесущей. Дивизии Баялича и Липтая были практически дезорганизованы и отступили к Вурмзеру. Австрийский главнокомандующий прибыл с 15 тысячами подкрепления, дабы присоединить к себе обе разбитые дивизии, и стал размещать свои полки на равнине Кастильоне. На следующий день Бонапарт обнаружил его выстроившимся и готовым принять сражение и решил нанести неприятелю последний удар, который должен был определить участь Италии; но для этого требовалось притянуть к себе все свои свободные войска. Бонапарт отложил сражение на следующий день, 5 августа, а сам поскакал в Донато, чтобы лично поторопить движения войск. В течение нескольких дней под Бонапартом пало уже пять лошадей. Он никому не доверял исполнение своих приказаний; он желал сам всё видеть и во всем убедиться, всех воодушевить своим присутствием. Так великая душа сообщает свое дыхание множеству людей и наполняет их своим огнем. Бонапарт прибыл в Донато в середине дня. Его приказания уже исполнялись; часть войск двинулась на Кастильоне, другая – на Сало и Гавардо; в самом Донато оставалось не более тысячи человек. Как только Бонапарт вступил в городок, явился австрийский парламентер с требованием сдачи. Генерал сначала не мог понять, есть ли вероятность появления австрийцев; скоро, однако, дело объяснилось. Дивизия, накануне разорванная и отброшенная на Сало, была частично уничтожена; но отряд около четырех тысяч человек всю ночь бродил в горах и, найдя Донато почти оставленным, намеревался вступить в него, чтоб открыть себе дорогу на Минчио. У Бонапарта была под рукой только тысяча человек, а главное – ему и некогда было вступать в локальную битву. Он немедленно собрал вокруг себя всех офицеров, приказал привести парламентера и развязать ему глаза. Последний был изумлен, увидев такой многочисленный штаб. «Несчастный, – обратился к нему Бонапарт, – разве вы не знаете, что находитесь в присутствии самого главнокомандующего и что с ним здесь вся его армия? Ступайте и скажите своему генералу, что я оставляю на его совести личную обиду, которую он нанес мне требованием сдачи французской армии, и даю ему пять минут срока, чтобы сложить оружие». И Бонапарт отдал приказание двинуть артиллерию, угрожая немедленно открыть огонь против наступающих колонн. Парламентер отправился передать этот ответ, и четыре тысячи человек сложили оружие перед тысячей. Бонапарт, спасенный благодаря своему присутствию духа, отдал приказ двигаться дальше. Он подкрепил войска, действующие со стороны Сало; к дивизии Соре присоединили дивизию Депинуа, обе они, пользуясь нравственным превосходством победы, должны были атаковать Кваздановича и отбросить его в горы. Все остальные войска Бонапарт повел с собой в Кастильоне; он прибыл туда ночью и, переменив лошадь, ни минуты не отдыхая, отправился на поле сражения распоряжаться. Предстоящий день должен был решить судьбу Италии. Цепь хребтов, последних отрогов Альп, тянется от Кьезы к Минчио через Лонато, Кастильоне и Сольферино. У подножия их простирается равнина – поле сражения. Армии обоих противников стояли на равнине перпендикулярно хребтам, и каждая упиралась в них одним своим крылом: Бонапарт – левым, а Вурмзер – правым. У Бонапарта было немногим более 22 тысяч человек, у Вурмзера – около 30 тысяч. Последний имел еще одно преимущество: его крыло на равнине было прикрыто редутом на холме Медолано; таким образом, он был прикрыт с обеих сторон. Чтобы уравновесить эти преимущества – численности и положения, – Бонапарт рассчитывал на обаяние победы и искусство своего маневрирования. Вурмзер непременно растянет свое правое крыло, упирающееся в хребты, дабы этим открыть себе сообщение с Лонато и Сало. Так действовал третьего дня Баялич, то же должен был сделать и Вурмзер, все устремления которого клонились к одной цели – соединению со своим большим отрядом. Бонапарт не хотел препятствовать этому движению, которым, напротив, надеялся с успехом воспользоваться. Он мог теперь располагать дивизией Серюрье, которую по оставлении ею Мантуи всё время преследовал Вурмзер, и только теперь ей удалось соединиться с действующей армией. Она подходила через Гуидиццоло, и Бонапарт приказал Серюрье направиться к Кавриане, в тыл Вурмзера. Он ожидал выстрелов этой дивизии, чтобы открыть сражение.
С рассветом обе армии начали битву. Вурмзер передвигает свое правое крыло вдоль хребтов; Бонапарт, ожидавший этого движения, отводит свое левое крыло – дивизию Массена; центр его остается неподвижен на равнине. Вскоре он слышит пушки Серюрье и, отводя свое левое крыло, пока Вурмзер растягивает свое правое, приказывает атаковать редут Медолано. Сначала Бонапарт направляет на редут двадцать легких орудий, а обстреляв его, посылает генерала Вердье с тремя батальонами гренадеров взять его. Храбрый генерал, поддержанный кавалерийским полком, стремительно продвигается вперед и захватывает редут. Левое крыло австрийцев открывается, когда Серюрье наводит на них ужас в тылу. Тогда Вурмзер переводит часть своей второй линии на левое крыло и ставит его углом к фронту своего расположения, дабы встретить французские войска, выходящие из Медолано; остальную часть своей второй линии он отводит назад для защиты Каврианы. Бонапарт, выждав время со своим обычным глазомером и быстротою, приказывает своему левому крылу и центру перестать поддаваться и дает Массена и Ожеро столь ожидаемый ими сигнал. Массена слева, а Ожеро справа стремительно атакуют ослабленные австрийские линии; последним приходится выдерживать натиск французов спереди, сбоку и с тылу, они начинают уступать. Успех усиливает пыл французов. Вурмзер, видя затруднительное положение своей армии, подает сигнал общего отступления. Его преследуют и захватывают у него пленных; если бы только можно было гнать его до Минчио с большей быстротой, его отступление обратилось бы в полное поражение. Но войска уже шесть дней как не отдыхали и сражались без устали, они не могли идти далее и остались ночевать на поле сражения. Вурмзер в этот день потерял только две тысячи человек, но вместе с тем он потерял и Италию. На следующий день Ожеро направился к мосту Боргетто, а Массена к Пескьере. Ожеро начал канонаду, за которой последовало отступление австрийцев; Массена затеял арьергардную стычку с австрийской дивизией, оставленной у Пескьеры. Вурмзер очистил Минчио и отступил в Тироль по дороге на Риволи между Адидасе и Гардой. Массена последовал за ним до Риволи и Ла Короны и занял свои прежние позиции. Ожеро в это же время прибыл к Вероне. Венецианский проведитор, чтобы дать время австрийцам очистить город и спасти их имущество, просил двух часов на открытие городских ворот; Бонапарт велел их выбить. Жители Вероны, преданные Австрии и открыто выказывавшие враждебные чувства при отступлении французов, боялись раздражения победителя; но Бонапарт приказал ничем не обижать их и даже стараться заслужить их расположение. Квазданович между тем совершал отступление со стороны Сало и Кьезы, за озером Гарда. Он хотел остановиться и защищать дефиле Рокка-д’Анфо, но был разбит и потерял 1200 человек. Вскоре французы заняли все свои прежние позиции. Эта кампания продолжалась только шесть дней, и в течение такого короткого промежутка времени 30 с небольшим тысяч солдат заставили отказаться от борьбы 60 тысяч. Вурмзер потерял 20 тысяч человек: от 7 до 8 тысяч убитыми и ранеными и от 12 до 13 тысяч пленными; кроме того, он был отброшен в горы и лишен возможности продолжать кампанию. Такие необыкновенные и неслыханные в истории результаты были достигнуты благодаря быстроте и решительности молодого военачальника. Тогда как две грозные неприятельские армии покрывали оба берега озера Гарда и мужество французов колебалось, он сумел свести всю кампанию к разрешению одной задачи – помешать соединению неприятельских армий у оконечности озера. Он сумел решиться на великую жертву – снять блокаду Мантуи, чтобы, сосредоточившись на решительном пункте, последовательно нанести страшные удары неприятельским силам в Сало, Донато и Кастильоне. Он поочередно все их дезорганизовал и отбросил в горы. Австрийцы были в ужасе от Бонапарта, а французы – в восторге. Доверие и преданность к нему были безграничны; один батальон считал себя равным трем. Ветераны, назвавшие его капралом в Лоди, произвели его в сержанты в Кастильоне. Новости произвели на Италию глубокое впечатление: Милан, Болонья, Феррара, города герцогства Моденского и все друзья свободы радовались; напротив, горевали в монастырях и во всех семействах старинной аристократии; правительства Венеции, Рима и Неаполя, неосторожно высказавшие свои предпочтения, ужаснулись. Бонапарт, здраво обдумывая свое положение, не считал борьбу оконченной, хоть и лишил Вурмзера 20 тысяч человек. Старый маршал удалился за Альпы с 40 тысячами, чтобы их оправить, собрать, пополнить; следовало ожидать, что он вторгнется с ними в Италию еще раз. Бонапарт потерял несколько тысяч человек пленными, убитыми или ранеными, многих оставил в госпиталях; при своих довольно ограниченных средствах он находил необходимым выждать время, обратить внимание на Тироль и прочно держаться на Адидже, ограничиваясь лишь внушительным положением относительно итальянских держав и ожидая того времени, когда можно будет их наказать. Венецию он лишь уведомил, что до него дошли сведения о ее вооружении, и продолжал продовольствоваться за ее счет, всё еще откладывая переговоры о союзе. Его известили о прибытии в Феррару папского легата, назначенного вступить в управление легатствами; Бонапарт вызвал его в свою главную квартиру. Легат, кардинал Маттеи, пал к его ногам с возгласом «Ресcavi»[17]. Бонапарт отправил его под арест в семинарию и написал господину Азари, посреднику на переговорах с римским и неаполитанским дворами, жалуясь ему на несообразительность и недобросовестность папского правительства и объявляя свое намерение вскоре возвратиться, если его к тому принудят. В отношении неаполитанского двора Бонапарт выражался еще более резко. «Англичане, – писал он, – убедили неаполитанского короля, что он величина, я же докажу ему, что он ничего не значит. Если он будет продолжать упорствовать в неисполнении перемирия и вооружаться, я даю торжественное обещание перед лицом всей Европы пойти на его воображаемую 70-тысячную армию только с 6 тысячами гренадеров, 4 тысячами кавалерии и 50 пушками». Бонапарт отправил вежливое, но настойчивое письмо и герцогу Тосканскому, позволившему англичанам занять Портоферрайо; он говорил, что Франция могла бы наказать его за это небрежение, заняв его владения, и что он не делает этого только из старинной дружбы. Затем Бонапарт сменил гарнизон в Ливорно, дабы воздействовать на Тоскану видом передвижения войск. К Генуе он не обращался. Пьемонтскому королю, который терпел партизан в своих владениях, он послал резкое письмо и отправил туда летучую колонну в 1200 человек с временной военной комиссией, чтоб ловить и расстреливать мятежников, встречавшихся по дорогам. Население Милана выказывало к французам самые дружеские чувства; Бонапарт поблагодарил за это город в выражениях приличных и благородных. Его последние победы давали надежду сохранить Италию, и потому он решился принять на себя большие обязательства в отношении населения Ломбардии; он предоставил им право вооружаться и дозволил сформировать легион, в который завербовалось множество свободомыслящих итальянцев и поляков, странствующих по Европе после последнего раздела Польши. Бонапарт также изъявил свою признательность населению Болоньи и Феррары. Жители Модены просили избавления от регентства, устроенного их герцогом; хотя Бонапарт и имел повод разорвать перемирие вследствие того, что регентство доставляло продовольствие мантуанскому гарнизону, но он хотел выждать. Попросив у Директории подкреплений для пополнения своих потерь, он расположился у входов в Тироль, в готовности броситься на Вурмзера и уничтожить остатки его армии, как только узнает о переправе Моро через Дунай.
В то время как эти великие события совершались в Италии, другие созревали на Дунае. Моро, преследуя эрцгерцога, к первым числам августа (к середине термидора) прибыл на Дунай. Журдан стоял на Наабе, притоке Дуная. Швабские Альпы состоят из плоскогорий средней высоты, прорезанных узкими долинами, которые подобны расселинам в скале. Пройдя эти дефиле, Моро подошел к Дунаю и вступил в лесистую, изрезанную оврагами и пересеченную местность. Эрцгерцог, имевший намерение сосредоточиться на Дунае и опереться на эту сильную линию, принял внезапное решение, чуть было не разрушившее все его планы. Он узнал, что Вартенслебен, вместо того чтобы держаться главных сил, насколько возможно ближе к Донаувёрту, напротив, отступает на Богемию с крайне странным желанием прикрыть ее. Эрцгерцог испугался, что, пользуясь этим ошибочным движением, открывавшим Дунай, армия Самбры-и-Мааса может попытаться через него переправиться. Потому он сам решил перейти Дунай, быстро двинуться вниз по течению и, переправившись вторично, выйти навстречу Журдану. Но река была загромождена австрийскими складами, их нужно было убрать; кроме того, эрцгерцог не хотел переправляться в виду Моро, рискуя быть атакованным. Для исполнения своего намерения следовало отдалить от себя армию Моро, и эрцгерцог решил дать ему сражение, имея в тылу Дунай. Подобное намерение было весьма неосторожно, и он осуждал себя за него впоследствии: австрийцев могли отбросить в реку или им пришлось бы переходить ее с разбитой армией, что лишало эрцгерцога необходимого условия для успеха его дальнейших планов. Одиннадцатого августа (24 термидора) эрцгерцог Карл остановился перед позициями Моро с целью атаковать их. Главная квартира Моро находилась в Нересхайме, правое крыло – в Дишингене, центр – в Дунстелькингене, левое – в Нёрдлингене. Эрцгерцог желал прежде всего отдалить его от Дуная, затем, если будет возможно, отрезать от гор и, наконец, помешать его сообщениям с Журданом. Чтобы достичь всех этих целей разом, Карл атаковал Моро на всех пунктах. Ему удалось обойти правое крыло французов и рассеять фланкеров; он дошел до Хайденхайма, почти в самый тыл французов, и навел там такую панику, что все французские полки отошли назад. В центре эрцгерцог повел сильную атаку, которая, однако, не имела решительного результата. На левом крыле в Нёрдлингене были проведены устрашающие маневры. Моро не устрашился ни маневров против левого крыла, ни обхода правого; совершенно основательно полагая, что главная часть позиции – это центр, он поступил не так, как заурядные генералы, которые сейчас же теряются, как только им угрожают обходом: он ослабил свои фланги в пользу центра. Подход этот был совершенно верен: когда эрцгерцог возобновил свою атаку против центра в Дунстелькингене, то был отбит с потерями. Оба противника ночевали на поле сражения. На следующий день Моро находился в весьма затруднительном положении, не получая снарядов из-за отступления парков. Он, однако, решил ввести неприятеля в заблуждение и сделал вид, что хочет перейти в наступление. Однако эрцгерцог, спешивший переправиться за Дунай, не имел никакого намерения продолжать сражение; он в порядке отступил к реке, переправился через нее и разрушил все мосты до Донаувёрта. Здесь он узнал о взаимном положении армий на Майне. Вартенслебен не вступил, как он того боялся, в Богемию, а оставался против Журдана на Наабе. Тогда молодой австрийский принц составил прекрасный план, который мог решить судьбу кампании и был естественным результатом долгого отступления. Отступая на Дунай, он предполагал сосредоточиться на нем и нападать на любую из французских армий с превосходящими силами. Сражение при Нересхайме могло повредить такому плану, если бы оказалось неудачным; отступив же за Дунай невредимым, он мог воспользоваться разъединением французских армий и двинуться на одну из них. Эрцгерцог оставил генерала Латура с 36 тысячами занимать Моро, а сам с 25 двинулся в сторону генерала Вартенслебена, дабы вместе с ним раздавить Журдана. Армия последнего была чрезвычайно слаба; на столь значительном расстоянии от своего опорного пункта она едва доходила до 45 тысяч человек. Она явно не смогла бы выдержать натиска и подвергалась большой опасности. Если бы Журдан был разбит и отброшен на Рейн, Моро, со своей стороны, не мог бы оставаться в Баварии, и эрцгерцогу удалось бы занять долину Неккара. Этот верный план рассматривался как наилучший, которым могли похвалиться австрийские генералы в течение долгих революционных войн; так же как и планы, проявившие гений Бонапарта в Италии, он принадлежал совсем еще молодому человеку.
Пять дней спустя после сражения при Нересхайме, 16 августа (29 термидора), эрцгерцог вновь вышел на левый берег реки при Инголынтадте. Журдан, расположившийся на Наабе, между Наббургом и Швандорфом, не замечал туч, нависших над его головой. Он отделил от себя в Ноймаркт генерала Бернадотта для поддержания связи с Моро – цель невозможная и без нужды подвергавшая опасности этот отряд. Бернадотт, атакованный превосходными силами австрийцев, доблестно защищался, но был вынужден отступить за горы, отделяющие долину Майна от Дуная, и отойти к Нюрнбергу. Эрцгерцог отделил корпус для его преследования, а с остальными силами направился к Журдану. Последний, уведомленный о прибытии к австрийцам подкреплений, об опасности, какой подвергся Бернадотт, и об отступлении его за горы, также решил перейти их. В самом начале похода он был атакован эрцгерцогом и Вартенслебеном, и ему пришлось выдержать тяжелое сражение при Амберге, потеряв возможность отступления к Нюрнбергу. Отброшенный со своими парками, кавалерией и пехотой на окольные дороги, Журдан в течение восьми дней совершал весьма затруднительное и опасное отступление, делающее честь как ему, так и его войскам. Двадцать девятого августа (12 фрюктидора) он прибыл к Швейнфурту на Майне, откуда предполагал двинуться на Вюрцбург, остановиться там, собрать силы и вновь попытать удачи. Совершая образцовое наступление на армию Самбры-и-Мааса, эрцгерцог Карл доставлял Моро случай совершить подобное же, столь же прекрасное и решительное. Нельзя исполнить смелого маневра, не открываясь где-нибудь и не представляя хороших шансов своему противнику. Перед Моро было только 38 тысяч человек, которых он мог легко разбить, если бы действовал хоть сколько-нибудь решительно. Мало того (по мнению Наполеона и эрцгерцога), он мог бы выполнить маневр, результаты которого были бы неисчислимы. Ему следовало самому последовать за эрцгерцогом, напасть на него так же, как он на Журдана, и появиться у него в тылу. Тогда бы положение самого эрцгерцога, поставленного между Журданом и Моро, стало крайне опасным. Но для этого нужно было рассчитать обширное движение, вдруг изменить свою операционную линию и перейти с Неккара на Майн; а главное – следовало отступить от инструкций Директории, которые предписывали опираться на Тироль, дабы обойти неприятельский фланг и открыть сообщение с Итальянской армией. Молодой победитель при Кастильоне не поколебался бы перед этим, оказал бы неповиновение, которое победоносно закончило бы кампанию, но Моро был неспособен на такую решимость. Он несколько дней пробыл на берегах Дуная, не зная об отбытии эрцгерцога, и медленно разведывал местность, тогда еще мало известную. С получением известий о движении эрцгерцога, Моро стал беспокоиться за положение Журдана, но не осмелился принять никакого смелого решения; он хотел перейти Дунай и направиться в Баварию, надеясь таким путем отвлечь на себя эрцгерцога и в то же время не отступить от плана Директории. Можно было, однако, легко видеть, что эрцгерцог не отойдет от Журдана, не разбив его окончательно, и не отступит от выполнения обширного плана из-за вторжения французов в Баварию. Тем не менее Моро перешел за Дунай и вслед за Латуром подошел к Леху. Латур пытался было оспаривать переправу, но не имел возможности защищать реку на таком большом протяжении, а потому после несчастного для него сражения при Фридберге отступил. Моро подошел к Мюнхену и 1 сентября находился у Дахау, Пфаффенхофена и Гайзенфельда.
Было уже сказано, что Бонапарт, отбросив австрийцев в Тироль и заняв свои прежние позиции на Адидже, обдумывал новый план военных действий против Вурмзера: ему недостаточно было лишить австрийского военачальника 20 тысяч человек; следовало уничтожить всю армию. Последнее было необходимо для осуществления замыслов в Италии: уничтожив Вурмзера, Бонапарт мог совершить нападение на Триест и разорить порт, имеющий такое значение для Австрии; затем вернуться на Адидже и менять законы Венеции, Рима и Неаполя, чье злорадство было столь явным; затем подать сигнал свободы всей Италии, образовав из Ломбардии, Болоньи, Феррары и, возможно, герцогства Моденского независимую республику. Для выполнения всех этих планов Бонапарт решил вступить в Тироль, обезвреженный теперь поддержкой Моро с другого склона Альп. В продолжение двадцатидневного отдыха французских войск Вурмзер реорганизовал и подкрепил свою армию. Новые отряды, прибывшие из Австрии, и тирольское ополчение позволили ему довести армию до 50 тысяч человек. Придворный совет прислал другого начальника штаба, инженерного генерала, с инструкциями касательно плана, которому собирались следовать, чтобы отбить у французов линию Адидже. Вурмзер должен был оставить от 18 до 20 тысяч под командованием Давидовича для охранения Тироля, с остальными же спуститься долиной Бренты на равнины Виченцы и Падуи, а оттуда двинуться к Адидже и попытаться перейти через него между Вероной и Леньяго. План этот был не лучше предыдущего: он по-прежнему разделял действующие силы на две части, между которыми находился Бонапарт. Вурмзер начал военные действия одновременно с Бонапартом. Последний ничего не знал о планах австрийского военачальника, но с замечательной прозорливостью предвидел, что во время его наступления на Тироль неприятель может попытаться прорвать линию Адидже между Вероной и Леньяго; в виду этого он оставил в Вероне генерала Кильмена с резервом около 3 тысяч человек и всеми необходимыми средствами для защиты города по крайней мере в течение двух дней. Генерал Со те был оставлен около Мантуи с дивизией в 8 тысяч человек. Бонапарт двинулся с 28 тысячами и поднимался в Тироль тремя дорогами: одной – сзади озера Гарда и двумя вдоль Адидже. Третьего сентября (17 фрюктидора) дивизия Вобуа, бывшая Соре, обойдя озеро и поучаствовав в нескольких стычках, дошла до Торболе, у верхней оконечности озера. В тот же день дивизии Массена и Ожеро, шедшие по разным берегам Адидже, вышли на берег и подошли к Серравалле. Они поучаствовали в деле и захватили нескольких пленных. Теперь французам предстояло подниматься по узкой и глубокой долине: слева от них была Адидже, справа – высокие горы. Зажатая горами долина реки часто ограничивалась только полотном дороги. Подобные страшные теснины в Тироле уже становились привычными для французов; смелые и ловкие, они так же годились для этой войны, как и для славных сражений на обширных мантуанских равнинах. Давидович поставил одну из своих дивизий в лагере Мори, на правом берегу Адидасе, против дивизии Вобуа, а другую – в Сан-Марко, на левом берегу, она защищала дефиле от Массена и Ожеро. Четвертого сентября французы подошли к австрийским позициям. Бонапарт с главными силами наступает на дивизию Вукасовича, занимавшую дефиле Сан-Марко; он немедленно избирает способ действий, соответствующий местным условиям, – рассыпает вправо и влево, на окружающие высоты, два отряда легкой пехоты, затем, заняв на некоторое время австрийцев, строит 18-ю полубригаду в сомкнутую колонну побатальонно и приказывает генералу Виктору завладеть с нею дефиле. Завязывается жестокая битва; австрийцы сначала стойко выдерживают натиск, но Бонапарт решает дело, послав в атаку генерала Дюбуа с гусарами. Храбрый генерал налетает на австрийскую пехоту, сминает ее и падает, простреленный тремя пулями. Его выносят с поля сражения умирающим. «Перед тем как я умру, – говорит он Бонапарту, – известите меня, если мы победим». Австрийцы повсюду бегут к Роверето, который лежит в одном лье от Марко; их преследуют также бегом. Роверето находится на некотором расстоянии от Адидже; Бонапарт направляет Рампона с 32-й полубригадой стать между городом и рекой, Виктора же с 18-й – на самый город. Последний врывается с барабанным боем на главную улицу Роверето, опрокидывает австрийцев и доходит до другой оконечности города в то самое время, как Рампон обходит город снаружи. Между тем как главные силы завладели Сан-Марко и Роверето, дивизия Вобуа подошла в Роверето с другого берега Адидже. Австрийская дивизия Рейсса пыталась защищать лагерь Мори, но Вобуа немедленно завладел им; к середине дня все дивизии собрались на высотах Роверето, по обоим берегам реки. Им еще оставалась труднейшая часть задачи. Давидович присоединил обе дивизии к своему резерву в дефиле Каллиано, еще более непроходимом, чем Сан-Марко. В этом месте Адидже оставляла между своим руслом и подножием гор совсем узкое пространство. Вход в дефиле защищал замок Пьетра, запиравший проход и снабженный артиллерией. Бонапарт, придерживаясь прежней тактики, посылает свою легкую пехоту вправо на гору и влево по берегам реки. Солдаты, уроженцы Роны, Сены и Луары, равняются своей ловкостью и смелостью альпийским стрелкам: одни карабкаются со скалы на скалу, взбираются на вершину горы и поражают неприятеля навесным огнем; другие, не менее бесстрашные, пробираются вдоль реки и обходят замок. Генерал Даммартен весьма удачно ставит легкую батарею – и замок взят. Тогда пехота проходит через него и бросается сомкнутой колонной на австрийские войска, столпившиеся в дефиле. Артиллерия, кавалерия и пехота смешиваются и бегут в страшном беспорядке. Молодой Лемаруа, адъютант главнокомандующего, хочет задержать австрийцев, бросается в галоп с пятьюдесятью гусарами, пробирается через австрийские силы и, развернувшись, старается их удержать. Его сбрасывают с лошади, но тем не менее ему удается распространить ужас в рядах австрийцев и дать время нашей кавалерии подоспеть и захватить несколько тысяч пленных. Так закончился ряд битв, отдавших в руки французской армии дефиле Тироля, город Роверето, всю австрийскую артиллерию и четыре тысячи пленных, не считая убитых и раненых. Бонапарт назвал этот день сражением при Роверето. На следующий день французы вступили в Тренто, столицу итальянского Тироля. Епископ бежал из города. Бонапарт, дабы успокоить население, преданное Австрийскому дому, обратился к жителям с прокламацией, в которой предлагал сложить оружие и не начинать неприязненных действий против французских армий, обещая, в свою очередь, что собственность и общественные учреждения не будут тронуты. Вурмзера в Тренто уже не было. Бонапарт застал его как раз в то время, когда он выступил для выполнения своего плана. Вторжение французов в Тироль и, может быть даже, перспектива открыть таким образом сообщение с Германией нисколько не встревожили Вурмзера, он продолжал спускаться по Бренте, дабы завладеть линией Адидже, окружить французов и отрезать от Мантуи. Он выступил третьего дня и теперь уже должен был быть в Бассано. Бонапарт немедленно принял весьма смелое решение – оставить Вобуа охранять Тироль, а самому направиться вслед за Вурмзером в ущелья Бренты. Он мог взять с собой 20 тысяч человек, у Вурмзера их было 30 тысяч; Бонапарт мог оказаться запертым в страшных ущельях, если бы Вурмзер повернулся к нему и устоял; он мог, наконец, прибыть в тыл Вурмзеру слишком поздно, и тот успел бы форсировать Адидже: всё это было возможно. Но 20 тысяч французов стоят и 30; если Вурмзер вздумает удержать их и запереть в ущельях, то его сомнут и опрокинут; если французам нужно будет сделать двадцать лье, то они их сделают в два дня и выйдут на равнину одновременно с Вурмзером. Тогда Бонапарт отбросит его или на Триест, или на Адидже: если на Триест, то будет гнать перед собой и сожжет этот порт на глазах австрийцев; если на Адидже, то запрет Вурмзера между рекой и своей армией и окружит неприятеля, который сам хотел его захватить в Тироле. Этот молодой человек, мысль и воля которого были подобны молнии, приказал Вобуа, в самый день его прибытия в Тренто, направиться к местечку Лавис и отнять эту позицию у арьергарда Давидовича. Он заставил исполнить это на своих глазах, затем указал Вобуа позиции, которые тот должен защищать со своим десятитысячным корпусом, и с двадцатью другими тысячами отправился в ущелья Бренты. Бонапарт выступает 6 сентября и ночует в Левико. На следующий день утром он входит в новое дефиле, Примолано, потому что Вурмзер оставил там дивизию. Бонапарт применяет тот же маневр – рассыпает застрельщиков по высотам и по берегу Бренты, затем атакует на дороге колонной. Дефиле взято. У его выхода расположен небольшой форт, и им завладевают также. Несколько храбрецов заходят во фронт убегающим и дают армии время подоспеть и взять пленных, еще три тысячи. Вечером приходят в Чисмоне, сделав за два дня двадцать лье. Бонапарт желал бы уйти и дальше, но солдаты не могут двигаться: они измучены; он опередил свою главную квартиру, у него нет с собой ни свиты, ни пищи; он разделяет казенный сухарь с солдатом и ложится, с нетерпением ожидая рассвета. Этот стремительный и неожиданный марш поразил Вурмзера. Он никак не мог понять, как его противник бросился в ущелья, рискуя быть в них запертым; Вурмзер предположил воспользоваться позицией при Бассано у выхода из гор и заградить Бонапарту путь всей своей армией. Он уже послал к Вероне дивизию Мессароша, но теперь отозвал ее, чтобы дать сражение со всеми имеющимися у него силами; однако было маловероятно, что приказание дойдет вовремя. Город Бассано лежит на левом берегу Бренты, с правым он сообщается посредством моста. Вурмзер поставил дивизии Зеботтендорфа и Кваздановича по обоим берегам Бренты прямо перед городом, а шесть батальонов – авангардом перед Бассано у выхода в долину.
Восьмого сентября утром Бонапарт выступил из Чисмона и двинулся на Бассано. Массена шел по правому берегу, Ожеро по левому. Дефиле взяли и вышли напротив неприятельской армии. Солдаты Вурмзера, смущенные смелостью французов, дрались уже не с прежней храбростью, они заколебались, пришли в расстройство и отошли в Бассано. Ожеро приблизился к входу в город. Массена на противоположном берегу хотел проникнуть в город по мосту; он взошел на него сомкнутой колонной, как при Лоди, и вступил в город одновременно с Ожеро. Вурмзер, главная квартира которого находилась в черте города, едва успел спастись, оставив четыре тысячи пленных и огромные запасы. Таким образом, план Бонапарта осуществился; он вышел на равнину одновременно с Вурмзером, и теперь ему оставалось окружить австрийскую армию и припереть ее к Адидже. Вурмзер в беспорядке торопливого сражения оказался оторван от остатков дивизии Кваздановича: они отступили к Фриулю, он же потерял этот путь отступления, так как дивизии Массена и Ожеро загородили ему дорогу; тогда он решил взять с боя линию Адидже и запереться в Мантуе. По присоединении к нему дивизии Мессароша, тщетно пытавшейся овладеть Вероной, во всей австрийской армии оставалось не более восьми тысяч пехоты и шести тысяч превосходной кавалерии. Вурмзер начал искать переправы вдоль Адидже. На его счастье, отряд, занимавший Леньяго, был отозван к Вероне, а другой ему на смену подойти еще не успел. Пользуясь случаем, Вурмзер занял Леньяго и, не сомневаясь больше в возможности дойти до Мантуи, дал отдых своим измученным войскам. Бонапарт неотступно следовал за австрийцами и был жестоко озадачен, узнав о небрежности, которая спасла Вурмзера. Однако он всё еще надеялся опередить его в Мантуе. Дивизия Массена направилась на другой берег Адидже, откуда она должна была следовать в Сангинетто и заградить дорогу в Мантую. Ожеро двинулся на Леньяго. Авангард Массена вступил в Череа в то самое время, когда туда подошел Вурмзер со своим корпусом. Авангард этот состоял из кавалерии и легкой пехоты; несмотря на геройскую оборону, он был опрокинут: Вурмзер прошел через него и продолжал свое движение. Бонапарт вскачь прилетел на место, чуть не был взят в плен и едва спасся. Вурмзер миновал Сангинетто; узнав, что ближайшие к нему мосты разрушены, он спустился к уцелевшему в Виллимпенте, перешел там реку и продолжал марш на Мантую. Эти успехи смягчили неудачи храброго маршала. Он разместил свои войска в окрестностях Мантуи и держался некоторое время в поле благодаря многочисленной и прекрасной кавалерии. Бонапарт, в бешенстве из-за небрежности своих подчиненных, напрягал последние силы, чтобы настичь Вурмзера. Ожеро вступил в Леньяго и взял в плен австрийский гарнизон в шестьсот человек. Бонапарт приказал ему двинуться на Говерноло, в нижнем Минчио. Мелкими стычками он старался выманить Вурмзера из крепости; в ночь на 15 сентября он занял позицию, чтобы привлечь Вурмзера на равнину. Обольщенный легкими успехами, старый генерал вышел из Мантуи и развернул свои войска между цитаделью и предместьем Сан-Джорджио. Бонапарт атаковал его 19 сентября. Ожеро, прибывший из Говерноло, стоял на левом крыле, Массена составлял центр, наконец, Кильмен с блокадным корпусом находился на правом крыле. У Вурмзера имелась еще 21 тысяча человек. Он был сбит повсюду и отброшен в крепость с потерей двух тысяч человек. Несколько дней спустя он окончательно заперся в Мантуе. Многочисленная кавалерия была ему более не нужна: она только увеличивала число бесполезных ртов; Вурмзер приказал убить и засолить всех лошадей. Весь гарнизон доходил до 20 с лишним тысяч человек, из которых было несколько тысяч больных. Таким образом, хотя Бонапарт и потерял частично плоды своего смелого марша на Бренту, тем не менее он совершенно рассеял армию австрийцев и лишил их всякой возможности действовать в открытом поле. Несколько тысяч Давидовича были отброшены в Тироль; несколько тысяч Кваздановича бежали во Фриуль; Вурмзер с 12 или 14 заперся в Мантуе; 13 или 14 тысяч были взяты в плен, 6 или 7 тысяч убиты или ранены. Таким образом, австрийская армия в течение десяти дней потеряла около 20 тысяч человек, не считая значительного количества военных запасов. Теперь к армиям Колли и Больё, уничтоженным при вступлении в Италию, следовало прибавить еще армию Вурмзера, разбитую двукратно – сначала на равнинах Кастильоне, затем на берегах Бренты. К трофеям Монтенотте, Лоди, Боргетто, Лонато, Кастильоне следовало присоединить трофеи Роверето, Бассано и Сан-Джорджио. Летописи военной истории еще не представляли таких великих результатов в столь короткий промежуток времени; столько убитых, пленных, знамен и отнятых пушек! Вести с театра войны очень обрадовали Ломбардию и привели в ужас население полуострова. Франция была в восторге от главнокомандующего Итальянской армией.
Наше оружие было менее счастливо на других театрах войны. Как уже было сказано, Моро двинулся к Леху в надежде опасениями за Баварию отвлечь эрцгерцога и освободить Журдана. Надежда эта была малоосновательна; эрцгерцог весьма дурно понимал бы значение своего маневра, если бы вместо выполнения его против Журдана напал бы на Моро. Вся кампания зависела от событий на Майне. Если бы Журдан был разбит и отброшен на Рейн, то все успехи Моро только ухудшилибы его положение и лишили пути к отступлению. Эрцгерцог ограничился тем, что отправил генерала Науендорфа с двумя полками кавалерии и несколькими батальонами на подкрепление Латура, сам же продолжал преследование армии Самбры-и-Мааса. Храбрая армия отступала с горьким чувством, но сохраняя сознание своей силы и прежних заслуг: ведь именно она совершила славнейшие подвиги в первые кампании революции; это она сражалась при Ватиньи, Флёрюсе, на берегах Урта и Рура. Армия уважала своего генерала и доверяла ему. Отступление не заставило ее пасть духом; она была убеждена, что отступала лишь перед высшими соображениями и превосходством неприятельских сил. Солдаты горячо ждали случая померяться силами с австрийцами и восстановить честь своего знамени. Того же желал и Журдан. Директория писала ему, что следует во что бы то ни стало удержаться во Франконии и в верховьях Майна, дабы занять зимние квартиры в Германии и не открыть тыла Моро, дошедшего до самых ворот Мюнхена. Моро, в свою очередь, извещал Журдана о своем марше за Лех, о своих успехах и намерении идти далее и притянуть к себе тем эрцгерцога. Все эти основания побудили Журдана попытать удачи, хотя его противник и имел значительно превосходящие его силы. Он считал делом чести не оставлять Франконии без сражения и не лишать поддержки своего товарища в Баварии. Введенный, кроме того, в заблуждение движением генерала Науендорфа, Журдан думал, что эрцгерцог отправился к берегам Дуная. Он остановился в крепости Вюрцбург, сохранить которую считал весьма важным, хотя французы заняли только одну цитадель. Журдан дал отдохнуть своим войскам, сделал некоторые перемены в составе и командовании дивизий и затем высказал намерение принять сражение. Перед сражением армия с большой готовностью рвалась отбить у неприятеля позиции, которые Журдан считал необходимым занять. Правое крыло его упиралось в Вюрцбург, все же расположения тянулись по Майну до Швайнфурта. От австрийцев Журдан отделялся Майном; только часть их перешла эту реку, что еще более убеждало французского генерала в мысли, что эрцгерцог отправился к Дунаю. Он оставил на оконечности своих расположений, в Швайнфурте, дивизию Лефевра, дабы обеспечить себе отступление на Зале и Фульду, если вследствие проигранного сражения потеряет возможность отступить на Франкфурт. Подобным распоряжением Журдан лишал себя второй линии и резерва, но он считал необходимым пожертвовать ими, дабы обеспечить отступление. Он решил атаковать 3 сентября (17 фрюктидора) утром. В ночь на 3-е число, уведомленный о намерениях своего противника, эрцгерцог поспешно перевел остальную часть армии за Майн и развернул перед Журданом значительно превосходящие его силы. Вначале сражение было успешным для французов, но их кавалерию на равнинах опрокинула мощная австрийская кавалерия; французские кавалеристы было собрались опять, но опять были смяты и нашли спасение только за строем своей пехоты и ее огнем. Если бы резерв Журдана не был так далек, французы могли бы еще одержать победу; Журдан посылал к Лефевру офицеров, но им преграждала путь австрийская кавалерия. Он еще надеялся, что Лефевр, видя, что Швайнфурту ничего не угрожает, сам придет на звук выстрелов, но ожидания его оказались напрасны; тогда Журдан отступил, чтобы скрыть свою армию от грозной неприятельской кавалерии. Он в порядке отступил к Арнштайну; оттуда уже требовалось вести свою армию на реку Лан. Журдан продолжал движение и приказал Марсо отступить от Майнца; 10 сентября он стал за рекою Лан. В течение всего сложного отступления армия Журдана потеряла только от 5 до 6 тысяч человек. Она понесла чувствительную утрату в лице молодого Марсо, смертельно раненого пулей тирольского стрелка. Эрцгерцог Карл, в руках которого оказался Марсо, окружил его своими попечениями, но несчастный вскоре умер. Молодого героя оплакивали обе армии и проводили его в могилу артиллерийскими залпами.
В то время как всё это происходило на Майне, Моро за Дунаем и Лехом с нетерпением ожидал известий от Журдана. Никто из посланных им офицеров не возвращался. Он бродил ощупью, не смея ни на что решиться. Между тем его левое крыло выдержало тяжелый бой с кавалерией Латура, которая, соединившись с кавалерией Науендорфа, дебушировала из Лангенбрука. Благодаря верным и быстрым распоряжениям Дезе многочисленные неприятельские эскадроны были рассеяны по равнине и отброшены со значительным уроном. Моро, по-прежнему пребывая в нерешительности, решил наконец, после трехнедельной задержки, начать движение, чтобы хотя бы прояснить положение дел: он хотел приблизиться к Дунаю, протянуть левое крыло до Нюрнберга и получить известия от Журдана или подать ему помощь. Десятого сентября (24 фрюктидора) Моро перевел за реку левое крыло и центр, оставив на правом берегу только правое крыло, левое же выдвинул до Айхштадт. В подобном странном положении он приближался к Журдану, который находился на расстоянии шестидесяти лье; центр его был на Дунае, правое крыло – за рекой; все три корпуса подвергались риску поражения, если бы Латур сумел воспользоваться их разбросанностью. Все специалисты осуждали Моро за такое движение как за одну из полумер, которые сопряжены со всеми опасностями мер решительных, не имея притом ни одной из их выгод. Выждав четыре дня в таком странном положении, Моро почувствовал наконец его опасность и перевел всю свою армию на правый берег Дуная, с тем чтобы отступить вверх по течению и приблизиться к своему опорному пункту. Он уже узнал о вынужденном отступлении Журдана на Лан и не сомневался, что, отбросив Журдана на эту реку, эрцгерцог поспешил к Неккару заградить путь отступления на Рейн и его армии. Вместе с тем Моро узнал о попытке гарнизона Мангейма разрушить мост в Келе, по которому французская армия вступила в Германию. В подобных обстоятельствах он более не колебался и начал отступление. Положение его было опасным: дабы возвратиться во Францию, он должен был в середине Баварии перейти Шварцвальд, достичь берега Рейна, имея за собой в тылу Латура с 40 тысячами, а впереди – эрцгерцога Карла с 30 тысячами; можно было ожидать худшего. Но если Моро и не имел обширного и пылкого гения, который проявлял его соперник в Италии, то он обладал характером твердым и невозмутимым в опасности и командовал великолепной более чем 60-тысячной армией, нравственный дух которой не был поколеблен ни одним поражением и которая питала к своему вождю полное доверие. Взвесив имевшиеся средства, Моро не устрашился затруднительности положения и решил спокойно повернуть назад: он пошел в сторону Рейна вверх по течению Дуная. Дефиле Шварцвальда, далекие от расположения эрцгерцога, он находил более безопасными. Парки и обозы шли впереди армии, а арьергарды каждый день мужественно отражали нападения неприятельских авангардов. Латур, вместо того чтобы переправиться за Дунай и опередить Моро у входов в дефиле, следовал за ним, не решаясь всерьез задержать его. Моро остановился в окрестностях озера Федерзее, недалеко от Бибераха. Войска Латура были разделены на три корпуса: первый, Науендорфа, – в Тюбингене, в верхнем течении Неккара, второй под его личным командованием – в Биберахе, а третий значительно дальше – в Шуссенриде. Местность около Бибераха гориста, покрыта лесами и изрезана долинами. Латур занял позицию на высотах, которые легко могли быть обойдены, а сверх того в тылу позиции пролегала глубокая лощина под названием Рисе. Моро атаковал его на всех пунктах и сумел мастерски проникнуть за позиции, то овладевая ими с фронта, то обходя их; он теснил австрийского генерала, сбросил его в Рисе и взял четыре тысячи пленных. Важная победа под Биберахом заставила Латура отойти и весьма подняла дух французской армии. Моро возобновил движение и приближался к входам в дефиле; он уже миновал дороги, выходящие к Рейну долиной Неккара; ему оставались дороги на Тутлинген и Ротвайль, у самых истоков Неккара, откуда они следуют далее к Келю; но их уже занимал Науендорф, его подкрепили отряды из Мангейма, к нему же подходил и эрцгерцог. Моро предпочитал подняться выше и перейти Шварцвальд через долину Хелленталь; так он делал крюк, но выходил к Рейну у Брайзаха, на значительном расстоянии от эрцгерцога. Дезе и Ферино с правым и левым крылом должны были занять Тутлинген и Ротвайль и прикрывать от главных австрийских сил выходы из ущелий, центр же под командованием Сен-Сира должен был завладеть долиной Хелленталь. Парки Моро послал на Гюнинген. Австрийцы окружили французскую армию массой мелких отрядов, надеясь таким образом ее отрезать, но эти отряды нигде не смогли удержаться. Сен-Сир встретил в долине Хелленталь лишь незначительный отряд, без затруднения прибыл в Нойштадт, а оттуда во Фрейбург. Оба крыла последовали за ними и вышли из страшного ущелья в долину Рейна скорее как победоносная армия, а не как отступающая. Моро прибыл на Рейн 12 октября (21 вандемьера). Вместо того чтобы переправиться через реку в Брайзахе и оттуда следовать французским берегом до Страсбурга, Моро предпочел, в виду всей неприятельской армии, двинуться правым берегом к Келю. Хотел ли он продемонстрировать, что не боится неприятеля, или надеялся удержаться на правом берегу и прикрыть Кель – все-таки этих оснований было недостаточно, чтобы рисковать сражением. Идти против всей армии эрцгерцога навстречу генеральному сражению с Рейном в тылу было непростительной неосторожностью, ведь не имелись в виду ни наступательный образ действий, ни необходимость прикрывать отступление. Обе армии встретились 19 октября на берегах Эльца от Вальдкирхена до Эммендингена. После кровавого сражения Моро убедился в невозможности дальнейшего движения к Келю правым берегом и в необходимости переправиться через Рейн в Брайзахе. Желая, однако, скорее послать в Кель подкрепления и опасаясь скопления войск на одном мосту, Моро приказал переправиться в Брайзахе только Дезе с левым крылом армии, сам же с центром и правым крылом вернулся к Гюнингену. Это распоряжение оказалось столь же неосторожным, как и сражение при Эммендингене. Правда, Моро рассчитывал на прекрасную позицию при Шлингене, защищавшую выход к Гюнингену, на которой он мог принять сражение, дабы обеспечить себе более верное и спокойное отступление. Моро 24 октября отошел к Шлингену и дал сложное и продолжительное сражение. Доставив своим обозам возможность перейти реку в течение дня сражения, он очистил позицию ночью, перешел на левый берег и направился к Страсбургу.
Так закончилась эта знаменитая кампания и еще более знаменитое отступление. Результат кампании достаточно убеждает в ложности ее плана. Если бы, как доказали Наполеон, эрцгерцог Карл и генерал Жомини, Директория вместо двух армий, преследовавших каждая отдельно странную цель – стратегический обход неприятельского фланга, образовала одну армию в 160 тысяч человек, от которой отделила бы 50 тысяч на осаду Майнца, остальные же силы заставила вторгнуться в Германию, направив с Рейна к Дунаю, то, несомненно, неприятельские армии не в состоянии были бы сосредоточиться и отступили бы; прекрасный план эрцгерцога сделался бы невозможен и республиканское знамя дошло бы до Вены. При осуществлении же плана Директории Журдан как бы приносился в жертву. Только Моро с его прекрасной армией мог частично исправить ошибки плана, поспешив или раздавить неприятеля после переправы при Киле, или двинуться на эрцгерцога, когда тот напал на Журдана. Моро не осмелился и не сумел всего этого сделать; но если он и не выказал искры гения, если решительному и победоносному маневру он предпочел отступление, то по крайней мере при исполнении его выказал характер и редкую твердость. Без сомнения, отступление не было столь опасно, как о нем рассказывали, но тем не менее оно было выполнено образцовым образом. Ошибочный план кампании внушил молодому эрцгерцогу счастливую мысль, которую он и выполнил; но, как и Моро, ему недоставало того пыла и смелости, которые могли сделать ошибку французского правительства вполне пагубной для его армий. Совсем иное случилось бы, если бы с той или другой стороны находился гений, уже уничтоживший три армии на Альпах. Если бы 70 тысяч Моро после переправы их у Келя и имперцы, когда они оставляли Дунай и шли на Журдана, действовали с такой же стремительностью, пример которой был показан в Италии, то, очевидно, война была бы окончена немедленно и весьма пагубно для одной из держав. Эта кампания составила молодому эрцгерцогу Карлу репутацию в Европе. Во Франции были крайне признательны Моро за то, что он целой и невредимой возвратил армию, попавшую в Баварии как бы в западню. Об участи армии беспокоились весьма сильно; было неизвестно, что с нею сделалось и что с нею будет впредь. Но когда она с таким бодрым видом вступила в долину Рейна, все пришли в восторг от генерала, сумевшего столь счастливо привести ее обратно. Его отступление возносили донельзя и не замедлили сравнить со знаменитыми «Десятью тысячами»[18]. Конечно, нельзя было и думать сравнивать его с блестящими победами Итальянской армии; есть, однако, масса людей, которых оскорбляет превосходство гения, а менее блестящие заслуги беспокоят их не слишком, и вот они-то стояли за Моро, расхваливали его благоразумие и испытанное искусство и описывали эти преимущества в сравнении с пылким гением Бонапарта. С этого дня за Моро были все те, кто предпочитал второстепенные дарования высшим: нужно сознаться, что в республике прощают врагам гения, когда видят, что гений может посягнуть на свободу, его взрастившую и вознесшую на вершины славы.
Глава L
Внутреннее и внешнее положение Франции в начале года У – Планы Питта – Мир с Неаполем и Генуей – Основание Циспаданской республики – Назначение Кларка в Вене – Новые усилия Австрии в Италии – Сражение при АрколеРезультаты похода в Германию оказались для Франции неудачными. Ее враги, упорно отрицавшие ее победы или предсказывавшие ей дальнейшие неудачи, видели свои предсказания сбывавшимися. Итак, быстрые завоевания в Германии, говорили они, не имели никакой прочности: им положил конец Дунай и гений молодого принца; без сомнения, дерзость Итальянской армии будет наказана и она будет отброшена на Альпы, как в Германии армии были отброшены на Рейн. Правда, завоевания Бонапарта опирались, по-видимому, на более прочное основание: он не только оттеснил Колли и Больё, но и разбил их окончательно; не только отбросил новую армию Вурмзера, но сперва дезорганизовал ее при Кастильоне, а потом совершенно уничтожил на Бренте. Следовательно, можно было с большим основанием надеяться сохранить Италию, чем Германию; тем не менее зловещие слухи распространялись. Утверждали, что многочисленные войска направляются к Альпам из Польши и от границ Турции, а имперские армии на Рейне готовы отправить новые подкрепления, что при всем своем гении генерал Бонапарт, не переставая встречать новых врагов, непременно потерпит неудачу, хотя бы только по причине истощения своей армии. Подобные предположения были весьма естественны, потому что воображение людей, преувеличив успехи, готово потом так же преувеличивать неудачи. Французские армии отступили из Германии без больших потерь и охраняли линию Рейна. В последнем еще не было ошибки; но Итальянская армия оставалась без всякой поддержки, и это заставляло сильно беспокоиться о ее участи. Кроме того, две наши главные армии вступили на территорию Франции, содержание их всей тяжестью падало на наши финансы, по-прежнему находившиеся в плачевном положении; и это было самым большим злом. Мандаты, потеряв обязательный курс, обесценились окончательно, к тому же в распоряжении правительства их уже не оставалось, в Париже их можно было найти только в руках спекулянтов. Недоимки по-прежнему были значительны, но не взыскивались; налоги и обязательный заем взимались медленно; за национальные имущества, предназначенные для продажи, уплачивалась только часть их стоимости; следующих взносов требовать еще было не время, а поступающих для нужд казначейства оказывалось недостаточно. Впрочем, держались только этими взносами, уплатами по обязательному займу и векселями, выдаваемыми министрами. Бюджет Y года разделял расходы на обыкновенные и чрезвычайные: первые доходили до 450 миллионов, вторые до 550. Поземельный налог, таможенные пошлины, гербовый сбор и вообще все налоги должны были покрывать обыкновенные расходы. Чрезвычайные собирались покрыть недоимками года IV и обязательного займа и предстоящими взносами за проданные национальные имущества. Кроме вышеупомянутых источников, у республики еще оставались земли, но их пока предстояло распродавать, в чем и заключалось всё затруднение. Подрядчики, которым не платили, отказывались продолжать поставки; за неимением средств останавливалась деятельность ведомств. Государственные чиновники и кредиторы ничего не получали и не имели никаких средств к существованию. Таким образом, отдаленность Итальянской армии и состояние финансов давали врагам Франции повод рассчитывать на многое. От запланированного Директорией союза Франции, Испании, Порты и Венеции остался лишь союз с Испанией. Последняя, увлеченная обещаниями Франции и ее блестящими успехами в середине лета, решилась возобновить договор и объявить войну Великобритании. Венеция, несмотря на настояния Испании и приглашения Порты, отказывалась от союза. Напрасно ей представляли, что Россия будет покушаться на ее колонии в Греции, а Австрия – на ее Иллирийские провинции, и что лишь союз с Францией и Портой, которые не имеют в отношении нее никаких корыстных видов, может защитить ее от честолюбия естественных соперников; повторявшиеся победы французов на Адидже должны были заставить ее не опасаться возвращения австрийцев и будущего гнева императора; своим нейтралитетом, напротив, она лишила себя всякой дружеской поддержки и покровительства и подвергалась, быть может, участи стать жертвой сделки между воюющими державами. Венеция, ненавидевшая французов, явно вооружалась против них, так как спрашивала мнения австрийского правительства относительно выбора главнокомандующего, и вторично отказалась от предложенного ей Францией союза. Она хорошо видела опасность, исходившую от честолюбия Австрии, но опасность французских принципов была по ее мнению реальнее. Венеция продолжала отвечать, что сохранит нейтралитет, чему очевидно противоречили ее активные действия. Порта, поколебленная отказом Венеции и давлением со стороны Вены и Англии, также не приняла предложения. Оставались Франция и Испания, их союз мог лишить англичан обладания Средиземным морем, но мог также подвергнуть опасности испанские колонии. В самом деле, Питт думал возмутить их против метрополии и уже завязал с этою целью интриги в Мексике. Переговоры с Генуей всё еще не были кончены, а вот с Неаполем завершились; Директория непременно желала получить с него контрибуцию, неаполитанская же королева, вступившая в переговоры с крайней неохотой, не хотела на нее соглашаться. Мир с Римом не заключили вследствие одного требования Директории: она хотела, чтобы были отменены все отлучения Святого престола с начала революции, что в высшей степени оскорбляло гордость первосвященника. Переговоры были прерваны. Их вновь открыли во Флоренции; посланники папы утверждали, что пастырские послания святого отца не могут быть взяты назад, а французские комиссары настаивали, что последнее есть conditio sine qua non[19]; на том и разошлись. Надежда на помощь короля Неаполитанского и Англии поддерживала первосвященника в его отказе; он послал в Вену кардинала Альбано просить помощи и условиться относительно мер, какие следовало принять.
Таковы были отношения Франции с остальной Европой. Ее враги, в свою очередь, были истощены. Австрия, правда, отразила вторжение наших армий, дошедших до Дуная; но тем более беспокоилась за Италию и желала ее возвращения. Положение Англии становилось весьма печальным; на Корсике она держалась непрочно и могла вскоре лишиться этого острова. Итальянские порты готовы были закрыться перед ней, и достаточно было одной новой победы Бонапарта, чтобы окончательно изгнать Англию из этой страны. Война с Испанией могла закрыть для нее Средиземное море и угрожала ее влиянию в Португалии. Всё побережье океана до острова Тексел уже было закрыто перед англичанами. Экспедиция, приготовлявшаяся Гошем в Бретани, страшила Англию из-за Ирландии. Финансы ее были в расстройстве, кредит банка поколеблен, а вся нация жаждала мира. Эти основания заставили подумать о мире и воспользоваться неудачами Франции, чтобы принудить последнюю принять его. Королевская семья и вся аристократия испытывали крайнее отвращение к переговорам с Францией, потому что, по их мнению, это значило признать революцию. Питт, менее преданный аристократическим принципам и занятый исключительно интересами Англии, на этот раз действительно желал мира, но лишь на условиях, которые не могли быть приняты Республикой: на условиях возвращения Нидерландов Австрии. Питт был настоящим англичанином по своей гордости, честолюбию и предрассудкам. В его глазах образование колоссальной республики было меньшим преступлением, чем присоединение к Франции Нидерландов. И в самом деле присоединение Нидерландов было для Франции важным приобретением: оно доставляло ей обладание самыми плодоносными и богатыми провинциями континента, устьями рек, важнейшими торговыми путями севера, Шельды, Мааса и Рейна; значительно увеличивало ее береговую линию, а следовательно, морские силы; дарило важные торговые порты, а особенно Антверпен; наконец, продолжало нашу морскую границу в ту сторону, откуда Англия была мало прикрыта, против беззащитных берегов Эссекса, Суффолка, Норфолка, Йоркшира. Кроме этих приобретений, обладание Нидерландами представляло и другую выгоду: Голландия подпадала под непосредственное влияние Франции, поскольку не была отделена австрийскими провинциями. И тогда французскую морскую границу можно было считать не до Антверпена, но до острова Тексел, и побережье Англии опоясывалось неприятельскими берегами со всех сторон. По убеждению всякого англичанина, воспитанного в идеях превосходства своего отечества, Англия всегда должна господствовать в Неаполе, Лиссабоне и Амстердаме, дабы прочно стоять на континенте и всегда иметь возможность прорвать длинную линию берегов. В 1796 году эти начала коренились так же прочно, как и то, что всякий вред для Франции есть благо для Англии. На основании этой политики Питт согласился бы на временный мир с целью дать отдых своим финансам, но лишь при условии, чтобы Нидерланды были возвращены Австрии. Он был мало знаком с делами континента, искренне верил в скорое разорение Франции и совершенно добросовестно возвещал каждый год близкое падение и истощение Республики. Питт думал, что если Франция когда и была расположена к миру, то в настоящее время – как вследствие падения мандатов, так и из-за отступления ее армии из Германии. Впрочем, находил Питт возможным принятие его условий Францией или нет, но он имел достаточно оснований открыть переговоры: существовала необходимость удовлетворить общественное мнение, громко требовавшее мира. Чтобы добиться от парламента дозволения набрать шестьдесят тысяч моряков и пятнадцать тысяч ополчения, ему следовало сначала доказать, что он сделал всё возможное для заключения мира. Было и другое не менее важное основание: принимая на себя инициативу и открывая в Париже торжественные переговоры о мире, Питт привлекал туда обсуждение всех европейских интересов и мешал открытию частных переговоров с Австрией. В самом деле, эта держава придавала Нидерландам гораздо меньшее значение, чем Англия; она смотрела на них как на удаленную от центра империи провинцию, постоянно подвергавшуюся нашествиям со стороны Франции и глубоко зараженную революционными идеями; эту провинцию она давно думала обменять на какие-нибудь другие владения в Германии или Италии и сохранила ее только потому, что расширению всегда противилась Пруссия; для обмена же Нидерландов на какое-нибудь владение в Италии еще не представлялось случая. Питт думал, что торжественные переговоры, открытые в Париже от имени всех союзников, предупредят сделку относительно Нидерландов. К тому же ему нужно было иметь агента во Франции, который мог бы всё видеть вблизи и собрать сведения относительно экспедиции, готовящейся в Бресте. Вот причины, вследствие которых Питт, даже и не надеясь на мир, делал попытку переговоров с Директорией. На этот раз он уже не ограничивался, как в прошлом году, незначительным поручением; он потребовал для полномочного посланника Великобритании паспортов. Это обращение к Французской республике ее непримиримого врага было для нее чрезвычайно лестным событием, и паспорта были немедленно выданы. Питт выбрал лорда Малмсбери, сына автора «Гермеса»[20]. Как политик он был не расположен к республикам и уже прославился притеснениями Голландии в 1787 году. Посланник прибыл в Париж с многочисленной свитой 23 октября 1796 года (2 брюмера). Директория поручила вести переговоры министру Делакруа. Оба уполномоченных сошлись в министерстве иностранных дел утром 24 октября. Министр Франции предъявил свои полномочия. Лорд Малмсбери объявил себя посланником от Англии и ее союзников, а целью визита открыто обозначил заключение общего мира. Затем он показал свои верительные грамоты, подписанные одной Англией. Французский министр спросил его, имеет ли он полномочия от союзников Великобритании, дабы вести переговоры от их имени. Лорд Малмсбери ответил на это, что как только будут приняты основания, на которых переговоры могут продолжаться, союзники короля Великобритании окажут ему содействие и дадут полномочия. Затем лорд передал Делакруа ноту своего двора, в которой указывались основания для будущих переговоров – начало взаимного вознаграждения держав за их завоевания. Англия, согласно ноте, обрела земли в колониях, а Франция – на континенте у союзников Англии, и теперь можно было возвратить их друг другу. Но прежде чем начать объясняться относительно областей, подлежащих обмену, следовало согласиться в самом принципе взаимного вознаграждения. Таким образом, Сент-Джеймский кабинет избегал определенно говорить о возвращении Нидерландов и только объявлял основание будущих переговоров, чтобы не прервать их в самом начале. Министр Делакруа отвечал, что он обратится к Директории. Директория не могла возвратить Нидерланды: это было не в ее власти, даже если бы она хотела это сделать. Франция своей честью поручилась относительно этих провинций и не могла, возвращая их, предоставить их мщению Австрии. Кроме того, она имела право на вознаграждение как за несправедливую войну, которую с нею вели так долго, так, в свою очередь, и за расширение Австрии, Пруссии и России за счет Польши; наконец, Франция должна была стремиться к своей естественной границе. По всем этим причинам она не должна была отделять от себя Нидерланды. Директория, твердо решившая выполнить свой долг в этом отношении, могла бы немедленно прервать переговоры; но тогда она давала повод сказать, что не желает мира, и удовлетворила бы одно из главных намерений Питта, доставив ему отличный предлог требовать от английского народа новых жертв. Директория ответила на следующий же день. «Франция, – говорила она, – уже заключила отдельные трактаты с большей частью держав коалиции, причем она не прибегала к содействию всех союзников; сделать переговоры общими значит затянуть их до бесконечности, что заставит считать настоящие переговоры не более искренними, чем предложения прошлого года. К тому же английский посол не имеет полномочий от союзников, от имени которых говорит. Наконец, принцип взаимных вознаграждений был изложен в слишком общем виде, чтобы можно было его принять или отвергнуть. Таким образом, – прибавляла Директория, – французское правительство могло бы не отвечать, но, чтобы доказать свое желание мира, оно готово выслушать все предложения, как только лорд Малмсбери будет снабжен полномочиями от всех держав, от имени которых претендует высказываться». В этих переговорах Директории не было надобности ничего скрывать, она могла действовать с полной откровенностью, а потому решила сделать их гласными, напечатав в газетах как ноты английского посла, так и ответы на них французского министра. Этот образ действий немного смутил английских политиков; впрочем, он нисколько не противоречил дипломатическим приличиям, хотя и отступал от принятых обычаев. Лорд Малмсбери ответил, что обратится к своему правительству. Странная роль полномочного посла, который при каждом незначительном затруднении обращается к своему двору, могла возбудить подозрения Директории в том, что переговоры оттягиваются и ведутся только для вида. Между тем правительству не было особенно приятно пребывание в стране иностранца, интриги которого могли быть опасны; тем не менее директоры не высказали никакого неудовольствия; они позволили лорду Малмсбери ожидать ответов своего двора, а в ожидании их изучать Париж, политические партии, их силы и силу правительства. Директория, впрочем, могла от этого только выиграть.
В это время положение французов в Италии становилось опасным, несмотря на их недавние победы при Роверето, Бассано и Сан-Джорджио. Австрия удвоила усилия, чтобы отбить Ломбардию. Благодаря гарантиям императрицы Екатерины в Галиции австрийские войска из Польши перевели на Альпы; благодаря же надежде сохранить мир с Турцией войска стянули с австрийских границ, и все резервы австрийской монархии были направлены в Италию. Многочисленное и преданное население предоставляло средства для набора новых войск. Австрийская администрация выказывала необыкновенную ревностность при наборе солдат. Отличная армия формировалась во Фриуле: она составлялась из остатков армии Вурмзера, из войск, приходивших с границ Польши и Турции, а также из отрядов с Рейна и рекрутов. Командование ею поручили маршалу Альвинци. Надеялись, что третья армия будет счастливее двух предшествующих и вырвет Италию из рук молодого победителя. Тем временен Бонапарт не переставал обращаться к Директории с просьбами о подкреплениях и советами закончить переговоры с державами, остававшимися у него в тылу. Он торопил правительство заключить мир с Неаполем и Генуей на прочном основании, вновь возобновить переговоры с Римом, добиться от сардинского короля наступательного и оборонительного союза, чтобы хоть войсками последнего подкрепить Итальянскую армию. Бонапарт желал получить дозволение провозгласить независимость Ломбардии, что могло увеличить число приверженцев Французской республики. Взгляды его были вполне верны, а нужды армии оправдывали уместность настояний. Разрыв переговоров с папой привел к тому, что второй взнос контрибуции, уже высланный, возвратили назад. Контрибуции от Пармы, Модены и Милана были или израсходованы на нужды армии, или отосланы правительству. Венеция хотя и доставляла припасы армии, но ссуду займа оттягивала. Сумму, на которую можно было рассчитывать, секвестрируя иностранные товары, определить пока не представлялось возможным, так как законность этой меры еще оспаривалась. Так что в настоящее время армия начала вновь испытывать лишения, находясь в богатейшей стране мира. Главная же опасность положения заключалась в недостаче в рядах армии; она не могла поражать стольких неприятелей без больших потерь со своей стороны. Все присланные подкрепления с самого начала войны не превосходили 9 или 10 тысяч; следовательно, число всех французов, вступивших на территорию Италии, не превышало 50 тысяч; теперь же численность армии едва достигала 30 тысяч с небольшим: неприятельский огонь и болезни сократили ее до этой цифры. Около двенадцати батальонов должны были вскоре прибыть от Вандейской армии, но они были значительно ослаблены дезертирством; другие же обещанные подкрепления не приходили. Генерал Вилло, командующий войсками на юге, должен был отправить несколько полков на Альпы, но удержал их в своем округе для усмирения волнений, вызванных его же неловкостью и грубостью. Келлерман, со своей стороны, не мог предоставить подкреплений, так как они были ему необходимы для поддержания порядка в Лионе и окрестностях. Бонапарт просил выслать ему 83-ю и 42-ю полубригады и отвечал за всё в случае их своевременного прибытия. Он жаловался, что ему не поручили вести переговоры, потому что если бы вел их он, то ультиматум был бы послан лишь после уплаты контрибуции. «До тех пор пока ваш главнокомандующий не станет средоточием всего в Италии, дела будут идти дурно. Меня легко обвинять в честолюбии, но я стою лишь за свою честь; я едва держусь на лошади, у меня остается только одна моя храбрость, чего совсем не достаточно для того места, которое я занимаю. Видят нашу малочисленность; обаяние наших войск пропадает. Подкреплений – или Италия погибла!» – писал он. Сознавая необходимость лишить Рим поддержки Неаполя и обеспечить тыл Бонапарта, Директория наконец заключила договор с двором Обеих Сицилий. Она частично отступилась от своих предыдущих требований, а двор, напуганный победами французов на Бренте и опасаясь, что в результате союза Франции с Испанией англичане могут быть изгнаны со Средиземного моря, также согласился на мирный договор. Мир был подписан 10 октября (19 вандемьера). Условились, что неаполитанский король обязывается не оказывать поддержки врагам Франции и закроет свои порты военным кораблям воюющих держав. Затем Директория заключила договор с Генуей. Особенное обстоятельство способствовало этому: Нельсон захватил французский корабль в виду генуэзских батарей; такое нарушение нейтралитета серьезно скомпрометировало Генуэзскую республику. Французская партия, которая теперь не подвергалась давлению, стала смелее, партия же коалиции оробела; решили заключить с Францией союз. Генуэзские порты закрывались для англичан; два миллиона выплачивались Франции в виде вознаграждения за фрегат La Modeste; два других давались в виде займа. Вассальные семейства не были изгнаны, но сторонники Франции, удаленные из страны и сената, были впущены в страну, а должности им были возвращены. От Пьемонта также желали добиться заключения наступательного и оборонительного союза. Прежний король только что умер; его молодой наследник Карл-Эммануил выказывал к Франции доброе расположение, но находил, что те выгоды, которые она предлагает ему, недостаточны в качестве вознаграждения за союз. Директория обещала молодому королю гарантировать его владения, которые не были ничем обеспечены в общем столкновении в виду грядущих переворотов и возможных новых республик; король же, как и его предшественник, хотел приобрести Ломбардию, чего Директория обещать не могла. Обе итальянские партии, взращенные Французской революцией и усиленные присутствием французских армий, определялись с каждым днем всё резче. Если в Милане, Модене, Реджо, Болонье и Ферраре преобладала патриотическая партия, то в Риме, наоборот, партия монашеская и аристократическая. Последняя могла возбудить народный фанатизм и повредить французам, особенно когда судьба войны еще не была решена последним столкновением с австрийцами. Бонапарт находил, что следует повременить. Ум свободный и независимый, он презирал всякий фанатизм, стесняющий разум; но как человек дела, он опасался власти, которая не контролируется силой, и предпочитал скорее увернуться от нее, чем с нею бороться. Кроме того, воспитанный во Франции, он вырос среди итальянских суеверий и не разделял того глубокого и общего отвращения к католической религии, которое вызвали во Франции просветители XVIII века; потому он не мог иметь того нерасположения вести переговоры с Римом, какое имели в Париже. Итак, Бонапарт хотел выиграть время, избежать обратного движения на полуостров и, если это будет возможно, не упустить 16 миллионов, вернувшихся в Рим. Он поручил посланнику забрать назад все требования Директории, касающиеся веры, и настаивать на условиях исключительно политических. Он освободил кардинала Маттеи, заключенного в монастырь, и послал его от себя вести переговоры с папой. «Римский двор, – писал он кардиналу, – желает войны, он ее получит, но прежде я обязан перед своей нацией и перед всем человечеством сделать последнюю попытку убедить папу. Вам известна, господин кардинал, сила армии, которой я командую: мне стоит только захотеть, и я могу уничтожить светскую власть папы. Ступайте в Рим, явитесь к святому отцу, разъясните ему его истинные интересы и отвлеките его от интриганов, которые желают его гибели и вместе с ним гибели римского двора. Французское правительство позволяет мне еще раз выслушать предложения мира. Всё может еще устроиться. Война, столь гибельная для народов, влечет за собой страшные последствия для побежденных. Избавьте папу от больших несчастий. Вы знаете, как я желаю кончить миром борьбу, которую войной я окончил бы без славы для себя». Применяя эти средства, чтобы, как говорил Бонапарт, обмануть старую лису, он одновременно возбуждал в Северной Италии стремление к свободе, стараясь противопоставить суеверию патриотизм. Вся Северная Италия волновалась: миланцы, вырванные у Австрии; Модена и Реджо, в нетерпении сносившие иго отсутствующего старого герцога; Болонья и Феррара, освобожденные от папы, громко требовавшие провозглашения их независимости и организации республики. Бонапарт не мог даровать Ломбардии независимость, но он по-прежнему ее ободрял и обнадеживал. Что касается провинций Модены и Реджо, то они находились непосредственно в тылу его армий и по соседству с Мантуей; регентство доставляло продовольствие гарнизону крепости и давало таким образом повод к жалобам со стороны Бонапарта; он советовал Директории не заключать с герцогом Моденским окончательного мира и ограничиться перемирием, дабы иметь возможность всегда при случае наказать его. Обстоятельства с каждым днем становились затруднительнее, и он решился опередить Директорию смелым ударом. Регентство вновь нарушило условия перемирия, доставляя Вурмзеру продовольствие и дав убежище одному из его отрядов; Бонапарт немедленно объявил перемирие нарушенным, изгнал регентство по праву завоевания, герцога объявил лишенным державных прав, а провинции Реджо и Модену – свободными. Последнее было принято населением с восторгом. В ожидании окончательного политического устройства этих провинций и для временного ими управления Бонапарт образовал муниципалитеты. Болонья и Феррара уже объявили себя республиками и начали набирать войска. Бонапарт желал соединить оба легатства с моденскими владениями и составить из них одну республику, которая, по географическому ее расположению за рекой По, называлась бы Циспаданской. Он думал, что если и будут принуждены уступить Ломбардию Австрии, то можно избежать возвращения герцогу и папе моденских владений и легатств; таким образом можно было создать на полуострове республику дружественную и обязанную своим происхождением Французской республике; она могла бы служить за Альпами очагом французских политических начал, убежищем в случае нужды всех итальянских патриотов и местом, откуда свобода могла когда-нибудь распространиться по всей Италии. Он не считал вероятным освобождения Италии одним махом и находил, что французское правительство слишком истощено для продолжения войны: в первую кампанию достаточно было только посеять семена будущей свободы. Этой цели и служило соединение Болоньи и Феррары с Моденой и Реджо. Местное соперничество препятствовало этому союзу, но Бонапарт надеялся победить оппозицию своим всемогущим влиянием. Он отправился в названные города, был принят в них с энтузиазмом и склонил их послать в Модену сто депутатов, которые должны были образовать национальное собрание и выработать политическое устройство Циспаданской республики. Это собрание было открыто в Модене 16 октября (25 вандемьера) и состояло из адвокатов, землевладельцев и богатых торговцев. Сдерживаемое присутствием Бонапарта и руководимое его советами, оно выказало весьма большое благоразумие: вотировало соединение в одну республику обоих легатств и Моденского герцогства; уничтожило феодальные права и установило равенство граждан перед законом; назначило комиссара для формирования легиона в четыре тысячи человек и определило условия созыва 25 декабря (5 нивоза) нового собрания, обязанностью которого назначило выработку конституции. Жители Реджо выказали при этом случае большую преданность новому порядку: когда из Мантуи вышел австрийский отряд, они взялись за оружие, захватили его и препроводили к Бонапарту. Два жителя Реджо были убиты в этом деле; они стали первыми мучениками за независимость Италии.
Ломбардия ревниво и с беспокойством смотрела на права, предоставленные Циспаданской республике, и видела в них зловещее предзнаменование. Она говорила, что если французы политически обустраивают легатства и герцогство, не обращаясь в то же время к ней, то это значит, что они предполагают возвратить Ломбардию Австрии. Бонапарт вновь успокоил ломбардцев и дал им понять всю затруднительность своего положения; он повторил, что они приобретут независимость, помогая ему в этой тяжелой борьбе. Ломбардцы решили довести численность обоих легионов, итальянского и польского, к организации которых уже приступили, до двенадцати тысяч. Таким образом, Бонапарт окружал себя дружественными правительствами, готовыми приложить любые усилия для его поддержки. Их войска, без сомнения, значили не очень много, но могли охранять полицейский порядок и освобождали используемые для того отряды. С помощью нескольких сотен французов они могли дать первый отпор папе, в случае если бы он имел неосторожность решиться на войну. В то же время Бонапарт старался успокоить герцога Пармского, владения которого граничили с новой республикой: его дружба могла быть полезна, а родство с Испанией предписывало учитывать его интересы. Бонапарт указывал герцогу на возможность приобретения нескольких городов среди общего передела территорий, то есть прибегал к политическим средствам, чтобы заменить чем-нибудь недостаток сил, которых ему не доставляло правительство. Поступая так, он исполнял свою обязанность в отношении Франции и Италии и делал это с искусством старого дипломата. Благодаря его заботам была освобождена Корсика. Бонапарт собрал вЛиворно известных выходцев с острова, вооружил их и дал им офицеров, а затем смело высадил на остров для поддержки возмущения жителей против англичан. Экспедиция удалась: его отечество было освобождено от английского ига, а вскоре должно было быть освобождено и всё Средиземное море. В будущем можно было надеяться, что испанские и французские эскадры закроют Гибралтарский пролив перед английскими судами и будут в нем господствовать.
Итак, время, истекшее после событий на Бренте, было использовано Бонапартом для улучшения положения в Италии; но если теперь ему и можно было меньше опасаться этой страны, то опасность со стороны Австрии только усилилась, а его силы были по-прежнему недостаточны. По-прежнему удерживались на юге 83-я и 40-я полубригады. Двенадцать тысяч под командованием Вобуа стояли перед Тренто; 16–17 тысяч Массена и Ожеро – на Бренте и Адидже; 8–9 тысяч блокировали Мантую; в общем же вся численность армии равнялась 36–38 тысячам человек. Давидович, возвратившийся в Тироль после поражения Вурмзера только с несколькими тысячами человек, был усилен до 18 тысяч. Альвинци двигался от Фриуля к Пьяве с 40 тысячами. Положение Бонапарта было весьма затруднительным: против 60 тысяч у него имелось только 36 тысяч истомленных тройным походом и умиравших каждый день от лихорадок солдат. Он с горечью писал Директории, что близок к потере Италии. Директория, не будучи в состоянии подкрепить его, думала переговорами затянуть открытие военных действий. Малмсбери дожидался в Париже ответа своего правительства на сообщение Директории. Спустя девятнадцать дней, 14 ноября (24 брюмера), английское правительство наконец ответило, что притязания Франции вне всяких обычаев; одному из союзников дозволяется вступать в переговоры от имени прочих и не имея на то от них дозволения. Англия уверена в том, что получит таковое, но Франции следует ясно высказаться о том, как она относится к вознаграждению за завоевания, которое одно могло бы служить основанием для будущих переговоров. Английский кабинет прибавлял, что ответ Директории полон не совсем пристойными инсинуациями против намерений его величества короля Британии, что ниже его достоинства было бы отвечать на таковые и на них не желают останавливаться, чтобы не помешать переговорам. В тот же день Директория категорически отвечала лорду Малмсбери, что допускает вознаграждения, но следует немедленно обозначить те области, о которых может пойти речь. Директория могла отвечать так, не слишком многим себя обязывая. Переговоры были призрачными; Директория ничего от них не ждала и решила поймать Англию на слове, прямо отправив своего агента в Вену для заключения частного соглашения с императором. Первым условием соглашения было перемирие в Италии и Германии на шесть месяцев; Рейн и Адидже должны были разделять армии воюющих держав. Осады Келя и Мантуи следовало приостановить. В Мантую предполагалось доставлять необходимое ежедневное продовольствие. К концу перемирия обе воюющие стороны должны были остаться в настоящем положении: Франция сохраняла Кель, Австрия – Мантую. За перемирием должны были непосредственно открыться переговоры о мире. Франция предлагала следующие условия: Австрия уступает Франции Бельгию и Люксембург, а Франция возвращает ей Ломбардию и Пфальц; она отказывается от рейнской границы в этом месте и соглашается на вознаграждение Австрии за потерю Нидерландов секуляризацией некоторых епархий в Германии. Император, со своей стороны, не будет вмешиваться в отношения Франции и папы и обязывается содействовать вознаграждению штатгальтера [Вильгельма V] владениями в Германии. Последнее было необходимым условием, чтобы обеспечить спокойствие Голландии и удовлетворить короля Пруссии, сестра которого была замужем за штатгальтером. Эти условия были весьма умеренны; они показывали желание Директории прекратить бедствия войны и ее беспокойство за участь Итальянской армии. Директория отправила с этими предложениями генерала Кларка, служившего у Карно в военном министерстве. Инструкции были подписаны 16 ноября. Но пока генерал собирался в путь, прибыл, был принят и выслушан, военные события следовали в Италии одно за другим с замечательной быстротой.
Первого ноября (11 брюмера) маршал Альвинци навел мосты на Пьяве и двинулся к Бренте. Австрийцы предполагали произвести одновременное нападение с гор Тироля и с равнины. Давидович должен был выбить Вобуа с его позиции и спуститься по обоим берегам Адидже до Вероны. Альвинци, со своей стороны, должен был перейти Пьяве и Бренту, войти в Верону с главными силами и соединиться там с Давидовичем. Оттуда оба австрийских корпуса должны были направиться к Мантуе – снять блокаду и освободить Вурмзера. Альвинци, перейдя Пьяве, двинулся к Бренте, где стояла дивизия Массена; последний, заметив значительные неприятельские силы, отступил. Бонапарт двинулся к нему на помощь с дивизией Ожеро. В то же время он предписал Вобуа держаться против Давидовича в долине Альто-Адидже, а если будет возможно, то и отнять у него позицию у Лависа. Сам он двинулся на Альвинци, решившись, несмотря на несоразмерность сил, стремительно атаковать его и расстроить в самом начале кампании. Бонапарт встретил неприятеля утром 6 ноября. Австрийцы заняли позиции перед Брентой от Карминьяно до Бассано; резервы их стояли за Брентой. Бонапарт повел атаку всеми войсками, какими мог располагать. Массена атаковал Липтая и Проверу перед Карминьяно, Ожеро – Кваздановича перед Бассано. После жаркого и кровопролитного боя, в котором войска выказали свою обычную храбрость, Липтай и Провера были отброшены за Бренту, а Квазданович – на Бассано. Бонапарт хотел вступить в Бассано вечером того же дня, но прибытие австрийских резервов ему помешало; приходилось отложить атаку до завтра. К несчастью, ночью он узнал о неудаче Вобуа в Альто-Адидже. Этот генерал храбро атаковал позиции Давидовича, сначала успешно; но, несмотря на испытанную храбрость войск, между ними распространился панический страх, и они в беспорядке отступили. Вобуа собрал их было в дефиле Каллиано, на месте подвигов французского оружия у Тироля, и надеялся там удержаться, но Давидович, выслав отряд по другому берегу Адидже, вышел за Каллиано и обошел позицию. Вобуа доносил, что отступает, дабы не быть отрезанным, и выражал опасение, что Давидович может опередить его на важных позициях при Ла Короне и Риволи, защищавших дорогу в Тироль между Адидже и Гардой. Тогда Бонапарт, отрезанный от своего главного крыла, с пятнадцатью или шестнадцатью тысячами, очутился бы между Давидовичем и Альвинци. Во избежание этого он решил отступить и отправил в Верону надежного офицера, который должен был отослать все найденные там силы на Риволи и Ла Корону, чтобы опередить Давидовича и дать Вобуа время отступить. На следующий день Бонапарт прошел Виченцу, которая была изумлена отступлением французской армии после ее вчерашнего успеха. Он прибыл в Верону, оставил там свою армию и отправился в Риволи и Ла Корону; там он, к счастью, нашел войска Вобуа уже оправившимися и способными выдержать натиск Давидовича. Бонапарт желал преподать строгий урок 39-й и 85-й полубригадам, уступившим паническому страху. Он собрал всю дивизию и, обращаясь к обеим полубригадам, укорил их за отсутствие дисциплины и поспешное отступление. «Прикажите, – сказал он начальнику своего штаба, – означить на знаменах 39-й и 85-й полубригад, что они более не принадлежат к Итальянской армии». Эти слова очень огорчили солдат обеих полубригад; они окружили Бонапарта, говорили, что сражались против намного более сильного неприятеля, и умоляли его назначить их в авангард, уверяя, что покажут себя достойными чести служить в Итальянской армии. Бонапарт несколькими ласковыми словами смягчил строгость своих упреков, возвысив нравственную силу солдат и оставив их в готовности загладить пятно на своей чести отчаянной храбростью. После предыдущих дел у Вобуа из 12 тысяч оставалось только 8; Бонапарт расположил их возможно лучшим образом в Ла Короне и Риволи и, убедившись, что Вобуа может продержаться несколько дней, прикрывая левый фланг и тыл французской армии, возвратился в Верону для наступления на Альвинци. Большая дорога от берегов Бренты к Вероне идет у подножия гор через Виченцу, Монтебелло, Вилланову и Кальдиеро. Альвинци, изумленный отступлением Бонапарта после одержанного им успеха, предполагал, что только удачные действия Давидовича могли заставить французского генерала отойти; он надеялся, что его желание соединиться с Давидовичем в окрестностях Вероны осуществится. Издали следуя за французами, Альвинци остановился в трех лье от Вероны на высотах Кальдиеро. Высоты эти представляют отличную позицию против неприятеля, наступающего со стороны Вероны. Альвинци расположил на ней войска, поставил батареи и не забыл ничего, чтобы сделать ее недоступной. Бонапарт рекогносцировал позицию и решил ее немедленно атаковать, так как положение Вобуа в Риволи было весьма непрочным и не позволяло медлить. Дивизии Массена и Ожеро выступили 11 ноября, отбросили авангард австрийцев и расположились на ночь у подножия Кальдиеро. На восходе Бонапарт заметил, что Альвинци укрепился и принимает сражение. Позиция была довольно доступной со стороны гор и недостаточно защищенной Альвинци. Бонапарт направил туда Массена, а Ожеро поручил атаковать другие части позиции. Завязывается схватка. Проливной дождь, шедший весь день, весьма затрудняет движение французской артиллерии; напротив, австрийские батареи, расположенные весьма выгодно, действуют с большим успехом. Тем не менее Массена удается подняться на высоты, защитой которых пренебрег Альвинци. Вдруг дождь обращается в ледяную крупу, которую сильный ветер бьет французам прямо в лицо; в то же время Альвинци выдвигает свой резерв на отнятую у него позицию и отбивает ее. Тщетно Бонапарт хочет возобновить усилия; он не может достичь ничего. Обе армии ночуют в виду друг друга, прямо под непрекращающимся дождем. На следующий день Бонапарт отходит к Вероне. Положение армии сделалось весьма опасным. Все средства были, по-видимому, истощены: сначала бесполезно отбросили неприятеля за Бренту и бесплодно пожертвовали множеством храбрецов; потом потеряли в Тироле 4 тысячи человек; затем, чтобы удалить Альвинци от Вероны, дали неудачное сражение при Кальдиеро и только ослабили себя без всякого результата. Восемь тысяч на левом крыле во всякое время могли быть опрокинуты с Ла Короны и Риволи, и тогда Бонапарт оказался бы окружен в Вероне. Дивизии Массена и Ожеро после последних двух сражений едва насчитывали 15 тысяч человек. Что могли сделать эти 15 тысяч солдат против 40 тысяч? Французская артиллерия, которая прежде уравновешивала превосходство численности со стороны австрийцев, не могла двигаться среди грязи. Армия пребывала в ужасе. Храбрые солдаты, испытанные лишениями и опасностями, начинали роптать. Они были склонны ворчать, потому что были способны рассуждать. «Уничтожив, – говорили они, – две армии, направленные против нас, мы должны теперь уничтожать те, которые угрожают рейнским войскам. За Больё следовал Вурмзер, за Вурмзером следует Альвинци: борьба возобновляется с каждым днем. Мы не можем делать всё за всех. Не нам сражаться с Альвинци, точно так же, как и не нам было сражаться с Вурмзером. Если бы все делали свое дело, как мы, – война была бы уже кончена. При этом нас покидают в глубине Италии и оставляют без поддержки. И когда, пролив свою кровь на стольких полях сражений, мы отступим на Альпы, то возвратимся туда без чести и славы, как беглецы, не исполнившие своего долга!» Вот какими были разговоры солдат на биваках. Бонапарт разделял их ропот и недовольство; он писал Директории 14 ноября: «Все наши высшие чины, все избранные генералы выведены из строя; Итальянская армия совершенно истощена. Герои Миллезимо, Лоди, Кастильоне, Бассано или умерли за отечество, или находятся в госпиталях. Жубер, Ланн, Виктор, Мюрат, Шарло, Дюпюи, Рампон, Менар, Шабран ранены. Нас бросили в глубине Италии, и остающиеся у меня храбрецы ждут неизбежной смерти в виду беспрерывных к ней поводов и нашей малочисленности. У войск остаются лишь их репутации и их гордость. Может быть, час храброго Ожеро и неустрашимого Массена уже близок… Тогда кто же останется с этими храбрецами? Эта мысль делает меня сдержанным, я не осмеливаюсь более поворачиваться лицом к смерти, которая стала бы поводом к унынию для тех, о ком я обязан заботиться. Если бы прибыла 83-я полубригада в 3500 человек, известных всей армии, я взял бы на себя ответственность за всё! Может, через несколько дней недостаточно будет и сорока тысяч!» Обращаясь с этими горькими жалобами к правительству, Бонапарт выказывал перед своими солдатами полную уверенность в успехе; он заставлял офицеров повторять, что предстоит усилие, и это усилие – последнее; с уничтожением Альвинци средства Австрии будут истощены навсегда, Италия будет завоевана, мир обеспечен, а слава армии обессмертится. Его присутствие, его слова возбуждали в солдатах былое мужество. Больные, истомленные лихорадкой, узнав об опасности, они толпами выходили из госпиталей и становились в ряды. Австрийцы в тот же день подошли к Вероне и продемонстрировали лестницы, приготовленные для штурма города. Веронцы радовались, надеясь, что через несколько часов Альвинци соединится в их городе с Давидовичем и уничтожит французов. Немногие горожане, скомпрометированные своей преданностью последним, печально пересчитывали немногочисленные ряды французских войск. Армия с беспокойством ожидала приказа своего генерала и каждую минуту надеялась, что он предпишет движение. Однако 14 ноября прошло, а против обыкновения приказа по армии объявлено не было. Но Бонапарт не терял времени и, обдумав план действий, принял одно из тех решений, которые гению внушает отчаяние. К ночи вышел приказ всей армии стать под ружье; было предписано строгое соблюдение тишины. Все выступают; теперь уже не идут вперед, а отступают, переходят Адидасе по мостам в Вероне и выходят из города на Милан. Армия начинает думать, что действительно производится отступление и от защиты Италии отказались: печаль овладевает солдатами. На некотором расстоянии от Вероны сворачивают налево и, вместо того чтобы отойти от Адидасе, спускаются вниз по его течению на четыре лье. После нескольких часов пути прибывают в Ронко, где заботами главнокомандующего наведен мост; с восходом вновь переходят реку, которую уже считали было оставленной навсегда. Маневр был необыкновенный и должен был удивить обе армии. Адидже, выходя из Вероны, меняет свое направление к востоку: при этом река подходит к дороге из Вероны к Бренте, на которой располагался Альвинци. Прибыв в Ронко, Бонапарт выходил во фланг и почти в тыл австрийцев. Перейдя мост, он вступал в низменную болотистую местность; движение по этому пространству возможно было только по плотинам, из которых одна шла по Адидже вверх и влево на Верону, а другая проходила вправо к селению Арколе, переходила перед ним небольшую речку Альпоне, направлялась по левому берегу Альпоне к Вилланове, в тыл позиции Кальдиеро. Итак, Бонапарт нашел в Ронко ключ двух путей, выходивших на большую дорогу, занятую австрийцами: один между Кальдиеро и Вероной, другой между Кальдиеро и Виллановой. Согласно его расчету, превосходство неприятеля в численности исчезало среди болот: развернуться можно было только на плотинах, а следовательно, всё решала храбрость. С левой плотины, выходившей между Вероной и Кальдиеро, Бонапарт мог напасть на австрийцев, если бы они решились штурмовать Верону. С правой, переходившей Альпоне, он выходил к Вилланове, в тыл Альвинци, мог захватить его парки и обозы и отрезать путь к отступлению. Сами французы при этом оставались неприступными в Ронко. Бонапарт приказал запереть ворота Вероны и оставил в ней Кильмена с полутора тысячами человек – выдерживать первый приступ. Эта смелая и глубокая комбинация поразила армию, солдаты немедленно разгадали ее и начали надеяться на успех. Утром Бонапарт направил главные силы двумя колоннами: дивизия Массена двинулась по направлению к Порчиле, а дивизия Ожеро к Арколе. Сначала Массена ограничился положением наблюдателя на левой плотине; Ожеро же нужно было перейти Альпоне по Аркольскому мосту. Несколько кроатских[21] батальонов занимали левый берег Альпоне и приготовились обстреливать мост ружейным и артиллерийским огнем. Они встретили огнем авангард Ожеро и принудили его отступить. Ожеро пытался вернуть свои войска, но неприятельский огонь с моста и противоположного берега вновь остановил их. Между тем Альвинци, обратив все внимание на Верону и рассчитывая, что французская армия всё еще находится в ней, был крайне поражен, заслышав сильный ружейный огонь среди болота. Он никак не предполагал, что Бонапарт изберет для нападения местность такого рода, и считал, что это только отряд легкой пехоты. Вскоре, однако, кавалерия уведомила его, что идет настоящее сражение. Не разобравшись до конца, Альвинци послал обе дивизии: Проверы по левой плотине, а Митровского по правой. Массена при приближении австрийцев дает им время вытянуться на узкой плотине; затем стремительно кидается на них, теснит и сбрасывает в болото; австрийцы теряют множество солдат убитыми и утопшими. Дивизия Митровского, прибыв в Арколе, дебуширует за мост и следует по плотине в том же порядке, что и дивизия Проверы. Ожеро атакует ее, теснит и сбрасывает часть в болото. Он преследует ее и хочет перейти мост за дивизией по пятам; но мост защищен еще основательнее, чем утром: многочисленная артиллерия охраняет подступы к нему, а австрийская легкая пехота, заняв левый берег Альпоне, поражает метким огнем французскую колонну, двигающуюся узким фронтом по плотине вдоль правого берега ручья. Ожеро хватает знамя и бросается с ним на мост; солдаты следуют за ним, но страшный огонь заставляет их отступить. Генералы Ланн, Вердье, Бон и Верне тяжело ранены. Колонна отступает, и солдаты спускаются на откосы плотины, чтобы укрыться за нею от неприятельского огня. Бонапарт видел из Ронко движение неприятельской армии, которая, узнав об опасности, грозившей ее сообщениям, спешно отступала в Кальдиеро. Ему было горько видеть, что план его не даст уже теперь всех результатов, каких он мог ожидать. Он уже послал Гюйо с бригадой перейти Альпоне ниже Ар коле, но на совершение переправы требовалось несколько часов, а чтобы встать в тыл сообщениям Альвинци и окончательно поразить его, следовало завладеть Арколе немедленно: от этого зависела судьба всей Италии. Бонапарт не колеблется, он скачет к мосту, сходит с лошади, обращается к солдатам, усевшимся на откосе плотины, и вопрошает, не они ли победители при Лоди? Он воодушевляет их своей речью и, хватая знамя, кричит: «Следуйте за вашим генералом!» В ответ на его призыв несколько солдат встают, всходят на плотину и идут за ним; к несчастью, этот порыв не сообщается всей колонне, часть ее остается позади плотины. Бонапарт идет вперед со знаменем в руках, под градом пуль и картечи. За ним следуют его генералы. Ланн, дважды раненый в этот день, получает третью рану. Молодой Мюирон, адъютант главнокомандующего, прикрывает его собой и падает мертвый к его ногам. Колонна уже готова перейти мост, но ее останавливает последний залп. Хвост и голова колонны разрываются. Тогда солдаты, окружавшие главнокомандующего, увлекают его из-под выстрелов и хотят посадить на лошадь. Австрийская колонна атакует их и отбрасывает в беспорядке в болото. Бонапарт падает и вязнет в нем. Солдаты видят опасность его положения. «Вперед! – кричат они. – Нужно спасти генерала!» К Бонапарту бросаются, вытаскивают его из грязи, сажают на лошадь, и он уезжает в Ронко. В это время Гюйо удалось перейти Адидже ниже Арколе и завладеть селением с другого берега. Но было уже поздно: Альвинци успел отвести свои парки и обозы, развернулся на равнине и был в состоянии предупредить намерения Бонапарта. Итак, героизм и гений на этот раз оказались бесплодными. Бонапарт мог избежать преграды в Арколе, наводя мост на Адидже ниже Ронко, в Альбаредо, там, где в Адидже впадает Альпоне. Но тогда предстояло развернуться на равнине, чего он хотел избежать, и тогда нельзя было бы идти левой плотиной на помощь Вероне. Избрав такой способ действия, Бонапарт был прав: хоть он и не добился окончательного успеха, тем не менее достиг важных результатов. Альвинци оставил свою грозную позицию при Кальдиеро и сошел в равнину; он не угрожал более Вероне и понес значительный урон в болотах. Обе плотины оставались единственным полем сражения, что обеспечивало преимущество храбрости над численностью. Наконец, к французским солдатам, воодушевленным борьбой, возвратился их прежний воинственный дух. В то же время Бонапарт должен был заботиться о своем левом крыле, оставленном в Ла Короне и Риволи: каждую минуту оно могло быть опрокинуто, и следовало оставаться в готовности подать ему помощь. На этом основании Бонапарт отступил от Арколе, вновь перешел Адидже в Ронко и расположился на ночлег за рекой, дабы быть в состоянии подать помощь Вобуа, если узнает ночью о его поражении. Так прошел первый день боя – 15 ноября (25 брюмера).
Ночью не пришло никаких дурных известий. Вобуа по-прежнему держался в Риволи. Славное дело в Кастильоне защищало Бонапарта с этой стороны: Давидович, командовавший корпусом в этом сражении, настолько живо помнил французского генерала, что не решался наступать, не получив от Альвинци определенных вестей. Обаяние гения Бонапарта как бы заменяло самое его присутствие. Начинается 16 ноября, противники опять встречаются на обеих плотинах. Французы атакуют австрийцев в штыки, сбрасывают значительное число их в болото и берут много пленных, а также несколько знамен и орудий. Бонапарт завязывает перестрелку по берегу Альпоне, но не пытается переправиться через ручей. С наступлением ночи он опять отводит свои колонны за плотины на другой берег Адидже, довольный тем, что в течение дня истощил неприятеля. Вторая ночь проходит так же: от Вобуа приходят успокоительные известия. Можно посвятить третий день последнему бою с Альвинци. Наконец над этим ужасным местом резни в третий раз встает солнце. Семнадцатое ноября 1796 года. Бонапарт высчитывает, что неприятель потерял убитыми, ранеными, утопшими и пленными около трети армии. Он полагает австрийцев усталыми, павшими духом, его же солдаты полны воодушевления; тогда он решается оставить плотины и перенести сражение на равнину, за Альпоне. Как и в предыдущие дни, сражение началось дебушированием французов из Ронко и атакой австрийцев на плотинах: Массена по-прежнему наступает по левой плотине, по правой же наступает генерал Робер, так как Ожеро поручено переправиться через Альпоне близ впадения его в Адидже. Массена встречает сильный отпор, но этот храбрец тут же надевает свою шляпу на острие шпаги и идет впереди солдат. Как и в предыдущие дни, неприятель несет значительный урон убитыми, утопшими и пленными. Генерал Робер на правой плотине сначала наступает успешно; но его убивают, а колонна отходит до моста в Ронко. Бонапарт, видя опасность, помещает 32-ю полубригаду в ивовом лесу у плотины. Тогда как неприятельская колонна, победившая Робера, наступает, французская полубригада внезапно выходит из засады, берет ее во фланг и отбрасывает в страшном беспорядке. Большая часть из трех тысяч кроатов, составлявших эту колонну, убита или взята в плен. Очистив плотины, Бонапарт решается перейти Альпоне: Ожеро уже перешел его на правом крыле. Бонапарт переводит Массена с левой плотины на правую, направляет его на Арколе и наконец располагает свою армию на равнине против Альвинци. Прежде чем начать атаку, Бонапарт хочет напугать австрийцев и прибегает к военной хитрости. Большое болото, покрытое камышом, защищало левый фланг неприятельского расположения: он отряжает двадцать пять человек собственной гвардии под командованием батальонного командира Эрюоля, чтобы они пробрались через камыш и застали австрийцев врасплох кавалерийским сигналом атаки. Пока эти двадцать пять храбрецов собираются исполнить приказание, Бонапарт приказывает Массена и Ожеро атаковать. Они стремительно бросаются на австрийцев, те держатся, вдруг слышат звук труб, воображают, что их атакует целая кавалерийская дивизия, и отступают; тем более что в это время вдали появляется гарнизон Леньяго, которому Бонапарт приказал выйти австрийцам в тыл. После 72-часового сражения, истомленные и упавшие духом, австрийцы уступают победу нескольким тысячам храбрецов и гению великого полководца. Истощенные своими усилиями, обе армии ночевали прямо на равнине. Утром Бонапарт начал преследовать австрийцев по направлению к Виченце. Дойдя до дороги на Верону через Вилланову, он послал кавалерию заканчивать преследование отступающего неприятеля, а сам повернул на Кальдиеро и Верону, на помощь к Вобуа. На пути Бонапарт узнал, что последний был вынужден оставить Ла Корону и Риволи и отступить к Кастельнуово. Он ускорил свой марш и вечером того же дня вступил в Верону, миновав поле сражения, оставленное Альвинци. Бонапарт вступил в город со стороны противной той, которой вышел. Трудно передать удивление веронцев, когда они увидели эту горсть людей, недавно отступавших через Миланские ворота, а теперь вступающих победителями в Венецианские. Друзья и враги не могли сдержать удивления в отношении главнокомандующего и солдат, столь славно повернувших в свою сторону судьбу войны. С этой минуты никто уже не надеялся и не боялся, что французы могут быть изгнаны из Италии. Бонапарт направил Массена на Кастельнуово, а Ожеро на Дольче левым берегом Адидасе. Давидович, атакованный со всех сторон, был оттеснен в Тироль, потеряв значительное число пленными. Бонапарт ограничился тем, что занял позиции при Ла Короне и Риволи, но в Тироль уже более не вступал. Французская армия сильно ослабела после столь длительной борьбы. Австрийцы, хоть и потеряли 5 тысяч пленными и 8—10 тысяч убитыми и ранеными, имели еще 40 тысяч человек; они отступили, чтобы опереться на Тироль и Бренту, но пострадали далеко не так, как армии Вурмзера и Больё. Малочисленная французская армия могла их только оттеснить, но не уничтожить. Вынужденный вследствие этого отказаться от преследования, Бонапарт ограничился занятием Адидже от Дольче до моря.
 Бонапарт на Аркольском мосту
Бонапарт на Аркольском мосту
Как в Италии, так и во Франции этой новой победе крайне обрадовались. Повсюду удивлялись упорному гению, сумевшему устоять с 15 тысячами перед большой армией; гению изобретательному и глубокому, сумевшему увидеть в плотинах Ронко новое поле сражения. Особенно же прославляли героизм, проявленный на Аркольском мосту, и повсюду изображали молодого полководца со знаменем в руках среди дыма и огня. Оба совета объявили, что Итальянская армия заслужила признательность Отечества, и решили даровать Бонапарту и Ожеро знамена, отбитые ими на Аркольском мосту; этот дар должен был храниться в их семействах: прекрасная и благородная награда, достойная героического времени, более славная, чем корона, присужденная впоследствии всемогущему гению слабостью!
Глава LI
Кларк в главной квартире Итальянской армии – Отъезд Малмсбери – Экспедиция в Ирландию – Административные труды Директории в течение зимы года V – Капитуляция Келя – Победа при Риволи – Взятие Мантуи – Окончание достопамятной кампании 1796 годаГенерал Кларк прибыл в главную квартиру Итальянской армии, откуда затем должен был отправиться в Вену. Его поручение теряло свое главное основание, так как сражение при Арколе делало перемирие бесполезным. Бонапарт, мнение которого Кларку приказали выслушать, совершенно основательно не одобрял перемирия и его условий. Цель перемирия могла быть теперь только одна – спасти форт Кель на Рейне, осада которого велась эрцгерцогом Карлом; для достижения этой второстепенной цели жертвовали Мантуей. Кель представлял собой только тет-де-пон для вторжения в Германию, и без него было легко обойтись. Взятие же Мантуи влекло за собой окончательное завоевание Италии и позволяло требовать за нее Майнц и всю рейнскую границу. Перемирие явно вредило покорению крепости: Мантуя, наполненная больными, при нынешнем довольствовании ее гарнизона полурационами не могла более чем на месяц оттянуть свою сдачу, а продовольствование ее во время перемирия возвращало гарнизону и здоровье, и силы. Самый размер довольствования не мог быть определен точно, и Вурмзер, экономя его, мог сберечь средства для продолжения сопротивления в случае возобновления неприятельских действий. Итак, ряд побед, одержанных для прикрытия блокады Мантуи, становился бы тогда бесполезным, и пришлось бы начинать всё снова. Кроме того, Австрия не замедлила бы включить в перемирие и папу, а тогда теряли возможность наказать его и получить двадцать или тридцать миллионов, которые могли бы удовлетворить потребности армии и послужили бы для расходов на следующую кампанию. Наконец, Бонапарт, предвидя будущее, советовал не только не прерывать военных действий, но, напротив, продолжать их и перенести войну на ее настоящий театр, послав в Италию тридцать тысяч подкрепления. В таком случае он обещал идти на Вену, добиться в течение двух месяцев мира, рейнской границы и учреждения в Италии республики. Без сомнения, эта комбинация отдавала в его руки весь ход войны и ее политическое значение; но была она бескорыстна или нет – она была основательна и глубока, и будущее доказало ее уместность. Тем не менее, повинуясь распоряжениям Директории, австрийским главнокомандующим предложили перемирие на Рейне и Адидже и просили у них паспорт Кларку. Эрцгерцог Карл отвечал Моро, что не уполномочен принимать предложения о перемирии и следует обратиться с ними к придворному совету. Альвинци отвечал то же и отправил в Вену курьера. Австрийский посол, втайне преданный Англии, было мало расположен выслушивать предложения Франции. Лондонский кабинет сообщил ему о поручении лорда Малмсбери; его постарались убедить, что император достигнет больших выгод, приняв участие в переговорах, открытых в Париже, чем вступая в отдельную сделку, так как Англия жертвует своими колониальными завоеваниями, только чтобы возвратить Австрии Нидерланды. Кроме обещаний Англии, Венский кабинет имел и другие основания отклонить предложения Директории: он надеялся в весьма непродолжительное время завладеть Келем; тогда французы, сдерживаемые Рейном, не имели бы места, где его перейти, и можно было отделить новые отряды на Адидже. Пополнив отряды, можно было решиться еще на одну попытку в Италии, а может, и раздавить наконец страшную армию, погубившую столько австрийских батальонов. Немецкая настойчивость на этот раз оправдывала свою репутацию; несмотря на столько неудач, Австрия не отказывалась от обладания прекрасной Италией. Вследствие всего вышеизложенного Кларка отказались принять в Вене: боялись постороннего наблюдателя в столице империи и притом не хотели вести прямых переговоров. Перемирие соглашались допустить на Адидже, но не на Рейне. Кларку отвечали, что если он отправится в Виченцу, то найдет там для совещаний барона Винсента. Свидание их в Виченце состоялось. Австрийский уполномоченный заявил, что император не может принять посланника Республики, так как это равнялось бы ее признанию; что же до перемирия, то он согласен допустить его только в Италии. Непонятно, как австрийское правительство могло сделать такое странное предложение, так как оно спасало Мантую и жертвовало Келем; нужно было считать французов глупцами, чтобы думать, что они на это согласятся. Однако Австрия всё же желала сберечь себе возможность сепаратных переговоров, а потому объявила французскому комиссару через своего посланника, что если он может предложить условия мира, то пусть обратится с ними в Турин, к австрийскому посланнику в Сардинии. Таким образом, благодаря внушениям Англии и неосновательным надеждам венского двора, опасный план перемирия был отстранен. Кларк отправился в Турин, чтобы воспользоваться в случае нужды посредником, рекомендованным ему венским двором. У него было и другое поручение – наблюдать за генералом Бонапартом. Гений молодого человека казался столь необыкновенным, характер же его – столь независимым и энергичным, что без всякого основательного повода опасались его честолюбия. Он хотел вести войну вполне самостоятельно и подал в отставку, когда его решили заставить следовать другому плану; он пользовался в Италии фактически верховными правами, даруя тамошним владетелям мир в виде перемирия или объявляя им войну; высокомерно жаловался, что переговоры с папой не проводились им одним, и требовал, чтобы они были поручены только ему; он жестоко обращался с комиссарами Гарро и Саличетти, когда они позволяли себе меры, ему не нравившиеся, и принудил их оставить главную квартиру; он позволял себе, наконец, посылать суммы различным армиям без разрешения правительства и без необходимого посредничества казначейства. Все эти факты указывали лишь на человека, который любит делать сам то, на что считает способным только себя. Это было нетерпение гения, не выносившего помех в своей работе, но ведь этим-то нетерпением и начинает проявляться деспотическая воля. Видя, как он возбуждает к восстанию Северную Италию, образует и уничтожает государства, говорили, что он желает сделаться владетельным герцогом Милана. Его честолюбие предчувствовали точно так же, как он предчувствовал упрек в нем. Бонапарт жаловался, что его обвиняют, и старался оправдаться, хотя Директория не подавала ему повода ни одним намеком. Итак, Кларк должен был наблюдать. Бонапарта об этом предупредили, и он повел себя со свойственным ему высокомерием и ловкостью: дал понять генералу, что ему известна цель его присутствия, затем подчинил его себе своим превосходством и обаянием, как говорят, столь же непреодолимым, как и его гений, и вполне привязал его к себе. Кларк был умен и слишком тщеславен для роли вкрадчивого шпиона. Он остался в Италии, бывая то в Турине, то на главной квартире, и принадлежал более Бонапарту, чем Директории.
Английский кабинет затягивал переговоры в Париже, насколько это было в его силах; но французское правительство своими ясными и немедленными ответами принудило лорда Малмсбери наконец объясниться. Посол вновь написал в Лондон и двенадцать дней спустя, 26 ноября (6 фримера), отвечал, что его двор ничего не может более добавить до тех пор, пока Директория не примет начал, положенных в основание переговоров. Последнее было уверткой, потому что, требуя обозначения земель, которые могли быть обменены, Франция тем самым уже допускала саму мысль о вознаграждении. Директория ответила на следующий же день, как и прежде, четырьмя строчками: французы говорили, что предшествующая нота подразумевала принцип вознаграждения; что, впрочем, они принимают его и формально и просят только сообщить немедленно, каким образом Англия хочет его применить. Директория спрашивала также, должен ли будет лорд Малмсбери каждый раз писать в Лондон. Посланник был вынужден туманно отвечать, что будет писать всякий раз, как вопрос потребует новых инструкций. Он написал еще раз и еще двадцать дней не получал ответа. Было уже вполне очевидно, что следует выйти из тумана и приступить к вопросу о Нидерландах. Объясниться по этому вопросу значило прервать переговоры, и понятно, что английское правительство старалось как можно дольше их оттянуть. Наконец 18 декабря лорд Малмсбери потребовал свидания с министром Делакруа и передал ему ноту, в которой были изложены притязания английского правительства. Франция возвращает континентальным державам все свои завоевания на материке: Австрии – Бельгию и Люксембург, а Германской империи – владения на левом берегу Рейна; освобождает Италию и возвращает ей прежнее политическое устройство; Голландии для ее политической независимости Франция тоже должна вернуть некоторые территории, как, например, приморскую Фландрию, и согласиться на некоторые изменения в ее настоящей конституции. Английский кабинет обещал возвратить Голландии колонии только в случае возобновления в ней штатгальтерства, да и то не все: некоторые он должен был удержать в виде вознаграждения за войну, в том числе мыс Доброй Надежды. И за все эти жертвы Франции предлагали два или три острова в Вест-Индии, потерянные во время войны, – Мартинику, Сент-Люсию, Тобаго, – с оговоркой, что Сан-Доминго не может быть возвращен весь. Итак, Франция, после начатой не ею войны, из которой она вышла победительницей, не приобретала ни одной провинции, тогда как северные державы разделили целое королевство, а Англия получила в Индии огромные территории! Франция занимала Рейн и Италию и должна была очистить их лишь на основании одного требования Англии! Подобные нелепые условия не могли быть приняты; одно предложение их было оскорбительно и не могло быть выслушано. Тем не менее министр Делакруа выслушал их вежливо, что удивило английского посланника и подало ему надежду на возможность продолжения переговоров. Делакруа представил в ответ весьма неосновательный довод: Нидерланды, по конституции, составляют нераздельную часть национальной территории. Английский посланник отвечал ему не лучшим доводом, заявляя, что на основании Утрехтского договора Нидерланды по-прежнему принадлежат Австрии. Конституция могла быть обязательной для французской нации, но она ни в чем не касалась и ни к чему не принуждала иностранцев. Единственное основание, которое мог представить французский министр в пользу присоединения Нидерландов к Франции, это лишь то, что такое присоединение справедливо, соответствует всем естественным и политическим условиям и оправдывается победой. После долгого обсуждения второстепенных вопросов послы расстались. Делакруа доложил о переговорах Директории, которая, справедливо раздраженная, решилась отвечать английскому посланнику так, как он того заслуживал. Нота английского посла была не подписана, а только приложена к подписанному письму, и Директория потребовала, чтобы ноту облекли в обычные формы; затем от английского посланника потребовали последнего ультиматума в двадцать четыре часа. Смущенный лорд Малмсбери отвечал, что нота подлинная, так как приложена к подписанному письму, что касается ультиматума, то противно всем обычаям требовать его так внезапно. На следующий день, 19 декабря, Директория объявила, что не выслушает никакого предложения, противного законам и договорам, связывающим Республику; что если лорду Малмсбери необходимо каждый раз прибегать к своему правительству, то в таком случае присутствие его в Париже бесполезно, а потому его и всю его свиту приглашают выехать из Франции в сорок восемь часов; если английское правительство примет условия, предложенные Французской республикой, для переговоров будет достаточно одних курьеров. Так кончились переговоры, в которых Директория, не отступая далеко от принятых дипломатических форм, подала истинный пример откровенности в своих сношениях с враждебно настроенными державами. Правительство сильное и победоносное говорит иным языком, чем правительство слабое и побежденное; республике, опиравшейся на право и победу, было вполне прилично говорить языком смелым и категоричным, и притом гласно.
Между тем в это самое время приводился в исполнение обширный замысел Гоша относительно Ирландии. Этого-то именно и опасалась Англия, так как успех этого проекта мог оказаться для нее гибельным. Несмотря на ловко распущенные слухи об экспедиции в Португалию или Америку, Англия хорошо поняла цель приготовлений, производившихся в Бресте. Питт поднял ополчение, вооружил берега, отдал приказ в случае высадки французов перевозить всё внутрь страны. Положение Ирландии давало повод к большим опасениям. Сторонники парламентской реформы и католики представляли на этом острове достаточный для восстания контингент. Они охотно приняли бы республиканскую форму правления под гарантии Франции и с этой целью послали в Париж тайных агентов для соглашения с Директорией. Гош, потративший два года своей жизни на Вандею и видевший большие театры войны занятыми Бонапартом, Моро и Журданом, горел желанием открыть себе таковой в Ирландии. Англия была столь же благородным противником, как и Австрия, борьба с ней и победа над ней представляли столько же чести. Новая республика создавалась в Италии и становилась там очагом свободы. Гош считал делом возвышенным и вполне возможным воздвигнуть подобную же в Ирландии бок о бок с английской аристократией. Он близко сошелся с морским министром, адмиралом Трюге, человеком с такими же высокими идеалами. Оба дали обещание усилить значение флота и достичь великих результатов; умы тогда были заняты работой, все замышляли чудеса для славы и счастья своего отечества. Наступательный и оборонительный союз с Испанией, заключенный в Сан-Ильдефонсо, давал большие средства и позволял составлять обширные планы. Соединив тулонскую эскадру с флотом Испании и сосредоточив их в Ла-Манше вместе со всеми морскими силами Франции, можно было попытаться в морском сражении освободить моря от Англии или по меньшей мере зажечь возмущение в Ирландии и остановить успехи Англии в Индии. Адмирал Трюге, сознававший необходимость подать Индии помощь, не желал, чтобы брестская эскадра дожидалась соединения с прочими французскими и испанскими судами в Ла-Манше; он хотел, напротив, чтобы она немедленно вышла в море, высадила армию Гоша в Ирландии, оставила на кораблях несколько тысяч моряков, затем отправилась бы в Иль-де-Франс, забрала батальоны негров, которые там уже были организованы, и перевела эти войска в Индию для поддержания Типу-Саиба[22]. Эта обширная экспедиция имела тот недостаток, что высаживала в Ирландии только часть экспедиционной армии, подвергая ее в то же время случайностям в ожидании весьма неточного соединения тулонской эскадры Вильнева с разбросанной по всем портам испанской эскадрой и эскадрой Ришери, возвращавшейся из Америки; потому она и не была исполнена. В ожидании прибытия Ришери, несмотря на плачевное состояние финансов, приложили необыкновенные усилия для вооружения брестской эскадры, и в декабре она была в состоянии выйти в море. Составляли ее пятнадцать линейных кораблей, двадцать фрегатов, шесть грузовых судов и пятьдесят транспортных; всего она могла поднять на бортдвадцать две тысячи человек. Гош никак не мог сойтись с Вилларе-Жуайёзом, тогда его заменили контр-адмиралом Мораром де Галем. Экспедиция должна была высадиться в заливе Бантри. Каждый капитан корабля получил запечатанный приказ, где указывался путь следования и места якорных стоянок на случай задержки.
Экспедиция вышла в море 16 декабря (26 фримера). Гош и Морар де Галл плыли на фрегате. Благодаря густому туману французская эскадра избегла английских крейсеров и прошла море, не будучи замеченной. В ночь на 17-е страшная буря рассеяла эскадру; один корабль пошел ко дну. Контр-адмирал Буве маневрировал в течение двух дней и успел собрать ее всю, за исключением одного корабля и трех фрегатов. К несчастью, в их числе был и фрегат, на котором находились Гош и Морар де Галл. Эскадра обошла мыс Клир и держалась за ним несколько дней, ожидая обоих командующих. Наконец 24 декабря (4 нивоза) она вступила в залив Бантри. Военный совет решил произвести высадку, но ее нельзя было совершить вследствие дурной погоды; эскадре пришлось вновь отойти от берегов Ирландии. Буве, смущенный столькими препятствиями и не имея никаких сведений от своих начальников, опасался, что ему не хватит продовольствия, а потому решил отплыть к берегам Франции. Гош и Морар де Галл наконец прибыли в залив Бантри и там узнали об отбытии французской эскадры. Им пришлось возвращаться среди неслыханных опасностей: преследуемые англичанами и выдержав сильную бурю, они чудом достигли берегов Франции. Корабль «Права человека» под командованием капитана Лакросса был отделен непогодой от эскадры и совершил чудеса: атакованный двумя английскими кораблями, он уничтожил один из них, ушел от другого, но лишенный мачт и парусов потерпел кораблекрушение. С трудом успели спасти только часть экипажа. Так закончилась эта экспедиция, весьма беспокоившая Англию и открывшая ее уязвимую сторону. Директория не отказалась от этого проекта вовсе, но в настоящее время хотела направить все усилия на континент, дабы принудить к миру Австрию. Экспедиционный корпус пострадал мало, его высадили, оставили на берегах достаточно сил для сохранения порядка в стране, а остальную часть войск бывшей Армии Берегов Океана направили к берегам Рейна. Отставка Журдана, который вследствие плачевного исхода кампаний не хотел сохранять за собой звание главнокомандующего и был временно замещен Бернонвилем, позволила вознаградить Гоша, давно того заслуживавшего своим патриотизмом и талантами.
Зимнее время года (январь 1797 года) не приостановило этой памятной кампании. На Рейне эрцгерцог Карл осаждал Кель и Гюнингенский тет-де-пон; на Адидже Альвинци готовил новое и последнее наступление на Бонапарта. Внутреннее состояние Республики было довольно спокойно: всё внимание партий было обращено на театры войны; значение и сила правительства росли или падали в зависимости от его военных успехов. Последняя победа при Арколе придала Директории большой блеск и исправила дурное впечатление, произведенное отступлением рейнских армий, хотя это усилие отчаянной храбрости и не обеспечило еще полного обладания Италией. Было известно, что Альвинци получает новые подкрепления, а папа вооружается; враждебно настроенные люди утверждали, что Итальянская армия истощена, что ее главнокомандующий, утомленный трудами беспримерной кампании, болен и не может даже сесть на лошадь. Мантуя всё еще не была взята, и январь внушал новые опасения. Пользуясь свободой печати, газеты обеих партий продолжали свои нападки на правительство. Печать контрреволюционеров в ожидании весны, периода выборов, старалась возбудить общественное мнение и расположить его в свою пользу. Со времени последних поражений роялистов в Вандее становилось очевидным, что единственным оружием для уничтожения республики и свободы было одно – воспользоваться этой самой свободой и подготовить благоприятные для себя выборы. Директория с нетерпимостью относилась к необузданности прессы, от чего при таких обстоятельствах не может защититься даже самое просвещенное правительство. Хотя и свыкшаяся уже со свободой, она пугалась языка, которым эта свобода высказывалась в некоторых газетах; правительство еще не дошло до убеждения, что не следует касаться свободы слова; что лжи нечего опасаться, какую бы ей ни придавали гласность, потому что она сама говорит против себя; что правительство гибнет перед истиной, и особенно перед истиной подавленной. От обоих советов требовали законов против злоупотреблений печати. Против этого восстали, воспринимая это требование как предлог стеснить свободу выборов; и мера эта не была принята. Ограничились лишь двумя распоряжениями: определением ответственности за клевету на частных лиц и запрещением уличным газетчикам предлагать публике издания не по их названию, а выкрикивая из них отдельные и часто весьма неприличные фразы. Директория хотела сама иметь официальный орган правительства. Совет пятисот соглашался на это, но Совет старейшин воспротивился, и решение не было принято. Дурное состояние финансов влекло за собой те же последствия, какие возникают в семействах: расстраивало союз Директории с законодательным корпусом. Директория жаловалась, что не все ее меры принимаются советами, адресовала им тревожное послание и напечатала его, как бы желая свалить ответственность за проблемы в обществе на советы, если они не примут ее предложений. Вот как выражались директоры в этом послании от 16 декабря (25 фримера): «Недостаток чувствуется во всех ведомствах государственной службы. Войска не получают вовремя своего содержания, защитники отечества оказываются в нищете, их храбрость ослабляется; отвращение к службе, как естественное последствие такого положения дел, влечет за собою дезертирство. Госпитали ничем не снабжены, не отапливаются, в них нет лекарств. Благотворительные учреждения находятся в таком же нищенском положении и вынуждены отказывать нищим и больным, для которых они являлись последним прибежищем. Кредиторы государства и подрядчики, на которых лежит забота о снабжении армий, получают только незначительную часть сумм, которые им следуют; нищета отдаляет от этого занятия людей, которые могли бы исполнять те же обязанности с большей точностью или по более выгодной цене. Дороги окончательно испорчены, сообщения прерваны. Должностные лица не получают жалованья; почти повсеместно судьи и чиновники поставлены перед ужасным выбором – или влачить свое существование в нищете, или обесчестить себя и дать вовлечь в интриги. Злоумышленники волнуются повсюду; во многих местностях организуется разбой, полиция же, бездеятельная и бессильная, не может остановить беспорядки, так как лишена всяких средств». Советы были раздражены публикацией этого послания, которое как бы сваливало на них все несчастья государства; они живо порицали нескромность Директории, но тем не менее немедленно приступили к рассмотрению ее предложений. Звонкая монета имелась везде, только не в сундуках казначейства. Налоги, взимаемые теперь звонкой монетой и бумажными деньгами по курсу, поступали медленно. За назначенные в продажу национальные имущества уже было частично уплачено, срок прочим взносам еще не истек. Итак, положение дел оставалось тем же, что и прежде. Значительные улучшения предстояли в бюджете на год V. Как уже было сказано, бюджет разделили на две части: обыкновенные расходы в 450 миллионов и чрезвычайные в 550. Поземельный налог, доведенный до 250 миллионов, налог на роскошь в 50 миллионов, таможенные пошлины, гербовый сбор и канцелярские пошлины общей суммой до 150 миллионов должны были доставить 450 миллионов на обыкновенные расходы. Чрезвычайные должны были быть покрыты прежними недоборами налогов и взносами за национальные имущества. Впредь налог должен был взиматься звонкой монетой. Оставалось еще немного мандатов и ассигнаций, которые немедленно уничтожались и принимались в уплату недоборов только по курсу. Таким образом, окончательно прекратился беспорядок, царивший в бумажных деньгах. Обязательный заем был наконец завершен и едва доставил реальной ценности на 400 миллионов. Недоимки должны были быть окончательно выплачены до 6 декабря (15 фримера) текущего года. Для ускорения их взимания назначались экзекуции. Распорядились о составлении списков для немедленного взимания четверти налогов V года. Теперь оставалось разрешить вопрос, каким образом пустить в обращение национальные имущества, уже не имея возможности прибегнуть к бумажным деньгам. Следовало еще получить последний, шестой взнос за национальные имущества, и решили ускорить этот платеж, потребовав от скупщиков письменных обязательств на срок, в который они должны были произвести взносы: обязательства эти обеспечивались самыми имуществами. С помощью этой меры могли получить более чем на восемьдесят миллионов обязательств, которые поставщики охотно принимали. Правительству более не доверяли, доверяли частным лицам; восемьдесят миллионов обязательств частных лиц имели ценность, какую никогда бы не имели бумаги, выпущенные и гарантированные правительством. На будущее определили взносы при продаже национальных имуществ следующим образом: десятая часть звонкой монетой, пять десятых ордерами, выданными министрами, или ассигновками, полученными подрядчиками, четыре десятых же – четырьмя обязательствами покупателей имуществ, обеспечиваемыми приобретаемой ими землей; каждый год следовало платить по одному из них. Потеряв таким образом кредит, прибегали к кредиту частных лиц; будучи не в состоянии выпускать бумажные деньги, обеспечиваемые поземельным имуществом, требовали от приобретателей этого имущества таких же ценных бумаг, только с их личной подписью; наконец, подрядчикам, если они того желали, платили тоже землями. Все эти распоряжения заставляли надеяться на усиление порядка в государственном хозяйстве и на поступление хоть части доходов. Для безотлагательных нужд военного министерства ему определили на месяцы, посвященные приготовлениям к новой кампании, сумму в 140 миллионов, из которых 33 должны были быть отнесены к обыкновенным расходам, а 27 – к чрезвычайным. Все статьи были обеспечены, и можно было ждать немедленных поступлений. Должностные лица получили содержание звонкой монетой; то же хотели сделать и в отношении владельцев рент, но, не имея пока возможности платить им металлическими деньгами, выдавали билеты на предъявителя, которые принимались в уплату наравне с ордерами министров и ассигновками.
Таковы были правительственные труды Директории в течение зимы года V (1796-го и 1797-го) и те средства, которые она изыскивала для войны следующего года. Прошлая кампания еще не была кончена, всё возвещало, что, несмотря на беспрерывные битвы в течение десяти месяцев, несмотря на морозы и снег, можно было еще ждать новых сражений. Эрцгерцог Карл во что бы то ни стало хотел захватить тет-де-поны Келя и Гюнингена, тем лишая французов возможности вернуться на правый берег. Директория, напротив, имела весьма основательные причины занять его, так как это помешало бы эрцгерцогу идти в Италию. Эрцгерцог уже три месяца стоял перед фортом Кель. С той и другой стороны войска прославили себя геройской храбростью, а дивизионные генералы выказали большой талант маневрирования. Дезе в особенности обессмертил свое имя смелостью, хладнокровием и искусными распоряжениями при защите этого слабо укрепленного форта. Образ же действий обоих главнокомандующих далеко нельзя было одобрить настолько же. Моро упрекали в том, что он не воспользовался своими значительными силами и не вышел на правый берег против осаждающей армии. Эрцгерцога осуждали, в свою очередь, за то, что он потратил столько усилий на предмостное укрепление. Моро сдал Кель 9 января 1797 года (20 нивоза года V); это была несущественная потеря, а продолжительное сопротивление французов лишь доказывало прочность рейнской границы. Войска пострадали мало. Моро воспользовался этим временем для усовершенствования их организации; его армия теперь представляла собой великолепное зрелище. Армия Самбры-и-Мааса, перешедшая под командование Бернонвиля, не использовалась в течение последних месяцев, но отдохнула, укрепилась многочисленными отрядами, прибывшими из Вандеи, и получила знаменитого Гоша. Директория, хоть и не владела Майнцем и потеряла Кель, все-таки могла считать положение Франции на Рейне достаточно прочным. Австрийцы, со своей стороны, гордились взятием Келя и направили теперь усилия на Гюнингенский тет-де-пон. Но все устремления императора и его министров были главным образом обращены на Италию. Деятельность администрации по усилению армии Альвинци была поистине чрезвычайной. Венский гарнизон направили в Тироль. Население столицы, преданное императорской династии, прислало 4 тысячи человек, которые составили отряд Венских волонтеров. Императрица подарила им знамя, вышитое ею собственноручно. В Венгрии произвели новый набор, с Рейна также забрали несколько тысяч солдат. Благодаря такой заслуживавшей всех похвал активности армия Альвинци была усилена 20 тысячами человек и доведена до 60 тысяч. Армия отдохнула и реорганизовалась; хотя она и имела в своих рядах некоторое число рекрутов, но большей частью состояла из закаленных солдат. Отряд Венских волонтеров состоял из молодых людей, которые хоть и были неопытны, но принадлежали к хорошим семействам, были одушевлены возвышенными чувствами, весьма преданы императору и готовы выказать высокую храбрость. Австрийцы связались с папой и побудили его упорствовать против угроз Бонапарта. Для командования его армией послали Колли и нескольких других офицеров, советуя папе двинуть войска насколько можно ближе к Болонье и Мантуе. Вурмзера известили о прибытии близкой помощи и приказали не сдаваться, а в крайнем случае – пробиться из Мантуи со всеми войсками и броситься через легатства и владения Рима на соединение с папской армией. Весьма хорошо составленный, план этот мог удаться, поскольку был рассчитан на такого храброго генерала, как Вурмзер. Старый маршал по-прежнему упорно держался в Мантуе, хотя гарнизон его довольствовался только засоленной кониной и полентой. Бонапарт готовился к последней схватке, которая должна была навсегда решить участь Италии. Он действительно был болен застарелой и дурно излеченной чесоткой, которую получил в Тулоне, собственноручно заряжая орудие. Эта малоизвестная болезнь, вместе с неслыханными трудами кампании, сильно его ослабила. Бонапарт едва сидел верхом; его щеки впали и посинели, он был крайне худ; только взор его, по-прежнему живой и проницательный, показывал, что душевный пламень всё еще не угас. Телосложение Бонапарта составляло странный контраст с его гением и репутацией, весьма занимавший солдат, любивших, при всей привязанности к нему, немного подшутить над своим генералом. Но в этом упадке сил Бонапарта поддерживали его необыкновенные страсти; они возбуждали в нем энергию и бдительность, ничего не упускавшую из виду. Он начинал, по его собственному выражению, войну против воров. В Италию набежали интриганы всякого рода, чтобы захватить должности при армии и пользоваться богатствами этой прекрасной страны. Между тем как в рейнских армиях царствовала простота и бедность, в Итальянской распространилась роскошь, которая равнялась славе армии. Солдаты, хорошо одетые и довольствуемые, благосклонно принимаемые прекрасными итальянками, наслаждались жизнью и жили в изобилии. Офицеры и генералы начинали приобретать серьезные состояния. Поставщики армии распространяли эту скандальную роскошь и покупали плодами своего лихоимства ласки красивейших женщин. Страсти были не чужды натуре Бонапарта, но в настоящее время им владела лишь одна – жажда славы; он жил скромно и воздержанно и искал отдохновения только в обществе нежно любимой супруги, прибывшей в его главную квартиру. Раздраженный беспорядками в управлении армией, он входил во все мельчайшие подробности, сам проверял хозяйственные операции, обличал и безжалостно преследовал лихоимство чиновников. Главным образом он упрекал их за отсутствие храбрости и оставление армии во время опасности. Он напоминал Директории о необходимости назначать людей испытанной энергии и требовал учредить совет, который, пользуясь правами присяжных, мог бы по одному нравственному убеждению наказывать проступки, не доказанные формально. Бонапарт охотно прощал своим солдатам и генералам наслаждения, которые не вредили их военной доблести, но не терпел людей, обогащавшихся за счет армии и не служивших ей своими подвигами или трудами. Такое же внимание и энергия выказывались им в сношениях с итальянскими державами. Продолжая лицемерить с Венецией, которая вооружалась на его глазах в лагунах Бергамской области, Бонапарт откладывал всякие объяснения с нею до сдачи Мантуи. Временно он ограничился тем, что занял цитадель Бергамо и вывел из нее венецианский гарнизон под предлогом невозможности для них выдержать нападение австрийцев; таким путем Бонапарт ограждал себя от вероломства и влиял на враждебное ему население Бергамо. В Ломбардии и Циспадании он продолжал благоприятствовать свободе, подавляя австрийскую и папскую партии и умеряя демократическую. С сардинским королем и герцогом Пармы Бонапарт поддерживал дружественные отношения. Для переговоров с тосканским герцогом и с целью повлиять на римский двор он лично отправился в Болонью. Герцог Тосканский был сильно обеспокоен присутствием французов в Ливорно; пререкания возникли с ливорнскими коммерсантами по поводу запрета на товары из стран, воюющих с Францией. Эти пререкания вызывали сильное враждебное чувство, а товары, секвестра которых с таким трудом добивались, весьма невыгодно продавались компанией, уже укравшей у армии пять или шесть миллионов. Бонапарт предпочел вступить с великим герцогом в сделку. За два миллиона он согласился очистить Ливорно, вместе с тем приобретая возможность располагать гарнизоном города. Он предполагал присоединить к гарнизону два циспаданских легиона, добавить к ним три тысячи своих войск и направить эту маленькую армию в Романью и Анкону. Ему хотелось завладеть еще двумя провинциями Папской области, наложить там запрет на папские имущества, начать взимать налоги и заставить выплатить себе таким образом невыплаченную контрибуцию; вместе с тем Бонапарт предлагал взять заложников в партии, враждебной Франции, и установить преграду между Папской областью и Мантуей. Так он разрушал предстоящее соединение Вурмзера с папской армией, влиял на папу и принуждал его подчиниться требованиям Республики. В своем раздражении Бонапарт не хотел более прощать святого отца и планировал новое политическое деление Италии. Он хотел возвратить Ломбардию Австрии и образовать могущественную республику из Модены, Болоньи, Феррары, Романьи, Анконской мархии[23] и Пармы, а герцогу последней отдать Рим, что было бы приятно Испании и вместе с тем компрометировало бы эту традиционно католическую державу. Бонапарт стал немедля приводить этот план в исполнение и направился с 3 тысячами человек к Болонье, откуда угрожал Святому престолу, уже начавшему формировать армию. Но папа, на этот раз уверенный в новой австрийской экспедиции и надеясь войти в сообщение с Вурмзером, не обращал внимания на угрозы французского главнокомандующего; он высказывал даже желание, чтобы французы двинулись в его земли глубже. В Ватикане говорили, что в случае нужды папа оставит Рим и удалится на край своих владений; чем более Бонапарт углубится в страну и удалится от Адидже, тем в более опасное положение себя поставит и тем благоприятнее будут шансы святого дела. Бонапарт, предусмотрительный в той же степени, вовсе не имел намерений нападать на Рим; он только угрожал и зорко наблюдал за Адидже, каждую минуту ожидая новой неприятельской атаки. И в самом деле, 8 января (19 нивоза) он узнал о столкновении на аванпостах, немедленно перешел По с 2 тысячами человек и отправился в Верону.
Его армия после сражения при Арколе получила подкрепления, которые ей следовало бы получить до этого сражения. С наступлением зимнего времени больные выписались из госпиталей, так что строевая численность армии дошла до 45 тысяч человек. Ее расположение оставалось прежним: около 10 тысяч под командованием Серюрье блокировали Мантую; 30 тысяч наблюдали за Адидже; Ожеро находился в Леньяго; Массена – в Вероне; Жубер, преемник Вобуа, оборонял Риволи и Ла Корону; Рей с резервной дивизией находился в Дезенцано на берегу Гарды; наконец, от 4 до 5 тысяч были оставлены в цитаделях Милана и Бергамо, а также в Циспадании. Численность приближавшихся австрийцев превышала 60 тысяч; кроме того, в Мантуе находились 20 тысяч, из которых по меньшей мере 12 были под ружьем. Численность австрийцев и на этот раз превышала численность французов вдвое. Австрийцы составили новый план наступления. Они испробовали уже все дороги, подходя к двойной оборонительной линии Минчио и Адидже. Перед Кастильоне они спустились к обоим берегам озера долинами Чиезы и Адидже. Позже вышли долинами Адидже и Бренты и атаковали Риволи и Верону. Теперь же план действий был изменен в виду соглашения с папским правительством. Главную атаку решили произвести с долины Альто-Адидже 45 тысячами под началом Альвинци; другую атаку, вспомогательную и независимую от первой, – 20 тысячами под началом Проверы: они должны были выйти к нижнему течению Адидже и открыть сообщение с Мантуей, Романьей и армией папы. Численность армии Альвинци была достаточной для того, чтобы рассчитывать на успех; наступление его должно было быть проведено независимо от движения Проверы. Выше были указаны три горные дороги из Тироля в Италию. Дорогу, обходившую Гарду, оставили после сражения при Кастильоне, но еще имелись два других пути: первый, между Адидже и Гардой, запирался позицией при Риволи, второй выходил к Вероне, во фронт расположения французов. Альвинци выбрал первую дорогу, выходившую им во фланг, а значит, ему предстояло встретить позицию при Риволи. Вот какова была эта позиция, ставшая впоследствии столь знаменитой. Горный хребет Монте Бальдо отделяет озеро Гарда от Адидже, дорога вдоль реки идет у самого подножия хребта на протяжении нескольких лье. У деревни Инканале Адидже подходит к горам и не оставляет места для дороги, она поднимается в гору зигзагами и выходит на обширное Риволийское плато; последнее нависает над течением Адидже и, в свою очередь, прикрывается лежащим позади Монте Бальдо. Армия, занимающая позицию на этом плато, угрожает дороге, поднимающейся к нему, и обстреливает оба берега Адидже. Фронтальная атака на плато была бы весьма затруднительной; а потому следовало рассчитывать на обходные пути, которыми можно было выйти на плато, оставив главную дорогу. Движение по обходным дорогам невозможно для кавалерии и артиллерии, но не затруднительно для пехоты, которая может выйти во фланг и в тыл войскам, защищающим плато. Альвинци предполагал атаковать французскую позицию со всех сторон. Двенадцатого января (23 нивоза) он атаковал Жубера на передовых позициях и оттеснил его к Риволи. В тот же день Провера выдвинул авангарды по направлению к Вероне и Леньяго: один – в Кальдиеро, другой – в Бевилаккуа. Массена выступил из Вероны, опрокинул подошедший к ней авангард и взял девятьсот пленных. В этот момент Бонапарт прибыл из Болоньи и отвел дивизию к Вероне, чтобы располагать ею по обстоятельствам. Ночью он узнал, что Жубер атакован и оттеснен в Риволи, а Ожеро заметил перед Леньяго значительные неприятельские силы. Нельзя было определить пункт, на который направлены главные силы австрийцев, а потому дивизию Массена оставили в прежнем положении, дивизии же Рея приказали двинуться в Кастельнуово, срединному пункту между верхним и нижним течением Адидже. На следующий день, 13 января, зачастили курьеры. Бонапарт узнал, что Жубера атаковали и окружили серьезные неприятельские силы и что только благодаря упорной и счастливой обороне ему удалось удержать Риволийское плато. Ожеро с низовий Адидже извещал Бонапарта о перестрелке по берегам реки, но без всякого важного результата. Перед Вероной находилось не более двух тысяч австрийцев. Теперь Бонапарту стал ясен план неприятеля, он видел, что главная атака направляется на Риволи, находил, что сил Ожеро достаточно для защиты нижнего течения Адидже, и подкрепил его только отрядом кавалерии, отделенным от дивизии Массена. Серюрье должен был продолжать блокировать Мантую и поставить свой резерв в Виллафранке, откуда он мог быть направлен в любую сторону. В Вероне Бонапарт оставил один пехотный и один кавалерийский полки и в ночь на 14 января выступил из нее с 18-й, 32-й, 60-й и 15-й полубригадами дивизии Массена и двумя эскадронами кавалерии. Рею было предписано не останавливаться в Кастельнуово и двигаться к Риволи. Бонапарт опередил войска и прибыл в Риволи к двум часам утра. Погода, дождливая все последние дни, прояснилась; небо было чистым, ночь лунной и холодной; на горизонте пылали неприятельские огни. Бонапарт предполагал численность неприятеля в 45 тысяч человек, у Жубера же было максимум 10 тысяч: подкрепить его было необходимо. Австрийцы разделялись на пять колонн. Самая значительная, составленная из гренадеров, кавалерии и артиллерии вместе с обозами, следовала большой дорогой и должна была дебушировать на инканальский подъем. Три других – Очкая, Кеблеса и Липтая, составленные из одной пехоты, – взобрались на гору и должны были выйти на поле сражения, спустившись с высот Монте Бальдо, нависавших над Риволийским плато. Пятая, Люзиньяна, должна была выйти в тыл французам и отрезать отступление на Верону. Альвинци отделил еще и шестую колонну, Вукасовича: она должна была следовать по левому берегу Адидже и остаться на нем, заняв позицию, откуда можно было послать на другой берег разве что несколько ядер, малодейственных. Бонапарт немедленно осознал необходимость удержать за собой плато во что бы то ни стало. Перед ним находилась австрийская пехота, спускавшаяся с высот без артиллерии, справа двигались вдоль реки гренадеры, кавалерия и артиллерия, которые должны были выйти ему во фланг. Слева Люзиньян обходил Риволи. С другого берега Адидже французов обстреливала артиллерия Вукасовича. Удерживая плато, Бонапарт мешал соединению различных родов оружия, громил австрийскую пехоту, лишенную поддержки орудий, и отбрасывал кавалерию и артиллерию, теснившуюся на узком и извилистом подъеме. Он не обращал внимания на обходное движение Люзиньяна и стрельбу Вукасовича. Составив план с обычной быстротой, Бонапарт стал приводить его в исполнение еще до рассвета. Жубер был вынужден несколько отойти и занять позицию, соответствующую его силам, а потому можно было опасаться, что австрийская пехота успеет соединиться с головой колонны, подымающейся от Инканале. Задолго до наступления дня Бонапарт поднял войска Жубера, отдыхавшие после сорокавосьмичасового сражения, атаковал передовые посты австрийской пехоты, оттеснил их и занял плато. Дело становилось жарким. Лишенная орудий, австрийская пехота отступила перед французами, поддержанными грозной артиллерией; она отошла к полукругу высот Монте Бальдо. Но в это самое время на левом крыле французов дело принимает дурной оборот. Отряд Липтая на оконечности полукружия ударяет в левое крыло Жубера, составленное из 89-й и 25-й полубригад; он подходит к ним, приводит в расстройство и заставляет отступить в беспорядке. Поставленная за ними, 40-я полубригада меняет фронт налево, чтобы прикрыть прочие войска, и с замечательной храбростью выдерживает неприятельский натиск: австрийцы наращивают свои усилия и готовы ее раздавить, но главным образом они хотят отнять пушки, лошади которых перебиты. Австрийцы уже нападают на орудия, но один офицер кричит: «Гренадеры 40-й полубригады, разве вы отдадите свои пушки?!» Немедленно пятьдесят человек бросаются за храбрым офицером, отбрасывают австрийцев, впрягаются в пушки и увозят их. Видя опасность, Бонапарт оставляет Бертье на угрожаемом пункте, сам же скачет в Риволи за подкреплением. Передовые войска Массена, шедшие всю ночь без отдыха, еще только на подходе. Бонапарт берет 32-ю полубригаду, прославившуюся своими подвигами, и посылает ее на подкрепление двум отступившим полубригадам. Неустрашимый Массена становится во главе ее, собирает расстроенные войска и опрокидывает перед собою всё. Затем он отбрасывает австрийцев, напиравших на 40-ю полубригаду, которая не переставала всё это время показывать чудеса храбрости. Сражение на этом пункте выиграно, и армия занимает полукружие плато. Но временная неудача на левом крыле принудила Жубера отступить с правым; он отходил, а австрийская пехота вторично подходила к пункту, имевшему такое большое значение в глазах Бонапарта: пехота готова была занять выход дороги из Инканале на плато. В то же время неприятельская кавалерия и артиллерия, а впереди них гренадеры, поднялись по ней и с невероятной храбростью оттеснили 39-ю полубригаду. Вукасович с левого берега градом ядер помогал неприятельской эскаладе. Гренадеры взобрались на вершину дефиле, за ними уже выходила на плато кавалерия. И это еще не всё: колонна Люзиньяна, огни которой были видны слева от позиции французов, вышла им в тыл, отрезала веронскую дорогу и заградила путь Рею, двигавшемуся из Кастельнуово с резервной дивизией. Солдаты Люзиньяна, вышедшие в тыл французской армии, хлопали и уже считали ее захваченной. Таким образом, с фронта плато обхватывала австрийская пехота, справа на него всходили главные австрийские силы, и оно обстреливалось пушечным огнем с левого берега Адидже. Бонапарт с дивизиями Жубера и Массена был окружен превосходными неприятельскими силами: у него оставалось 16 тысяч человек, а вокруг собралось по меньшей мере 40 тысяч. В эту критическую минуту Бонапарт не колебался и сохранил весь пыл и быстроту своего вдохновения. Глядя на австрийцев Люзиньяна, он говорит: они – наши, и не обращает более на них внимания. Солдаты, угадывая мысль генерала, разделяют его уверенность и также повторяют друг другу: они – наши. Теперь Бонапарт занят лишь тем, что происходит прямо перед ним. Его левое крыло защищено героизмом 40-й и 32-й полубригад, но правому вновь начинает угрожать наступление австрийской пехоты и движение колонны, взбирающейся на подъем. Бонапарт немедленно отдает распоряжения, которые должны решить участь боя. Батарея легкой артиллерии и два эскадрона под командованием храбрых офицеров Леклерка и Ласалля направлены на неприятеля, дебуширующего на плато из Инканале. Жубер с крайним правым крылом, тылом обращенный к выходу из последнего дефиле, поворачивает в его сторону свою легкую пехоту. Все атакуют разом. Сначала артиллерия обстреливает картечью вышедших из дефиле, затем их стремительно атакует кавалерия и легкая пехота. Под Жубером убита лошадь, но, еще более грозный, он бросается на неприятеля с ружьем в руках. Все дебушировавшие войска, гренадеры, кавалерия и артиллерия сброшены и бегут в смятении по извилистому инканальскому спуску. Среди страшного беспорядка несколько орудий сброшено в дефиле и увеличивают в нем смятение и ужас. На каждом шагу бьют и берут пленных. Очистив плато от неприятеля, старавшегося на него взобраться снизу, Бонапарт обращает свои удары на пехоту, выстроенную перед ним полукругом; он бросает на нее Жубера с легкой пехотой и Ласалля с двумястами гусарами. При этой новой атаке среди австрийской пехоты, потерявшей всякую надежду на соединение с главными силами, распространяется ужас; она бежит в беспорядке. Тогда всё полукружие линии французских войск от одного края до другого двигается вперед и отбрасывает австрийцев на Монте Бальдо, где и преследует их по пятам. Теперь Бонапарт обращает внимание на свой тыл и хочет осуществить свое предсказание относительно отряда Люзиньяна. Этот отряд, видя гибель австрийской армии, вскоре замечает готовящуюся ему участь. Предварительно обстреляв его картечью, Бонапарт направляет в атаку 18-ю, 60-ю и 15-ю полубригады. Храбрые солдаты идут под звуки военной песни «Chant du depart» и отбрасывают Люзиньяна на веронскую дорогу, по которой подходит Рей с резервной дивизией. Австрийский отряд пытается дать отпор, но отступает и натыкается на голову колонн Рея. Напуганный безвыходностью своего положения, Люзиньян просит пощады и в числе четырех тысяч человек складывает оружие. В дефиле Адидже взято две тысячи пленных. Уже пять часов дня, и можно сказать, что австрийская армия уничтожена. Люзиньян был взят в плен; австрийская пехота отброшена обратно в горы и спасается по скалистым тропинкам; главная колонна теснится по берегу реки, вспомогательный же отряд Вукасовича бесплодно присутствует при этом поражении, отделенный от поля сражения рекой.
Но эта удивительная победа не затуманила мысли Бонапарта; он не упускает из виду нижнего течения Адидже, которому еще угрожает неприятель; он находит, что дивизий Жубера и Рея достаточно, чтобы преследовать врага и захватить у него еще несколько тысяч пленных. Он собирает дивизию Массена, сражавшуюся накануне в Вероне, совершившую ночной поход и выдержавшую бой весь день, и направляется с нею в новый ночной поход, навстречу новым сражениям. Рассчитывая на новые победы, храбрые солдаты идут весело, не зная, по-видимому, усталости, и спешат прикрыть Мантую, от которой их отделяет четырнадцать лье. На пути Бонапарт узнает о происшествиях в низовьях Адидже. Провера обманул Ожеро и успел навести мост в Ангьяри, немного выше Леньяго; он оставил Гогенцоллерна за Адидже и шел к Мантуе с 9 или 10 тысячами человек. Ожеро, поздно уведомленный об этом движении, бросился преследовать австрийца и отрезал его авангард, причем захватил две тысячи пленных. Провера продолжал двигаться на соединение с мантуанским гарнизоном. Все эти подробности Бонапарт узнал в Кастельнуово. Он опасался, чтобы, получив эти известия, гарнизон крепости не вышел Провере навстречу и не поставил блокадный корпус между двух огней. Он шел с дивизией Массена всю ночь на 14-е число и продолжал движение 15-го, дабы вечером прибыть к Мантуе. Туда же он направил резервы, оставленные в Виллафранке, куда лично отправился сделать необходимые распоряжения. Днем того же 15 января Провера прибыл к Мантуе. Он подошел к предместью Сан-Джорджио, которое занимал Миоллис с не более чем полутора тысячами человек. Провера потребовал сдачи. Храбрый Миоллис отвечал пушечными выстрелами. Отбитый Провера направился к цитадели, рассчитывая на вылазку Вурмзера, но встретил Серюрье; тогда он остановился у дворца Ла Фаворита, между Сан-Джорджио и цитаделью, и отправил через озеро барку, чтобы условиться с Вурмзером о вылазке его из крепости утром на следующий день. Бонапарт прибыл вечером и расположил в тылу Проверы Ожеро, а Виктора и Массена – на его флангах, чтобы отделить неприятеля от цитадели, через которую мог дебушировать Вурмзер. На рассвете следующего дня завязалось сражение. Вурмзер дебуширует из крепости и бешено атакует Серюрье, тот отражает его с равной храбростью и удерживает перед своими линиями. Виктор во главе 57-й полубригады, заслужившей в этот день название Грозной, бросается на Проверу и опрокидывает всё перед собою. После упорного боя Вурмзер отброшен в Мантую. Провера, загнанный Виктором, Массена и Ожеро, складывает оружие с 6 тысячами своих солдат. В их число вошли и молодые венские волонтеры: они сдают оружие и знамя, вышитое императрицей. Таков был исход этой бессмертной военной операции, по отзыву военных специалистов, – одной из самых прекрасных и необыкновенных, о которых упоминает история. Жубер, преследуя Альвинци, захватил 7 тысяч пленных; в день сражения при Риволи было взято еще 6; Ожеро захватил 2 тысячи; тысячу взяли перед Вероной и еще несколько сотен в других местах. Дивизия Массена двигалась и сражалась без отдыха в течение четырех дней. Бонапарт по справедливости писал, что его солдаты превзошли своей быстротой столь восхваляемые легионы Цезаря. Понятно, почему позже он присоединил к имени Массена титул Риволийского. Дело 14 января назвали сражением при Риволи, а 16-го, у Мантуи, – сражением при Ла Фаворите. Итак, опять в течение трех дней Бонапарт взял в плен или вывел из строя половину неприятельской армии, поразил ее, можно сказать, громовым ударом. Австрия совершила последнее усилие, и Италия теперь принадлежала Франции. Вурмзеру, отброшенному в Мантую, не оставалось никакой надежды; он уже съел всех своих лошадей, болезни вместе с голодом мало-помалу уничтожили весь гарнизон крепости. Дальнейшее сопротивление было бы бесполезно и противно человечности. Старый маршал дал уже доказательство благородной храбрости и редкого упорства и мог теперь подумать о сдаче. Он послал к Серюрье парламентером одного из своих офицеров, Кленау. Серюрье отослал его к главнокомандующему, который прибыл на переговоры лично. Бонапарт, закутанный в плащ и не желая быть узнанным, слушал обсуждение условий сдачи между Кленау и Серюрье. Австрийский офицер долго распространялся о средствах, которыми располагал его генерал, уверяя, что у него продовольствия хватит еще на три месяца. Бонапарт, не раскрывая плаща, подошел к столу, взял бумагу с предложениями Вурмзера и молча написал на ее полях несколько строк, к крайнему удивлению Кленау, ничего не понимавшего в поступке незнакомца. Тогда Бонапарт встал, раскрылся и подошел к Кленау. «Вот условия, – сказал он, – которые я соглашаюсь дать вашему маршалу. Если бы у него оставалось еще на две недели продовольствия и он думал бы сдаться, то не заслуживал бы почетной капитуляции. Только крайность заставляет его посылать вас сюда. Я уважаю его возраст, мужество и несчастья. Отвезите ему мои условия; выйдет ли он из крепости завтра, через месяц или шесть месяцев, я их не изменю. Он может держаться столько времени, сколько того требует его честь». Тогда, по этим выражениям, Кленау признал знаменитого полководца и срочно отправился с предложенными им условиями к Вурмзеру. Старый маршал был полон благодарности, видя такое великодушие молодого противника. Ему дозволяли беспрепятственно выйти из крепости со всем штабом, мало того – с двумястами кавалеристами и пятьюстами пехотинцами по его выбору и шестью орудиями. Гарнизон крепости должен был быть препровожден в Триест и там обменен на французских военнопленных. Вурмзер поспешил принять условия и, в качестве свидетельства своей признательности французскому главнокомандующему, сообщил о составленном в Папской области заговоре с целью отравить его. Вурмзер должен был выступить из Мантуи 2 февраля (14 плювиоза). Оставляя Мантую, старый маршал утешал себя тем, что отдаст шпагу лично победителю, но встретил только храброго Серюрье, перед которым и должен был дефилировать со всем штабом: Бонапарт уже отправился в Романью наказать папу и поколебать тем власть Ватикана. Его тщеславие, столь же дальновидное, как и его гений, не походило на тщеславие обыкновенных личностей: он предпочитал отсутствовать на месте триумфа.
Со сдачей Мантуи Италия была окончательно покорена и кампания окончена. Если теперь окинуть ее одним взглядом, то воображение отказывается объять такое число сражений, такую глубину планов и огромность результата. В течение десяти месяцев три грозных неприятельских армии были уничтожены армией, численность которой при открытии кампании не превосходила 30 тысяч человек, подкреплений же в пополнение своего урона она получила примерно 20 тысяч. Итак, приблизительно 55 тысяч французов разбили более чем 200 тысяч австрийцев, захватили у них 80 тысяч пленных, вывели из строя более 20 тысяч солдат; дали двенадцать полевых сражений, сразились в более чем шестидесяти стычках и перешли в виду неприятеля несколько рек. Когда война – лишь грубая механическая рутина, ограничивающаяся тем, чтобы давить и бить врага, она мало достойна внимания истории, но когда массами людей управляет одна обширная мысль, которая развивается среди военных громов с такой же отчетливой ясностью, как мысль Ньютона или Декарта в тиши их кабинетов, тогда это зрелище так же достойно философа, как и государственного и военного человека; если, кроме того, это высшее проявление силы в отождествлении армии с одной человеческой личностью служит покровительству и защите благородного дела свободы, тогда это зрелище делается настолько же нравственным, насколько и великим. Теперь Бонапарт составлял новые планы; он шел на Рим, чтобы, покончив со смутами этого клерикального двора, обратиться уже не на Адидже, но на Вену. Его успехами война переносилась на ее настоящий театр – в Италию, откуда можно было устремиться прямо на родовые земли императора. Подвиги Бонапарта заставили правительство понять, с какой пользой могут быть применены требуемые им подкрепления, и теперь уже он мог идти на Вену и предписать славный мир от имени Французской республики. Конец кампании вновь оживил все надежды, которые возбудило ее начало. Риволийские трофеи привели в восторг патриотов. Повсюду говорили о 22 тысячах пленных и ссылались на свидетельство миланских властей, делавших им смотр и проверявших их численность, чтобы опровергнуть все сомнения злоумышленников на этот счет. Сдача Мантуи также удовлетворяла общей радости. С этой минуты завоевание Италии считали уже окончательным. Курьер с этими известием прибыл в Париж. Немедленно собрали весь гарнизон столицы и обнародовали новости при свете факелов, звуках музыки, среди радостных криков всех преданных своему отечеству французов. Дни навсегда славные и желанные для нас! В какое другое время наше отечество было столь прекрасно и могущественно?! Грозы революции, казалось, успокоились, ропот партий затихал, как последний шум бури; на него наконец смотрели как на неизбежное условие существования свободного государства. Промышленность и финансы выходили из страшного кризиса; земля страны, перешедшая в руки людей, ее обрабатывающих, становилась плодоносной. Буржуазное правительство управляло республикой с умеренностью, а наследовать ему были призваны лучшие люди страны. Франция на вершине своего могущества простиралась от Рейна до Пиренеев, от моря до Альп. Голландия и Испания присоединяли к ее кораблям свои. Чудесные армии с бессмертной славой развевали ее трехцветное знамя против всей Европы. Двадцать героев, различных характером и талантами, похожих друг на друга только возрастом и мужеством, вели ее солдат к победе. Гош, Клебер, Дезе, Моро, Жубер, Массена, Бонапарт стояли рядом. Сравнивали их заслуги италанты; но никто, как бы проницателен он ни был, не мог бы указать в этом поколении героев будущих несчастливцев или преступников; и кто мог бы определить, что один умрет во цвете лет от неизвестной болезни, другой – от мусульманского кинжала или неприятельской картечи, третий, наконец, подавит свободу… Все они казались столь великими, чистыми, счастливыми, полными будущности! Это была лишь минута, но в жизни народов, как и в жизни отдельных людей, важны именно подобные минуты. Теперь Франции предстояло возвратить себе только довольство и спокойствие – свободу и славу она уже имела!..
Глава LII
Положение правительства в течение зимы года У – Характеры и разногласия пяти директоров – Интриги роялистской партии – Выборы – Взгляд на положение иностранных держав при открытии кампании 1797 годаПоследние победы при Риволи и Да Фаворите и взятие Мантуи возвратили Франции ее значение. Директория, беспрестанно оскорбляемая, внушала страх всей остальной Европе. Пол-Европы, писал Малле дю Пан[24] в секретной переписке с венецианским правительством, на коленях перед этим диваном и добивается чести стать его данником. Пятнадцать месяцев твердого и блестящего правления упрочили власть пяти директоров, но вместе с тем дали обнаружиться их страстям и несогласию их характеров. Люди, долго живя вместе, неизбежно или отталкиваются друг от друга, или привязываются и сходятся между собою соответственно своим наклонностям; Карно, Баррас, Ревбель, Ларевельер-Лепо и Летурнер так же разделились на группы. Карно обладал систематическим умом, был упрям и горд. Он был вполне лишен того полезного свойства, которое придает уму находчивость и возможность стать на всякую точку зрения, а характеру – гибкость. Он был проницателен, глубоко изучал всякое выпадавшее ему дело; но раз впав в ошибку, не отступал от нее. Карно был честен, храбр, весьма способен к труду, но не прощал обиды или оскорбления, нанесенного его самолюбию. До того он поссорился с членами Комитета общественного спасения; его гордость не могла ужиться с гордостью Робеспьера и Сен-Жюста, его великое мужество не могло склониться перед их деспотизмом. То же не могло не случиться и в Директории. Независимо от обычных столкновений с сотоварищами при общем их участии в трудах правления, вызывающем естественное разногласие во мнениях, он таил еще старые поводы к неудовольствию, особенно против Барраса. Все наклонности Карно как человека строгого, честного и трудолюбивого отдаляли его от товарища расточительного, развратного и ленивого; более же всего он ненавидел в нем главу термидорианцев, друзей и мстителей Дантона и преследователей старой Горы. Карно, бывший одним из главных виновников смерти Дантона, чуть было не сделался впоследствии жертвой преследования и не мог простить этого термидорианцам. Баррас служил когда-то в колониях и выказал там храбрость солдата. В случае надобности, во время беспорядков, он всегда мог сесть на лошадь и ввязаться в драку. И сейчас во всех затруднительных случаях он всё время выказывал желание опять сесть верхом и рубить врагов республики. Он был красив и высок ростом, но в его взгляде было что-то зловещее и мрачное, что мало согласовывалось с характером, более вспыльчивым, чем злым. Несмотря на аристократическое происхождение, в его манерах не было ничего величавого: они были порывисты и резки. Баррас обладал находчивостью и проницательностью, которые могли бы сделаться весьма выдающимися качествами при труде и образовании; но, невежественный и ленивый, Баррас знал лишь то, чему может научить полная треволнений жизнь. И все-таки при повседневном обсуждении государственных дел он выказывал столько рассудительности, что оставалось сожалеть о недостатке образования. Ко всему этому, распущенный и циничный, наглый и лживый, как все жители юга, которые умеют скрывать свою двуличность под маской сдержанности, республиканец по инстинктам и вследствие своего положения, но человек без всяких убеждений, принимающий у себя и буйных революционеров предместий, и всех вернувшихся во Францию эмигрантов, Баррас на самом деле был горячим патриотом и втайне подавал надежды всем партиям. Одной своей личностью он представлял всю партию Дантона, за исключением гения ее предводителя, который не перешел к его преемникам. Ревбель, служивший ранее адвокатом в Кольмаре, приобрел в судах и прочих государственных собраниях большой опыт. С редкой проницательностью и разборчивостью он соединял обширное образование, цепкую память и редкую настойчивость в труде. Эти качества делали из него драгоценного человека для управления государством. Он умел дельно обсуждать дела, хотя и был большим спорщиком, еще по адвокатской привычке. Ревбель имел довольно красивую наружность, был знаком с требованиями светского общества, но шокировал некоторой несдержанностью и резкостью языка. Вопреки клевете некоторых контрреволюционеров и мошенников, он был весьма честен, к несчастью, немного скуп и любил тратить свое состояние выгодным для себя образом, что заставляло поддерживать сношения с деловыми людьми и таким образом подавало предлог к клевете. Ревбеля в основном занимали внешние сношения, в которых он так яростно принимал сторону Франции, что бывал несправедлив в отношении других наций. Горячий, искренний и твердый республиканец, он вышел из умеренной партии Конвента, а потому и чувствовал себя одинаково чуждым как Карно, так и Баррасу, одному как монтаньяру, другому как дантонисту. Итак, Карно, Баррас и Ревбель, вышедшие из трех различных партий, взаимно друг друга невзлюбили; вражда, выросшая в течение долгой и жестокой борьбы, не изгладилась при конституционном правлении; сердца их оставались разобщенными, как реки, которые в общем течении не смешивают своих вод. Однако же, продолжая ненавидеть друг друга, эти три человека сдерживали взаимные неприязненные чувства и работали вместе над общим делом. Оставались Ларевельер-Лепо и Летурнер, не питавшие ненависти ни к кому. Добряк Летурнер был тщеславен; его тщеславие, впрочем, легко было снести, и оно мало кого беспокоило; он довольствовался внешними знаками почета, честью, отдаваемой часовыми, и во всем почтительно подчинялся Карно. Он высказывал свое мнение, но так же легко брал его назад. Как только ему доказывали, что он ошибался, или как только начинал говорить Карно, голос Летурнера всегда принадлежал последнему. Ларевельер, честнейший и лучший из людей, соединял с глубокими знаниями ясный и наблюдательный ум. Он способен был высказать благоразумное мнение о всяком предмете; в затруднительных обстоятельствах ему случалось давать превосходные советы. Но его часто увлекали призраки или останавливала добросовестность. Он часто желал невозможного и не осмеливался хотеть необходимого; нужен слишком острый ум, чтобы рассчитать, как можно уступить обстоятельствам, не вредя принципам. Своим даром слова и редкой твердостью Ларевельер бывал весьма полезен, когда следовало поддержать справедливое мнение, а его личная репутация придавала Директории веса в общественном мнении. Роль Ларевельера среди враждующих товарищей была крайне полезной, из четырех директоров он высказывался за честнейшего и способнейшего, то есть за Ревбеля. Тем не менее Ларевельер избегал более тесного с ним сближения, что соответствовало бы его склонности, но удалило бы от прочих товарищей. Он испытывал некоторую склонность и к Баррасу и сблизился бы с ним, если бы находил его менее развращенным; он имел на него некоторое влияние благодаря своей репутации, проницательности и твердости. Развратники охотно смеются над добродетелью, но остерегаются ее, когда она соединяется с проницательностью, способной их разоблачить, и храбростью, умеющей их не бояться.
 Ларевельер – Лепо
Ларевельер – Лепо
Ларевельер пользовался своим влиянием на Ревбеля и Барраса, чтобы поддержать их добрые отношения между собой и с Карно. Благодаря этому посреднику, а также общему рвению в отношении интересов республики, взаимные отношения директоров были вполне приличны, они сообща несли заботы правления и разделялись во мнениях скорее согласно убеждениям, нежели личной ненависти. За исключением Барраса, все директоры жили со своими семействами в помещениях, отведенных им в Люксембурге. Обстановка их жилищ была совсем не роскошна. Однако Ларевельер, любивший свет, искусства и науки и считавший своей обязанностью издерживать свое содержание полезным для государства образом, принимал у себя ученых и литераторов и встречал их просто и искренне. К несчастью, он подал повод к насмешкам своими религиозными мнениями. Разделяя философию XVIII века, он держался «Исповеди савойского викария» [Руссо] и считал неизбежным падение формальной религии, но верил в то, что люди должны сообща поддерживать нравственное чувство и сознание величия творения. И в самом деле, обсуждение этих вопросов более уместно в обществе, где скорее можно тронуть людей и где люди более доступны возвышенным и великодушным чувствам. Эти идеи Ларевельер развил в одном своем сочинении, они были приняты некоторыми доброжелательными умами и приведены в исполнение. Брат знаменитого физика Гаюи образовал общество под названием Теофилантропы, собрания которого имели целью нравственные поучения, философские чтения и благочестивое пение. Затем образовалось и несколько других. Они собирались под надзором полиции в помещениях, нанимаемых за счет членов обществ. Хотя Ларевельер и признавал пользу этих собраний, находя, что они могут оторвать от католической церкви много любящих и спящих душ, которые чувствуют необходимость выражать религиозное чувство совместно со своими ближними, но он остерегался присутствовать на них: он не желал разыгрывать роль главы секты и тем напомнить первосвященничество Робеспьера. Однако, несмотря на сдержанность Ларевельера, злоязычие воспользовалось этим предлогом, чтобы поднять на смех уважаемого государственного чиновника, которого не могла коснуться клевета. Впрочем, если теофилантропия и давала повод к неостроумным шуткам у Барраса или в роялистских газетах, то в целом на нее обращали мало внимания, и потому она мало вредила уважению, которым был окружен Ларевельер-Лепо. Достоинству правительства в глазах общества более всех из директоров вредил Баррас. Он не вел простого и скромного образа жизни, как его товарищи, напротив, выказывал роскошь и расточительность, которые можно было объяснить лишь тем, что он разделяет прибыли дельцов и аферистов. Финансы управлялись большинством директоров и превосходным министром Рамелем со строгой честностью; но нельзя было помешать Баррасу забирать у поставщиков или банкиров, которых он поддерживал своим влиянием, часть их довольно значительных прибылей. У него имелись и другие средства покрывать свои расходы: Франция стала распорядительницей стольких больших и малых государств, что многие владетельные особы искали его милости и платили значительные суммы за приобретение голоса в Директории. Обстановка, какой окружил себя Баррас, могла бы быть и небесполезной: для того чтобы изучать, узнавать и выбирать людей, главе государства необходимо иметь около себя большое общество; но Баррас, кроме аферистов, окружал себя интриганами всякого рода, распутными женщинами и мошенниками. Бесстыдный цинизм царствовал в его салоне. Такие тайные связи, которые в порядочном обществе принято скрывать, здесь признавались публично. В Гросбуа предавались оргиям, которые доставляли врагам Республики могущественные доводы против правительства. Баррас, впрочем, не скрывал своего поведения и, согласно привычке всех развратников, любил делать гласной свою беспорядочную жизнь. Он сам рассказывал товарищам, которые за это его сильно упрекали, о своих подвигах в Гросбуа и Люксембурге: как он вынудил одного известного поставщика взять на свое попечение его любовницу, которая становилась ему в тягость; как отомстил журналисту за нападки, заманив его в Люксембургский дворец и приказав лакеям его высечь. Такое странное поведение одного из глав правительства сильно вредило Директории и подорвало бы ее влияние, если бы репутация Карно и Ларевельера не исправляла того впечатления, какое производила беспорядочная жизнь Барраса. Директория, основанная на следующий день после вандемьерских событий как оплот борьбы против контрреволюции, составленная из цареубийц и подвергавшаяся горячим нападкам роялистов, могла состоять исключительно из республиканцев. Но каждый из ее членов держался мнений, разделяющих Францию, в большей или меньшей степени. Ларевельер и Ревбель были умеренными, но строгими республиканцами, столь же далекими от увлечений 93 года, сколь и от бешенства роялистов года 95-го. Заполучить их на сторону контрреволюции было невозможно, и потому партии осуждали обоих этих директоров самым строгим образом. К Баррасу же и Карно относились иначе. Баррас, хоть и имел со всеми сношения, на самом деле был отчаянным революционером. Предместья крайне уважали его и всегда помнили, что он был генералом вандемьера и почему заговорщики Гренельского лагеря считали себя вправе на него рассчитывать. Патриоты осыпали его похвалами, а роялисты – ругательствами. Некоторые тайные агенты роялизма, близкие к Баррасу по общей склонности к интриге, могли, правда, надеясь на его развращенность, иметь некоторые на него планы; но это было их личное мнение. Всё же большинство партии ненавидело его и бешено на него нападало. Карно, бывший член Горы и Комитета общественного спасения, после 9 термидора чуть не сделавшийся жертвой роялистской реакции, должен был быть резким республиканцем и был им на самом деле. При вступлении своем в Директорию он поддерживал все назначения из партии Горы, но мало-помалу, по мере того как опасения повторенного вандемьера рассеялись, изменились и его предпочтения. Даже и в комитете Карно никогда не терпел наглой толпы революционеров и способствовал уничтожению эбертистов. Видя же Барраса, который хотел оставаться королем черни, окружающего себя остатками якобинской партии, Карно сделался к ней враждебен. Это еще не всё: Карно волновали воспоминания. Упрек в том, что он подписывал самые кровожадные бумаги Комитета общественного спасения, мучил его по-прежнему. Ему мало было тех естественных оправданий, какие он уже дал; он хотел во что бы то ни стало доказать, что он не чудовище, и, чтобы доказать это, он готов был принести большие жертвы. Партиям всё известно, они всё отгадывают, они требовательны к людям лишь тогда, когда победа на их стороне; но когда они побеждены, они вербуют в свои ряды всеми возможными путями и стараются особенно польстить тем, кто стоит во главе вооруженных сил. Роялистам скоро стало известно отношение Карно к Баррасу и к партии патриотов. Они отгадали его желание смыть грехи, сознавали его военное значение, старались относиться к нему иначе, чем к его сотоварищам, знали, как его тронуть в отзывах о нем. Таким образом, не переставая изрыгать грубые ругательства против Барраса, Ревбеля и Ларевельера, бывшему монтаньяру и цареубийце Карно газеты расточали только похвалы. Приобретая поддержку Карно, они приобретали поддержку Летурнера и выигрывали таким образом два голоса. Карно имел слабость уступить этому обольщению и, оставаясь верным своим убеждениям, образовал с Летурнером внутри Директории оппозицию, подобную той, которая составляла в обоих советах треть депутатов нового избрания. Во всех вопросах, подлежащих решению Директории, он высказывался за мнение, поддерживаемое в советах оппозицией. Так, во всех решениях относительно мира или войны Карно, требовавший мира во что бы то ни стало, подавал голос за мир. Он настаивал на том, чтобы императору сделали все возможные уступки, подписали мир с Неаполем и Римом и не препятствовали тому слишком строгими условиями. Раз проявившись, подобные несогласия затем быстро развиваются. Те, кто хотят ими воспользоваться, до крайности расхваливают того, кого желают привлечь на свою сторону, и не знают пределов осуждению других. Эта тактика и на этот раз возымела успех. Баррас и Ревбель, уже бывшие неприятелями Карно, вооружились против него еще более, видя расточаемые ему похвалы; ему же они приписывали ожесточенные нападки, направленные против них. Напрасно Ларевельер прилагал горячие усилия для умиротворения несогласий; раздор только усиливался, и общество, от которого всё это не было скрыто, разделало большинство и меньшинство в Директории: с одной стороны ставили Ларевельера, Ревбеля и Барраса, с другой – Карно и Летурнера.
Так же распределяли и министров. Поскольку более всего критика была направлена против управления финансами, то и преследовали министра Рамеля, отличного администратора, которого затруднительное состояние казначейства вынуждало прибегать к средствам предосудительным во всякое другое время, но неизбежным в подобных обстоятельствах. Налоги поступали крайне медленно вследствие страшного беспорядка при их взимании. Поземельный налог нужно было уменьшить, косвенные же налоги давали гораздо меньше, чем предполагалось. Часто случалось, что в казначействе не оставалось никаких средств, и тогда приходилось брать из фонда обыкновенных расходов то, что следовало отнести к чрезвычайным, или располагать еще не полученными поступлениями и заключать те разорительные контракты, к которым вынуждает подобное положение. Тогда поднимали крик о злоупотреблениях и расхищении, вместо того чтобы прийти на помощь правительству. Рамель, управлявший финансами честно и со знанием дела, подвергался осуждению и нападкам газет. То же происходило и с морским министром Трюге, республиканцем и другом Гоша; и с министром иностранных дел Делакруа, который мог бы быть хорошим администратором, но был плохим дипломатом, слишком педантичным и суровым в своих отношениях с послами иностранных держав. Так же тяжело приходилось и министру юстиции Мерлену, проявлявшему всё рвение республиканца Горы. Иначе относились к министрам внутренних дел, военному и полиции – Бенезеку, Петье и Кошону. Бенезек выдержал столько нападок от якобинцев за свое предложение возобновить свободную продажу хлеба в Париже, что стал симпатичен партии контрреволюционеров. Искусный администратор, воспитанный при старом порядке, о котором сожалел, он частично заслуживал их одобрения. Петье, военный министр, хорошо исполнял свои обязанности; партии относились к нему как к Карно, креатурой которого он был. Министра Кошона тоже хорошо рекомендовали его связи с Карно; раскрытие заговора якобинцев и ревностность в преследовании их заслужили ему признательность противной партии, расхваливающей его с преувеличениями. Несмотря на эти разногласия, в правительстве оставалось еще достаточно сил для эффективного управления и продолжения военных действий. Оппозиция сдерживалась большинством бывших членов Конвента, оставшихся в законодательном корпусе. Тем не менее приближались выборы, и наступала пора, когда новая треть, выбранная под настроением минуты, заменит треть конвенционалистов. Оппозиция льстила себя надеждой стать тогда большинством и выйти из состояния подчинения, в котором она до сих пор находилась.
Члены меньшинства собирались в Тиволи для общего обсуждения планов и будущего образа действий. Это собрание депутатов превратилось в самый буйный клуб, известный под названием клуба Клиши. Газеты также принимали участие в этом движении. Множество молодых людей, писавших стишки при старом порядке, разглагольствовали теперь в пятидесяти или шестидесяти печатных органах о крайностях революции и выступали против Конвента, которому таковые и приписывали. Они якобы не хотели касаться Республики, но вооружались против людей, заливших кровью ее колыбель. И язык, и страсти были повторением вандемьера; та же добросовестность заблуждения царила в народе, то же честолюбие – в отдельных личностях, то же вероломство – в заговорщиках, тайно работавших для восстановления королевской власти. Роялистская партия, всегда разбиваемая, но верившая в свой успех и продолжавшая свои интриги, вновь возрождалась. Повсюду, где имеется какое-нибудь притязание, подкрепляемое денежной помощью, находятся интриганы, готовые ему служить своими жалкими планами. Хотя Леметр был приговорен к смерти, Вандея покорена, а Пишегрю удален от командования Рейнской армией, происки контрреволюции не прекратились, а напротив, продолжались весьма деятельно. Обстоятельства изменились. Претендент, величаемый то графом Лилльским, то Людовиком XVIII, вынужден был, как мы помним, оставить Верону и отправиться к австрийцам на Рейн. На время он остановился в лагере принца Конде, где жизнь его подверглась опасности. В него кто-то выстрелил, когда он подошел к окну, и легко ранил. Поступок этот не замедлили приписать Директории, которая, однако же, не была настолько глупа, чтобы платить за преступление, выгодное одному графу д’Артуа. Претендент недолго оставался в лагере Конде. Его присутствие в австрийской армии не входило в виды Венского кабинета, не желавшего признавать его и чувствовавшего, что сам факт этого присутствия может надолго затянуть войну с Францией. Претенденту написали, чтоб он удалился, а когда он отказался, выслали отряд с целью принудить его к отъезду. Людовик отправился в Бланкенбург, где продолжал оставаться средоточием всех сношений роялистов. Конде по-прежнему располагался со своим корпусом на Рейне, а граф д’Артуа, после неудачной попытки в Вандее, уехал в Шотландию, откуда сносился с несколькими интриганами, то приезжавшими, то уезжавшими из Вандеи в Англию. Леметр умер, его товарищи заняли его место и наследовали ему в доверии претендента. Как уже известно, это были аббат Бротье, бывший учитель, Лавилернуа, бывший приниматель прошений, некто кавалер Депоммель и бывший морской офицер по имени Дюверн де Прель. Находясь в Париже, эти агенты и прежде надеялись всего достичь интригами, тогда как вандейцы рассчитывали на вооруженное восстание, а принц Конде – на помощь Пишегрю. Вандея была покорена, Пишегрю удален, против революции восставала грозная реакция, которая еще более убеждала роялистских агентов в Париже в том, что следует ожидать внутреннего движения и вдохновлять его. Сначала завладеть выборами, затем с помощью выборов – советами, с помощью советов – Директорией и государственными должностями – вот верный путь восстановить королевскую власть с помощью средств, доставляемых самой республикой; но для того следовало положить конец разногласиям во мнениях, всегда сопутствовавшим планам контрреволюции. Пюизе, тайно остававшийся в Бретани, мечтал вновь возмутить эту провинцию, а де Фротте в Нормандии готовил новую Вандею, но ни тот ни другой не хотели вступать в соглашение с агентами в Париже. Принц Конде, попавшийся на удочку Пишегрю, непременно хотел продолжать с ним исключительные сношения, не вмешивая в них ни австрийцев, ни претендента; он только, скрепя сердце, посвятил в секрет Людовика. Чтобы дать общее направление этим бессвязным планам, а главное – чтобы достать денег, парижские агенты отправили одного своего товарища в западные провинции, а затем в Англию, Шотландию, Германию и Швейцарию. Они выбрали Дюверна де Преля. Не сумев лишить Пюизе командования, добились, по крайней мере, чтобы он вступил в сношение с парижской агентурой. От англичан добились главного – некоторой денежной помощи. От претендента получили полномочия, согласно которым все интриги должны были направляться из парижской агентуры. Вразумить принца Конде и сойтись с ним при личном свидании, однако, не удалось. Де Преси, главный подстрекатель беспорядков в Лионе и на юге, также был посещен. Наконец составили план, который имел единство замысла только на бумаге и не препятствовал каждому поступать согласно его интересам или притязаниям. Условились, что Франция будет разделена на две агентуры, в ведении одной будет находиться восток и юг страны, другой – север и запад. Де Преси стоял во главе первой, парижские агенты – во главе второй. Обе эти агентуры должны были согласовывать друг с другом свои действия и непосредственно сноситься с претендентом, от которого получали приказания. Согласно плану Бабёфа организовали еще и тайные общества. Они были разобщены и не знали своих начальников; следовательно, захватив нескольких заговорщиков, не могли раскрыть всего заговора. Основной задачей этих обществ было влиять на состояние умов. Как уже видели, большая часть французов не ждала возвращения Бурбонов, но все желали порядка и спокойствия и обвиняли Директорию в поддержании революционной системы. Ввиду этого образовали масонское общество под названием филантропов; члены его собирались использовать свои избирательные права, чтобы выдвигать на выборы людей, враждебных Директории. Филантропы не должны были знать тайной цели этих происков, им объявляли лишь одно намерение – усилить оппозицию. Другое, более избранное, тайное и менее многочисленное общество под названием верных должно было состоять из людей более энергичных и преданных, которым можно было открыть тайну партии. Верные должны были носить под платьем оружие и при случае применить его. Они должны были завербоваться в Национальную гвардию и, пользуясь ее формой, более эффективно исполнять получаемые приказания. Их непременной обязанностью, независимо от плана восстания, было следить за выборами и, если бы дошло до схватки, как это случилось в вандемьере, защищать оппозицию. Кроме того, верные должны были скрывать эмигрантов и священников, изготавливать фальшивые паспорты, преследовать революционеров и скупщиков национальных имуществ. Эти общества находились в ведении особых военных начальников, которые сносились с главными агентурами и получали от них приказания. Таков был новый план роялистов; истории не следовало бы удостаивать своим вниманием эти химеры, если бы они не знакомили с мечтами, которыми убаюкивают себя партии во времена поражения. Несмотря на всё это предполагаемое единство, южная агентура создавала тайные товарищества, действующие без направления и цели, следуя только влечению мести или грабежа. В Бретани и Нормандии Пюизе и де Фротте готовили совершенно независимое восстание, подобное вандейскому, и не признавали себя солидарными с контрреволюционной парижской агентурой. Принц Конде, со своей стороны, продолжал непосредственные сношения с Пишегрю, странное поведение которого объяснялось затруднительностью его положения. Этот генерал, единственный в истории добровольно давший себя разбить, сам просил увольнения. Такое поведение должно казаться поразительным, так как лишало всяких средств влияния, а следовательно, делало невозможным выполнение предполагаемых замыслов. Тем не менее оно становится понятным, если задуматься о положении Пишегрю: он не мог оставаться главнокомандующим, не приводя в исполнение своих планов, за которые уже получил значительные суммы. Перед Пишегрю было три примера, непохожих друг на друга: Буйе, Лафайета и Дюмурье; все они доказывали, что увлечь армию – вещь невозможная. Пишегрю сам желал поставить себя перед невозможностью действовать, что и объясняет его просьбу об увольнении, которую Директория, не подозревавшая о его измене, приняла сначала с сожалением. Принц Конде и его агенты были крайне удивлены поведением Пишегрю; они думали, что он просто взял у них деньги и вовсе не желал им служить. Но лишь только получив отставку, Пишегрю возвратился на Рейн под предлогом продажи своих экипажей, а затем отправился в Юра, на свою родину. Оттуда он продолжал переписываться с агентами принца и объяснил ему свою отставку как глубокую комбинацию: на него станут смотреть как на жертву Директории, и он наладит связи со всеми роялистами внутри страны и образует вокруг себя огромную партию; его армия, перешедшая под командование Моро, о нем живо сожалеет, при первой неудаче она потребует возвращения своего бывшего главнокомандующего и возмутится; пользуясь этим, он снимет маску, объявит себя диктатором и провозгласит монархию. Этот смешной план, если бы и был искренен, совершенно расстраивался успехами Моро, который и во время своего знаменитого отступления не переставал оставаться победителем. Принц Конде, австрийские генералы, которым последний был вынужден довериться, и английский посланник в Швейцарии начинали убеждаться, что Пишегрю их обманул. Они не желали продолжать переписки, но по настоянию агентов-посредников, которые мечтали избежать ответственности за бесплодную попытку, переписка продолжалась. Она шла через Страсбург, посредством нескольких шпионов, переходивших Рейн и передававших ее австрийскому генералу Клинглину, а также через Базель, через английского посланника Уикхема. Пишегрю оставался в Юра, не принимая, но и не отказываясь от места посланника в Швеции, которое ему предлагали. Он всё хлопотал об избрании своем в депутаты, обманывая агентов принца самыми жалкими обещаниями и продолжая получать значительные суммы. Он обнадеживал их тем, что его избрание в Совет пятисот будет иметь самые важные последствия; хвастал влиянием, которого вовсе не имел; уверял, что дает Директории самые вероломные советы и наталкивает ее на опасные решения: он своему влиянию приписывал продолжительную оборону Келя, которую он будто посоветовал, чтобы скомпрометировать армию. На все эти его мнимые услуги обращали мало внимания. Граф де Бельгард писал: «Мы в настоящее время находимся в положении игрока, который хочет отыграться и рискует потерять еще, лишь бы вернуть то, что проиграл». Австрийские генералы тем не менее продолжали переписку: так они по крайней мере получали драгоценные сведения о состоянии и передвижениях французской армии. Бесчестные сообщники этой корреспонденции посылали генералу Клинглину карты и планы, которые им удавалось достать. Во время осады Келя они не переставали указывать пункты, на которые с большей долей вероятности мог быть направлен неприятельский огонь. Такова-то была жалкая роль Пишегрю. Будучи человеком посредственного ума, он был хитер и благоразумен и имел достаточно такта и опытности, чтобы распознать, что все планы контрреволюции в настоящую минуту неосуществимы. То, что он был убежден в этом, доказывают его отсрочки и басни, которыми он занимал агентов принца, а его поведение в важных обстоятельствах докажет это еще лучше. Тем не менее он все-таки получал плату за планы, которых не хотел исполнять, и умел заставить ее себе предлагать, ничего не требуя. Впрочем, так поступали все агенты роялистов. Бротье, Дюверн де Прель и Лавилернуа хвастались, что будут располагать значительным числом депутатов в обоих советах, обещали приобрести еще больше сторонников после выборов. И ничего этого, однако, не было; общались они только с депутатом Лемере и еще неким Мерсаном, исключенным из законодательного корпуса в силу закона 3 брюмера против родственников эмигрантов. Через Лемере они рассчитывали располагать депутатами, входившими в клуб Клиши. Судя по речам и голосованиям этих депутатов, предполагалось, что они, вероятно, поддержат реставрацию монархии, на основании чего агенты считали себя вправе предложить королю Бланкенбурга свою преданность и даже раскаяние. Однако негодяи только клеветали на членов клуба Клиши. В нем имелись честолюбцы, враги членов Конвента, потому что только последние составляли правительство, но мало было людей настолько смелых, чтобы думать о восстановлении королевской власти, и настолько способных, чтобы его подготавливать. Англия давала средства на расходы контрреволюции и посылала из Лондона в Бретань вспомоществования Пюизе. Английский посланник в Швейцарии Уикхем должен был регулярно отправлять суммы обоим агентствам и Пишегрю, который, судя по корреспонденции, был снабжен для важных случаев. Агенты контрреволюции имели притязание брать у Англии деньги и смеяться над нею. Они условились с претендентом брать субсидии и не следовать планам Англии, не повиноваться ее влиянию, которого, как они говорили, следует остерегаться. Англия не оставалась обманутой и относилась к ним с тем презрением, какого они заслуживали. Уикхем, Питт и все английские министры вовсе не доверяли деятельности этих господ и не надеялись на контрреволюцию. Им нужны были крамольники, которые смущали бы Францию, распространяли бы в ней беспокойство своими планами и, не подвергая правительство реальной опасности, внушали бы ему преувеличенные опасения. Для этой цели охотно были готовы пожертвовать одним или двумя миллионами в год. Таким образом, агенты контрреволюции обманывались, воображая, что обманывают англичан: при всем желании мошенничество им не удавалось. Таковы были средства и планы роялистской партии. Министр полиции Кошон частично знал о них; ему было небезызвестно, что в Париже проживают агенты бланкенбургского двора. Он внимательно следил за развитием плана, окружал заговорщиков шпионами и ждал решительной попытки, чтобы схватить их на месте преступления. Такой случай ему скоро представился. Желая привлечь на свою сторону власти, заговорщики сначала думали завербовать военные власти Парижа. Главные военные силы столицы состояли из гренадеров законодательного корпуса и войск Саблонского лагеря. Гренадеры составляли отборный отряд в 1200 человек, назначались как охранительная и почетная стража обоих советов. Начальник их, генерал-адъютант Рамель, был известен своим умеренным образом мыслей, а в глазах недалеких агентов Людовика XVIII это было достаточным основанием считать его роялистом. Численность войск Саблонского лагеря доходила до 12 тысяч человек. Начальником этих вооруженных сил был генерал Атри, почтенный человек, которого нельзя было и думать привлечь на сторону роялистов. Тогда агентам пришло в голову сделать попытку с эскадронным командиром 21-го драгунского полка Мало, который так стремительно атаковал якобинцев во время их неудачной атаки на Гренельский лагерь. Рассуждали они так же, как в отношении Рамеля: предполагали, что если он оттеснил якобинцев, то благоприятно примет роялистов. Бротье и Дюверн де Прель старались что-нибудь у них выпытать и сделали им предложение; роялистов выслушали и тотчас же донесли на них министру полиции. Тот дал Рамелю и Мало приказание продолжать общение с заговорщиками, чтобы узнать их планы. Тогда офицеры дали заговорщикам высказаться об их средствах и надеждах; во время будущего свидания они должны были показать свои полномочия от Людовика XVIII, и именно эту минуту назначили для ареста. Свидания происходили у эскадронного командира Мало, в его квартире в военной школе. Жандармы и свидетели спрятались так, что могли всё слышать и выйти по первому знаку. Тридцатого января (11 плювиоза) эти жалкие простаки являются к Мало с полномочиями Людовика XVIII и вновь начинают распространяться о своих планах. Их выслушивают и провожают, но на выходе жандармы их хватают и препровождают к министру полиции, а затем отправляются на их квартиру и проводят обыск. Находятся письма, в достаточной степени доказывавшие существование заговора и частично открывавшие его подробности. Из них стало видно, что эти господа хотели сами разыграть роль правительства. В первое время, в ожидании возвращения короля из Бланкенбурга, они хотели сохранить настоящие власти. Так, например, они хотели удержать Бенезека в министерстве внутренних дел, а Кошона – в полиции; а если бы последний, как цареубийца, был неугоден роялистам, то на его место предполагалось поставить Симеона или Порталиса. Финансы хотели поручить Барбе-Марбуа, который, говорили они, имеет таланты, образование и считается честным человеком. Они не спрашивали при этом ни Бенезека, ни Кошона, ни Порталиса или Барбе-Марбуа, которым были совершенно не известны; по своему обыкновению, они располагали людьми, не спрашиваясь их. Открытие заговора всех взволновало и доказало, что Республика должна быть настороже и помнить о своих старых врагах. Заговор изумил оппозицию, стремления которой без ее ведома вели к роялизму. Само это изумление уже доказывало, насколько хвастали эти негодяи, объявляя в Бланкенбурге, что располагают большинством в обоих советах. Директория хотела немедленно предать заговорщиков военному суду, но они отрицали свою подсудность, утверждая, что не были захвачены с оружием в руках или при попытке восстания. Многие депутаты, втайне сочувствовавшие их делу, поддерживали их в советах; но Директория тем не менее привлекла их к военному суду за попытку возмутить военных. Мятежники защищались довольно умело. Признавая себя агентами Людовика XVIII, они утверждали, что их целью было лишь подготовить общественное мнение и от него единственно, а не от вооруженного восстания, ждать победы монархических идей. Их осудили на смертную казнь, которая была заменена заключением, в виду сообщений, сделанных Дюверном де Прелем. Последний дал показания, в которых раскрывал все происки роялистов. Добившись этих подробностей, Директория остереглась сделать их гласными, дабы не открыть заговорщикам, что ей известен весь их план. Дюверн де Прель ничего не сообщал о Пишегрю, непосредственные сношения которого с Конде были неизвестны парижским агентам; он лишь туманно объявил, что, по слухам, завязаны сношения с одной из главнейших армий. Этот арест мог бы расстроить все интриги роялистов, если бы их план был более связан; но поскольку каждый из них действовал по своему усмотрению и независимо, то и аресты Бротье, Лавилернуа и Дюверна де Преля не помешали Пюизе и де Фротте продолжать интриги в Нормандии и Бретани, де Преси – в Лионе, а принцу Конде – в Рейнской армии. Немного спустя судили Бабёфа и его сообщников; все они были оправданы, за исключением Бабёфа и Дарте (его ближайшего сподвижника), которых казнили 25 мая (6 прериаля).
Наступала важная пора выборов. Из оппозиции ли Директории, или из преданности роялизму, множество самых разных людей старались влиять на выборы. В Юра хотели выбрать Пишегрю, в Лионе – Имбера-Коломе, одного из агентов Людовика XVIII на юге. В Версале хотели избрать Вовилье, замешанного в недавно раскрытом заговоре. Итак, повсюду готовили выборы, враждебные Директории. В Париже избиратели Сены тоже собрались на совещание по поводу выборов. Они предлагали обращаться к кандидатам со следующими вопросами: Покупал ли ты национальные имущества? Был ли ты журналистом? Писал ли ты, содействовал ли в чем-нибудь или принимал участие в революции? Те, кто отвечали утвердительно хотя бы на один из этих вопросов, не должны были быть избраны. Подобные приготовления показывали, насколько сильно было возмущение против всех, кто принимал участие в революции. Сотни газет высказывались яростно и поистине оглушали умы. Для обуздания их Директория могла прибегнуть лишь к закону, осуждавшему на смерть призывающих к восстановлению королевской власти. Но судьи никогда не согласились бы на применение такого жестокого закона. Директория в третий раз просила у советов новых законодательных распоряжений, и еще раз получила отказ. Тогда директоры предложили заставить избирателей приносить присягу в ненависти к королевской власти; это вызвало горячие возражения, и присягу заменили простым заявлением. Каждый избиратель должен был заявить, что он одинаково враждебен как анархии, так и королевской власти. Директория, не прибегая ни к одному из постыдных средств, которыми часто пользуются представительные правительства, чтобы влиять на выборы, ограничилась тем, что составила свой список кандидатов из людей, известных республиканским образом мыслей; министру Кошону было поручено составить циркуляры, которыми бы этих кандидатов рекомендовали избирателям. Против циркуляров серьезно возражали, тогда как они не были важны и не имели никакого повелительного характера; многочисленность и независимость избирателей, когда почти все места выборные, делали избирателей полностью независимыми от влияния Директории. Следовало также выбрать нового директора. Вопрос заключался в том, на кого, согласно конституции, падет жребий выйти из Директории: если на Барраса, Ревбеля или Ларевельера-Лепо, то оппозиция была уверена, что с помощью новой трети выберет директора по своему желанию. Клуб Клиши шумно обсуждал выбор нового директора; предлагали Кошона и Бартелеми. Кошон немного потерял во мнении контрреволюционеров, после того как арестовал Бротье и его соучастников, особенно же после своего циркуляра. Предпочитали Бартелеми, посланника в Швейцарии, так как думали, что он имеет тайные связи с эмигрантами и принцем Конде. Среди этих волнений распространялись самые нелепые слухи. Говорили, что Директория хочет арестовать вновь избранных депутатов и помешать собранию; поддерживали даже мнение, что их хотят умертвить. Друзья Директории, в свою очередь, говорили, что в Клиши готовится против нее обвинительный акт и для представления его в Совет пятисот ждут только прибытия новой трети.
В то время как партии волновались в ожидании перемещения большинства законодательного корпуса на противоположную сторону, готовилась новая военная кампания; и всё возвещало, что она будет последней. Теперь, как и в прошлом году, Франции в союзе с Испанией и Голландией предстояло бороться с Англией и Австрией. Стремления испанского двора не были и не могли быть благоприятны французским республиканцам; но политика, руководимая князем Мира, решительно стояла за них. Испания смотрела на союз с республиканцами как на вернейшую охрану против их начал и основательно предполагала, что они не захотят поднимать в стране революции до тех пор, пока будут видеть в ней могущественного союзника. К этим доводам присоединялась старинная вражда с Англией и надежда, что союз всех морских континентальных сил даст возможность отмстить за все обиды. Положение князя Мира связывалось с поддержанием этой политики и вместе с нею должно было погибнуть; сознавая это, он использовал всё свое влияние на королеву, чтобы восторжествовать над инстинктивным отвращением королевского семейства к союзу с Республикой, и вполне преуспевал в том. Из подобного положения дел проистекало, однако, то, что с французами в Испании обращались весьма дурно, а к их правительству проявляли максимальное внимание. К несчастью, французское посольство не вело себя с дружественной державой с надлежащей осторожностью, а потому не имело достаточной твердости защитить французских подданных. Вступив в союз сФранцией, Испания потеряла важную колонию, Тринидад. Она надеялась, что если в этом году Франция покончит с Австрией и обратит все свои силы на Англию, то последняя должна будет заплатить за свои успехи. Королева льстила себя надеждой на расширение Италии для своего зятя, герцога Пармского. Кроме того, поставили вопрос о предприятии против Португалии; в общем переделе государств мадридский двор таил некоторые надежды объединить под одним скипетром весь Иберийский полуостров. Что до Голландии, то ее положение было довольно печальным. Ее волновали все страсти, которые вызывает перемена конституции. Людям рассудительным, желавшим примирить федеративную систему с единством, необходимым для усиления Батавской республики, предстояло бороться с тремя партиями. Это были прежде всего оранжисты, включавшие все креатуры штатгальтера, людей, не имевших других средств существования, кроме государственных должностей, и, наконец, чернь; затем федералисты, знатные и богатые семейства, желавшие сохранения старого порядка за исключением штатгальтерства, оскорблявшего их гордость; и демократы, партия шумная, смелая и неумолимая, составленная из горячих голов и авантюристов. Между этими тремя партиями шла ожесточенная борьба, мешавшая утверждению в стране конституции. Голландия, кроме того, боялась вторжения Пруссии, которую сдерживали только успехи Франции. Торговлю ее на севере теснили англичане и русские; наконец, вследствие измены губернаторов, она теряла свои колонии. Мыс Доброй Надежды, Трикомали, Молуккские острова уже находились во власти англичан. Французские войска, занимавшие Голландию и оберегавшие ее от Пруссии, сохраняли самую похвальную и строгую дисциплину; но военные управления и начальники не умели вести себя должным образом и не отличались честностью. Можно было бы заключить, что Голландия поступила дурно, вступив в союз с Францией, но заключение это было бы слишком легкомысленным. Поставленная между двумя враждующими державами, Голландия не могла не попасть под влияние победителя. При штатгальтерстве, кроме внутреннего рабства, она подчинялась Англии и жертвовала ей своими интересами. Вступая в союз с Францией, она разделяла опасности этой скорее континентальной, чем морской державы и тем компрометировала свои колонии; но впоследствии, благодаря союзу трех континентальных флотов, она могла возвратить то, что потеряла, и под покровительством Франции надеяться на более разумную конституцию. Такова участь государств: сильные сами совершают у себя революцию, но зато и терпят все ее бедствия и плавают в своей собственной крови; а к слабым приносят революцию вооруженной рукой их соседи, неся и все неудобства присутствия чужеземных армий. Слабые не режут друг друга, но должны платить солдатам, охраняющим у них порядок. Такова была судьба Голландии и ее положение в отношении Франции. В этом состоянии она не могла быть особенно полезной французскому правительству. Ее флот и армия преобразовывались весьма медленно; батавские облигации, которыми были уплачены военные издержки в сто миллионов, шли почти за бесценок; выгоды от союза делались для Франции ничтожными, что порождало взаимное неудовольствие. Директория упрекала голландское правительство в том, что оно не исполняет своих обязательств; голландское же правительство упрекало Директорию за то, что она лишает его возможности их исполнить. Несмотря на эти неприятности, обе державы преследовали, однако, сходные цели. Для содействия планам Директории в Голландии готовили эскадру и наступательную армию. С Пруссией, большей частью Германии, Данией, Швецией и Швейцарией Франция продолжала сохранять полный нейтралитет, а между Францией и Америкой возникли неудовольствия. Соединенные Штаты вели себя в отношении Франции несправедливо и неблагодарно. Старый Вашингтон дал себя увлечь партии Джона Адамса и англичан, которые хотели возвратить Америке аристократию и монархию. Злоупотребления нескольких корсаров и поведение агентов Комитета общественного спасения доставили к тому предлог; предлог малоосновательный, потому что злоупотребления англичан в отношении американского флота были значительнее, а на поведении агентов лежал отпечаток времени, и это их до известной степени оправдывало. Сторонники английской партии распространяли слухи, что Франция хочет приобрести у Испании Флориду и Луизиану, что тогда этими провинциями и Канадой она окружит Соединенные Штаты, будет проводить в них демократические начала, последовательно отторгнет штаты один за другим от союза, разрушит американскую федерацию и образует обширную демократию между Мексиканским заливом и Великими Озерами. Ничего подобного не происходило в действительности, но эта ложь распаляла умы и вооружала их против Франции. Америка только что заключила торговый договор с Англией; в силу его постановлений к последней переходили все выгоды, которыми прежде пользовалась одна Франция и которые она приобрела своими услугами делу американской независимости. Намерение прервать сношения с Соединенными Штатами имело своих сторонников во французском правительстве. Американский посланник в Париже Монро давал Директории в этом отношении самые мудрые советы. «Война с Францией, – говорил он, – принудит американское правительство вполне отдаться влиянию Англии; аристократия в Соединенных Штатах восторжествует, свобода же сильно пострадает. Чем терпеливее переносить ошибки настоящего президента, тем более они просветят американцев и склонят их к другой кандидатуре на ближайших выборах. И тогда Франция сможет получить удовлетворение за всё, на что она жалуется». Это мудрое и благоразумное мнение взяло верх в Директории. Ревбель, Баррас, Ларевельер заставили его восторжествовать противно мнению систематичного Карно, который, так расположенный всегда к миру, на этот раз непременно хотел приобретения Луизианы и учреждения в ней республики. Таковы были отношения Франции к союзным или только дружественным державам. Англия и Австрия заключили в прошлом году тройной союз с Россией, но императрица Екатерина умерла. Ее наследник Павел I оказывал большое внимание французским эмигрантам, но демонстрировал весьма мало готовности исполнить условия договора о тройном союзе. Этот государь, по-видимому, был поражен колоссальным могуществом Французской республики и понимал опасность сделать ее еще более грозной, вступая с нею в борьбу; по крайней мере это заставляют предполагать его слова, обращенные к одному известному французу. Не отказываясь от договора, Павел I сослался на состояние своих армий и казначейства и советовал Англии и Австрии обратиться к переговорам. Англия пыталась склонить к коалиции прусского короля, но не преуспела в этом. Этот государь чувствовал, что нет никакого интереса помогать самому грозному своему сопернику, императору, Франция же обещала ему вознаградить в Германии штатгальтера, женатого на его сестре; ему не оставалось желать ничего более. Король хотел только воспрепятствовать Австрии, разбитой и разоренной Францией, вознаградить свои потери в Германии; он желал бы даже воспрепятствовать ее вознаграждению в Италии и объявил, что никогда не согласится на то, чтобы Австрия получила Баварию. Вместе с тем Фридрих-Вильгельм предлагал союз и гарантию земель Венецианской республике, в случае если бы Австрия и Франция согласились вступить в сделку по этому поводу. Россия не вмешивалась в борьбу, Пруссия упорствовала в нейтралитете; оставались только Англия и Австрия. Положение Англии было весьма печальным. Она больше не опасалась, по крайней мере в настоящее время, экспедиции в Ирландию, но ее банку угрожала серьезная опасность. На Австрию она более не рассчитывала, так как последняя выбилась из сил. Англия могла теперь ждать, что Франция, победив весь континент, раздавит ее своими силами. Австрия, хотя и заняла Кель и Гюнинген, сознавала, что проиграла, упорствуя против этих двух тет-де-понов и не направив всех своих сил в Италию. Поражения при Риволи и Да Фаворите и взятие Мантуи привели ее на край пропасти. Она была вынуждена отвести значительную часть войск с Рейна и ослабеть на этой границе значительно больше своего неприятеля, чтобы ее войска и эрцгерцог Карл могли прикрыть границу со стороны Италии. Но в тот промежуток времени, пока эти военные силы должны были перейти с верховий Рейна на Пьяве и Изонцо, Австрия оставалась беззащитной перед ударами противника, умевшего замечательно пользоваться выгодами минуты. Ея опасения были основательны: Франция в самом деле готовила страшные удары, которые предстоящая кампания не замедлила нанести.
Глава LIII
Поход Бонапарта против владений Рима – Новая кампания против австрийцев – Революция в Бергамо, Брешии и других городах венецианских владений – Поход на Вену – Переправа через Рейн – Веронская резня – Падение Венецианской республикиАрмия Самбры-и-Мааса, усиленная большей частью Армии Берегов Океана, была доведена до 80 тысяч человек. Новый ее главнокомандующий, Гош, по возвращении своем из Ирландской экспедиции недолго пробыл в Париже и поспешил на свою главную квартиру. Зиму он потратил на организацию войск и снабжение их всем необходимым. Благодаря средствам, доставленным ему Голландией и провинциями между Маасом и Рейном, с которыми обращались как с завоеванными, Гошу удалось вывести своих солдат из нужды, в которой находилась вся Рейнская армия. Изменив распределение разных родов оружия в армии, он улучшил ее организацию и придал ей больше стройности. Гош горел нетерпением двинуться вперед во главе своих солдат и не видел препятствия, которое помешало бы проникнуть в самое сердце Германии. Желая выказать свои политические виды, он хотел подражать примеру главнокомандующего Итальянской армии и тоже создать республику. Провинции между Маасом и Рейном не были, как Бельгия, объявлены частью французской территории и временно находились под военным управлением. Если по условиям мира с Германской империей и не согласились уступить их Франции и отдать ей таким образом рейнскую границу, то могли согласиться на образование из них республики – независимой, дружественной и союзной с Французской республикой. Эта республика под именем Цизрейнской была вскоре образована и оказалась неразрывно связана с Францией и столь же ей полезна, как и любая из ее провинций. Гош воспользовался случаем придать ей временное устройство и подготовить к республиканскому порядку. Он образовал в Бонне комиссию, на которой лежала двойная обязанность – навести порядок в провинции и извлечь из нее необходимые средства для войск.
Верхнерейнская армия под командованием Моро находилась далеко не в таком удовлетворительном состоянии. Она не оставляла ничего желать в отношении воинского достоинства и дисциплины, но нуждалась в самом необходимом; недостаток денег не позволял приобрести даже понтонного парка, что замедляло открытие кампании. Напрасно Моро добивался нескольких сотен тысяч франков; казначейство не в состоянии было ему их выслать. Чтобы получить средства, он обратился к генералу Бонапарту; но нужно было дожидаться, пока тот закончит свое вторжение в Папскую область. Это обстоятельство изрядно замедляло военные действия на Рейне. Самые сильные и решительные удары должны были быть направлены со стороны Италии. Перед уничтожением при Риволи последней австрийской армии Бонапарт объявил, что, покончив с австрийцами, направится на несколько дней в папские владения, подчинит их Республике и достанет там денег; он прибавлял, что если ему вышлют подкрепление в 30 тысяч человек, то он перейдет Юлианские Альпы и смело двинется на Вену. Этот обширный план, химерический в прошлом году, в настоящее время становился возможен. Преградою ему могла быть лишь политика Директории, которая не хотела поручать все военные операции молодому человеку, столь независимому в проявлении своей воли. Однако же благосклонно настроенный Ларевельер настаивал, чтобы ему дали возможности выполнить столь прекрасный план, который должен был скоро закончить войну. Решили отправить 30 тысяч человек из Рейнской армии; от армии Самбры-и-Мааса отделили дивизию Бернадотта; от Верхнерейнской – дивизию Дельма; обе последние должны были выступать в середине зимы через Альпы. Моро приложил величайшие старания, чтобы дивизия Дельма была в состоянии прилично представить Рейнскую армию в Италии; он отобрал лучшие войска и истощил для ее экипировки свои магазины. Нельзя действовать под влиянием более почтенного и деликатного чувства. Обе эти дивизии, силой в 20 с лишним тысяч человек, перешли Альпы в январе, когда никто и не подозревал об их движении. На перевале их встретила буря. Проводники советовали остановиться; офицеры приказали играть музыку, и бурю встретили барабанным боем и развернутыми знаменами. Обе дивизии уже спустились в Пьемонт, а об отбытии их с Рейна и не подозревали.
Лишь только подписав капитуляцию Мантуи, Бонапарт тотчас же отправился в Болонью – предписать свою волю папе римскому. Директория желала бы, чтобы он окончательно уничтожил светскую власть Святого престола, хотя и не принуждала его к тому и предоставляла ему право действовать сообразно обстоятельствам. Бонапарт, однако, не думал ввязываться в подобное предприятие. Тогда как всё готовилось для похода за Юлианские Альпы, он хотел лишить папу еще только одной или двух провинций и принудить его уплатить контрибуцию, которая покрыла бы издержки новой кампании. Желать большего значило компрометировать общий план военных действий против Австрии. Бонапарту следовало торопиться, чтобы вовремя возвратиться в Северную Италию; следовало стараться не возбудить религиозной войны, а вместе с тем – оказать давление на неаполитанский двор, который хотя и заключил мир с Францией, но нисколько не считал себя связанным договором. Эта держава хотела вмешаться в столкновение, чтобы попользоваться землями папы, а также помешать утверждению в Риме республики и не дозволить революции утвердиться у самых ее владений. Бонапарт объединил в Болонье дивизию Виктора и новые итальянские войска, набранные в Ломбардии и Циспадании, и сам стал во главе их ради предприятия, надлежащим образом выполнить которое можно было только с его решительностью и быстротой. Папа находился в страшном беспокойстве. Император обещал ему союз на самых тяжелых условиях: ценой Феррары и Комаккьо; но этот союз ничего уже не значил после уничтожения армии Альвинци; Святой престол только напрасно себя скомпрометировал. Корреспонденция кардинала Буски, государственного секретаря, заклятого врага Франции, была перехвачена. Замыслы против французской армии, на которую хотели напасть с тыла, были обнаружены, и не оставалось более никаких оправданий, чтобы просить милости победителя, предложения которого уже год отказывались выслушать. Когда посланник Како обнародовал манифест французского главнокомандующего и потребовал паспортов, его не решились удерживать из остатков гордости, но страшно обеспокоились. Вскоре стали слушаться только советов, внушенных отчаянием. Австрийский генерал Колли, прибывший в Рим с несколькими офицерами, был поставлен во главе папских войск; во всех римских провинциях читали фанатичные проповеди, обещали отпущение грехов и спасение всем, кто станет на защиту Святого престола, старались возбудить новую Вандею. Настоятельные мольбы были обращены также к неаполитанскому двору; в нем старались пробудить всё его честолюбие и религиозную ревностность. Бонапарт двигался вперед быстро, чтобы не дать этим мерам времени произвести свое действие. Четвертого февраля (16 плювиоза года V) он подошел к реке Сенио. Там укрепилась папская армия; она состояла из 8 тысяч регулярных войск и значительного числа наскоро вооруженных крестьян, предводительствуемых монахами. К Бонапарту является парламентер и объявляет, что если французы двинутся далее, то в них будут стрелять. Тем не менее французы продолжают подступать к мосту Сенио, довольно хорошо укрепленному. Ланн с несколькими сотнями человек поднимается по реке, переходит ее вброд и выстраивает свои войска в тылу папской армии. Тогда генерал Лагоц с ломбардскими войсками идет к мосту и вскоре его захватывает. Новые итальянские войска успешно выдерживают огонь, который некоторое время остается довольно силен. В этом деле взяли от четырех до пяти сотен пленных и изрубили нескольких крестьян. Папская армия отступает в беспорядке. Ее преследуют до Фаенцы, выламывают ворота города и вступают в него при звуках набата и криках ожесточившегося населения. Солдаты просят отдать город на разграбление; Бонапарт отказывает им в этом. Он собирает пленных, взятых на берегах Сенио, и обращается к ним на итальянском языке. Несчастные воображают, что их сейчас станут казнить. Бонапарт успокаивает их и объявляет, к их изумлению, что им даруется свобода при условии, что они объяснят своим соотечественникам намерения французов, которые хотели вовсе не уничтожить религию и Святой престол, а только отстранить дурных советников, окружавших папу. Он кормит, а затем отпускает их, и двигается дальше, в Форли, Чезену, Римини и Сенигаллию. Колли, у которого оставалось лишь три тысячи регулярных войск, укрепился с ними на хорошей позиции около Анконы. Бонапарт окружил их и большую часть взял в плен, а затем отпустил на тех же условиях. Колли с офицерами удалился в Рим, а Бонапарт отправился в Лорето. Сокровища из города были вывезены, и там едва нашли миллион франков. Знаменитая древняя статуя Богоматери, вырезанная из дерева, была отвезена в Париж. В Лорето Бонапарт оставил морской берег и направился на Мачерату, к Апеннинам, дабы в случае надобности перейти их и идти на Рим. Он прибыл в Толентино 13 февраля и остановился там в ожидании того действия, которое произведет на папу его быстрое движение и отпущенные пленные. Он потребовал к себе главу камальдулов[25], духовное лицо, к которому питал большое доверие Пий VI, и поручил ему отправиться в Рим с мирными предложениями. Прежде всего Бонапарт желал, чтоб папа покорился предлагаемым ему условиям. Он не хотел тратить время на революцию в Риме, которая могла задержать его там дольше, чем он хотел, заставлять неаполитанский двор взяться за оружие и, наконец, дурно отразилась бы на римских финансах и тем помешала бы получить из Папской области 20 или 30 миллионов, в которых Бонапарт нуждался. Он рассчитывал, что папский престол, лишенный своих лучших провинций в пользу Циспадании и подверженный соседству новой республики, вскоре будет охвачен революционной заразой и падет через некоторое время сам собой. Эта политика была более искусна, и будущее доказало ее основательность. Итак, Бонапарт ожидал в Толентино последствий милосердия и внушенного пленным страха. Отосланные пленные разошлись по всей Папской области и вернулись в Рим; они весьма благоприятно отзывались о французской армии и тем умеряли общее против нее возмущение. Глава камальдулов прибыл в Ватикан, когда папа уже садился в карету, оставляя Рим. Успокоенный сообщениями этого духовного лица, папа отказался от намерения покинуть столицу, уволил государственного секретаря кардинала Буску и отправил в Толентино для переговоров с французским главнокомандующим кардинала Маттеи, прелата Галеппи, маркиза Массими и своего племянника герцога Браски. Они получили все полномочия для заключения мира, с тем лишь, чтобы французский главнокомандующий не предъявлял никаких притязаний касательно религии. После этого заключить договор было делом весьма легким, потому что касательно последнего пункта французы требовательны не были. Договор заключили в несколько дней и подписали в Толентино 19 февраля (1 вантоза). Вот каковы были его условия. Папа отказывался от всех союзов, заключенных им против Франции, признавал Республику и объявлял себя в мире и добрых сношениях с нею; уступал все свои права на графство Венессен, окончательно отказывался в пользу Циспаданской республики от легатств Болоньи и Феррары и уступал ей, кроме того, прекрасную провинцию Романью. Анкона и ее важнейшая цитадель оставались во власти Франции до заключения общего мира. Обе провинции герцогства, Урбино и Мачерата, занятые французской армией, возвращались папе за вознаграждение в 15 миллионов. Такая же сумма должна была быть уплачена согласно невыполненному Болонскому перемирию. Две трети этих 30 миллионов выплачивались звонкой монетой, а остальная часть драгоценными камнями. Папа, кроме того, обязывался доставить восемьсот кавалерийских лошадей, столько же упряжных, а также буйволов и другие дары Папской области. Он должен был отречься от всякого соучастия в убийстве Басвиля и уплатить 300 тысяч франков как его наследникам, так и лицам, потерпевшим от этого события. Все произведения искусства и манускрипты, уступленные Франции по Болонскому перемирию, должны были быть немедленно отправлены в Париж. Таков был Толентинский договор, доставлявший Циспаданской республике еще и прекрасную провинцию Романью, а армии – субсидию в 30 миллионов, более чем достаточную для предстоящей кампании. Пятнадцати дней оказалось достаточно для этой экспедиции. Во время заключения договора Бонапарт сумел повлиять и на неаполитанский двор и развязаться с ним. До оставления Толентино он совершил замечательный поступок, ясно обнаруживавший его личную политику. Италия и особенно Папская область были наполнены изгнанными французскими священниками. В монастырях, куда удалялись эти несчастные, их встречали без особого сочувствия. Предписания Директории запрещали им оставаться в местностях, занятых французскими армиями, и итальянские монахи были рады избавиться от них при приближении наших войск. Эти несчастные были доведены до отчаяния. Давно уже покинувшие свою родину, терпя высокомерие чужеземцев, они плакали, глядя на наших солдат; некоторых они знали прежде, когда были приходскими священниками во Франции. Бонапарта было легко тронуть; кроме того он хотел поставить себя выше всех революционных и религиозных предрассудков: он предписал всем монастырям Святого престола принимать французских священников, кормить их и платить им жалованье. Вместо того чтобы изгнать их, Бонапарт улучшил их положение. Он оправдывался перед Директорией в неисполнении ее постановлений следующим образом: «Неотступно преследуя этих несчастных, их заставляют во что бы то ни стало стараться возвратиться на родину. Лучше, если они будут в Италии, чем во Франции: там они могут быть нам полезны. Они менее фанатичны, чем итальянские священники; они просветят народ, который возбуждают против нас. Сверх того, они проливают слезы, глядя на нас; как не сжалиться над их несчастьем?» Директория одобрила решение Бонапарта. Его поступок и письмо, сделавшись гласными, произвели большое впечатление в обществе.
Бонапарт немедленно возвратился на Адидже для приведения в исполнение самого смелого военного похода, о котором упоминает история. Раз перейдя Альпы для вторжения в Италию, он хотел перейти их вторично, броситься за реки Драву и Муру в долину Дуная и идти к Вене. Никогда еще французская армия не показывалась в виду этой столицы. Для исполнения такого обширного плана ей предстояло преодолеть много опасностей. Она оставляла за собою в тылу всю Италию, правда, охваченную ужасом и удивлением, но все-таки не вполне излеченную от убеждения, что французы не могут долго владеть ею. Последняя кампания, кончившаяся сражением при Риволи и взятием Мантуи, по-видимому, положила конец этому убеждению; но поход в Германию мог вновь пробудить его. Правительства Генуи, Тосканы, Неаполя, Рима, Турина и Венеции, пребывая в негодовании из-за близкого соседства революции в Ломбардии и Циспадании, могли воспользоваться первой же неудачей для восстания против французов. Неуверенные в окончательном результате, итальянские патриоты сдерживались, дабы не компрометировать себя. Численность армии Бонапарта была значительно ниже той, какую она должна была иметь для отражения всех возможных опасностей плана. Численность прибывших с Рейна дивизий Дельма и Бернадотта не превосходила 20 тысяч человек; прежняя Итальянская армия доходила до 40 тысяч, что вместе с ломбардскими войсками составляло всего 70 тысяч. Но по меньшей мере 20 тысяч следовало оставить в Италии, с 15-ю или 18-ю – охранять Тироль, а для похода на Вену оставалось около 30 тысяч; неслыханная смелость. Чтобы как-нибудь отвратить эти затруднения, Бонапарт опять попытался заключить с королем Сардинским наступательный и оборонительный союз. Этот союз должен был доставить Франции 10 тысяч хороших солдат. Король, не довольствовавшийся прежде гарантией своих владений за требуемые от него услуги, теперь, с тех пор как революция приобретала всё новых сторонников, находил эту гарантию достаточной. Он наконец подписал договор, который послали в Париж. Этот договор противоречил, однако, видам французского правительства. Директория, одобряя политику Бонапарта в Италии, не хотела сама способствовать падению существующих правительств и тем принимать на себя ответственность за революции; она желала дождаться близкого падения их, вызываемого самою силой вещей, и потому не хотела ни нападать ни на кого из государей, ни защищать их. Итак, ратификация договора была весьма сомнительна, притом на нее требовалось от пятнадцати до двадцати дней. Затем сардинскому контингенту нужно было время на выступление, а Бонапарт тогда уже был бы за Альпами. Он хотел заключить подобный договор о союзе и с Венецией. Правительство этой республики вооружалось, и в намерениях его нельзя было сомневаться. Лагуну наполняли славонские полки. Подеста[26] Бергамо Оттолини, слепое орудие инквизиторов, раздавал оружие и деньги горцам Бергамской области и держал их на всякий случай в полной готовности. Это правительство, столь же слабое, сколь и вероломное, не хотело, однако, себя компрометировать и продолжало поддерживать вынужденный нейтралитет. Венецианцы отказывались от союза с Австрией и Францией, но, в случае неудачи французов при вступлении их в Австрию, готовы было выступить и перерезать их при отступлении. Бонапарт, такой же хитрый, как и венецианская аристократия, чувствовал эту опасность, а потому желал союза с Венецией – более для того, чтобы предохранить себя от ее замыслов, чем имея в виду получение от нее какой-либо помощи. Переправившись за Адидже, он хотел видеть проведитора Фоскарелли, того самого, которого он так напугал в прошлом году в Пескьере; он сделал ему самые откровенные и дружеские предложения. Все государства Террафермы[27], сказал он, заражены революционными идеями: со стороны французов достаточно одного слова, чтобы возмутить против Венеции ее провинции; но в случае союза с Венецией они, конечно, остерегутся это делать и, напротив, постараются успокоить умы; они сохранят Венецию от честолюбия Австрии, и, не требуя от нее жертвовать своей конституцией, посоветуют ей некоторые необходимые изменения. Ничто не могло быть благоразумнее и искреннее этого мнения. Нисколько не верно, что в это самое время Бонапарт и Директория уже замышляли отдать Венецию Австрии. Директория в этом отношении не составила себе еще никакого мнения; в ожидании последующих событий если она и думала о чем-нибудь, то скорее об освобождении всей Италии, чем об уступке какой-либо ее части Австрии. Бонапарт же искренне желал приобрести союзника; и если бы Венеция вняла ему, соединилась с ним и несколько изменила свою конституцию, то спасла бы тем свою территорию и ее древние законы. Но проведитор отвечал уклончивым образом. Бонапарт, видя, что на Венецию надеяться нечего, решил принять свои меры и восполнить то, чего ему недоставало, своими обычными средствами – быстротой и решительностью. У него было 60 с лишним тысяч таких солдат, каких еще никогда не видала Европа. Он хотел оставить 10 тысяч в Италии: вместе с Ломбардским и циспаданскими легионами они составили бы силу, способную сдержать венецианцев. Тогда у него оставалось 50 тысяч человек, которыми он мог располагать следующим образом. Три дороги идут через Ретийские, Норические и Юлианские Альпы на Вену: первая, слева, пролегает по Тиролю и ведет через перевал Бреннер; вторая, посередине, – через Каринтию и перевал Тарвис; третья, справа, – через Тальяменто и Изонцо в Карниолу. Главные силы эрцгерцога Карла были расположены на Изонцо, охраняя Карниолу и прикрывая Триест. Два отряда, один в Фельтре и Беллуно, другой в Тироле, прикрывали две другие дороги. Вследствие ошибки австрийского правительства, поздно направившего в Италию подкрепления, шесть отделенных от ее армии прекрасных дивизий еще не успели прибыть. Ошибка эта могла быть частично исправлена, если бы эрцгерцог, избрав свою главную квартиру в Тироле, стал бы нападать на левое крыло французов. Шесть дивизий с Рейна подошли бы к нему через пятнадцать дней; очевидно, что тогда Бонапарт не мог и думать направиться вправо на Каринтию и Карниолу, а должен был бы сразиться и покончить с эрцгерцогом прежде, чем решиться двинуться за Альпы. Он встретил бы тогда его лучшие войска и не так легко было бы с ними разделаться. Но эрцгерцог получил приказание прикрывать Триест, единственный морской порт австрийской монархии, а потому он и расположился у входов в Карниолу, оставив на дорогах в Каринтию и Тироль только отдельные отряды. Две дивизии, отправленные с Рейна, должны были подкрепить генерала Керпена в Тироле, четыре другие – пройти за Альпами Каринтию и Карниолу и прибыть в главную квартиру во Фриуле. Был март, Альпы были покрыты снегом и льдом. Можно ли было думать, что Бонапарт в такое время года решится взбираться на их вершины? Бонапарт же думал, что, бросившись на эрцгерцога до прибытия главных подкреплений с Рейна, он легче завладеет альпийскими перевалами, перейдет их, последовательно разобьет, как это всегда бывало, разобщенных австрийцев и, в случае поддержки со стороны рейнских армий, дойдет до Вены. Вследствие этого он подкрепил Жубера, которому после Риволи вполне доверял, дивизиями Дельма и Бараге д’Илье, что составило корпус в 18 тысяч человек, поручил ему вступить в Тироль, во что бы то ни стало оттеснить Лаудона и Керпена за Бреннер, а потом направиться на соединение с главными силами в Каринтии. Без всякого сомнения, Лаудон и Керпен, пользуясь удалением Жубера из Тироля, могли вновь туда возвратиться; но пока они оправились бы от своего поражения и вступили в Тироль, Бонапарт успел бы уже оказаться под стенами Вены. Для успокоения тирольцев Жуберу было предписано угождать священникам, хорошо отзываться об императоре и дурно – о его министрах, пользоваться только средствами неприятельских казначейств и ничего не изменять в администрации страны. Прекрасная дивизия неустрашимого Массена в 10 тысяч солдат должна была направиться на отряд, стоящий в центре, у Фельтре и Беллуно, затем идти в ущелья Понтеббы перед Тарвисом, завладеть ими и перевалом и обеспечить себе выходы в Каринтию. Сам же Бонапарт с тремя дивизиями численностью в 25 тысяч человек решил переправиться через Пьяве и Тальяменто, оттеснить эрцгерцога в Карниолу, а потом перейти по долине Изонцо на большую Каринтийскую дорогу, соединиться с Массена у Тарвиса, перейти там Альпы, спуститься в долины Дравы и Муры и, присоединив к главным силам корпус Жубера, направиться к Вене. Он рассчитывал на стремительность и смелость своего нападения и на впечатление, которое производили его быстрые и грозные удары. Перед выступлением Бонапарт поручил генералу Кильмену охрану Северной Италии; ее обсервационный корпус должен был быть составлен из ломбардского ополчения и дивизии Виктора, которая в ожидании уплаты 30 миллионов стояла эшелонами в Папской области, но через несколько дней должна была возвратиться на Адидже. Страшное брожение царило в венецианских провинциях: горцы и крестьяне, преданные духовенству и аристократии, и города, взволнованные революционными идеями, готовы были вступить в борьбу друг с другом. Бонапарт приказал генералу Кильмену соблюдать строжайший нейтралитет и приступил к осуществлению своих обширных планов. Он, по своему обыкновению, обратился к солдатам с энергичной прокламацией, которая должна была еще более возбудить их рвение и возвысить военный дух, если только это было возможно. Десятого марта 1797 года (20 вантоза года V), в сильную стужу и при снеге в горах в несколько футов, Бонапарт двинул войска. Массена начал свою операцию против отряда в центре; оттеснил его к Фельтре, Беллуно и Кадоре, захватил тысячу пленных, в числе которых находился и генерал Люзиньян, дошел до Спилимберго и вступил в ущелья Понтеббы, перед перевалом Тарвис. Бонапарт подступал к Пьяве с тремя дивизиями – Серюрье, Ожеро и Бернадотта. Последняя своей простой и скромной одеждой сильно отличалась от старой Итальянской армии, разбогатевшей на завоеванных ею прекрасных равнинах, составленной из жителей юга, храбрых, пылких и невоздержных. Гордые своими победами, солдаты Итальянской армии подшучивали над своими рейнскими товарищами и называли их контингентом, намекая на контингент военных округов, который в имперской армии плохо исполнял свой долг. Рейнские солдаты, состарившиеся среди военных опасностей, горели нетерпением доказать соперникам по славе свою доблесть. По поводу этих насмешек уже обменялись несколькими сабельными ударами и ждали случая показать себя в деле. Тринадцатого марта все три дивизии беспрепятственно перешли Пьяве; только один человек чуть было не утонул, да и то маркитантка спасла его, бросившись за ним в воду. Бонапарт подарил этой женщине золотое ожерелье. Неприятельские авангарды отступили и искали защиты за Тальяменто. На этой реке сосредоточились все войска эрцгерцога, находившиеся во Фриуле. Молодые противники наконец встретились. Один счастливой комбинацией спас Германию и составил себе в прошлом году репутацию. Он был храбр, не застрял в обычной немецкой рутине, но не был уверен в успехе и сильно беспокоился из-за своей славы. Другой удивил Европу обилием и смелостью комбинаций и ничего не боялся. Скромный до сражения при Лоди, теперь он никого не считал равным себе по гению, так же как никакого солдата не считал равным французскому. Шестнадцатого марта утром Бонапарт направил три дивизии к Вальвазоне на Тальяменто. Каменистое русло этой реки весьма изменчиво, она разделяется на множество рукавов, которые все удобопроходимы вброд. Австрийская армия была развернута на другом берегу реки, обстреливая все доступы к ней; кавалерия ее развернулась флангами на равнине, удобной для маневрирования. Бонапарт оставил дивизию Серюрье в Вальвазоне, в резерве, и направил дивизии Гюйо и Бернадотта – первую налево, против селения Градиска, которую занимал неприятель; вторую направо, против Кодройпо. Зазвучала канонада, и произошло несколько кавалерийских схваток. Найдя неприятеля в готовности, Бонапарт сделал вид, что дает отдых своим войскам, велел прекратить огонь и начать готовить пищу. Обманутый этим распоряжением, неприятель вообразил, что французы шли целую ночь и остановились для отдыха. Но к полудню Бонапарт вдруг велел встать под ружье. Налево развертывается дивизия Гюйо, направо – дивизия Бернадотта. Строятся батальоны гренадеров. В голове каждой дивизии ставят легкую пехоту, готовую рассыпаться; затем гренадеров, которые должны атаковать; и, как поддержку, сзади, – драгун. За этими авангардами разворачивают в боевом порядке обе дивизии; первый батальон каждой полубригады развернутым фронтом, два другие – в сомкнутых колоннах за его флангами, кавалерия – на флангах дивизий. В таком порядке армия подступает к берегам реки со спокойствием и в порядке, как на параде. Генерал Даммартен слева и генерал Леспинас справа приближают свою артиллерию. Легкая пехота рассыпается и прикрывает берега Тальяменто тучей застрельщиков. Тогда Бонапарт подает сигнал. Гренадеры обеих дивизий входят в воду, поддерживаемые кавалерийскими эскадронами, и выходят на другой берег. «Рейнские солдаты, – кричит Бернадотт, – Итальянская армия смотрит на вас!» С обеих сторон сражаются с одинаковой храбростью, но неприятель оттеснен повсюду. Однако эрцгерцог Карл поставил основную часть своей пехоты в Градиске против нашего левого крыла, кавалерию же держал против правого крыла, чтобы атаковать французов, когда они выйдут на равнину, и ударить им во фланг. Генерал Гюйо во главе своей дивизии стремительно атакует Градиску и берет ее. Бонапарт направляет резервную кавалерию под командованием Дюгу и Келлермана-младшего на угрожаемое правое крыло, на австрийскую кавалерию. Французские эскадроны атакуют искусно и стремительно, берут в плен генерала, командовавшего неприятельской кавалерией, кавалерию же приводят в полное расстройство. Французы переходят Тальяменто на всем протяжении, неприятель обращен в бегство. Мы взяли от четырех до пяти сотен пленных, открытая местность не позволяла взять больше. Таков был день 16 марта (29 вантоза), называемый сражением при Тальяменто. В течение его Массена на дороге в центре атаковал Озоппо, завладел ущельями Понтеббы и отбросил к Тарвису остатки дивизий Люзиньяна и Очкая. Эрцгерцог Карл сознавал, что, охраняя большую дорогу и прикрывая Триест, он тем самым теряет более прямой и короткий путь, по которому Бонапарт мог прямо наступать на Вену. Дорога на Карниолу соединяется с дорогой на Каринтию и перевалом Тарвис посредством поперечной дороги через долину Изонцо. Эрцгерцог направил этой дорогой на Тарвис дивизию Баялича, дабы опередить, если это будет возможно, Массена. С остальными войсками он отступил во Фриуль в намерении оспаривать переправу через нижнее течение Изонцо. Преследуя его, Бонапарт завладел Пальмановой – венецианской крепостью, занятой эрцгерцогом и заключавшей значительные склады военных и съестных припасов. Затем он подошел к слабо укрепленному городку Градиске, охраняемому трехтысячным гарнизоном, и направил дивизию Серюрье немного ниже Градиски, чтобы там перейти Изонцо и отрезать гарнизону путь к отступлению. Бернадотт, не дождавшись этого маневра, потребовал сдачи крепости. Комендант ему отказал. Рейнские солдаты просили вести их на приступ, потому что хотели завладеть крепостью до прибытия солдат Итальянской армии. Они бросились на укрепления, но град пуль и картечи вывел из строя более пятисот человек. К счастью, маневр Серюрье завершил сражение. Трехтысячный гарнизон Градиски сложил оружие и сдал свои знамена и орудия.
Между тем Массена прибыл к Тарвису и после довольно жаркого дела завладел этим альпийским перевалом, заперев тем самым выход дивизии Баялича, двигавшейся долиной Изонцо, чтобы опередить французов в этом пункте. Предвидя это, эрцгерцог оставил свою разбитую армию на дороге во Фриуль и Карниолу, отдав приказание соединиться с ним за Альпами в Клагенфурте; сам же отправился в Филлах (куда уже прибыли значительные подкрепления с Рейна), чтобы атаковать Тарвис, выбить оттуда французов и открыть дорогу дивизии Баялича. Бонапарт, со своей стороны, поручил Бернадотту преследовать отряды, отступавшие в Карниолу, сам же с дивизиями Гюйо и Серюрье двинулся вслед за Баяличем вверх по Изонцо. Эрцгерцог Карл, собрав за Альпами остатки войск Люзиньяна и Очкая, потерявшие Тарвис, подкрепил их 6 тысячами гренадеров, лучших и храбрейших солдат императора, и вновь атаковал перевал, в котором Массена оставил только небольшой отряд. Ему удалось занять Таврис. Тогда Массена собрал всю свою дивизию. Оба генерала чувствовали важность этого пункта: если Тарвис будет занят, французская армия сможет господствовать над Альпами и захватить дивизию Баялича. Массена очертя голову бросается вперед со своей храброй пехотой и, по обыкновению, не дорожит собою. Эрцгерцог Карл не менее французского генерала пренебрегает опасностью, и его несколько раз чуть не берут в плен. Перевал Тарвис – самый высокий в Норических Альпах, он господствует над Германией. Сражаются выше облаков, среди снега, и на ледяных равнинах. Целые кавалерийские линии опрокинуты и сломлены на этом страшном поле битвы. Наконец, израсходовав свой последний батальон, эрцгерцог Карл оставляет Тарвис своему упорному противнику и вынужден пожертвовать дивизией Баялича. Оставшись обладателем перевала, Массена наступает на дивизию Баялича и атакует ее во фронт, между тем как сзади ее теснят Гюйо и Серюрье под командованием самого Бонапарта. Этой дивизии не оставалось другого выхода, кроме сдачи. Множество солдат, уроженцев Каринтии и Карниолы, спаслись через горы, бросив оружие; пять тысяч солдат осталось в руках французов со всеми обозами, управлениями и парками. Итак, Бонапарт за пятнадцать дней достиг вершины Альп и пункта, с которого осуществление его цели было уже вполне реально. Жубер в Тироле вполне оправдывал его доверие, достигая исполинских успехов. Оба берега Адидже занимали там Лаудой и Керпен. Жубер атаковал и разбил их при Сан-Микеле, вывел из строя две тысячи человек и взял три тысячи пленными. Неотступно преследуя их на Ноймаркт и Термино, он захватил еще две тысячи пленных и отбросил Лаудона налево от Адидже в долину Мерано, а Керпена вправо к подножию Бреннера. Керпен, подкрепленный лишь одной дивизией с Рейна, был разбит в последний раз и отступил за Бреннер. Очистив Тироль, Жубер повернул направо и двинулся через Пустерталь на соединение с главными силами. Было лишь 11 апреля, а Бонапарт уже господствовал над альпийскими вершинами, взял 20 тысяч пленных, присоединил к себе Жубера и Массена и готов был двинуться с 50 тысячами на Вену. Таковы были результаты его быстрого и смелого похода.
В то время как Бонапарт достигал этих решительных результатов, всё, что он предвидел и чего опасался в своем тылу, осуществлялось: волнуемое революционным духом венецианское правительство выставило значительные силы, которые были готовы раздавить французскую армию в случае неудачи. Провинции на правом берегу Минчио более всего были заражены революционным духом вследствие их соседства с Ломбардией. В Бергамо, Брешии, Сало и Кремоне проживало множество влиятельных семейств, которым было нестерпимо иго Золотой книги; их поддерживала многочисленная буржуазия, и они образовали сильную партию. Послушавшись советов Бонапарта, сделав несколько более доступной Золотую книгу, немного изменив древнюю конституцию, венецианское правительство обезоружило бы темреволюционную партию; но обычное ослепление всех аристократий помешало этому и сделало революцию неизбежной. Участие французов в этой революции легко оправдать, несмотря на все нелепости, распускаемые ненавистью и повторяемые глупостью. Итальянская армия была составлена из революционеров юга, то есть революционеров самых горячих; невозможно было, чтобы при сношениях с венецианскими подданными они не сообщили им своего образа мыслей и не возбудили возмущения против гнусной аристократии; всё это было неизбежно, и не во власти французского правительства или его генералов было предотвратить это. Намерения Директории и Бонапарта были в этом отношении совершенно ясны. Директория желала естественного падения всех итальянских правительств, но решила нисколько тому не содействовать, впрочем, поручив Бонапарту наблюдение за военными и политическими делами в Италии. Бонапарт же слишком нуждался в союзе, спокойствии и дружественном отношении к себе в тылу, чтобы вызывать революцию в венецианских владениях. Сделка между двумя враждующими партиями удовлетворила бы его много больше. Получив отказ в ответ на предложение такой сделки, он предполагал по своем возвращении требовать силою того, чего не мог добиться уговорами; но в настоящее время он не хотел ничего предпринимать. Свои намерения в этом отношении Бонапарт решительно высказывал французскому правительству, генералу же Кильмену он отдал формальное приказание не принимать никакого участия в политических событиях и поддерживать, насколько это будет в его силах, спокойствие. Бергамо и Брешия, наиболее взволнованные города Террафермы, находились с Миланом в непосредственных сношениях. Тайные революционные комитеты переписывались с миланскими патриотами и просили у них помощи. Победы французов не позволяли более сомневаться в окончательном изгнании австрийцев. Итак, покровители аристократии были побеждены; и хотя французы демонстрировали нечто вроде нейтралитета, но ясно было, что они не захотят возвращать под австрийское иго народы, его свергнувшие. Те, кто восстанут сами, должны остаться свободными, – вот как рассуждали итальянцы. Жители соседнего с Миланом Бергамо тайно спрашивали у властей последнего, могут ли они рассчитывать на их поддержку и помощь Ломбардского легиона Лагоца. Подеста Бергамо Оттолини, тот самый, который, как верный агент государственных инквизиторов, раздавал деньги и оружие крестьянам и горцам, имел шпионов среди миланских патриотов; он узнал о составлявшемся заговоре и получил список влиятельных жителей Бергамо, готовящих восстание. Оттолини поспешил отправить в Венецию курьера, дабы сообщить их имена инквизиторам и получить приказ их арестовать. Жители Бергамо, предуведомленные об опасности, нагнали курьера, схватили его и обнародовали имена лиц, скомпрометированных в этом деле. Это происшествие вызвало настоящий взрыв. Одиннадцатого марта, в то самое время, когда Бонапарт двигался к Пьяве, в Бергамо началось восстание. Подеста Оттолини стал угрожать, но его не слушали. Комендант крепости, которого Бонапарт оставил с гарнизоном, дабы следить за движениями горцев и населением Бергамо, удвоил бдительность и усилил караулы. С той и с другой стороны его просили о помощи; он отвечал, что не может вмешиваться в столкновения венецианских подданных с их правительством, посты же удвоены им только как мера предосторожности. Исполняя только данные ему приказания и оставаясь нейтральным, комендант уже этим достаточно содействовал населению Бергамо. Жители собрались на следующий день, образовали временное правительство, объявили город Бергамо свободным и выгнали подесту Оттолини, который покинул город с венецианскими солдатами. Население Бергамо немедленно отправило адрес в Милан с просьбой о помощи. Пламя возмущения быстро сообщилось Брешии и соседним городам. Едва успев освободиться, жители Бергамо послали в Брешию депутацию; ее прибытие произвело в городе восстание. Подестой в Брешии был Батталья, тот самый, который поддерживал благоразумные мнения в венецианском сенате. Он не считал возможным сопротивляться и удалился добровольно. Революция в городе совершилась 15 марта. Пламя продолжало распространяться вдоль гор. Оно сообщилось Сало с прибытием жителей Бергамо и Брешии. Венецианские власти удалились в присутствии французского гарнизона, безучастное отношение которого к происходящему внушало восставшим надежды. Это возмущение патриотической партии в городах должно было естественным образом вызвать такое же среди гор и в деревнях. Горцы и крестьяне, давно уже вооруженные Оттолини, получили сигнал от капуцинов, которые пришли проповедовать в их хижинах: они готовились разграбить возмутившиеся города и, если получится, перерезать французов. С этой минуты французские генералы, как бы ни хотели оставаться нейтральными, не могли более бездействовать. Им слишком хорошо были известны намерения крестьян, чтобы позволить им взяться за оружие; не желая поддерживать партии, они были вынуждены вмешаться и сдержать тех, кто открыто выказывал враждебные намерения. Кильмен немедленно приказал генералу Лагоцу, командиру Ломбардского легиона, идти в горы и положить конец вооружению. Он не желал и не мог препятствовать действиям регулярных венецианских войск против возмутившихся городов, но не мог допустить восстания, результатов которого нельзя было предвидеть в случае поражения в Австрии. Он немедленно отправил курьеров к Бонапарту и торопил движение Виктора, возвращавшегося из Папской области. Как это всегда случается с ослепленными правительствами, не умеющими предупредить взрыва народного неудовольствия необходимыми уступками, венецианское правительство было устрашено этими событиями, как будто не имело времени к ним приготовиться. Сенат немедленно направил к восставшим городам на правом берегу Минчио войска, которые собирал уже давно. Убежденный в то же время, что следует предотвратить тайное влияние французов, сенат обратился к французскому посланнику Лаллеману, чтобы выяснить, насколько Венецианская республика может рассчитывать на поддержку Директории в этом деле. Ответ Лаллемана был ясен и вытекал из его положения. Посланник отвечал, что касательно этого предмета у него нет никаких инструкций, и это было совершенно верно; затем он прибавил, что если венецианское правительство пожелает внести в свою конституцию изменения, требуемые временем, то он думает, что Франция охотно поддержит это правительство. Лаллеман и не мог отвечать иначе, потому что если Франция и предлагала венецианскому правительству союз, то против других держав, но никак не против его собственных подданных; против них она могла допустить таковой лишь при условии, что венецианское правительство будет руководствоваться здравыми и разумными началами. Большой венецианский совет стал обсуждать ответ Лаллемана. Подобные предложения не обсуждались уже несколько веков, и если бы таковое и было поставлено, то никогда бы не получило более пяти голосов. Теперь же за энергичное решение высказались пятьдесят голосов, в то же время сто восемьдесят проголосовали за реформы медленные, постепенные, отложенные до более спокойного времени, то есть за решение уклончивое. Договорились отправить к Бонапарту двух посланников – разузнать его намерения и просить поддержки. Выбрали одного из влиятельных депутатов и проведитора Пезаро, которому уже не раз случалось бывать в присутствии главнокомандующего. Курьеры Кильмена и венецианские посланники застали Бонапарта, когда его смелые маневры уже обеспечили французам линию Альп и открывали родовые земли Австрийского дома. Он был в Торице, занятый условиями капитуляции Триеста. С крайним сожалением Бонапарт узнал о событиях в тылу, чему легко можно поверить, если представить смелость и риск похода на Вену. Его депеши к Директории достаточно доказывают искренность испытываемого им тяжелого чувства; неправы те, кто говорит, что он не выражал в них своих истинных мыслей; разве прежде он не открывал в депешах всех своих хитростей против итальянских правительств? И что же ему оставалось делать в подобных обстоятельствах? Не силой же ему было подавлять партию, принимавшую наши принципы и радушно встречавшую наши армии, и поддерживать тех, кто был готов в случае неудачи их уничтожить. Бонапарт решил воспользоваться этим обстоятельством, чтоб добиться от венецианских посланников уступок и поддержки, которую он столь тщетно искал. Он вежливо принял посланников 25 марта. «Чтобы я вооружился, – сказал он им, – против моих друзей, против тех, кто нас принимает и хочет защитить, да еще в пользу моих врагов, в пользу тех, кто нас ненавидит и хочет нас перерезать, – это вещь невозможная. Подобная подлая политика столь же далека от моего сердца, сколь и от моих интересов. Никогда я не пойду против принципов, из-за которых Франция совершила революцию и которым я обязан успехами моего оружия. Но я еще раз предлагаю вам мою дружбу и мои советы. Вступите в открытый союз с Францией, сблизьтесь хоть сколько-нибудь с ее началами, внесите необходимые изменения в вашу конституцию; тогда я, не применяя насилия, добьюсь возвращения мира своим влиянием на итальянский народ и ручательством за введение более разумного порядка вещей. Такой исход настолько же выгоден вам, насколько и мне». Эта искренняя речь, благоразумие которой нет надобности доказывать, не соответствовала видам венецианских посланников, особенно Пезаро. Не этого они хотели; они желали, чтобы Бонапарт возвратил крепости, занятые им из предосторожности в Бергамо, Брешии и Вероне; чтобы он позволил вооружить партию фанатиков против партии патриотов и допустил таким образом в своем тылу новую Вандею. Конечно, им невозможно было понять друг друга. Бонапарт дурно обошелся с посланниками и, напомнив им поступки венецианцев в отношении французской армии, объявил, что знает все их тайные предположения и планы, но против них у него имеется армия в Ломбардии. Совещание перестало быть мирным; от этих вопросов перешли к вопросу о продовольствии. До сих пор венецианцы продовольствовали французскую армию; они предоставили эту услугу Бонапарту, так как делали сначала то же в отношении австрийцев. Теперь венецианцы хотели, чтобы Бонапарт, находясь уже в родовых владениях Австрийского дома, перестал кормиться за их счет. Но это вовсе не входило в его намерения: он не хотел возбуждать против себя населения Австрии военными поборами. Подрядчики от венецианского правительства прекратили свои поставки. Французы вынуждены были делать реквизиции в венецианских владениях. «Это весьма неудобно, – сказал Бонапарт, – такой способ продовольствования отягощает население и дает повод к огромным хищениям; платите мне по миллиону в месяц в течение всей кампании, она недолго протянется; Французская республика сочтется с вами после и будет вам благодарна за этот миллион больше, нежели за все поборы, которые вы испытаете в случае сохранения реквизиций. Сверх того, если вы кормили моих неприятелей и давали им убежище, то и в отношении меня вы обязаны делать то же». Оба посланника заявили, что их казначейство разорено. «Если оно разорено, – живо возразил Бонапарт, – отберите сокровища герцога Моденского, которого вы укрываете у себя в ущерб моим союзникам моденцам; секвеструйте товары англичан, русских, австрийцев, всех моих врагов, которые вы бережете в своих складах». Обе стороны разошлись в раздражении, а на следующий день состоялось новое свидание. Бонапарт, успокоенный, возобновил свои предложения; но Пезаро не выказал никакой готовности удовлетворить их и обещал лишь уведомить о них сенат. Тогда Бонапарт, который не мог больше сдерживать своего раздражения, взял Пезаро за руку и сказал ему: «Впрочем, я за вами наблюдаю, я вас отгадываю, я знаю, что вы мне готовите. Но берегитесь! Если, пока руки мои будут связаны далеким предприятием, вы станете умерщвлять моих больных, нападать на мои склады, угрожать моему пути отступления, этим вы решите свою погибель. То, что я мог бы простить в Италии, становится непоправимым преступлением, когда я уже в Австрии. Подумайте об этом и не подвергайте дряхлого Льва святого Марка опасности столкновения с армией, которая только в своих депо и госпиталях отыщет необходимые силы, чтобы перейти лагуну и уничтожить вас». Этот энергичный язык испугал, но не убедил венецианских посланников, которые немедленно донесли о результатах совещания сенату. Бонапарт написал Кильмену, чтобы тот удвоил бдительность и наказывал французских комендантов, если те вздумают нарушить нейтралитет; в то же время он приказал обезоруживать всех горцев и крестьян. Движение в венецианских владениях распространилось уже настолько, что не могло остановиться. Восстание в Бергамо произошло 12 марта (22 вантоза); в Брешии 17 марта (27 вантоза); в Сало 24-го (4 жерминаля). Двадцать восьмого марта в Кремоне также произошла революция, и силой обстоятельств в нее были впутаны французские войска. Передовой отряд возвращавшейся в Ломбардию дивизии Виктора подошел к воротам города во время народного волнения. Вид французских войск только увеличил надежды и смелость патриотов. Испуганный венецианский подеста сначала вовсе отказывал французам во входе в город; затем он впустил сорок человек, те завладели городскими воротами и дали войти остальным. Обыватели воспользовались случаем, взбунтовались и выгнали венецианского подесту. Французы хотели только обеспечить себе проход через город, патриоты же воспользовались этим намерением. Горцы и крестьяне, настраиваемые венецианскими агентами и проповедями капуцинов, толпами бродили по деревням. Славонские полки, высадившиеся из лагуны, приближались к восставшим городам. Кильмен сделал надлежащие распоряжения и двинул Ломбардский легион для обезоружения крестьян. Произошло несколько стычек; деревни подожгли, крестьян схватили и расстреляли. Но последние, в свою очередь, грозили разграбить города и перерезать французов, которых они называли якобинцами. Они уже убивали со страшным ожесточением отдельных людей. В Сало крестьяне устроили контрреволюционный мятеж, тотчас же для изгнания их из города выступило ополчение жителей Бергамо и Брешии, поддерживаемое отрядом поляков Ломбардского легиона. Парламентеры от них были завлечены в город и там перерезаны; самый же отряд окружили и разбили, а двести поляков взяли в плен и отправили их в Венецию. В Сало, Вероне, во всех венецианских городах хватали сторонников Франции и отправляли их в венецианские тюрьмы; ободренные этими жалкими успехами, государственные инквизиторы готовились к страшному отмщению. Утверждают, что было запрещено чистить канал Орфано, в котором, как известно, топили государственных преступников. Венецианское правительство, выказывая такую суровость в отношении сторонников Франции, в то же время старалось обмануть Бонапарта внешними знаками уступчивости и назначило требуемый им миллион в месяц. Тем не менее умерщвление французов продолжалось повсюду. Положение дел становилось весьма опасным, и Кильмен отправил к Бонапарту новых курьеров. Последний, узнав о подобных новостях, был крайне раздражен. Немедленно он отправил в сенат грозное письмо, в котором опять повторил все свои замечания, а кроме того, потребовал обезоружения горцев, освобождения взятых в плен поляков и заключенных в тюрьмы венецианских подданных. Он отправил Жюно отвезти это письмо и прочесть его в сенате; посланнику же Лаллеману он предписал выехать из Венеции и объявить войну, если только не будут даны все требуемые удовлетворения.
Между тем Бонапарт исполинской шагами сходил с вершин Норических Альп в долину Муры. Успех похода он главным образом основывал на скором открытии военных действий рейнскими армиями и на близком их прибытии на Дунай, но только что полученная депеша Директории отнимала у него всякую надежду на этот счет. Нищета казначейства была так велика, что оно, как мы помним, не могло выслать генералу Моро даже нескольких сотен тысяч франков, необходимых для понтонного парка, с помощью которого можно было бы перейти Рейн. Армия Гоша, занимавшая Цвайбрюкен, была готова и просила разрешения начать наступление, но не решалась двинуться вперед одна и выйти за Рейн, пока Моро остается за рекой. Карно в своей депеше преувеличивал затруднения, которые армии должны были встретить при выступлении на Германию, и не оставлял Бонапарту никакой надежды на помощь. Последний был сильно смущен этим письмом; крайне впечатлительный, он легко переходил от полной уверенности к совершенному разочарованию. Он вообразил, что или Директория хочет погубить Итальянскую армию и ее главнокомандующего, или другие главнокомандующие не хотят ему помогать. В своем письме он горько жаловался на поведение рейнских армий. Он говорил, что речная линия не составляет преграды, это доказывал его образ действий: когда хотят перейти реку, это могут сделать всегда, а не желая подвергнуть опасности свою славу, рискуют ее потерять совершенно; сам он перешел Альпы, покрытые на три фута снегом и льдом, и если бы рассчитывал так, как его сотоварищи, то никогда бы на это не решился; наконец, если рейнские солдаты оставляют Итальянскую армию одну в Германии в минуту опасности, то у них совсем нет крови в жилах; что, впрочем, его храбрая армия, если ее оставят, отступит, и уже Европа рассудит между ней и другими армиями Республики. Как все страстные и горделивые люди, Бонапарт любил жаловаться и преувеличивать повод к жалобам. Что бы он ни говорил, он не думал ни отступать, ни даже останавливаться, а напротив, хотел навести на Австрию ужас своим стремительным походом и заставить ее просить мира. Много обстоятельств благоприятствовало этому плану. В Вене царил страх; намерением двора было добиться мира; то же советовал эрцгерцог Карл; одно только правительство, преданное Англии, продолжало упорствовать. Условия, сообщенные Кларком перед победами при Арколе и Риволи, были настолько умеренны, что легко было добиться согласия на них Австрии, от нее теперь можно было получить даже и значительно больше. Считая с дивизиями Жубера и Массена, Бонапарт имел под рукой 45 или 50 тысяч человек; с такими силами он не боялся генерального сражения, каковы бы ни были силы неприятеля. Руководствуясь всеми этими основаниями, он решил обратиться к принцу Карлу с предложениями и, если бы последний не ответил на них, стремительно на него броситься и нанести столь быстрый и решительный удар, после которого нельзя было бы дольше отклонять его предложения. Это обещало столько славы, если он один, без всякой поддержки, достигнув Вены столь необыкновенным путем, принудит к миру императора! Тридцать первого марта (11 жерминаля) Бонапарт подходил к Клагенфурту, столице Каринтии. Жубер с левым крылом почти закончил движение и был уже близко. Бернадотт, направленный по большой Карниольской дороге, завладел Триестом, богатыми рудниками Идрии и австрийскими складами и шел теперь в Клагенфурт через Лайбах. В тот же день Бонапарт написал эрцгерцогу Карлу следующее замечательное письмо: «Господин главнокомандующий! Храбрые военные ведут войну, но желают мира. Эта война тянется вот уже шесть лет. Разве мало мы уже уничтожили людей и причинили бедствий страждущему человечеству? Отовсюду оно просит мира. Европа, взявшаяся за оружие, сложила его. Ваш народ остается одиноким, а между тем кровь течет более чем когда-либо. Эта шестая кампания начинается при зловещих предзнаменованиях. Каков бы ни был ее исход, мы перебьем с той и другой стороны несколько тысяч человек, и нужно же будет на чем-нибудь согласиться, так как всё имеет свой предел, даже ненависть. Исполнительная директория Французской республики сообщила Его Величеству Императору о своем желании положить конец войне, печалящей оба народа. Вмешательство английского двора тому воспрепятствовало. Разве нам нет никакой надежды согласиться? И к чему в пользу интересов и страстей нации, которая сама чужда бедствиям войны, нам продолжать резать друг друга? Вы, господин главнокомандующий, вашим рождением так близки к трону, вы стоите выше всех мелких страстей, которые часто руководят министрами и правительствами. Решитесь ли вы теперь заслужить титул благодетеля человечества и истинного спасителя Германии? Не подумайте, господин главнокомандующий, что я разумею под этим невозможность спасти ее силою оружия; но и допуская, что судьба будет вам благоприятствовать, приходится признать, что Германия будет разорена. Что же до меня, господин главнокомандующий, если предложение, которое я имею честь вам сделать, сохранит жизнь хоть одному человеку, то я буду гордиться этой гражданской заслугой больше, нежели горестной славой, приобретаемой на военном поприще». Эрцгерцог Карл не мог принять этого предложения и согласиться на прекращение военных действий, так как на этот счет придворным советом еще не было принято никакого решения. В Вене грузили на суда королевскую мебель и ценные бумаги, эрцгерцогов и эрцгерцогинь отправляли в Венгрию. Двор готовился очистить столицу. Эрцгерцог ответил Бонапарту, что также желает мира, но не имеет полномочий начинать переговоры. Бонапарт быстро наступал через горы Каринтии. Первого апреля утром он нагнал неприятельский арьергард у Санкт-Файта и Фризаха и опрокинул его. Но чуть позже он встретил эрцгерцога, занявшего позицию перед узкими проходами Ноймаркта с остальной частью своей Фриульской армии, с прибывшими с Рейна дивизиями Кайма, Меркантина и принца Оранского и резервом гренадеров. В проходах завязался ожесточенный бой, вся честь которого вновь выпала на долю Массена. Рейнские солдаты соревновались с ветеранами Итальянской армии; стоял вопрос о том, кто двинется скорее и дальше. После упорного дела, в котором эрцгерцог оставил на месте сражения три тысячи человек и тысячу двести военнопленными, французы заняли ущелья. На следующий же день Бонапарт вышел из Ноймаркта на Унцмаркт. Между этими двумя пунктами идет поперечная дорога, соединяющая большие дороги на Тироль и Каринтию. Последней дорогой подходил Керпен, преследуемый Жубером. Эрцгерцог, желая присоединить к себе Керпена, предложил приостановить военные действия. Бонапарт отвечал, что военные действия не мешают вести переговоры, и продолжал наступление. На следующий день, 3 апреля, он дал кровопролитную битву при Унцмаркге, захватил 1500 пленных, вступил в Книттельфельд и не встречал более препятствий до Леобена, до 7 апреля. Керпен сделал крюк для соединения с эрцгерцогом, а Жубер связался с главными силами. В самый день вступления Бонапарта в Леобен генерал-лейтенант Бельгард, начальник Главного штаба эрцгерцога, и генерал-майор Мерфельд прибыли туда от имени императора просить о приостановлении военных действий на десять дней. Бонапарт сознавал, что десятидневная отсрочка даст эрцгерцогу время получить последние подкрепления с Рейна, собрать все части армии и позволить ей оправиться. Но он и сам нуждался в отдыхе, а также успевал тогда соединиться с Бернадоттом и Жубером. Кроме того, Бонапарт верил в искренность предложений о перемирии и потому согласился приостановить военные действия на пять дней и дать уполномоченным время подписать прелиминарии. Военная конвенция была подписана 7 апреля (18 жерминаля) и должна была продолжиться только до 12 апреля. Бонапарт избрал своей главной квартирой Леобен, авангард же Массена выдвинул до Зиммеринга, последней возвышенности Норических Альп, который стоит в двадцати пяти лье от Вены и откуда можно видеть колокольни столицы. В эти пять дней французские войска успели отдохнуть и сосредоточиться. Дабы успокоить население относительно своих намерений, Бонапарт обратился к жителям города с прокламацией, а его образ действий не противоречил его словам: за всё взятое для нужд армии платили наличными деньгами.
Бонапарт ждал истечения пятидневного перемирия, чтобы новым ударом увеличить ужас императорского двора, если прежнего погрома было не вполне достаточно. Но в Вене уже склонялись к тому, чтобы положить конец долгой, жестокой, пролившей такие потоки крови борьбе. Английская партия вполне потеряла влияние в правительстве; Тугут был близок к немилости[28]. Венцы громко требовали мира, сам эрцгерцог Карл, герой Австрии, советовал то же и объявил, что империя не может быть спасена только силой оружия. К тому же мнению склонялся и император. Наконец решили отправить в Леобен графа Мерфельда и маркиза Галло, неаполитанского посланника в Вене. Последний был назначен вследствие влияния императрицы, дочери неаполитанской королевы, которая принимала большое участие в правительственных распоряжениях. Посланники получили инструкции для подписания прелиминариев, которые послужили бы впоследствии основанием для окончательного мира. Они прибыли утром 13 апреля (24 жерминаля), в то самое время, когда по истечении перемирия Бонапарт велел атаковать неприятельские аванпосты. Посланники объявили, что уполномочены договариваться об основаниях будущего мира. Переговоры начались прямо среди биваков французской армии. Молодой главнокомандующий, вновь превратившийся в дипломата, никогда не готовился к этой карьере, но вот уже в течение года ему приходилось заключать важнейшие договора; его слава делала из него самого влиятельного человека своего времени, речь же его была так же внушительна, как и личность. Ему не поручали вести переговоры; все полномочия на этот счет были предоставлены Кларку; последний же, которого Бонапарт уже вызвал, еще не прибыл на главную квартиру. Но Бонапарт, как главнокомандующий, был вправе рассматривать прелиминарии мира как условия перемирия; сверх того, несомненно, что Кларк подписал бы всё, а потому можно было вступить в переговоры. Император и его посланники главным образом заботились о сохранении этикета. Согласно старому обычаю император имел преимущество над французскими королями и его первым именовали в протоколах трактатов; его посланники имели преимущество над французскими. Он был единственным государем, которому Франция уступала эту честь. Оба императорских посланника были готовы немедленно признать Французскую республику, если будет сохранен прежний этикет. «Французская республика, – гордо отвечал Бонапарт, – не нуждается в признании; в Европе она то же, что солнце на горизонте; тем хуже для слепых, которые не умеют его видеть и им пользоваться». Он отказался принять признание, касательно же этикета объявил, что эти вопросы безразличны Французской республике; что относительно этого предмета можно впоследствии связаться с Директорией, и она, вероятно, будет готова пожертвовать подобными мелочами действительным выгодам; в настоящее же время будут переговариваться как раньше и первенство будет принадлежать то Франции, то императору. Затем перешли к существенным вопросам. Главной и важнейшей статьей была уступка Франции бельгийских провинций. Отказ в том не мог более входить в намерения Австрии. Условились, что император уступит Франции все свои бельгийские провинции и, как один из представителей Германской империи, согласится, чтобы Франция распространила свою границу до Рейна. Ему нужно было предоставить вознаграждения; император настаивал, чтобы они были достаточны, будут ли они в Германии или в Италии. В Германии ему можно было либо отдать Баварию, либо секуляризовать некоторые церковные владения. Первая мысль неоднократно занимала европейскую дипломатию, вторая принадлежала Ревбелю, придумавшему это средство как наиболее приличное и согласное с духом революции. Епископам было уже невозможно оставаться и светскими владетелями; к тому же весьма хитроумно было бы заставить церковников платить за расширение Французской республики. Но вознаграждение императора землями в Германии с трудом могло получить согласие Пруссии. Сверх того, если бы вздумали отдавать ему Баварию, то и для государя последней нужно было бы подыскать вознаграждения. Наконец, все германские государства и так находились под непосредственным влиянием императора, и он мало выигрывал, приобретая их. Он бы предпочел расширения в Италии, что действительно прибавляло новые территории к его державе. Итак, следовало подумать и приискать вознаграждения в Италии. Если бы императору согласились возвратить Ломбардию и взяли на себя обязательство сохранить Венецианскую республику в ее настоящем виде, не допуская того, чтобы демократия распространилась до альпийских границ, то император немедленно бы согласился на мир и признал Циспаданскую республику. Но возвратить под иго Австрии Ломбардию, выказавшую такую преданность Франции, расточившую для нее столько усилий и жертв, – было бы слабостью и гнусным делом; наше положение дозволяло нам требовать большего. Следовало обеспечить независимость Ломбардии и вместе с тем отыскать в Италии вознаграждения Австрии. И к тому был простой способ, неоднократно уже представлявшийся уму европейских дипломатов и возбуждавший надежды Австрии и опасения Венеции: Австрию можно было вознаградить венецианскими владениями. Иллирийские провинции, Истрия и вся Северная Италия от Изонцо до Ольо образовывали богатые земли, которые могли щедро вознаградить Австрию. Поведение венецианской аристократии в отношении Франции, ее постоянный отказ от союза, ее тайное вооружение, очевидной целью которого было нападение на французов в случае их неудачи, недавнее восстание горцев и крестьян, наконец, умерщвление французов – всё это наполняло Бонапарта негодованием. Сверх того, если император, в пользу которого Венеция тайно вооружалась, не отказывался от ее земель, то Бонапарту тем более не было оснований щадить ее. К тому же, можно было предложить вознаграждение и Венеции: располагали Ломбардией, Моденским герцогством, Болоньей, Феррарой, Романьей – богатыми и значительными провинциями, часть которых составляла Циспаданскую республику. Некоторые из этих провинций вполне могли удовлетворить пожеланиям Венеции. Сделка эта казалась выгодной всем. Ее представили на рассмотрение венского двора, от которого находились на расстоянии лишь в двадцать пять лье. Вознаграждение было принято, прелиминарии были определены и выражены статьями, которые должны были послужить основанием окончательным переговорам. Император отказывался в пользу Франции от всех своих владений в Нидерландах и соглашался, чтобы республика распространила свою границу до Рейна. Кроме того, он отказывался от Ломбардии. В вознаграждение за все свои пожертвования он получал венецианские владения Террафермы, Иллирию, Истрию и Северную Италию до Ольо. Венеция оставалась независимой, сохраняла Ионические острова и получала вознаграждения в виде провинций, которыми могла располагать Франция. Император признавал республики, которые основывались в Италии. Французская армия должна была выйти из австрийских владений и расположиться на их границе, то есть очистить Каринтию и Карниолу и стать на Изонцо и у входов в Тироль. Все меры относительно итальянских провинций и венецианского правительства должны были быть приняты совместно с Австрией. Для определения окончательных условий мира следовало собрать два конгресса: один в Берне для заключения частного мира с императором, другой в каком-нибудь городе Германии для заключения мира со всей Германской империей. Мир с императором должен был быть заключен в три месяца, иначе прелиминарии теряли силу. Австрия имела свой важный расчет поспешить с заключением окончательного мира: ей хотелось скорее вступить в обладание венецианскими провинциями, пока французы не распространили в них революционные идеи. Бонапарт имел в виду раздробить Циспаданскую республику, присоединить Моденское герцогство к Ломбардии и составить из них одну республику со столицей в Милане под названием Цизальпинской – вследствие ее положения относительно Альп; оба же легатства и Романью присоединить к Венеции, озаботившись перед тем подчинить ее аристократию и изменить конституцию. Таким образом, в Италии оказались бы две республики, союзные с Францией, обязанные ей своим существованием и расположенные содействовать всем ее планам. Границей Цизальпинии стала бы Ольо, которую легко было укрепить. Из Пиццигеттоне на Адде можно было создать первоклассную крепость, а кроме того, восстановить крепостные стены Бергамо и Кремоны. Венецианская республика с Догадо, Полесине, обоими легатствами и Романьей, провинцией Масса-Каррара и заливом Специей стала бы морской державой, располагающей двумя морями. Почему же Бонапарт не воспользовался своим положением, дабы окончательно изгнать австрийцев из Италии, а главное – к чему он вознаграждал их за счет нейтральной державы, устраивая раздел, подобный разделу Польши? Но было ли еще возможно освободить Италию? Пришлось бы потрясти всю Европу, дабы заставить ее согласиться на свержение папы, короля Сардинии, великого герцога Тосканы, неаполитанских Бурбонов и герцога Пармского. В состоянии ли была Французская республика предпринять подобное усилие? Не достаточно ли было пока заложить семена будущей свободы образованием двух республик, откуда она не замедлила бы распространиться по всему полуострову? Притом раздел венецианских владений не имел ничего общего с разделом Польши. Последняя была разделена союзными державами, возбуждавшими в ней волнения и в то же время обещавшими ей помощь; Венеция же отвергла дружбу французов, готовилась изменить им и напасть врасплох, в минуту опасности. Польша была государством с ясно определенными границами, существование ее имело существенное значение для европейского равновесия; ее фальшивая конституция была всё же лучше устаревшей конституции Венеции. Венеция же, напротив, не имела никакой естественной территории, кроме лагуны, ее политическая сила никогда не опиралась на владения в Терраферме. Ее несправедливейшее во всей Европе государственное устройство, ее правительство, ненавидимое подданными, его вероломство и подлость – вот что ее уничтожило. Итак, раздел венецианских владений имел лишь одну общую черту с разделом Польши – одинаковое отношение к нему Австрии, и если на кого и могла жаловаться Венеция, то только на последнюю. Принимая прелиминарии, Бонапарт приобретал возможность только своими силами принудить неприятеля к миру, пожинал плоды своего смелого похода и добивался условий, которые при настоящем положении Европы были блестящими и гораздо более выгодными, чем назначенные до того Кларку. Итак, частично из военных и политических оснований, частично из личного расчета он решил подписать прелиминарии до прибытия Кларка в главную квартиру. Они были подписаны в Леобене 18 апреля 1797 года (29 жерминаля года V). Если бы в эту минуту ему было известно, что происходит на Рейне, он не торопился бы подписать леобенские мирные условия; но Бонапарту лишь сообщили, что бездействие будет продолжительным. Он немедленно отправил Массена в Париж отвезти договор о предварительных мирных условиях. До сих пор только этот храбрый генерал еще не отвозил в Париж взятых знамен и не удостаивался военных почестей. Бонапарт нашел, что настоящий случай достоин вознаградить оказанные им заслуги. Кроме того, он через Германию отправил курьеров в Рейнскую армию и в армию Самбры-и-Мааса, дабы они могли остановить неприязненные действия, если таковые в Германии уже начались.
Военные действия и в самом деле открылись там во время подписания прелиминариев. Гош в нетерпении ожидал возможности выступить. Моро прибыл в Париж, дабы испросить необходимые суммы на приобретение понтонного парка. Наконец приказание было дано. Гош во главе своей прекрасной армии дебушировал из Нойвида, Шампионне же с правым крылом из Дюссельдорфа двигался на Уккерат и Альтенкирхен. Гош атаковал австрийцев в Хеддерсдорфе, где они прочно укрепились; он заставил неприятеля понести большие потери и захватил пять тысяч пленных. После этого славного дела он быстро пошел к Франкфурту, продолжая теснить Края и стараясь отрезать ему путь к отступлению. Искусным маневром Гош готов был окружить австрийского военачальника и даже, может быть, принудить к сдаче, когда к нему прибыл курьер от Бонапарта с известием о подписании прелиминариев. Это обстоятельство остановило Гоша на середине его победоносного похода и сильно опечалило, так как в очередной раз ставило преграду его военной карьере. Если бы курьеры по крайней мере были направлены через Париж, у него оставалось бы время захватить всю армию Края, что имело бы огромное влияние на последующие переговоры. В то время как Гош быстро подступал к городу Нидда, Дезе, получивший от Моро позволение перейти Рейн, решился на одно из самых смелых предприятий, о каких упоминает военная история. Пункт переправы он избрал значительно ниже Страсбурга. Разбив свои суда о каменистый остров, он все-таки успел достичь противоположного берега. Здесь в течение двадцати четырех часов он рисковал быть сброшенным в Рейн и вынужден был выдерживать натиск всей австрийской армии, удерживаясь в кустарниках и болотах в ожидании, когда через реку будет наведен мост. Наконец переправу закончили; австрийцев преследовали по направлению к Шварцвальду и завладели частью складов. Но и здесь армия была остановлена курьером из Леобена; можно только сожалеть, что ошибочные сообщения заставили Бонапарта так поспешно подписать прелиминарии. Курьеры прибыли в Париж, где обрадовали всех, кто желал мира, но не Директорию, которая, считая положение Франции удачным, с сожалением видела, что из него не извлекли всех выгод. Ларевельер и Ревбель желали полного освобождения Италии; Баррас желал, чтобы Республика унизила державы; Карно, с некоторого времени любивший выказывать умеренность, находил, что слишком большое унижение императора повредило бы прочности мира. Горячие разногласия возникли по поводу прелиминариев; однако же, чтобы не слишком вооружать общественное мнение и не показать вида, что желают вечной войны, решили одобрить положенные в Леобене прелиминарии.
Пока всё это происходило на Рейне и во Франции, важные события случились в Италии. Выше мы сказали, что Бонапарт, получив известие о беспорядках в венецианских владениях, о восстании горцев против городов, неудаче ополчения Брешии перед Сало, взятии в плен двухсот поляков, умерщвлении значительного числа французов и заключении в тюрьмы всех их сторонников, написал из Леобена венецианскому сенату грозное письмо. Он поручил своему адъютанту Жюно лично прочесть его в сенате, потребовать освобождения всех пленных и заключенных в тюрьмы, а также преследования и наказания убийц и тотчас же выехать из Венеции с объявлением войны, если ему не дадут полного удовлетворения. Жюно предстал перед сенатом 15 апреля (26 жерминаля). Он прочел угрожающее письмо своего генерала, причем вел себя с суровостью солдата, и солдата победоносного. Ему отвечали, что вооружения не имеют другой цели, кроме как поддержать порядок и власть правительства во владениях республики, и что если совершены убийства, то это непреднамеренное несчастье, за которое дадут удовлетворение. Но Жюно не довольствовался пустыми фразами и угрожал объявлением войны, если из тюрем не выпустят арестантов и не прикажут обезоружить горцев и преследовать всех виновников убийств. Однако его удалось успокоить; с ним и с французским посланником Лаллеманом согласились в том, что напишут генералу Бонапарту и отправят к нему двух депутатов, дабы условиться об удовлетворении, какого он потребует. Посланниками этими были назначены Франческо Дона и Леонардо Джустиниано. Между тем продолжались волнения в венецианских владениях. Города по-прежнему враждовали с населением деревень и горцами. Агенты аристократической и монашеской партии распространяли об участи французской армии в Австрии самые нелепые слухи, заверяли, что она окружена и уничтожена, и в подтверждение своих лживых известий приводили два факта. Бонапарт, притянув корпуса Жубера и Бернадотта, один из которых действовал в Тироле, а другой в Карниоле, обнажил свои фланги. Жубер разбил и отбросил Керпена за Альпы, но оставил не уничтоженным до конца Лаудона, который вновь появился из Тироля, подымая всё верное австрийцам население гор и спускаясь по Адидже к Вероне. Генерал Сервье, оставленный с 1200 человек охранять Тироль, шаг за шагом отступал к Вероне, дабы опереться на французские войска, оставленные в Северной Италии. В то же время отряд, находившийся в Карниоле, отступал перед кроатами, восставшими, как и тирольцы, и отходил к Пальманове. Всё это были незначительные факты, и Лаллеман старался доказать венецианскому правительству их маловажность, дабы остеречь его от новых неосторожных поступков; но все его увещания были бесполезны. И тогда как Бонапарт вынуждал австрийских уполномоченных прибыть в его главную квартиру, в венецианских владениях распускали слухи, что он разбит, обойден и близок к гибели в своем безумном предприятии. Партия, неприязненная французам и революции, во главе которой стояла большая часть членов венецианского правительства, всё более и более поднимала голову. Волнение было особенно сильно в Вероне. Этот город, самый важный в венецианских владениях, был первым подвержен революционной заразе, так как находился в непосредственном соседстве с возмутившимися городами. Венецианцы старались удержать его и выгнать из него французов. Всё побуждало их к тому: как намерения населения, так и скопление горцев и приближение генерала Лаудона. В Вероне уже находились итальянские и славонские войска венецианского правительства; к городу подвели еще новые силы и прервали все его сообщения с соседними городами. Генерал Баллан, начальствовавший в Вероне французским гарнизоном, был фактически отрезан от соседних комендантов. Более двадцати тысяч горцев наводняли окрестные деревни. На французские отряды нападали на дорогах, капуцины на улицах возбуждали против них чернь, наконец, повсюду распространяли подложный манифест веронского подесты, призывающий к избиению французов. Одной подписи Баттальи на нем было бы достаточно, чтобы доказать его подложность, тем не менее он волновал умы. Руководители враждебной французам партии известили генерала Лаудона, что он может идти на город и последний будет ему сдан. Всё это происходило 15 и 16 апреля. Из Леобена не получали никаких известий, и время для взрыва, казалось, было выбрано как нельзя более удачно. Генерал Баллан был настороже. Он отдал войскамприказ отступить в форты по первому сигналу и обратился к венецианским властям с жалобами на дурное обхождение с французами, а главное – на приготовления, которые совершались перед его глазами; на что, однако, получил лишь уклончивые ответы, но никакого действительного удовлетворения. Отправив в Мантую и Милан письменные сообщения о происходящем с просьбой о помощи, он был готов в случае надобности запереться в фортах. Семнадцатого апреля (28 жерминаля), на второй день Пасхи, в Вероне вспыхнуло народное волнение и в город вступили толпы крестьян с криками «Смерть якобинцам!». Баллан отвел войска, оставив у городских ворот лишь несколько отрядов, и объявил, что при первом насилии разгромит город. Но около полудня на улицах послышались условленные свистки, вооруженные толпы бросились на французов и на отряды, оставленные охранять городские ворота; они перерезали всех, кто не успел уйти в форты. Свирепые убийцы бегали за безоружными людьми, которых служебные обязанности удерживали в Вероне, умерщвляли их и бросали в Адидже. Они не пощадили и госпиталей и замарали себя кровью значительного числа больных. Те, кто успел скрыться от них, но не смог уйти в форты, бросились во дворец правительства, где венецианские власти дали им убежище, дабы не было повода думать, что резня – это их затея. Погибло уже более четырехсот несчастных, и французский гарнизон содрогался от бешенства, глядя на плывущие по Адидже трупы своих зарезанных товарищей. Тогда генерал Баллан приказал открыть огонь и стал обстреливать город ядрами. Он мог обратить его в пепел. Если горцы, в него вступившие, заботились о том мало, то городские обыватели и власти пожелали начать переговоры для спасения города. Они послали парламентера, и генерал согласился выслушать его, чтобы спасти несчастных, укрывшихся в правительственном дворце. Там были женщины, дети французских чиновников, больные, бежавшие из госпиталей. Баллан требовал, чтобы все французы были немедленно доставлены к нему, горцы и славонские полки выведены из города, чернь обезоружена, и – в обеспечение покорности города – были взяты заложники из числа венецианских правителей. Венецианские парламентеры, в свою очередь, требовали, чтобы в правительственный дворец отправился для переговоров французский офицер. Храбрый командир одной бригады Бопуаль имел смелость принять на себя это поручение. Он прошел через толпы разъяренной черни, готовой растерзать его, и добрался до венецианских властей. Вся ночь прошла в бесплодных прениях с проведитором и подестой. Не желали ни складывать оружие, ни предоставлять заложников, напротив, хотели защитить себя от мщения Бонапарта, которое не замедлит обрушиться. Соглашение прекратить огонь во время переговоров не было соблюдено бешеными шайками, наполнявшими Верону; с фортами велась перестрелка, и французские войска продолжали совершать вылазки. На следующий день, 18 апреля, Бопуаль вернулся в форты, ничего не добившись. Венецианские правители, не будучи в состоянии управлять разъяренными толпами, просто затаились. Против фортов вновь открыли ружейную пальбу. То же сделал и генерал Баллан из своих орудий, начав ожесточенный обстрел города. В нескольких кварталах вспыхнули пожары. Влиятельные жители собрались в правительственном дворце, дабы принять на себя в отсутствие властей управление городом. Вновь открыли переговоры, вновь согласились прекратить огонь, но и на этот раз соглашение не было исполнено мятежниками, не перестававшими стрелять по фортам. Однако час мщения приближался. Несколько курьеров разными дорогами были отправлены к генералу Кильмену. Тот приказал немедленно двинуться Шабрану с 1200 человек, начальнику Ломбардского легиона Лагоцу – с 800, генералам Виктору и Бараге д’Илье – также направиться с их дивизиями к Вероне. В тот момент, когда выступили французские войска, генерал Лаудой получил известие о подписании прелиминариев и остановился на Адидже. После кровопролитной схватки Шабрана с венецианскими войсками Верона была окружена уже со всех сторон, и исступленные шайки, зарезавшие столько французов, перешли от неистовой необузданности к величайшему унынию. В промежуток времени с 20 по 24 апреля враждующие стороны, ведя переговоры, не прекращали сражаться. Венецианские власти появились вновь; они и теперь хотели гарантий против грозящего им мщения; им дали двадцать четыре часа на размышления, и они вновь скрылись. Их заменило временное городское управление; видя французские войска готовыми вступить в город и обратить его в пепел, новые власти сдали его победителю. Генерал Кильмен сделал всё возможное, чтобы воспрепятствовать грабежу, но не смог спасти особенно богатый городской ломбард, который был частично расхищен. Кильмен велел расстрелять нескольких известных предводителей восстания, взятых с оружием в руках; для уплаты жалованья армии он наложил на город контрибуцию в миллион сто тысяч франков; кавалерию свою он направил по окрестным дорогам обезоруживать крестьян и рубить оказывающих сопротивление. Затем генерал попытался восстановить в городе порядок и немедленно отправил рапорт главнокомандующему, ожидая его решения по поводу того, как поступить с восставшим городом. Такой была резня, получившая название Веронской пасхи. Во время веронских событий в Венеции произошло нечто еще более гнусное, если только это было возможно. Регламент воспрещал военным судам воюющих наций вступать в порт Лид о. Входившая в состав французской флотилии в Адриатическом море военная шхуна под командованием капитана Ложье, будучи преследуема австрийскими фрегатами, спаслась под защиту батарей Лид о и салютовала девятью пушечными выстрелами. Ей приказывают удалиться, несмотря на непогоду и присутствие преследовавших ее кораблей. Шхуна готова исполнить это требование, когда, не дав несчастному судну отплыть от берега, батареи открывают по нему огонь и осыпают ядрами. Капитан Ложье с великодушным самоотвержением приказывает экипажу сойти в трюм, сам же отправляется с рупором на палубу, дабы повторить, что удаляется, но падает мертвым на палубу с двумя членами своего экипажа. В то же время венецианские шлюпки подплывают к шхуне, славонские солдаты всходят на палубу и убивают весь экипаж, за исключением двух или трех несчастных, которых отвозят в Венецию. Это печальное событие происходит 23 апреля (4 флореаля). В Венеции вместе с известием о веронской резне узнали также о взятии города и подписании прелиминариев. Правительство видело себя скомпрометированным и не могло более рассчитывать на гибель Бонапарта, который оставался, напротив, победителем и предписывал Австрии мир. Венеции приходилось теперь иметь дело со всемогущим главнокомандующим, союз с которым она отклонила и солдат которого перерезала. Венецианское правительство пребывало в ужасе. Не было никаких оснований утверждать, что власти сами предписали веронскую резню и жестокости в Лид о: это значило бы не понимать обычного хода дел в правительствах, обуреваемых партиями; таким правительствам нет надобности отдавать приказания, исполнения которых они желают, достаточно лишь предоставить свободу действий партии, желания которой они разделяют; поддерживая ее своими средствами, они пользуются ею как орудием для исполнения того, чего сами не осмелились бы сделать. Веронские инсургенты имели пушки; их поддерживали регулярные венецианские полки; подеста Бергамо Оттолини тайно доставлял всё необходимое для вооружения крестьян. Правительству оставалось предоставить событиям идти своим чередом, и оно так и поступило. В первое время, однако, власти совершили неосторожность – назначили коменданту Лидо награду за соблюдение, как они говорили, венецианских законов. Итак, Венецианская республика не могла представить генералу Бонапарту благовидных извинений. Обоим посланникам, Дона и Джустиниано, которым сначала было поручено только отвечать на требование Жюно, послали новые инструкции. Когда эти инструкции отправили, события в Вероне и Лидо еще не были известны, теперь посланникам выпадала задача совсем другого рода, им предстояли объяснения насчет гораздо более важных событий. Они двигались вперед среди радостных криков, вызванных новостью о мире, и вскоре поняли, что основание оставаться печальными есть теперь только у них одних. По пути они узнали, что Бонапарт, дабы наказать Венецию за отказ от союза и убийства французов, уступил часть их территории Австрии. Чего же им ждать, когда он узнает о гнусных событиях, последовавших за тем! Бонапарт тем временем возвращался из Леобена и, в исполнение прелиминариев, отводил свою армию на Альпы и Изонцо. Посланники нашли его в Граце и были ему представлены 25 апреля. Французы уже знали о веронской резне, начавшейся 17 апреля, но не знали о резне в Лидо 23-го числа. Чтобы получить более благосклонный прием, Дона и Джустиниано привезли с собой письмо от брата главнокомандующего. Со страхом предстали они перед этим человеком, поистине необыкновенным, как говорили они, по глубине воображения, быстроте ума и неотразимой силе чувств. Бонапарт встретил их вежливо и, сдерживая гнев, позволил высказаться; затем он прервал свое молчание: «Освобождены ли мои пленные? Преследуют ли убийц? Обезоружены ли крестьяне? Я не хочу более выслушивать пустых фраз: перерезали моих солдат, мне нужно полное отмщение!» Оба посланника хотели напомнить об обстоятельствах, которые вынудили их применить меры против восстания, о неизбежных беспорядках при подобных событиях, о сложности найти истинных убийц. «Правительство, – живо возразил им на это Бонапарт, – которое так хорошо, как ваше, умеет пользоваться своими шпионами, должно знать истинных подстрекателей убийств. Впрочем, я прекрасно знаю, что его презирают настолько же, насколько оно заслуживает презрения, и что оно не может обезоружить тех, кого вооружило само. Но я их обезоружу сам. Я заключил мир и могу располагать восемьюдесятью тысячами человек; я иду уничтожить ваши «свинцы»[29], я стану для Венеции вторым Аттилой. Я не могу более терпеть ни инквизиции, ни Золотой книги – этих учреждений варварских веков. Ваше правительство слишком дряхло, ему пора уходить. В Горице я предлагал Пезаро мой союз и здравые советы. Он мне отказал. Вы ожидали моего возвращения, чтобы отрезать мне путь к отступлению; и вот теперь я здесь. Я не хочу более переговариваться, но только предписывать законы. Если вам нечего мне сообщить, я объявляю вам, что вы можете удалиться». Эти гневные слова совершенно подавили венецианских посланников. Они искали второго свидания, но, не осмеливаясь лично явиться к Бонапарту, решили написать ему почтительное письмо, в котором давали все объяснения, каких он мог бы пожелать. «Я не могу, – отвечал он им, – принять вас, покрытых французской кровью; я могу выслушать вас лишь тогда, когда вы выдадите мне трех государственных инквизиторов, коменданта Лидо и главного начальника венецианской полиции». Получив сообщение о происшествии в Лидо, Бонапарт согласился их принять, но отказался выслушать их предложения до тех пор, пока ему не будут выданы головы, которых он требовал. Тогда посланники решились прибегнуть к средству, которое часто с такой пользой применяла Венецианская республика: они попытались предложить французскому главнокомандующему вознаграждение другого рода. «Нет, нет, – отвечал раздраженный генерал, – если бы вы покрыли весь этот берег золотом, все ваши сокровища не смогли бы вознаградить меня за кровь одного моего солдата». Бонапарт отпустил посланников и немедленно обнародовал объявление войны против Венеции. Это случилось 4 мая (13 флореаля), французская конституция не позволяла ни Директории, ни ее главнокомандующим объявлять войну, но разрешала отражать неприятельские действия, если таковые будут предприняты. Бонапарт воспользовался этой оговоркой и, вследствие событий в Вероне и Лидо, объявил военные действия открытыми, предписал посланнику Лаллеману выехать из Венеции, велел повсюду в провинциях Террафермы свергать Льва святого Марка, вводить в городах муниципальное управление и, в ожидании прибытия войск из Австрии, приказал генералу Кильмену направить дивизии Бараге д’Илье и Виктора к Венецианской лагуне. Его распоряжения, такие же быстрые, как и гнев, были немедленно исполнены. В одно мгновение древний Лев святого Марка исчез с берегов Изонцо и Минчио и был повсюду заменен деревом свободы. Со всех сторон приближались войска, и французские пушки загремели на берегах, где уже давно не было слышно неприятельских орудий. Древняя Венеция еще могла представить непреодолимые препятствия даже главнокомандующему, унизившему Австрию. Она могла располагать 37 галерами, 168 канонирскими лодками с 750 орудиями и 8500 матросами и артиллерийской прислугой. Ее гарнизон состоял из 3500 итальянцев, 11 тысяч славонцев; продовольствия она имела на восемь месяцев, пресной воды – на два; кроме того, Венеция имела возможность пополнить эти запасы. Французы не владели морем, не имели канонирских лодок для переправы, им предстояло продвигаться вдоль незнакомых каналов, поминутно опуская лот под огнем бесчисленных батарей. Как бы храбры и предприимчивы ни были победители, они могли быть остановлены этими затруднениями и принуждены начать осаду, которая, пожалуй, затянулась бы на несколько месяцев! Австрия, очищенная от французских войск, могла отвергнуть прелиминарии, вновь вступить в борьбу и представить новые затруднения. Но если военные средства Венеции и были довольно значительны, ее внутреннее положение не позволяло ими воспользоваться. Как все одряхлевшие сословия, ее аристократия была разделена; у нее не оставалось ни общих интересов, ни общих побуждений. Высшая аристократия, раздававшая места и почести и располагающая значительными богатствами, обнаруживала меньше невежества, предрассудков и страстей, чем низшее дворянство; главным двигателем ее было честолюбие власти. Основная же масса дворянства, лишенная должностей, жившая пособиями, невежественная и буйная, обладала при этом вполне аристократическими предрассудками. Вместе с духовенством она возбуждала чернь, которая – как и во всех государствах, где средний класс недостаточно силен для этого, – находилась под ее влиянием. Эта чернь, состоящая из грубых, суеверных и полудиких моряков и рабочих, была способна на самые необузданные проявления бешенства. Среднее сословие, городское население, промышленники и торговцы, юристы, медики и прочие, как и повсюду, желали водворения гражданского равенства; они радовались прибытию французов, но не осмеливались громко выражать свою радость в виду простого народа, который, еще прежде чем революция успела бы совершиться, мог дойти до самых больших крайностей. Ко всем этим внутренним несогласиям присоединялось еще другое, не менее опасное обстоятельство. Венецианскому правительству служили славонцы, грубые солдаты, чуждые венецианцам и часто враждебные им; они ждали только возможности пограбить, не имея в виду служить никакой партии. Таково было внутреннее состояние Венеции. Знать, стоявшую у кормила правления, пугала мысль о борьбе с таким воином, как Бонапарт; хотя Венеция и могла выдержать осаду, но они с ужасом представляли ее бедствия и те крайности, которым могли предаться обе раздраженные партии и славонская солдатчина; главным же образом их страшили опасения за свое имущество в Терраферме, которое было секвестровано Бонапартом с угрозой окончательной конфискации. Они боялись и за пенсионы, которыми жило мелкое дворянство и которые могли быть потеряны, если бы, доведя борьбу до крайности, Венеция навлекла на себя революцию. Аристократы думали, что, вступив в переговоры и согласившись с некоторыми изменениями, смогут спасти древние учреждения Венеции; сохранить в своих руках власть, обладание которой всегда обеспечено людям, с нею свыкшимся; и спасти свои земли, пенсионы мелкого дворянства и город от насилия и грабежа. Вследствие чего эти люди, не имевшие страстей ни своих предков, ни основной части дворянства, решили вступить в переговоры. У дожа собрались влиятельные члены правительства: шесть советников дожа, три президента верховного суда, шесть знатных старшин, пять старшин Террафермы, пять старшин исполнительной власти, одиннадцать старшин, вышедших из советов, три главы совета десяти и три авогадора[30]. Это необыкновенное, даже противное обычаям собрание должно было приискать средства спасти Венецию, в которой царил ужас. У дожа [Людовико Манина], старика, ослабевшего от преклонных лет и тягот беспокойного правления, в глазах стояли слезы. Он сказал, что не убежден в возможности спокойно уснуть в своей постели в эту самую ночь. Каждый являлся со своим предложением. Один из участников предлагал подкупить Бонапарта; но это сочли смешным и ни к чему не ведущим. Сверх того, венецианскому посланнику в Париже Квирини поручили сделать всё, прибегнуть даже к подкупу голосов в Директории, если это ему удастся. Другие предлагали защищаться, но это решение находили крайне неосторожным и достойным лишь вздорных и молодых голов. Наконец, остановились на следующем мнении: предложить большому совету хотя бы изменить конституцию, дабы умерить гнев Бонапарта. Большой совет, составляемый обыкновенно из дворянства и представляющий всю венецианскую нацию, был созван. На него явилось 619 человек, то есть немного более половины всех участников. Внесенное предложение об изменении конституции было встречено глубоким молчанием. Этот вопрос уже обсуждался, и изменение конституции отложили до лучшего времени. На этот раз чувствовали, что такое оттягивание уже неуместно. Предложение дожа приняли 580 голосами; на основании его сенат должен был отправить для переговоров с Бонапартом двух комиссаров, которым поручалось обсуждать даже конституционные вопросы, подлежащие исключительно большому совету, с тем ограничением, однако, что их решения нуждаются в дальнейшей ратификации. Оба комиссара отправились немедленно и нашли Бонапарта на берегу лагуны, у моста Маргеры. Он расставлял свои войска, а французские артиллеристы уже обменивались выстрелами с венецианскими канонирами. Комиссары передали Бонапарту решение большого совета. На минуту он, казалось, был поражен этим решением; но затем вновь принял суровый тон и сказал: «А три государственных инквизитора, а комендант Лидо? Арестованы ли они? Мне нужны их головы. Я не хочу слышать о переговорах до тех пор, пока французская кровь не будет отмщена. Ваши берега меня не устрашают; я нахожу их такими, какими предвидел. Через две недели я буду в Венеции. Ваше дворянство избегнет казни, только лишь если оно, как французские эмигранты, будет повсюду влачить нищенское существование». Оба комиссара приложили все усилия, чтобы добиться отсрочки в несколько дней. Бонапарт предоставил им на то лишь двадцать четыре часа. Однако согласился приостановить военные действия на шесть дней, дабы венецианские комиссары могли прибыть к нему в Мантую с согласием большого совета на все предъявляемые им условия. Удовлетворенный тем, что навел ужас на венецианцев, Бонапарт не желал на самом деле начинать военных действий, потому что видел трудности овладения лагуной и предвидел вмешательство Австрии. Согласно одной из статей прелиминариев Франция не должна была ничего предпринимать против Венеции без соглашения с Австрией. Если бы Бонапарт вступил в нее открыто, то в Вене стали бы жаловаться на нарушение договоренностей; ему было во всех отношениях выгоднее заставить Венецию саму открыть ему ворота. Довольный, он отправился в Мантую и Милан, не сомневаясь, что венецианцы скоро явятся к нему с полной покорностью. Все члены правительства вновь собрались у дожа – выслушать донесение комиссаров. Более нельзя было противиться требованиям главнокомандующего; приходилось соглашаться на всё, потому что опасность с каждым днем делалась более грозной. Говорили, что буржуазия готовит заговор и хочет перерезать дворян, а славонцы ждут первого же случая, чтобы начать грабить город. Решили сделать большому совету новое предложение – согласиться на все требования генерала Бонапарта. Четвертого мая (13 флореаля) вновь собрали большой совет, который определил большинством в 704 голоса против 10 послать комиссаров и уполномочить их принять все условия Бонапарта. Вместе с тем решили немедленно начать судебное преследование против трех государственных инквизиторов и коменданта Лид о. Снабженные новыми полномочиями комиссары последовали за Бонапартом в Милан – положить к его ногам горделивую венецианскую конституцию. Но шести дней было недостаточно: перемирие истекало раньше, чем они успели окончить переговоры. Между тем ужас в Венеции всё возрастал. Он дошел до такой степени, что коменданта лагуны уполномочили капитулировать перед французскими генералами, которым было поручено командование в отсутствие Бонапарта. Комендант должен был только оговорить независимость республики, неприкосновенность религии, обеспечение личной безопасности граждан и иностранных посланников, неприкосновенность общественной и частной собственности, банков, арсеналов и архивов. Однако от французских генералов смогли добиться продолжения перемирия, дабы дать время венецианским посланникам закончить переговоры с Бонапартом. Арест трех государственных инквизиторов дезорганизовал венецианскую полицию. Влиятельные буржуа волновались, открыто выражали намерение свергнуть аристократическую власть и окружали поверенного в делах Франции Вильтара, горячего патриота, остававшегося в Венеции за отъездом из нее посланника Лаллемана, надеясь найти в его лице поддержку в осуществлении своих планов. В то же время в славонских войсках распространялась распущенность, заставляя опасаться самых страшных крайностей; с венецианской чернью случались драки, которые, по-видимому, провоцировали буржуа, дабы вызвать раздор в аристократической партии. Девятого мая (20 флореаля) страх в Венеции дошел до крайнего предела. Два весьма влиятельных члена революционной партии, некто Спада и Зорци, вошли в сношения с некоторыми из участников собрания у дожа и сумели внушить им мысль, что – дабы предохранить Венецию от грозящих ей опасностей, – следует обратиться к поверенному в делах Франции. Дона и Батталья обратились к Вильтару с вопросом, какими средствами можно спасти Венецию. Последний отвечал, что главнокомандующий не уполномочил его предъявлять условий, что он может лишь высказать свое личное мнение и посоветовать следующие меры: посадить на суда и выслать из города славонцев; учредить национальную гвардию; впустить в Венецию четыре тысячи французов и позволить им занять укрепления; уничтожить старое правительство и заменить его городским управлением из тридцати шести членов, избранных из всех сословий, мэром которого был бы настоящий дож; наконец, освободить всех арестованных за политические мнения. Вильтар прибавлял, что ценой этих уступок генерал Бонапарт согласится помиловать трех государственных инквизиторов и коменданта Лид о. Эти предложения внесли на собрание совета у дожа. Они были весьма важны, так как влекли за собой полную революцию в Венеции. Но главы правительства больше боялись другой революции, которую составили бы планы партии реформаторов, ярость черни и алчность славонцев. Пезаро говорил, что лучше удалиться в Швейцарию, чем самим разрушать древнее венецианское правление. Однако эти возражения отстранили и решили представить предложения большому совету. Назначили его на 12 мая, а в ожидании заседания славонцам выдали невыплаченное жалованье и посадили их на суда для отправления в Далмацию. Противный ветер удержал славонцев в гавани, и присутствие их в венецианских водах только поддерживало смятение и ужас. Двенадцатого мая большой совет торжественно собрался, чтобы вотировать уничтожение древнего правления. Совет окружало громадное стечение народа. Тут были и буржуа, радующиеся уничтожению власти своих повелителей, и народ, подстрекаемый дворянством и готовый броситься на главных виновников революции. Дож, проливая слезы, предложил большому совету отречься от верховной власти. Послышались ружейные выстрелы. Дворянство вообразило, что ему грозит резня. «Голосовать! Голосовать!» – закричали со всех сторон. За уничтожение аристократической власти вотировало 512 голосов. Против высказались 12 человек, 5 воздержались. Таким образом, большой совет возвращал верховную власть венецианцам: вотировали учреждение муниципалитета и временного правительства из депутатов со всех венецианских владений; консолидировали общественный долг и пенсионы бедным дворянам и декретировали введение французских войск в Венецию. Едва приняв это решение, из окна дворца выставили флаг; увидев его, буржуазия обрадовалась, а разъяренная чернь стала носиться по улицам Венеции с образом святого Марка и нападать на дома жителей, которые склонили к этому решению венецианское дворянство. Дома Спада и Зорци были разграблены и разорены; беспорядок дошел до крайней степени, и опасались страшного потрясения. Однако жители, заинтересованные в охранении общественного порядка, собрались и вверили командование городом старому мальтийскому генералу Салимбени, которого долго преследовала государственная инквизиция. Венецианцы бросились на возмутителей, рассеяли их и восстановили в городе порядок и спокойствие. Славонцы были наконец отосланы, новый муниципалитет устроен, и 16 мая (27 флореаля) флотилия отправилась за четырьмя тысячами французов, которые и вступили в Венецию не торопясь и спокойно.
В то время как эти события происходили в Венеции, Бонапарт в Милане подписал с венецианскими уполномоченными договор, во всем согласный со совершившейся революцией. Тайными статьями определялись: обмен территорий, 3 миллиона контрибуции деньгами и 3 – морским вооружением, а также уступка Франции трех военных кораблей и двух фрегатов. Договор этот должен был быть ратифицирован венецианским правительством; но ратификация эта была невозможна, так как таковое перестало существовать, а кроме того, была бесполезна, так как статьи договора были уже исполнены. Временное муниципальное управление тем не менее сочло своею обязанностью ратифицировать договор. Не компрометируя себя перед Австрией, не навязывая своей армии страшных затруднений осады, Бонапарт достиг всех своих целей. Он сверг нелепую аристократию, изменившую ему, поставил Венецию в такое же положение, как Ломбардию, Модену, Болонью и Феррару; теперь без всякого затруднения он мог совершать любые переделы территории, какие счел бы необходимыми. Уступив императору земли Террафермы от Изонцо до Ольо, Бонапарт мог отдать Венеции взамен Болонью, Феррару и Романью, составлявшие теперь часть Циспадании. Отдавать их Венеции, претерпевшей революцию, не значило возвращать под иго австрийцев. В распоряжении Франции оставались герцогство Моденское и Ломбардия, из которых можно было образовать вторую республику, союзную с первой. Можно было сделать еще лучше, если бы удалось восторжествовать над соперничеством, – соединить все провинции, освобожденные французским оружием, и образовать могущественную республику, которая господствовала бы и над континентом, и над морями Италии. Тайные статьи относительно контрибуции на 3 миллиона морским вооружением и выдачи трех кораблей и двух фрегатов были средством наложить руку на все венецианские морские силы. Обширный ум Бонапарта, предусмотрительность которого не упускала из виду ничего, желал избежать в отношении Венеции того, что случилось в Голландии, когда недовольные революцией морские офицеры или коменданты островов сдали находившиеся в их ведении корабли и острова. Он особенно заботился о том, чтобы сохранить Ионические острова – Корфу, Закинф, Кефалонию, Лефкас и Китиру, – и немедленно отдал приказ занять их. Бонапарт просил также прислать ему из Тулона моряков, обещая взять пересылку на свой счет и снабдить их всем необходимым. Он испрашивал у Директории приказа для адмирала Брюи немедленно вооружить шесть кораблей, чтобы в соединении с венецианскими морскими силами завладеть Ионическими островами. Затем он отправил в Тулон два миллиона, чтобы вооружение кораблей не останавливалось за недостатком денег, и здесь также отступил от регламента казначейства, желая избежать потери во времени. Однако же, опасаясь позднего прибытия Брюи, Бонапарт присоединил маленькую флотилию, которую сохранил на Адриатике, к найденным в Венеции кораблям, перемешал венецианские экипажи с французскими, посадил на суда две тысячи человек и отправил их на острова немедленно. Таким образом, он обеспечивал себе обладание самыми важными пунктами на Востоке и Адриатике и занимал положение, которое, делаясь с каждым днем всё внушительнее, должно было оказывать большое влияние на переговоры с Австрией.
С тех пор как подписание Леобенских прелиминариев определило судьбу Италии и обеспечило ей французское влияние, революция совершала там значительные успехи. Теперь становилось несомненным, что большая часть Северной Италии составит демократическую республику. Это был завидный пример, вдохновлявший Пьемонт, Парму, Тоскану и Папскую область. Французский главнокомандующий не призывал никого к мятежу, но и не отказывался принимать всякого, кто готов был присоединиться к нему. В Генуе умы были настроены враждебно к аристократии, не такой нелепой и изнеженной, как венецианская, но, если только это возможно, еще более упорной. Как было сказано выше, Франция заключила с Генуей договор для обеспечения тыла своей армии: ограничилась 2 миллионами, ссуженными в заем, и возвращением изгнанных за преданность Франции семейств. Но после принуждения к миру Австрии патриотическая партия сменила свое настроение. Патриоты, собираясь у некоего Моранди, составили петицию и представили ее дожу, требуя изменения конституции. Для рассмотрения их предложений дож образовал комиссию. Между тем в городе происходили волнения. Генуэзская буржуазия и пылкие молодые люди объединились и были готовы взяться за оружие. Со своей стороны дворяне с помощью священников взволновали простой народ и вооружили желающих. Французский посланник, человек мягкий и умеренный, скорее сдерживал, чем подстрекал патриотическую партию. Тем не менее 22 мая, когда стали известны венецианские события, морандисты взялись за оружие и решили завладеть важнейшими городскими постами. Завязалась жестокая схватка. Патриоты, которым пришлось иметь дело с целым городом, были разбиты и подверглись жестоким истязаниям. Оставшийся победителем народ дошел до крайности и не пощадил французских семейств, многие из которых пострадали от насилия. Как только Бонапарт узнал об этих событиях, он понял, что ему нельзя оставаться безучастным. Он послал своего адъютанта Лавалетта с требованием выдачи арестованных французов и вознаграждения им, а главное – ареста государственных инквизиторов, обвиняемых в вооружении простого народа. Поддерживаемая этим могущественным влиянием, патриотическая партия вновь собралась, одержала верх и, как и в Венеции, принудила местную аристократию к отречению. Учредили временное правительство, и к Бонапарту отправили комиссию, чтобы договориться с ним по поводу конституции, какая, по его мнению, приличествует Генуэзской республике. Итак, в течение двух месяцев подчинив папу, перейдя Юлианские Альпы, принудив к миру Австрию, возвратившись опять за Альпы и наказав Венецию, теперь Бонапарт сидел в Милане, получив верховную власть над всей Италией, выжидая и не торопя естественного хода революции, работая над устройством освобожденных провинций, создавая морские силы в Адриатике и делая свое положение еще более внушительным в глазах Австрии. Леобенские прелиминарии были одобрены в Париже и Вене; обмен ратификациями совершился между Бонапартом и господином Галло; ждали близкого открытия конференций для установления окончательного мира. Обычный генерал Республики Бонапарт имел в Милане больше влияния, нежели все европейские владетели. Приезжавшие и отъезжавшие беспрестанно курьеры свидетельствовали о том, что здесь сосредоточились судьбы мира. Воодушевленные итальянцы часами ждали выхода генерала из дворца Сербеллони. Молодые и прекрасные женщины окружили госпожу Бонапарт и образовали около нее блестящий двор. Начиналось это необыкновенное правление, ослепившее мир и владычествовавшее над ним.
Глава LIV
Затруднительное положение Англии после прелиминариев мира с Австрией – Выборы года У – Успехи контрреволюции – Борьба советов с Директорией – Избрание Бартелеми – Возвращение священников и эмигрантовОбраз действий Бонапарта в отношении Венеции был смел, но не выходил за пределы законов. Объявление войны он оправдывал необходимостью отразить начатые против французов неприятельские действия; и прежде чем последние перешли в открытую войну, он заключил договор, освобождавший Директорию от предоставления на усмотрение советов объявления войны. Таким образом, Венецианская республика подверглась нападению, была уничтожена и стерта с карты Европы, тогда как главнокомандующий и не спрашивал Директорию, а Директория – советов. Оставалось лишь подтвердить договор. Генуя была подвергнута революционным изменениям в то же лето, и тоже не спрашивая согласия правительства. Все эти факты, которые приписывали участию Бонапарта гораздо более, нежели это было на самом деле, давали необыкновенное представление о его власти в Италии и влиянии, которое он там получил. Директория в самом деле находила, что Бонапарт разрешил своей властью уже слишком много вопросов; однако она не могла упрекнуть его в превышении власти; она была вынуждена признать пользу и современность всех его операций и не осмеливалась порицать победоносного генерала. Венецианский посланник в Париже, господин Квирини, прибегал к всевозможным средствам с целью приобрести голоса в пользу своего отечества. Чтобы подкупить Барраса, он использовал его связь с неким далматом, ловким интриганом. Ему выдали сумму в 600 тысяч франков банковыми билетами, с тем чтобы он обеспечил защиту интересов Венеции в Директории. Но, извещенный об интриге, Бонапарт разгласил ее, и от банковых билетов отказались. Когда эти факты стали известны Директории, потребовались объяснения, было начато дознание, но дело замяли. Решительные действия Бонапарта в Италии одобрили, и в первые дни после подписания Леобенских прелиминариев радовались предстоявшему окончательному миру. Враги революции и Директории, которые так рьяно хлопотали о мире, на самом деле были весьма раздосадованы подписанием прелиминариев, а республиканцы были им рады: они, без сомнения, желали бы полного освобождения Италии, но им было приятно и то, что Республика признавалась императором и некоторым образом освящалась им. Французы радовались прекращению ужасов войны и ожидали ослабления общественных тягот. Заседания советов были преисполнены энтузиазма. Объявили, что армии Итальянская, Рейнская и Самбры-и-Мааса заслужили признательность Отечества и всего человечества. Все партии расточали генералу Бонапарту выражения живейшего одобрения и предлагали называть его отныне Италийским, подобно тому, как в Риме назвали Сципиона Африканским. Вместе с Австрией был фактически подчинен весь континент. Оставалось завершить борьбу с Англией, которая, не имея союзников, подвергалась отныне большим опасностям. Остановленный во Франкфурте в минуту своего торжества, Гош с нетерпением ждал возможности продолжить свою карьеру. Его по-прежнему занимала Ирландия, и он нисколько не отказывался от своего плана прошлого года. Между Рейном и Нидом он расположил около 80 тысяч человек, а около 40 тысяч оставил в окрестностях Бреста; вооруженная в этом порту эскадра была готова выйти в море. Испанский флот, собранный в Кадиксе, ждал только ветра, который заставил бы удалиться английского адмирала Джервиса и позволил бы испанцам выйти с рейда и плыть в Ла-Манш, где они могли действовать совместно с французскими морскими силами. Голландцам наконец удалось собрать свою эскадру и реорганизовать часть армии. Таким образом, Гош для организации восстания в Ирландии мог располагать громадными средствами. Он предлагал отделить от армии Самбры-и-Мааса 20 тысяч человек и направить их в Брест. Затем, распустив слух, что отправляется на несколько дней к своему семейству, он поехал в Голландию, сохраняя самое строгое инкогнито. Там Гош лично наблюдал за всеми приготовлениями. Семнадцать тысяч голландцев, отличные войска, были посажены на суда и ждали сигнала, чтобы соединиться с экспедицией в Бресте. Питта снедало сильнейшее беспокойство. Отступление Австрии, приготовления в Текселе и Бресте, эскадра, собранная в Кадиксе, – всё это были обстоятельства весьма тревожного характера. Испания и Франция силились склонить к миру Португалию, и можно было опасаться измены старого союзника. Эти события оказали большое давление на кредит и привели к давно предвиденному и неоднократно предсказываемому кризису. Английское правительство часто прибегало к помощи Банка и получало от него огромные суммы в обмен на ренты или билеты Государственного казначейства. Происходивший от этого недочет в наличных деньгах Банк мог пополнить лишь усиленными выпусками банковских билетов. Страх овладел всеми, когда распространился слух, что Банк ссудил правительству значительные суммы. Все побежали обменивать свои билеты на звонкую монету, и уже в марте, в то время как Бонапарт приближался к Вене, Английский банк был вынужден испрашивать разрешения приостановить платежи. Банк освободили от обязательств, которых он не мог выполнить; но его кредит и само существование пока не были спасены окончательно. Немедленно обнародовали отчет о состоянии актива и пассива. Актив простирался до 17 597 280 фунтов, пассив же – до 13 770 390. Не упоминалось, однако, какую часть актива составлял долг государства Банку. Билеты казначейства немедленно упали в цене на 15 %. Банкиры, в свою очередь, просили разрешения производить уплаты банковскими билетами, грозя иначе приостановить платежи. Естественно было предоставить им то же право, но тогда получалось, что билеты шли по принудительному курсу. Для устранения этого затруднения самые влиятельные финансисты страны собрались в Лондоне и выказали замечательный пример разумности и здравого видения общественных нужд. Понимая, что отказ принимать в уплату банковские билеты поведет к неизбежной катастрофе, они решили ее предупредить, начав принимать их. С этой минуты Англия вступила на путь бумажных денег. Правда, их курс был не принудительным, а добровольным; но все-таки они не имели прочной ценности, она зависела исключительно от политики правительства. Чтобы билеты могли в полной мере заменить металлические деньги, их разделили на небольшие суммы. Банку разрешили выпускать билеты по 20 и 40 шиллингов; прежде он не мог выпускать билеты ценностью менее 5 фунтов стерлингов. Хотя здравый смысл английского торгового класса и сделал катастрофу менее гибельной, однако положение оставалось весьма опасным: следовало обезоружить Францию и воспрепятствовать намерению испанской, французской и голландской эскадр зажечь пожар в Ирландии. Королевское семейство по-прежнему враждебно относилось к революции и мирным планам; но Питт, который руководствовался только интересами Англии, находил необходимым дать стране в настоящее время отдых. Будет мир окончательным или нет, но он был необходим. Вполне согласившись на этот счет с лордом Гренвилем, Питт склонил правительство начать переговоры, которые позволили бы ослабить слишком натянутые пружины английского могущества. Более не могло быть и речи о том, чтобы оспаривать Нидерланды, уже уступленные Австрией; спор мог возникнуть лишь о колониях, причем можно было надеяться на возможность соглашения. Не только положение Англии показывало ее намерение привести к концу переговоры, но и самый выбор лица, которому эти переговоры поручались. Лорд Малмсбери был назначен вести их и на этот раз: в его возрасте и при его положении его не использовали бы два раза подряд для ни к чему не ведущего представительства. Лорд Малмсбери, прославившийся своей долгой дипломатической карьерой и искусством ведения переговоров, уже хотел удалиться от дел, но лишь после удачных переговоров. Он в самом деле получил тайные инструкции, которые не оставляли никакого сомнения в серьезности миссии. Английский кабинет просил паспортов для своего уполномоченного, и с общего согласия местом конференций назначили не Париж, а Лилль. Директория предпочитала принять английского посланника в провинции, где она могла менее опасаться интриг. Со своей стороны, английский посланник тоже не желал находиться в присутствии правительства, обращение которого было несколько суровым; он счел за лучшее вести переговоры с его уполномоченными. Тем не менее Гош должен был продолжать свои приготовления, дабы придать больше веса французским уполномоченным.
Таким образом, Франция, вышедшая отовсюду победительницей, вела переговоры с двумя важнейшими европейскими державами и была близка к окончательному миру. Столь счастливые и блестящие события должны были бы всех радовать, если бы выборы года V не придали оппозиции сил. Мы уже рассказывали о происках противников Директории. После ареста Бротье, Лавилернуа и Дюверна де Преля роялистская партия потеряла троих своих главнейших агентов; но это не стало для нее слишком существенной потерей: она была настолько беспорядочно организована, что с потерей вождей беспорядок не мог увеличиться еще больше. На сцене по-прежнему играли роль две ассоциации, одна – из людей преданных и готовых взяться за оружие, другая – из людей сомнительных, которые могли только вотировать на выборах. Пишегрю со своим заговором оставался в стороне и всё еще переписывался с английским посланником Уикхемом и принцем Конде. Выборы, на которые влияли интриганы всякого рода, а главное – сам дух реакции, дали результат, какого и можно было ожидать. Почти вся вторая треть депутатов была выбрана из людей, враждебных Директории, – или вследствие их преданности королевской власти, или из ненависти к террору. Правда, сторонников королевской власти было немного; но они, по своему обыкновению, умели пользоваться страстями других. Пишегрю избрали депутатом от Юра. В Кольмаре был выбран нектоШембле, который служил посредником в переписке с Уикхемом; в Лионе – Имбер, один из главных членов королевской агентуры на юге, и Камилл Жордан, молодой человек с добрыми намерениями, но слишком пылким воображением и раздражением против Директории; в Марселе – генерал Вилло, который из Армии Берегов Океана был переведен в департамент Устье Роны для командования его военными силами и который, вместо того чтобы сдерживать партии, оказался вовлечен в роялистскую фракцию. В Версале выбрали некоего Вовилье, замешанного в заговор Бротье и предназначенного агентурой для управления продовольственной частью; в Бресте – адмирала Вилларе-Жуайёза, поссорившегося с Гошем и, вследствие того, с правительством по поводу экспедиции в Ирландию. Однако не все избранники были столь неудобны Директории и Республике. Генерал Журдан, сложивший с себя командование армией Самбры-и-Мааса, был выбран депутатом от своего департамента. Он был достоин представлять армию в законодательном корпусе и загладить бесчестье, которым ее запятнала измена Пишегрю. Примечателен также тот факт, что Барер был вновь [как в 1792 году] избран в законодательный корпус от департамента Верхние Пиренеи. Новые народные избранники поспешили прибыть в Париж. В ожидании момента, когда им предстояло вступить в свои права, их завлекали в клуб Клиши, который с каждым днем становился всё радикальнее. Да и советы теряли свою прежнюю умеренность. С приближением минуты, когда к ним должны были присоединиться новые члены, депутаты первой трети постепенно лишались той сдержанности, которой придерживались в течение пятнадцати месяцев. До сих пор они только поддерживали конституционалистов, то есть депутатов, которые, не считая себя ни друзьями, ни врагами Директории, старались показать, что придерживаются лишь конституции и вступают в борьбу с правительством, лишь когда оно от нее отклоняется. Это направление господствовало главным образом в Совете старейшин. Но, по мере того как день вступления в должность новых депутатов приближался, оппозиция в Совете пятисот начинала выражаться всё более угрожающим языком. Высказывалось мнение, что старейшины уже слишком долго ведут за собой советы и Совету пятисот пора выйти из-под опеки. Конституционалисты, обманутые, как все, кто после революции ввязался в оппозицию, считали, что скоро наконец встанут во главе движения, а вновь прибывшие депутаты будут их поддерживать. Во главе их стоял Карно. Всё более и более увлекаемый в ложном направлении, он не переставал поддерживать в Директории мнение большинства законодательного корпуса. При обсуждении Леобенских прелиминариев он выказал раздражительность, которую до тех пор оставлял в границах приличия, и поддержал с рвением, какого нельзя было ждать от его прошлой жизни, уступки, сделанные Австрии. Ослепленный самолюбием, Карно мечтал управлять конституционной партией как в Совете пятисот, так и в Совете старейшин; во вновь избранных депутатах он видел только новых сторонников. В своем стремлении сплотить все части партии он искал сближения с более выдающимися новыми депутатами и даже первым нанес визит Пишегрю, который весьма дурно относился ко всем директорам. Пишегрю довольно сдержанно отвечал на предупредительность Карно и выказывал почти пренебрежение. Тем не менее Карно завязал сношения со многими другими депутатами первой и второй трети. Его квартира в Люксембурге сделалась сборным пунктом всех членов новой оппозиции; его сотоварищи видели, что каждый день у него собираются самые непримиримые их враги. Важным вопросом оставалось избрание нового директора. Жребий должен был определить, кому из директоров предстоит выйти из правительства. Если бы жребий пал на Ларевельера-Лепо, Ревбеля или Барраса, то политика правительства изменилась бы, так как директор, выбранный новым большинством, не замедлил бы вотировать с Карно и Летурнером. Говорили, что пять директоров заранее согласились определить того, кто должен выбыть, что Летурнер согласился отказаться от своей должности и жребий бросали только для вида. Но это предположение было нелепо, как и все предположения, обязанные своим происхождением духу партий. Все директоры, исключая Ларевельера, весьма дорожили своими местами. Кроме того, Карно и Летурнер, надеясь стать во главе правления, не могли добровольно согласиться оставить свою партию. Лишь одно обстоятельство оправдывало этот слух. Пять директоров согласились между собой, что выбывавший член должен получить от каждого из своих сотоварищей 10 тысяч франков вознаграждения, что дало бы возможность не переходить сразу от представительной верховной власти к нищете. Эта сделка могла служить предположению, что товарищи Летурнера согласились отказаться в его пользу от части своего жалованья. Однако на самом деле ничего такого не произошло. Клуб Клиши делал всё, чтобы предупредить сделку. Придумали представить в Совет пятисот предложение, которое вынудило бы директоров бросить жребий публично. Это предложение было противно конституции, так как она не определяла порядок жребия и его правильность основывалась на интересах каждого из директоров; тем не менее предложение прошло в обоих советах. Директор Ларевельер-Лепо, нечестолюбивый, но твердого характера, заявил своим товарищам, что эта мера была нарушением их прав, а потому он побуждает их не признавать ее законности. Директория и в самом деле ответила, что не исполнит ее ввиду незаконности. Советы возразили, что Директория не компетентна обсуждать решения законодательного корпуса. Директоры хотели возразить, что своей основной статьей конституция вверялась охранению в том числе и правительства и исполнительная власть не обязана исполнять неконституционную меру; но Карно и Летурнер не поддержали своих товарищей. Баррас, хотя и пылкий, но ненастойчивый, склонил Ревбеля и Ларевельера уступить, и процедуру жребия перестали оспаривать. Буйный клуб Клиши придумал внести в советы новые предложения. Важнейшим, по его мнению, было отозвание знаменитого закона 3 брюмера, увольнявшего с общественных должностей родственников эмигрантов; закон препятствовал вхождению в законодательную власть многих членов первой и второй трети. Предложение это было внесено в Совет пятисот несколькими днями ранее начала его работы и принято после прений. Такой неожиданный успех до вступления даже второй трети указывал на влияние, которым оппозиция уже пользовалась в законодательном корпусе, составленном еще из двух третей бывших членов Конвента. Однако партия, называвшая себя конституционной, была сильнее в Совете старейшин и отказалась поддержать отмену закона 3 брюмера. С наступлением 27 мая (1 прериаля) 250 новых избранников вступили в законодательный корпус и заменили 250 членов бывшего Конвента. Из 750 членов обоих советов только 250 принадлежали великому собранию, завершившему и защищавшему революцию. Когда Пише-грю явился в Совет пятисот, большая часть собрания, не знавшая, что принимает изменника и видевшая в нем только знаменитого генерала, подвергшегося опале, поднялась, побуждаемая любопытством. За свое избрание в президенты он получил 387 голосов из 444. Умеренная конституционная партия хотела выбрать в бюро генерала Журдана, чтобы подготовить ему путь к президентскому креслу, в котором он мог стать преемником Пишегрю; но, гордое своей силой, новое большинство позабыло всякую благодарность и не проголосовало за Журдана. Членами бюро были избраны Симеон, Воблан, Анри Ларивьер и Паризо. Неизбрание Журдана было неловким поступком и могло оскорбить армии. На том же заседании признали недействительность избрания Барера от Верхних Пиренеев. Затем узнали о результатах жребия Директории и стали совещаться, кем следует заменить выбывшего директора. Выбор терял свое значение, если новый директор не мог влиять на изменение большинства в Директории. Конституционалисты, желавшие и надеявшиеся изменить политику правительства, не изменяя самого правительства, хотели бы избрать человека, преданного настоящему порядку вещей, но противящегося Директории и готового объединиться с Карно. Они подумывали о Бернонвиле; но в клубе Клиши были дурно расположены к Кошону вследствие его роли в аресте Бротье, Дюверна де Преля и Лавилернуа. Предложили Бартелеми, посланника в Швейцарии, уполномоченного при заключении мирных договоров с Пруссией и Испанией. Несомненно, этим избранием хотели почтить в нем не дипломата-миротворца, но предполагаемого сообщника претендента и эмигрантов. Однако роялисты, надеявшиеся, и республиканцы, боявшиеся встретить в нем изменника, ошибались в равной степени. Бартелеми был слабохарактерным человеком посредственных способностей, он был верен существующей власти, и ему недоставало смелости изменить ей. Чтобы всё же провести эту кандидатуру, распустили слух, что он откажется и избрание его станет всего лишь знаком признательности человеку, положившему начало замирению Франции с Европой. Эта басня удалась: Бартелеми получил в Совете пятисот 309 голосов, а Кошон 230. В числе кандидатов, представленных старейшинам, были Массена, за которого высказалось 187 голосов, Клебер – 173 голоса и Ожеро – 139 голосов. Многие депутаты хотели ввести в правительство кого-нибудь из отличившихся дивизионных генералов. Бартелеми отвечал, что принимает должность директора. Его вступление в должность нисколько не изменило соотношения голосов в Директории: Бартелеми столь же мало был способен влиять на своих товарищей, сколь и Летурнер; ему, вследствие его положения, приходилось вотировать так же, как вотировал Летурнер из преданности Карно. Члены общества Клиши, клишийцы, как их именовали, принялись за дело с самого начала и выказывали весьма яростные намерения. Немногие из них пользовались полной доверенностью роялистских агентов. Лемере, Мерсан, Имбер, Пишегрю и, может быть, Вилло одни были посвящены в тайну. Пишегрю, переписывавшийся вначале только с Конде и Уикхемом, теперь общался непосредственно с претендентом. Его обнадеживали, осыпали обещаниями, посылали ему всё новые денежные суммы, которые он по-прежнему принимал, столь же мало, как и прежде, уверенный в правильном их применении. Пишегрю много обещал и говорил, что, прежде чем на что-нибудь решиться, следует сначала выждать и ознакомиться с ходом дел. Холодный и молчаливый как перед своими сообщниками, так и перед всеми остальными, он демонстрировал таинственность глубокого ума и сдержанность великого характера. Чем меньше он говорил, тем больше за ним предполагали комбинаций и возможностей. Большей части членов клуба Клиши его тайная миссия была неизвестна. Само правительство ничего о ней не знало, так как Дюверн де Прель не мог о ней сообщить. Одних членов клуба побуждало честолюбие, других – естественная склонность к монархическому образу правления, большую же часть – воспоминания о терроре и опасения по поводу его возвращения. С самого начала работы советов оппозиционеры стали составлять самые нелепые планы. Прежде всего они хотели объявить непрерывность заседаний. Затем они хотели потребовать удаления войск, стоявших вокруг Парижа, и подчинения себе полиции, в этом смысле истолковав параграф конституции, который оставлял полицию в ведении законодательного корпуса в месте его собраний, заменяя слово «место» словом «город»; кроме того, они хотели представить обвинительный акт против директоров, выбрать других, целиком отменить все так называемые революционные законы, то есть – отменить Революцию. Подчинив таким образом себе Париж, они могли решиться на всё, даже на реставрацию. Однако эти предложения слишком увлекающихся умов были отстранены. Люди более умеренного образа мыслей, видя, что происходит открытое нападение на Директорию, успели провести другие предложения. Условились воспользоваться большинством, чтобы изменить состав комиссий и переделать некоторые законы, таким образом мешая деятельности Директории. То есть открытому нападению предпочли парламентскую тактику. Составив план, его немедленно стали приводить в исполнение. Удалив Барера, вновь призвали пятерых членов первой трети, исключенных в прошлом году по закону 3 брюмера, и отказ старейшин аннулировать этот закон не помешал решению. Речь идет о Ферро-Вальяне, Галле, Полиссаре, Эме и Мерсане, одном из агентов роялистов. Затем придумали другой путь отменить закон. Так как предложение было сделано несколько дней тому назад и отвергнуто старейшинами, то его нельзя было повторить раньше, чем через год. Закону придали новую форму, определив, что он отменяется там, где касается исключения с общественных должностей, и в такой форме вновь подали на рассмотрение. Старейшины приняли это предложение, и исключенные депутаты были вновь введены в состав советов. Это были, в частности, Имбер и Саличетти, скомпрометированный во время прериальских событий и получивший амнистию с некоторыми другими членами Конвента. Чтобы показать свое беспристрастие, руководители Совета пятисот отозвали и закон 21 флореаля, который изгонял из Парижа членов Конвента, не облеченных общественными должностями. Тем самым они ясно показывали свое намерение отменить все революционные законы. Затем перешли к проверке избранных депутатов и, как и следовало ожидать, уничтожали все сомнительные избрания, когда дело касалось республиканского кандидата, и утверждали их, когда речь шла о врагах революции. Помимо всего прочего, заявляя, что следует вести новый отсчет со дня их вступления в законодательный корпус, депутаты потребовали составления финансовых отчетов и учредили специальные комиссии для рассмотрения законов относительно эмигрантов, священников, вероисповеданий, народного просвещения, колоний и так далее. Два исключения были сделаны из закона против эмигрантов: одно в пользу рабочих и земледельцев, которых Сен-Жюст и Леба вынудили уйти с Верхнего Рейна в 1793 году; другое в пользу лиц, вынужденных бежать вследствие событий 31 мая. Только тулонские изгнанники, сдавшие город и бежавшие к англичанам, не вошли в этот перечень эмигрантов. Таким образом, множество эмигрантов получили возможность вернуться во Францию: одни выдавали себя за выходцев с Верхнего Рейна, другие за изгнанников 31 мая. Хотя это снисхождение и было заслужено, тем не менее оно могло показаться полной амнистией и неизбежно привело бы в негодование патриотов. Наконец, вызвали взрыв прений о колониях и о поведении агентов Директории в Сан-Доминго. Комиссия, которой поручили рассмотрение этого предмета, составленная из Тарбе, Вилларе-Жуайёза, Воблана и Бурдона (из Уазы), представила доклад, в котором с крайней горечью отзывалась о Конвенте. Конвент обвинялся за то, что не сопротивлялся тирании с энергией добродетели. При этих словах, в которых опять проглядывало намерение оскорбить членов Конвента, те из них, кто оставался в Совете пятисот, бросились на трибуну и потребовали отчета, составленного в более приличных для законодательного корпуса выражениях. Произошла бурная сцена. Конвенционалисты, поддержанные депутатами умеренной партии, добились того, что доклад отправили назад в комиссию. Карно оказал свое влияние на комиссию с помощью Бурдона, и меры, предлагаемые декретом, были изменены. Вначале Директорию хотели вовсе лишить права посылать агентов в колонии; в конце концов ей оставили это право, ограничив число отправляемых депутатов тремя, срок же их поручения – восемнадцатью месяцами. Сантонакс был отозван. Конституционалисты, видя, что в союзе с конвенционалистами могут сдержать пыл клуба Клиши, уже считали себя примиряющей силой, но последующие заседания должны были разочаровать их в этом.
В числе важнейших предметов, которыми думали заняться новые избранники, было вероисповедание и законы о священниках. Комиссия, на которую возложили это важное дело, избрала своим докладчиком молодого Камилла Жордана; воображение его было возбуждено ужасами лионской осады, а чувствительность, хотя и была искренней, не была лишена некоторой претензии. Докладчик пустился в длинные и напыщенные рассуждения о свободе вероисповеданий. Недостаточно, сказал он, не стеснять каждого в исполнении им своих религиозных обрядов, но – чтобы эта свобода была действительной, – не следует требовать ничего, что могло бы оскорбить саму веру. Так, например, нельзя непременно настаивать на присяге священников, ибо, хотя таковая ни в чем не оскорбляет их веры, но, будучи дурно ими истолковываема, считается противной учениям Церкви. Это – тирания, результатом которой стало образование целого класса людей преследуемых и весьма опасных, так как они, имея большое влияние на умы, будут втайне призывать народ к восстанию. Что же до богослужения, недостаточно его разрешать в закрытых храмах, должно – запрещая внешнюю пышность, которая могла бы подать повод к беспорядкам, – разрешить и некоторые необходимые обряды. Колокола, например, необходимы для созыва в церковь в известные часы, они составляют принадлежность богослужения, а запрещать их – значит стеснять свободу. К тому же народ привык к их звону, любит их и до сих пор не может без них обходиться; в деревнях закон против колоколов никогда не приводили в исполнение. Возвращая звон колоколов, удовлетворяли невинной народной потребности и устраняли соблазн неисполнения закона. То же можно было сказать и относительно кладбищ. Запрещая церковные церемонии, следовало, однако, дозволить иметь особые места, предназначенные для погребения, в ограде которых можно было бы поставить символы каждой религии. В силу этих начал Камилл Жордан предлагал отменить требование присяги, уничтожить карательные законы, которые были их следствием, и дозволить кладбища. Хотя изложение этого доклада и страдало излишней запальчивостью, но начала его были справедливы. Конвент уже вернул католикам храмы; Директория также могла разрешить им колокола, кресты на кладбищах, отмену присяги и законов, наказывающих неприсягнувших священников. Но разве для достижения подобных целей использовали подходящие формы и выбирали благоприятные моменты? Если бы, вместо того чтобы воспользоваться ими как средством нападения на Директорию, дождались более благоприятного времени, дали бы страстям успокоиться, а правительству упрочиться, то, без сомнения, добились бы желаемых уступок. Но уже только потому, что они теперь выдвигались контрреволюционерами, этим требованиям противились патриоты. Звон колоколов как бы напоминал патриотам набат контрреволюции. Страсти их, включавшие заблуждения, опасения и ненависть, нуждались в понимании и бережном к ним отношении. Доклад произвел очень сильное впечатление, так как касался самых живых и глубоких предубеждений. Это был жесткий и опасный поступок сторонников клуба Клиши, хотя на самом деле он имел под собой все основания. Патриоты старались отвергнуть его, довольно неловко заявляя, что отменять законы, которых не исполняют, фактически означает потакать нарушению закона. Ко всем этим требованиям клуб Клиши прибавлял еще нападки против Директории по поводу финансов. Это был важный вопрос, с помощью которого оппозиционеры надеялись непрестанно беспокоить и в конце концов парализовать правительство. Мы уже обрисовали, каковы были предполагаемые доходы и расходы на текущий год. Все эти средства были недостаточными и значительно ниже их предполагаемой ценности; годовой бюджет был рассчитан только приблизительно: рассчитывали на три пятых поступления поземельного налога и частных взносов. Поступления шли крайне туго, и, кроме того что запаздывали, они были значительно ниже цифры, на которую рассчитывали, а потому и крайность в денежных средствах оставалась чрезвычайной. Итальянская армия жила за счет контрибуций; но Рейнская и Внутренняя армии, армия Самбры-и-Мааса и морские силы страдали от недостатка средств. Неоднократно войска были готовы возмутиться. Крайняя нищета царила также в общественных заведениях и госпиталях, а чиновники уже довольно давно не получали содержания. Приходилось изворачиваться, отсрочивать некоторые платежи. Обладателям государственных бумаг только четверть процентов выплачивали наличными деньгами, три же четверти – банкнотами, которые получили название трехчетвертных и уплачивались национальными имуществами. И, несмотря на все ухищрения, расходы все-таки превышали доходы. Хотя и было сделано различие между обыкновенными и чрезвычайными расходами, но казначейство не соблюдало в платежах этого различия. Расходы чрезвычайные покрывались средствами, отданными на обыкновенные; то есть за недостатком денег для уплаты армиям или их подрядчикам брали суммы, предназначенные для содержания чиновников, судей и всякого рода должностных лиц. Эти источники не только смешивали, но распоряжались ими еще до их поступления. Подрядчики получали векселя, порядок уплаты по которым определялся министром, смотря по настоятельности нужды, – что, разумеется, подавало повод к злоупотреблениям, но в то же время удовлетворяло спешные расходы и часто препятствовало возникновению у поставщика уныния. Наконец, за недостатком других средств выдавали векселя, обеспечиваемые национальными имуществами. По уничтожении бумажных денег к этому средству прибегали, чтобы воспользоваться ценностью имуществ до их продажи. Из такого состояния финансов проистекало то, что правительство окружали подрядчики самого низкого сорта, то есть аферисты, которые заставляли его заключать самые разорительные контракты. Получаемые ими бумаги они принимали по самой низкой ставке, цены же увеличивали, исходя из шансов получить оплату и срока платежа. Для удовлетворения некоторых нужд порой приходилось вступать в самые странные сделки. Так, например, морской министр покупал муку для эскадры на том условии, что подрядчик, доставляя ее в Брест, часть выдает деньгами для платежа солдатам, которые готовы были возмутиться. Вознаграждением за подобный аванс, конечно, должна была служить высокая цена муки. Все эти убытки являлись неизбежными и проистекали из положения дел; ставить их в вину правительству было бы несправедливо. К несчастью, сомнительное поведение одного из директоров, принимавшего участие в чрезмерных прибылях поставщиков и не скрывавшего ни своей расточительности, ни увеличения богатства, давало предлог ко всякой клевете. Конечно, не постыдное лихоимство одного человека вело к нищете государства, но этим случаем пользовались, чтобы обвинять Директорию в разорении страны. Всё это давало буйной и недобросовестной оппозиции основания для декламаций и враждебных выпадов; и она действительно непрерывно обдумывала таковые. Оппозиционеры подобрали в финансовую комиссию своих приверженцев, людей, не расположенных к правительству. Первым заданием этой комиссии было представить в Совет пятисот неверный отчет о приходах и расходах. Она преувеличила первый пункт и значительно приуменьшила второй. Вынужденная признать недостаточность обыкновенных средств, она отказывалась принять налоги, которые придумали, чтобы покрыть недочет. С самого начала революции не могли восстановить косвенные налоги. Предложили налог на соль и табак: комиссия разъяснила, что такой налог испугает народ; предлагали лотерею – ее отвергли как вещь безнравственную; предлагали установить дорожный сбор, но большинство нашло, что он приведет к большим затруднениям. Всё это было более или менее справедливо, но новые источники всё же надлежало найти. Комиссия открыла лишь один: установление пошлины при засвидетельствовании бумаг. Что же касается чрезвычайных средств, то, вместо того чтобы расширить их, комиссия, напротив, старалась их совсем затормозить, воспрещая Директории прибегать к манипуляциям, с помощью которых могли кое-как удовлетворять потребности дня. Вот каким образом комиссия взялась за дело. Конституция отделила казначейство от Директории и образовала из него самостоятельное учреждение, управляемое комиссарами, которых назначали советы; обязанности этих комиссаров заключались лишь в получении доходов и уплате расходов. Так что Директория больше не могла располагать государственными фондами; она выдавала лишь ордера, по которым казначейство платило согласно пожеланиям советов. Ничего не могло быть гибельнее подобного порядка, так как распоряжение суммами есть дело чисто исполнительное, которое должно быть принадлежностью правительства, так же как и управление военными действиями; представительное собрание не должно вмешиваться в эту область, так же как и в управление военными делами. Часто, при настоятельной надобности, министр создает временные средства с помощью ловкого и искусного распоряжения. В прошедшем году оба совета, действуя на основании последнего соображения, уполномочили казначейство совершать сделки, предписываемые Директорией. Новая комиссия решила покончить со всеми уловками, к которым Директории приходилось прибегать для поддержания дел. Прежде всего она хотела отнять у Директории право заключать сделки касательно ценностей. Если встречалась надобность в реализации необращающихся на рынке ценностей, комиссары казначейства должны были сами заключать такие сделки под свою личную ответственность. Затем решили отнять у Директории право устанавливать порядок, в котором должны производиться уплаты по ее векселям. Наконец, комиссия предложила воспретить Директории пользоваться суммами, которым предстояло поступать в департаментские казначейства. Она хотела бы даже, чтобы ассигнации, выпущенные под обеспечение ближайших поступлений, были представлены в казначейство и оплачены, что останавливало все текущие операции. Кроме того, комиссия предложила строго разграничить оба вида приходов и расходов, требуя, чтобы обыкновенные расходы производились из обыкновенных доходов, а чрезвычайные – из чрезвычайных. В настоящее время, когда для не терпящих отлагательства расходов приходилось располагать первыми наличными средствами, мера эта была гибельной. Все эти предложения были приняты Советом пятисот, в котором слепо увлекавшееся большинство не соблюдало никакой умеренности. Разрушая весь прежний финансовый порядок, они могли остановить работу всех ведомств. Принятые меры были хороши для введения порядка в финансах при обыкновенном ходе дел, но в настоящее время оказались бы пагубны. Тщетно конституционалисты пытались их оспаривать. В Совете пятисот предложения провели, и надежда оставалась лишь на Совет старейшин. Умеренные враги Директории, конституционалисты, с сожалением следили за направлением, которое принял Совет пятисот. Они надеялись было, что вступление новой трети окажется скорее полезным, чем вредным, заменит большинство в советах и передаст им власть в законодательном корпусе. Вождь конституционалистов Карно обольщал себя теми же надеждами, но видел, что за всякой оппозицией скрывается со своими замыслами контрреволюция. Влияние умеренной оппозиции в Совете старейшин было значительно большим, чем в Совете пятисот, и оппозиционеры старались вызвать там протест против гибельных предложений о финансах. Карно имел там преданного друга в лице депутата Лаюоэ, а также был связан с Дюма, бывшим членом Законодательного собрания. Карно мог также рассчитывать на влияние Порталиса, Тронсона дю Кудре, Лебрена и Барбе-Марбуа – умеренных противников Директории, осуждавших увлечения клуба Клиши. Благодаря общим усилиям этих депутатов и настроению Совета старейшин, первые предложения Жильбера де Мольера, воспрещавшие Директории управление сделками казначейства, определение порядка платежей и смешивание обыкновенного бюджета с чрезвычайным, были отвергнуты. Такой результат обрадовал конституционалистов и всех умеренных, опасавшихся столкновения. Карно также был крайне обрадован и вновь стал надеяться на возможность сдержать клуб Клиши с помощью Совета старейшин. Этот успех, однако, мало помог обстановке в целом. В клубе Клиши декламировали напыщенные речи против Совета старейшин и готовили новые обвинения против Директории. Жильбер де Мольер вновь внес предложения, отвергнутые старейшинами, в надежде, что они примут их в измененной форме. В Совете пятисот одно за другим следовали решения, направленные против правительства. Депутатам воспрещали принимать места ранее года по выходе их из законодательного корпуса. Переписывавшийся с Бланкенбургом Имбер предложил лишить Директорию права распечатывать письма из-за границы, которое было предоставлено ей законом. Обри – тот самый, который после 9 термидора возбудил реакцию в армии и в 1795 году сменил Бонапарта, – предложил отнять у Директории право сменять офицеров, что лишало последнюю самой важной конституционной прерогативы. Он предлагал также усилить стражу законодательного корпуса и прибавить к 1200 гренадерам еще роту артиллерии и эскадрон драгун; странное предложение, демонстрирующее практически военные приготовления. Донесли об отсылке миллиона распорядителю работ тулонского порта, совершая которую, Бонапарт миновал казначейство, дабы ускорить отправление эскадры в Адриатику. Казначейство присвоило себе этот миллион и перевезло в Париж. Начали говорить о подобных же отправках из Итальянской армии в армии Альпийскую, Рейнскую и Самбры-и-Мааса. Представили длинный отчет о сношениях с Соединенными Штатами; и как ни была права Директория в своем несогласии с этой державой, ее категорически за это обвиняли. Стремление обличать и обвинять все действия правительства увлекло клуб Клиши наконец к последнему поступку, который стал пагубной неосторожностью. События в Венеции произвели большое впечатление во всей Европе. После манифеста в Пальманове эта республика была уничтожена, а Генуэзская – подвергнута революционным изменениям, причем Директория ни одним словом не сообщила о том советам. Причиной такого молчания была стремительность военных действий: Венеция перестала существовать прежде, чем объявление войны успели внести на рассмотрение советов. Воспоследовавший договор не мог быть внесен ранее, чем через несколько дней. Впрочем, не молчание Директории раздражало в этом случае, но само падение аристократических правительств и успехи революции в Италии. Дюмоляр, многословный оратор, который в течение двух лет не переставал восставать в Совете пятисот против Директории, решил сделать запрос относительно событий в Венеции и Генуе. Эта попытка была, без сомнения, смелой: нельзя было нападать на Директорию, не нападая и на генерала Бонапарта, а делая последнее, шли против общего удивления и влияния, сделавшего колоссальным после того, как Бонапарт принудил к миру Австрию и, разыгрывая одновременно роль воина и дипломата, казалось, управлял из Милана судьбами Европы. Все не потерявшие окончательно рассудка члены клуба Клиши прилагали усилия, чтобы отговорить Дюмоляра от его намерения; но он упорствовал и на заседании 23 июня (5 мессидора) сделал запрос о событиях в Венеции. «Нельзя задержать слухов, возвещающих о наших победах над венецианцами, об удивительной революции, их завершившей. Наши войска вступили в Венецию, мы завладели ее морскими силами; древнейшее правительство в Европе уничтожено; наши солдаты пускаются в Адриатическое море и отправляются в Корфу – закончить новую революцию… Из этих событий вытекает то следствие, что Директория фактически объявила войну, заключила мир и – в некотором отношении – договор о союзе с Венецией, и всё это без вашего содействия… Итак, разве мы не тот народ, который провозгласил и поддерживал оружием важнейший принцип: иностранные державы ни под каким предлогом не могут оказывать влияния на перемену формы правления в другом государстве? Оскорбленные венецианцами, разве мы имели право объявить войну их политическим учреждениям? Победители и завоеватели, разве мы имели право принять деятельное участие в их революции, которая, по-видимому, совершилась сама собою? Я не буду здесь вдаваться в подробности вопроса о том, какая участь ожидает Венецию и особенно провинции Террафермы. Я не стану рассматривать вторжения в них, задуманного, быть может, еще до событий, послуживших ему предлогом. Я удерживаюсь от подобных размышлений и спрашиваю только, с Конституцией в руках, как Директория может оправдаться в том полном неведении о такой массе необыкновенных событий, в котором она держало законодательный корпус?» От событий в Венеции Дюмоляр перешел затем к Генуе, события в которой, по его мнению, имели тот же характер и заставляли предполагать вмешательство французской армии и ее начальников. Он говорил также о Швейцарии, с которой, по его словам, Франция находилась в разногласиях относительно прав судоходства; он спрашивал притом, не хотят ли демократизировать все государства, союзные с Францией. Отзываясь с похвалами об итальянских героях, он ни разу не упомянул о главнокомандующем, хотя тогда никто не упускал случая превознести его. Дюмоляр кончил тем, что предложил обратиться к Директории с посланием, дабы потребовать объяснений о событиях в Венеции и Генуе и об отношениях Франции к Швейцарии. Этот запрос вызвал общее изумление и выказал всю дерзость клуба Клиши, за которую он должен был вскоре дорого поплатиться. В ожидании же предстоящих последствий члены клуба были полны высокомерия и открыто заявляли о своих надеждах, уверенные, что им недолго осталось ждать прихода к власти. Повсюду имели место те же легковерность и неосторожность, что и в вандемьере. Эмигранты возвращались во Францию толпами. Из Парижа во все страны Европы высылали множество фальшивых паспортов и видов на жительство. В Гамбурге ими даже торговали. Эмигранты вступали на французскую землю через Голландию, Эльзас, Швейцарию и Пьемонт. Возвращаемые на родину общей для всех французов привязанностью к своему прекрасному отечеству и побуждаемые к тому лишениями и неудачами на чужбине, эмигранты надеялись мирным путем и интригами попытаться совершить контрреволюцию, которую им не удалось осуществить при содействии иностранных держав. Во всяком случае, если бы даже и не удалась контрреволюция, они хотя бы желали вновь увидеть отечество и возвратить часть своих прежних имуществ. Благодаря участию, которое они встречали повсюду, им представлялась тысяча средств выкупить эти имущества. Биржевая игра бумагами, принимаемыми в уплату за национальные имущества, легкость приобретения их по низкой цене, благосклонность местной администрации к изгнанным древним фамилиям, уступчивость скупщиков земель – всё это позволяло эмигрантам возвращать себе наследственные земли за незначительные деньги. Еще больше возвращалось представителей духовенства. Все ханжи Франции принимали священников, помещали их у себя, кормили, устраивали для них часовни в своих домах и доставляли им денежное содержание сбором добровольных приношений. Старая церковная иерархия тайно почти восстановилась. Ни один из округов, созданный актом нового гражданского устройства духовенства, не был признан. Еще и теперь существовали прежние епископства; ими тайно управляли епископы и архиепископы, сносившиеся с Римом. Все обряды католической церкви совершались ими и подчиненными им священниками; они исповедовали, крестили, заключали браки. Все праздные шуаны стекались в Париж и объединялись с находившимися там эмигрантами, число которых, как говорят, простиралось до пяти тысяч. Судя по образу действий Совета пятисот и по опасностям, которые грозили Директории, они рассчитывали, что нескольких дней окажется достаточно для совершения так давно желанной ими катастрофы. Их письма за границу были наполнены этими надеждами. Вокруг принца Конде, корпус которого отступал в Польшу, вокруг претендента в Бланкенбурге, вокруг графа д5Артуа в Шотландии царила радость. В среде эмигрантов распространялись те же надежды, как в Кобленце, когда рассчитывали в две недели возвратиться во Францию вслед за прусским королем; об этом говорили и подшучивали, как о предстоящем событии. Соседние пограничные города были наполнены людьми, ожидавшими возвращения во Францию. Ко всем этим признакам следует добавить необузданный язык роялистских газет, бешенство которых увеличивалось вместе со смелостью и надеждами их партии. Директория была через полицию извещена обо всем этом движении. Поведение эмигрантов и настроение Совета пятисот согласовывалось с сообщениями Дюверна де Преля и доказывало существование настоящего заговора. Дюверн де Прель указал как на своих сообщников на сто восемьдесят депутатов, не называя их по имени. Он назвал только Лемере и Мерсана и сказал, что прочие были членами клуба Клиши. В этом случае, как мы уже видели выше, он ошибался: большая часть членов клуба Клиши, исключая пять или шесть человек, действовали сообразно собственным убеждениям, но не в сообщничестве с заговорщиками. Случай дал Бонапарту возможность открыть в Италии важную тайну и еще более усилил опасения Директории. Граф д’Антраг, агент претендента, посредник его сношений с французскими интриганами, посвященный во все тайны эмиграции, укрылся в Венеции. Когда в нее вступили французы, он был схвачен и доставлен к Бонапарту. Последний мог отправить его во Францию, где его расстреляли бы как эмигранта и заговорщика; однако генерал смягчился и предпочел воспользоваться именем и нескромностью графа, вместо того чтобы предать его смертной казни. Он назначил ему местом жительства Милан, выдал некоторое денежное пособие и заставил рассказать все тайны претендента. Тогда Бонапарт и узнал всю историю измены Пишегрю, остававшуюся неизвестной правительству; только Ревбель имел некоторые о том подозрения, которые были дурно приняты его товарищами. Д’Антраг рассказал Бонапарту всё, что ему было известно. Кроме этих словесных сообщений, имелись интересные сведения в бумагах, найденных в портфеле при обыске его квартиры в Венеции. Одна из бумаг имела особую важность, так как в ней излагалось содержание длинного разговора д’Антрага с графом Монгальяром о первых переговорах, завязанных с Пишегрю и оставшихся бесплодными вследствие упорства принца Конде. Д’Антраг записал этот разговор, и теперь он был найден в его бумагах. Бертье, Кларк и Бонапарт немедленно засвидетельствовали подлинность бумаги и отправили ее в Париж. Директория держала этот документ в тайне (так же как и письменные показания Дюверна де Преля) в ожидании случая применить его с пользой. Более уже не сомневались относительно роли Пишегрю в Совете пятисот; имевшиеся документы объясняли поражение Пишегрю, его странный образ действий, враждебную Директории политику, отказ отправиться в Стокгольм, наконец, его влияние на клуб Клиши. Директории оставалось лишь принять предположение, что Пишегрю во главе 180 депутатов, своих сообщников, готовит контрреволюционный переворот. Пять директоров разделились после принятия Карно и Бартелеми нового образа действий. Системе правительства оставались преданными только Баррас, Ревбель и Ларевельер-Лепо. Да и они не были вполне согласны между собой: умеренный конвенционалист Ревбель ненавидел в Баррасе сторонника Дантона, питая к тому же глубочайшее отвращение к его образу жизни и характеру. Ларевельер имел некоторые сношения с Ревбелем, но мало общался с Баррасом: трех директоров сближало лишь их одинаковое голосование. Все трое были сильно раздражены против Клиши. Баррас продолжал принимать у себя эмигрантов вследствие своего щедрого характера, но не переставал повторять, что хоть сейчас готов оседлать коня и с саблей в руках выступить против всех контрреволюционеров Совета пятисот. Ревбель не выражался таким определенным образом; он считал всё потерянным, хотя и собирался исполнять свой долг до конца; он думал, что ему и его товарищам вскоре не останется другого выхода, кроме бегства. Ларевельер-Лепо, столь же храбрый, сколь и честный, думал, что следует выдержать грозу и испробовать всё для спасения Республики. Со своим сердцем, неспособным к ненависти, он мог служить связующим звеном между Баррасом и Ревбелем, и решился стать между ними посредником. Он обратился сначала к Ревбелю, которого глубоко уважал за честность и знания; объяснил ему свои намерения и спросил, желает ли он содействовать спасению Республики. Ревбель горячо принял речь Ларевельера и обещал ему полную преданность. Предстояло испытать Барраса, энергичная речь которого недостаточно обнадеживала его товарищей. Не предполагая в нем ни честности, ни убеждений, видя его окруженным всеми партиями, они считали его равно способным продаться эмиграции и совершить во главе предместий страшное вооруженное насилие. Директоры желали спасти Республику каким-нибудь энергичным поступком, но не компрометировать ее новыми убийствами. Отталкиваемые безнравственностью Барраса, они весьма остерегались его. Ларевельер взял на себя труд переговорить с ним. Баррас, как нельзя более довольный возможностью вступить в соглашение со своими товарищами и обеспечить себе их поддержку, особенно польщенный союзом с ними, вполне примкнул к их планам и, казалось, разделил их виды. С этого времени они могли быть вполне уверены, что образуют сплоченное большинство и уничтожат тремя своими голосами влияние Карно и Бартелеми. Теперь предстояло решить, какие средства следует применить против заговора, который, предполагали они, имел такие обширные разветвления в обоих советах. Прибегнуть к суду, обвинить Пишегрю и его сообщников, потребовать от пятисот составления обвинительного акта для преследования их затем судом – всё это было невозможно. Во-первых, были известны имена только Пишегрю, Лемере и Мерсана; можно было догадываться об остальных заговорщиках по связям, интригам, предложениям в клубе Клиши и Совете пятисот, но они нигде не были названы. Осудить Пишегрю и еще двух или трех депутатов не значило уничтожить заговор. К тому же, чтобы добиться этого осуждения, пока недоставало средств: доказательства, существующие против заговорщиков, хоть и были достаточны для внутреннего убеждения, не были, однако, исчерпывающими для судей и обвинительного приговора. Показания Дюверна де Преля и д’Антрага еще следовало поддержать перед судом. Но не в этом заключалось главное затруднение: если бы против Пишегрю и его сообщников и могли представить все документы, которых не имели, нужно было еще вырвать у пятисот обвинительный акт против них; а настоящее большинство ни в коем случае не согласилось бы принять любые доказательства. Эти основания были столь очевидны, что, вопреки желанию не отступать от закона, Ларевельер и Ревбель принуждены былиотказаться от всякой мысли повести дело законным порядком и решились на государственный переворот; печальное и достойное сожаления средство, но – в их положении и при их беспокойстве – единственно возможное. Решаясь на меры крайние, они не хотели мер кровавых и старались сдержать революционные наклонности Барраса. Не согласившись относительно времени и образа действий, они тем не менее поставили целью арестовать Пишегрю и его предполагаемых сообщников, обвинить их затем перед очищенным законодательным корпусом и потребовать чрезвычайного закона, которым бы обвиняемые без суда изгонялись из пределов страны. В своем крайнем недоверии директоры ошибались в Карно; они забывали его прошлую жизнь, строгие правила и упрямство и считали его почти изменником. Они боялись, что он замешан в заговор Пишегрю вместе с Бартелеми. Его старания сгруппировать вокруг себя оппозицию и сделаться ее главой в их предубежденных глазах стали доказательствами сообщничества. Хотя они и не были вполне убеждены в этом, но, задумав смелый удар, не хотели останавливаться на полдороге и готовы были поразить виновных, даже если они находятся в самой Директории. Директоры условились готовиться к исполнению плана и в то же время зорко следить за врагами, дабы улучить минуту, когда будет своевременно привести план в исполнение. Опору Директория могла найти лишь в патриотической партии, которая по-прежнему была разделена на две части: одни, негодовавшие после 9 термидора, по прошествии трех лет не оставили своих крайних мнений; они не понимали вынуждаемого обстоятельствами хода революции, смотрели на законный порядок как на уступку контрреволюции и жаждали лишь мести. Хотя Директория и поразила таких крайних патриотов в лице Бабёфа, но они были готовы лететь к ней на помощь. Прибегнуть к их содействию было, однако, весьма опасно; самое большее, в случае крайности, – их можно было поставить в строй, подобно тому как это было сделано 3 вандемьера; и тогда можно было рассчитывать, что они не пожалеют и жизни. Предводительствуемые Бонапартом, они достаточно доказали на ступенях церкви Святого Роха, на что могут быть способны в минуту опасности. Кроме этих горячих голов, которые почти все были скомпрометированы деятельным участием в революции, имелись еще умеренные патриоты из высших классов, которые, более или менее одобряя образ действий Директории, тем не менее желали республики, охраняемой и упроченной законами; они видели неизбежную опасность, которой грозила реакция. Отношение их к настоящему порядку вполне соответствовало намерениям Ревбеля и Ларевельера; они могли оказать поддержку Директории если не с оружием в руках, то по крайней мере нравственно. Последние посещали то салоны Барраса, то салоны не оставлявшей Париж госпожи де Сталь, которая собирала вокруг себя всех замечательных людей Франции. Бенжамен Констан занимал там первое место благодаря как своему уму, так и сочинениям, написанным им в защиту Директории. Там же можно было встретить и Талейрана, который, будучи вычеркнут из списков эмигрантов, проживал в Париже и стремился получить какое-нибудь видное дипломатическое назначение. Эти выдающиеся личности, составлявшие общество, в котором вращалось само правительство, решили образовать собрание, способное противодействовать влиянию клуба Клиши и в противном ему направлении обсуждать политические вопросы. Это общество было создано и получило название Конституционного кружка. Вскоре, кроме упомянутых лиц, в него вступили и члены советов, вотировавшие с Директорией, то есть почти вся последняя конвенционалистская треть. Именовавшие себя конституционалистами члены законодательного корпуса так же должны бы были в него вступить вследствие общих политических убеждений; но, поссорившись с Директорией, они продолжали держаться отдельно и от Конституционного кружка, и от клуба Клиши. Бенжамен Констан несколько раз выступал в Конституционном кружке; то же делал и Талейран. Примеру этому последовали, и повсюду образовались другие подобные кружки, составленные из умеренных патриотов. В них собирались самые горячие патриоты, и якобинская партия как бы естественным порядком вещей возродилась вновь. Но эта форма общественных собраний уже отжила свое и могла принести мало пользы: значение клубов упало во мнении Франции, а конституция лишала их средств, с помощью которых они могли бы набраться сил. К счастью, Директория рассчитывала на другую поддержку – армий, в которых, после того как народные бедствия вызвали стремительную и общую реакцию, находили себе убежище республиканские принципы. Каждая армия предана правительству, которое ее организует, содержит и награждает; но республиканские солдаты смотрели на членов Директории не только как на глав правительства, но и как на глав дела, в защиту которого они поднялись в 1793 году, за которое они сражались и побеждали в течение шести лет. Итальянская армия была более всех предана революции. Ее составляли южные революционеры, столь же неистовые в своих убеждениях, как и в храбрости. Генералы, офицеры и солдаты были осыпаны почестями и деньгами и чрезвычайно гордились своими победами. Через распространяемые в их среде газеты они были осведомлены о событиях и только и говорили о том, что следует перейти Альпы и отправиться наказать парижских аристократов. Отдых, которым они наслаждались после подписания прелиминариев, еще более увеличивал их горячность. Массена, Жубер и Ожеро подавали пример самого горячего республиканского духа. Войска, прибывшие с Рейна, обладали республиканскими убеждениями не в меньшей степени, но были более холодны, более умеренны и привыкли под командованием Моро к большей воздержности и дисциплине. Ими командовал Бернадотт, который старался выказать более благородное воспитание и отличался от своих сотоварищей более изысканными манерами. В его дивизии обращались друг к другу «господин», между тем как во всей Итальянской армии не терпели другого обращения, кроме «гражданина». Старые итальянские солдаты, развратные, дерзкие, задорные, уже соперничали с рейнскими солдатами в храбрости; теперь соперничество стало проявляться не в убеждениях, но в привычках. Итальянские солдаты не хотели принимать обращение «господин» и потому часто обменивались со своими рейнскими товарищами сабельными ударами. Особенно была взволнована дивизия Ожеро, отличавшаяся, подобно своему генералу, крайним революционным пылом; требовалась энергичная прокламация главнокомандующего для укрощения ее и прекращения дуэлей. Было разрешено только одно обращение – «гражданин». Генерал Бонапарт с удовольствием лицезрел дух своей армии и покровительствовал усилению этих настроений. Его первые успехи были одержаны над роялистской фракцией под Тулоном и 13 вандемьера; таким образом, он разошелся с ней с самого начала своей карьеры. Роялисты старались унизить его победы: ведь блеск их отражался на революции. Последние их нападки особенно раздражали главнокомандующего. Он не мог сдержать своего гнева, читая запрос Дюмоляра и выяснив, что казначейство задержало миллион, посланный в Тулон. Но кроме этих причин ненавидеть роялистскую фракцию была другая, более важная и глубокая – слава и величие его роли. Что мог бы сделать для будущности Бонапарта король? Как бы высоко он его ни поставил, король все-таки стоял бы выше него, чего в республике быть не могло. Хотя Бонапарт и не представлял себе тогда своей неслыханной судьбы, но он видел возможность для смелых и обширных предприятий, соответствовавших смелости и разносторонности его гения; при короле же Франция была бы вынуждена вести ограниченное существование. Что бы он ни сделал впоследствии с этой республикой, служил ли бы ей или подавил ее, Бонапарт мог рассчитывать на величие лишь при ней и через нее и должен был дорожить ею как своей собственной будущностью. То, что Пишегрю дал себя обольстить замком, титулом и несколькими миллионами, – это было очевидно и понятно; но для пылкого воображения завоевателя Италии нужна была другая перспектива – нового мира, преобразованного им через революцию. Бонапарт написал Директории, что он и его армия готовы спешить к ней на помощь и ввергнуть контрреволюционеров в ничтожество. Он не стеснялся давать советы и громко требовал пожертвовать несколькими изменниками и разбить несколько печатных станков. Настроение Рейнской армии было более спокойным. В ней оставались в наследство от Пишегрю несколько дурных офицеров, но большая часть армии была проникнута республиканским духом, однако в то же время спокойна, дисциплинированна, бедна и менее упоена успехами, чем Итальянская. Армия всегда служит зеркалом своего главнокомандующего: его дух переходит к офицерам, от офицеров же сообщается солдатам. Рейнская армия как бы служила подобием Моро. Моро, польщенный роялистской фракцией, которая превозносила его разумное отступление больше чудесных подвигов в Италии, относился к роялистам с меньшей ненавистью, чем Бонапарт. Кроме того, он был беспечен, умерен и хладнокровен; политика его интересовала не более того, чем это позволяли ему его способности; а потому он и держался позади, не ища случая высказаться открыто. Тем не менее Моро был республиканцем и нисколько не изменником, как о том говорили. В его руках в настоящее время находилось доказательство измены Пишегрю. Мы уже упоминали, что он захватил фургон генерала Клинглина с бумагами и таким образом мог представить доказательство измены. Но Пишегрю был его генералом, начальником и другом, Моро не хотел выдавать его и приказал разобрать шифрованную корреспонденцию, не объявляя о ней правительству. Между тем эта корреспонденция заключала в себе доказательства верности самого Моро. Когда Пишегрю подал в отставку, ему оставалось лишь одно средство сохранить свое прежнее влияние на эмигрантов – сказать, что он может располагать Моро, что, полагаясь на управление армией последнего, он берет на себя внутренние интриги. и тем не менее Пишегрю не переставал повторять, что не следует обращаться к Моро, так как он не примет никаких предложений. Итак, Моро был холоден, но верен. Его армия была одной из прекраснейших и храбрейших, какими когда-либо располагала Республика. Настроение армии Самбры-и-Мааса было несколько иным: как мы уже сказали, это была храбрая республиканская армия Флёрюса, Урта и Рура, и ее пыл еще увеличился после того, как она перешла под командование Гоша, который передал ей свой душевный огонь. Этот молодой человек, в одну кампанию превратившийся из сержанта Французской гвардии в главнокомандующего, любил Республику как свою благодетельницу и мать. В тюрьме Комитета общественного спасения его чувства к ней не охладели; в Вандее, во время борьбы с роялистами, они только еще более окрепли. Гош был готов идти на помощь Конвенту в вандемьере и уже двинул для того двадцать тысяч человек, но смелость Бонапарта избавила его от дальнейшего наступления. Склонность к политике и несомненные способности побуждали его не оставаться безучастным к внутренним раздорам, и если он не завидовал Бонапарту, то все-таки с нетерпением ждал случая догнать его на пути славы. Не колеблясь, готовый принять участие во всех событиях, он предложил Директории свою руку и свою жизнь. Итак, правительству вполне хватало материальной силы; нужно было только использовать ее осторожно и своевременно. Воспользоваться Гошем было уместнее более прочих генералов. Если слава и характер Бонапарта могли внушать некоторые опасения, то нельзя было сказать того же о Гоше. Победы под Вейсенбургом в 1793 году, замирение Вандеи, недавняя победа под Нойвидом, принесли ему славу, в которой уважение к государственному человеку смешивалось с уважением к воину; в этой славе, однако, не было ничего, что могло бы устрашить свободу. Если приходилось вмешивать в государственные потрясения генерала, то лучше было обратиться к нему, чем к великану, господствовавшему над Италией. Гош был любимцем республиканцев, к тому же его армия была к Парижу ближе прочих. В случае надобности, 20 тысяч человек всегда могли найтись в нескольких переходах от столицы и своим присутствием содействовать удару, который решилась бы нанести Директория. Мысль о Гоше пришла трем директорам – Баррасу, Ревбелю и Ларевельеру. Однако искусный в интриге и вмешивавшийся во всё Баррас, который в этом новом кризисе хотел взять на себя всю честь исполнения, написал Гошу без ведома своих сотоварищей и просил его вмешательства в приготовлявшиеся события. Гош не колебался. Представлялся самый удобный случай направить к Парижу войска. В настоящее время Гош с неусыпным рвением трудился над подготовкой новой экспедиции в Ирландию; для надзора за приготовлениями к ней, производившимися на острове Тексел, Гош сам отправился в Голландию. Он решил отделить от армии Самбры-и-Мааса 20 тысяч и направить их на Брест. Их легко было остановить на высоте Парижа и применить для надобностей Директории. Гош предложил даже большее: нужны были деньги – как для похода, так и для насильственного переворота; искусной мерой он обеспечил источник. Политическое существование провинций между Маасом и Рейном оставалось неопределенным до заключения мира с императором. Они не были, подобно Бельгии, разделены на департаменты и присоединены к Франции; они имели военное управление и находились в ведении Гоша, который, весьма благоразумно управляя ими, хотел их преобразовать в республиканском духе и, в случае если бы нельзя было добиться полного их присоединения к Франции, образовать из них Цисренанскую республику, которая была бы привязана к Французской, как дочь к матери. Для управления страной и сбора контрибуций, налагаемых как по эту, так и по ту сторону Рейна, Гош учредил в Бонне особую комиссию. Два миллиона и несколько сотен тысяч франков находилось в ее кассе. Генерал воспретил передавать их в кассу армии, так как тогда они попали бы в распоряжение казначейства и были бы, возможно, обращены на предметы, посторонние нуждам армии. Он велел выдать жалованье отправляемым во Францию войскам, остальную же часть, около двух миллионов, сохранить для будущего; или с целью предложить их Директории, или употребить на приготовления к экспедиции. Это отступление от правил Гош делал из-за своей преданности республике: молодому генералу, более чем кому-либо другому, представлялись случаи обогатиться, и тем не менее он оставался беден. Притом, делая это, Гош думал, что исполняет приказания не только Барраса, но также Ларевельера-Лепо и Ревбеля.
После открытия новой сессии прошло уже два месяца; была середина июля (конец мессидора). Предложения, вырабатываемые в клубе Клиши и вносимые затем в Совет пятисот, не прекращались, и готовилось новое, которому роялистская фракция придавала большое значение. Закон об организации национальной гвардии не был еще выработан и утвержден; он только был включен в конституцию как один из принципов. Члены клуба Клиши желали подготовить силу, которую могли бы противопоставить армиям, и вооружить молодежь, поднятую в вандемьере против Конвента. Для того чтобы представить план организации национальной гвардии, они назначили комиссию, а президентом и докладчиком выбрали Пишегрю. Финансовая комиссия вновь подняла предложения, отвергнутые Советом старейшин, попробовав придать им другой вид. Как бы ни были опасны эти предложения пятисот, они менее пугали коалицию трех директоров, чем заговор, во главе которого они видели знаменитого генерала, и который, как они предполагали, получил обширные разветвления в обоих советах. Решившись действовать, они хотели сначала произвести некоторые перемены в правительстве, которые считали необходимыми, чтобы придать государственной администрации больше однородности и чтобы течение дел приняло более твердый и решительный характер. Министр полиции Кошон, хоть и не пользовался благосклонностью роялистов после ареста трех агентов претендента и своего циркуляра к избирателям, тем не менее был вполне предан Карно. А потому Директория, имея в виду свои настоящие планы, не могла оставлять полицию в руках Кошона. Военный министр Петье пользовался у роялистов известностью и был преданной креатурой Карно; его тоже следовало отстранить, чтобы между армией и большинством Директории посредником не состоял враг. Министр внутренних дел Бенезек, превосходный администратор, осторожный и преклоняющийся перед силой льстец, не был опасен ни для одной партии; но его подозревали вследствие известных склонностей и снисходительности к нему роялистских газет. Его также хотели сменить, хотя бы только для того, чтобы назначить на его место более верного человека. К морскому министру Трюге и министру иностранных дел Делакруа питали полное доверие, но директоры желали их сменить в интересах администрации. Трюге служил мишенью нападкам роялистской фракции и отчасти заслуживал их своим высокомерным и раздражительным характером. Это был благородный и даровитый человек, который, однако, не проявлял должного внимания и снисходительности к людям, что необходимо делать, находясь во главе большой администрации. К тому же его можно было успешно использовать по дипломатической части; он и сам желал занять в Испании место генерала Периньона, дабы иметь возможность содействовать этой державе в ее обширных замыслах относительно колоний. Что до Делакруа, он доказал впоследствии, что может хорошо управлять департаментом, но у него не было ни достаточно личного достоинства, ни необходимого образования, чтобы служить представителем Республики перед европейскими державами. Сверх того, директоры желали поставить во главе министерства иностранных дел другое лицо: это был Талейран. Увлекающийся ум госпожи де Сталь почувствовал особое расположение к холодному, остроумному и глубокому уму Талейрана. Она способствовала его близости с Бенжаменом Констаном, последнему же поручила познакомить его с Баррасом. Талейран сумел расположить к себе Барраса, и сумел бы это сделать и с более проницательной личностью. Будучи представлен Баррасом Ларевельеру, он смог понравиться честному человеку так же, как понравился «пропащему». Талейран всем показался человеком весьма достойным сожаления: ненавистный эмиграции как сторонник революции, непризнанный патриотами как бывший аристократ, он казался жертвой одновременно и своих убеждений, и своего происхождения. Решено было, что его назначат министром иностранных дел. Тщеславие директоров было польщено возможностью привязать к себе такого сильного человека; кроме того, они поступали дальновидно, вверяя иностранные дела человеку просвещенному, ловкому и имевшему личные связи со всей европейской дипломатией. Оставались Рамель, министр финансов, и Мерлен из Дуэ, министр юстиции, ненавистные роялистам больше, чем все прочие вместе взятые, но исполнявшие свои обязанности столь же ревностно, сколь и талантливо. Три директора ни в коем случае не хотели заменять их. Во всяком государстве с представительными учреждениями, монархия это или республика, правительство выказывает свой дух и направление посредством назначения министров. Партии волнуются по этому поводу столько же в своих политических интересах, сколько и из честолюбия. Но если между партиями имеется такая, которая желает большего, чем изменение направления правительства, и которая стремится к ниспровержению существующего порядка, то, опасаясь примирения, она желает иного, чем смены министров, мало вмешивается в этот процесс, а если и вмешивается, то для того, чтобы ему воспрепятствовать. Пишегрю и клуб Клиши, посвященные в тайну заговора, мало интересовались переменами в составе правительства, однако искали объяснений по этому поводу у Карно. Но это было скорее предлогом разузнать его тайные намерения, чем достичь какого-нибудь результата. Отвечая членам клуба, делавшим ему предложения, Карно откровенно и письменно высказал свои намерения. Он выразился в том духе, что скорее погибнет, чем допустит помехи Конституции или обесчестит учрежденные ею власти. Тем, кто хотел выяснить, что у него на уме, оставалось говорить только о конституционных планах, то есть об изменениях в правительстве. Что до конституционалистов и тех членов клуба Клиши, которые были менее втянуты в интригу, то они искренне хотели добиться правительственного переворота и на нем остановиться. Эти последние группировались вокруг Карно. Названные уже члены советов Тронсон де Кудре, Лакюэ, Дюма, Тибодо, Понтекулан, Симеон, Эмери и другие беседовали с Карно и Бартелеми и обсуждали перемены, которые предстояли в правительстве. Они хотели заменить главным образом двух министров – Мерлена, министра юстиции, и Рамеля, министра финансов. Нападая преимущественно на финансовую систему, они и были вооружены против министра финансов более, чем против кого-либо другого. Они требовали также отставки Трюге и Шарля Делакруа. Естественно, они желали удержать Кошона, Петье и Бенезека. Обоих директоров, Карно и Бартелеми, было нетрудно убедить. Слабохарактерный Бартелеми не имел личного мнения; Карно видел, что его друзья удерживаются в правительстве, все враги должны были быть удалены. Но не так-то легко было заставить директоров принять план, удобно составленный в конституционных кружках: они уже приняли решение и хотели уволить именно тех, кого конституционалисты хотели удержать. Карно, не знавший об установившемся между его тремя товарищами Ревбелем, Ларевельером и Баррасом согласии, а также и о той связующей роли, которую играл в этом Ларевельер, надеялся, что последнего будет легко отделить от остальных. Он посоветовал конституционалистам обратиться к нему и попытаться склонить к своим взглядам. Те отправились к Ларевельеру и под умеренностью нашли в нем непоколебимую решимость. Ларевельер, подобно всем своим современникам, мало привыкший к тактике представительных правительств, не думал, чтобы можно было переговариваться о выборе министров. «Занимайтесь своим делом, – сказал он депутатам, – издавайте законы. Предоставьте нам нашу обязанность – выбирать должностных лиц. Мы должны руководствоваться в нашем выборе совестью и мнением о достоинстве личности, но никак не требованиями партий». Он не знал еще, да и никто не знал тогда, что правительство служит представителем известных влияний, что эти влияния представляют существующие партии, что избрание того или другого министра служит гарантией того, какое направление могут принять дела, а потому оно и может сделаться предметом переговоров. Ларевельер имел и другое основание отказаться от сделки: он был убежден, что он сам и его друг Ревбель в своих желаниях и голосовании руководствуются исключительно благом страны, что большинство Директории, каковы бы ни были их личные взгляды, также волнует только это; что если в финансах и встречаются злоупотребления подчиненных лиц, то финансы в целом управляются честным образом и настолько менее дурно, насколько это позволяют обстоятельства; что в политике Директория не имеет никакого личного честолюбия и никогда не старается расширить прерогативы своей власти; что, ведя войну, она имеет целью мир скорый, но в то же время почетный и славный. И потому Ларевельер не мог понять и допустить упреки, обращенные к Директории. В клубе Клиши он видел лишь коварных заговорщиков, в конституционалистах – лишь обманутые и оскорбленные самолюбия. Впрочем, предложения конституционалистов не имели под собой прочной основы. Три вступивших в коалицию директора желали образования однородного правительства, дабы поразить роялистскую фракцию; конституционалисты, напротив, желали правительства совсем другого, чем то, какое нужно было Директории в минуту нешуточной опасности; в вознаграждение за это они могли доставить ей лишь свои немногочисленные голоса, да и теми не обязывались вперед ни по одному вопросу. Итак, союз с ними не представлял Директории никаких прочных выгод. Ларевельер ничем не удовлетворил их. Чтобы склонить последнего на свою сторону, они выбрали геолога Фужаса де Сен-Фона, с которым Ларевельера сближала общность склонностей и занятий; но и это не привело ни к чему. Ларевельер кончил тем, что сказал: «В тот день, когда вы нападете на нас, вы встретите нас готовыми. Мы вас убьем, но только политически. Вы хотите нашей крови, но ваша кровь не будет пролита, вы будете только лишены возможности вредить нам». Эта твердость не позволяла более надеяться на Ларевельера. Тогда Карно посоветовал обратиться к Баррасу, хотя, зная его ненависть, и сомневался в успехе. Переговорить с ним поручили адмиралу Вилларе-Жуайёзу, одному из самых пылких членов оппозиции; его склонность к светским удовольствиям часто подавала повод встречаться с Баррасом. Уживчивый Баррас, всё всем обещавший, был, по-видимому, не так упорен, как Ларевельер. Из четырех министров, отставки которых требовали конституционалисты, он соглашался сменить двоих – Трюге и Делакруа. Об этом уже условились с Ревбелем и Ларевельером, следовательно, Баррас мог поручиться за этих двоих и обещал их отставить. Тем не менее он пообещал больше, чем хотел сделать, – или из своего благодушия, или желая обмануть Карно и вызвать его самого представить отставку министров; в конце концов, сами конституционалисты могли истолковать его двусмысленную речь в благоприятном для себя смысле. Как бы то ни было, они сообщили Карно, что Баррас соглашается на всё и будет вотировать одинаково с ним по вопросу о министрах. Карно и Бартелеми, сомневаясь в Баррасе, колебались с принятием на себя инициативы в этом скользком деле и настаивали, чтобы ее принял на себя Баррас, а тот отвечал, что газеты так много кричат об этом, что приступить к делу сейчас значило бы уступить их запальчивости. Тем временем чуждые интригам Ревбель и Ларевельер сами взяли на себя инициативу. Ревбель объявил на заседании Директории, что пора с этим покончить, что должно дать правительству твердое направление и заняться сменой министров, и потребовал, чтобы немедленно перешли к баллотировке. Объявили закрытое голосование. Трюге и Делакруа, с отставкой которых все соглашались, были проголосованы единодушно. Против Рамеля и Мерлена, которых хотели сменить конституционалисты, было подано только два голоса – Карно и Бартелеми, а за них высказались Ревбель, Ларевельер и Баррас. Те же три голоса, которые удержали Рамеля и Мерлена, проголосовали за отставку Кошона, Петье и Бенезека. Таким образом, план большинства Директории осуществился. Видя себя обманутым, Карно хотел по крайней мере отложить назначение преемников, ссылаясь на то, что он не приготовлен к выбору новых. Ему отвечали, что директор должен быть всегда готов к этому, что нельзя ему было подавать голос за смещение должностного лица, не имея в виду его будущего преемника. Пять новых министров были назначены большинством. Рамеля оставили при финансах, Мерлена при юстиции; министром иностранных дел назначили Талейрана; морским – старого и храброго моряка, превосходного администратора Плевиля-ле-Пле; внутренних дел – довольно известного литератора, впрочем, более многоречивого, чем талантливого, Франсуа де Нёвшато; полиции – Ленуара-Лароша, человека благоразумного и просвещенного, писавшего в «Мониторе» дельные политические статьи; наконец, военным министром назначили способного и блестящего генерала, на которого желали опереться, – Гоша. Последний не достиг возраста, требуемого конституцией, то есть не имел полных тридцати лет. Это было известно, но Ларевельер предложил двум своим товарищам, Ревбелю и Баррасу, все-таки назначить его и через два дня заменить, дабы этим назначением дать армиям лестное свидетельство. Таким образом, все способствовали этим переменам. Вещь довольно обыкновенная, когда партии вместе способствуют какому-нибудь событию, которым каждая думает воспользоваться исключительно, результат же склоняет в свою пользу сильнейшая. Если бы Карно и не был бы так горд, он должен был все-таки досадовать, видя себя обманутым Баррасом. Члены законодательного корпуса, участвовавшие в переговорах, поспешили к нему, расспросили обо всех подробностях заседания и вознегодовали против Барраса, называя его мошенником. Другое событие еще более усилило их раздражение и довело его до высшего предела. Гош, полагаясь на сообщения Барраса, двинул свои войска с намерением направить их на Брест, но в то же время остановить их пока на несколько дней в окрестностях столицы. Он выбрал французский легион под командованием Юмбера, пехотную дивизию Лемуана, дивизию конных егерей под началом Ришпанса и артиллерийский полк; всего до четырнадцати тысяч человек. Дивизия конных егерей Ришпанса уже прибыла в Ла-Ферте-Але, в одиннадцати лье от Парижа. Это было неосторожно, так как переступали черту, определенную Конституцией. Эта неосторожность стала следствием ошибки военного комиссара, преступившего закон по причине его неведения. К этому неприятному обстоятельству присоединялись другие. Зная о своем маршруте и событиях, происходивших внутри страны, войска не сомневались, что их хотят направить против советов. Офицеры и солдаты рассказывали, что идут образумить парижских аристократов. Гош ограничился тем, что сообщил военному министру об общем движении войск на Брест в связи с ирландской экспедицией. Все эти обстоятельства указывали партиям, что они близки к решительной минуте. Оппозиция и враги правительства удвоили бдительность, чтобы отразить удар; Директория, со своей стороны, не пренебрегала ничем, чтобы ускорить осуществление своих планов и обеспечить себе победу; вскоре станет ясно, что она вполне в том преуспела.
Глава LV
Сосредоточение войск вокруг Парижа – Борьба советов с Директорией – Торжество в Итальянской армии – Ожеро получает командование над военными силами Парижа – Переговоры о мире с императором – Разногласия в среде оппозиции – Государственный переворот 18 фрюктидораИзвестие о прибытии егерей Ришпанса, подробности об их походе и разговорах дошли до министра Петье 16 июля (28 мессидора), в первый же день смены правительства. Петье сообщил новости Карно, и в ту же минуту сбежались депутаты, чтобы продемонстрировать свое раздражение против большинства Директории и сочувствие уволенным министрам. Тут они и узнали о движении войск. Карно сказал, что не отдавал никакого приказания, что, может быть, три директора приняли особое решение и в таком случае оно должно быть записано в специальном реестре, что он разузнает об этом, а до тех пор не следует разглашать новости. Депутаты, однако, были слишком раздражены, чтобы сохранять умеренность. Отставка министров, движение войск и назначение Гоша на место Петье не оставляли никаких сомнений насчет намерений Директории. Объявили, что Директория явно хочет нарушить неприкосновенность советов, устроить новое 31 мая и изгнать депутатов, верных конституции. Собрались у Тронсона дю Кудре, одного из самых влиятельных лиц Совета старейшин. По обыкновению крайних партий, члены клуба Клиши с удовольствием смотрели на конституционалистов, то есть на умеренных, обманувшихся в своих надеждах. Они смотрели на них как на обманутых Баррасом и радовались тому, как ловко их провели. Однако с приближением войск они осознали опасность. Оба их генерала, Пишегрю и Вилло, зная, что у Тронсона дю Кудре проходит совещание о предстоящих событиях, отправились туда, несмотря на то, что там собрались далеко не только их единомышленники. Пишегрю не мог располагать никакими реальными средствами, кроме страстей партий; ему нужно было присутствовать там, где они проявлялись, чтобы действовать или хотя бы наблюдать.
 Карно
Карно
Итак, на собрании присутствовали Порталис, Тронсон дю Кудре, Лакюэ, Дюма, Симеон, Понтекулан, Тибодо, Вилларе-Жуайёз, Вилло и Пишегрю. Все были весьма воодушевлены, говорили о планах Директории, приводили слова Ревбеля, Ларевельера и Барраса, обсуждали смену министров и движение войск. Предлагали самые крайние меры, такие как лишение Директории полномочий, прямое обвинение ее и даже постановка вне закона. Но для приведения всех этих решений в исполнение требовалась сила, и Тибодо, не разделяя общего увлечения, спрашивал, откуда ее взять. Ему отвечали, что имеются 1200 гренадеров законодательного корпуса, часть 21-го драгунского полка под командованием Мало и Парижская национальная гвардия; в ожидании же ее формирования можно было в каждый городской округ послать по взводу гренадеров, которые присоединили бы к движению граждан, уже поднимавшихся в вандемьере. Много рассуждали и ни на чем не остановились, как это бывает всегда, когда под рукой нет реальных средств. Пишегрю, холодный и сдержанный, как всегда, сделал несколько замечаний о недостаточности и опасности предлагаемых мер; его спокойствие составляло резкий контраст с общим увлечением. На том и расстались, возвратившись к Карно и уволенным министрам. Карно отринул все планы, предложенные против Директории. Тогда у Тронсона дю Кудре собрались второй раз, но Пишегрю и Вилло там уже не присутствовали. Вновь продолжались рассуждения, и, не смея прибегнуть к крайним мерам, наконец решили ограничиться конституционными средствами, требовать ответственности министров и скорейшей организации национальной гвардии. В Клиши продолжали декламаторствовать и тоже ничего не делали; если страсти там и были сильнее, то средств было не больше. Особенно в клубе сожалели о полиции, которую отняли у Кошона, и вновь возобновили обсуждение любимого плана – в известном смысле перетолковывая статью Конституции, отнять полицию Парижа у Директории и передать ее законодательному корпусу. Управление этой полицией предполагали поручить всё тому же Кошону. Предложение, однако, было таким смелым, что вносить его не решились. Остановились на намерении выступить против возраста Барраса, которому, как говорили, не было сорока лет при вхождении в Директорию, и потребовать неотложной организации национальной гвардии.
Восемнадцатого июля (30 мессидора) в Совете пятисот царило большое смятение. Депутат Делайе объявил о движении войск и потребовал немедленного доклада о национальной гвардии. Восстали против образа действий Директории, мрачными красками описывали состояние Парижа, с ужасом сообщали о прибытии крайних революционеров, о возникновении новых клубов, требовали, чтобы началось обсуждение политических обществ. Решили, что доклад о национальной гвардии будет внесен на рассмотрение послезавтра и непосредственно вслед за тем начнется обсуждение вопроса о клубах. На следующий день пришли новые извещения о движении войск и об их численности и стало известно, что в Ла Ферте-Але находятся четыре полка кавалерии. Пишегрю сделал доклад об организации национальной гвардии. Его проект был составлен самым коварным образом. Всех пользующихся правом гражданства французов следовало внести в призывные списки национальной гвардии, но не все вошли бы в действительный состав ее: для несения службы требовалось быть избранным. Словом, национальная гвардия, как и советы, назначались избирательными собраниями, а результат уже прошедших выборов показывал, на какого рода гвардию можно было рассчитывать, идя таким путем. От округа составляли по батальону, в каждом батальоне имелась рота гренадеров и стрелков; таким образом, образовывались отборные роты, в которых всегда собирались самые решительные люди; партии обыкновенно пользовались ими для приведения в исполнение своих замыслов. Проект хотели немедленно вотировать. Пылкий Анри Ларивьер восклицал, что всё возвещает 31 мая. «Дальше! Дальше!» – кричали, прерывая его, несколько голосов слева. «Да, – начал он, – но я успокаиваюсь при мысли о том, что у нас 2-е термидора и мы приближаемся к 9-му – дню, ставшему роковым для тиранов». Он предлагал немедленно вотировать проект и отправить старейшинам послание, чтобы пригласить их не прерывать заседаний, дабы и они могли вотировать, не вставая с места. Против этого предложения возразили. Тибодо, глава конституционной партии, заметил, что, с какой бы поспешностью ни приступили к делу, национальная гвардия не может быть организована раньше чем через месяц; что поспешное вотирование этого важного проекта не защитит законодательный корпус от предстоящих ему больших опасностей; что национальное представительство должно опереться на свои права и свое достоинство и не искать средства в силе. Он предлагал более обдуманное обсуждение проекта. Решили отсрочить обсуждение на двадцать четыре часа, признав его в то же время основанием для предстоящей реорганизации. Тогда же получили послание от Директории, которая давала объяснения относительно движения войск. В этом послании разъяснялось, что направленные к отдаленному пункту войска должны были пройти около Парижа, что вследствие упущения военного комиссара они переступили конституционную границу, что ошибка этого комиссара – единственная причина отступления от закона, что, впрочем, войска уже получили приказание немедленно отойти. Этим объяснением депутаты не удовольствовались, вновь пустились в запальчивые декламации и назначили комиссию для рассмотрения послания и представления отчета о состоянии Парижа и движении войск. На следующий день приступили к обсуждению проекта Пишегрю и вотировали четыре статьи. Затем занялись клубами, которые возобновлялись повсюду и возвещали, по-видимому, новое возрождение якобинской партии. Их хотели запретить безусловно, так как законы, их ограничившие, все обходили. Постановили, что впредь не дозволяются никакие политические собрания. Таким образом, общество Клиши как бы совершало самоубийство и соглашалось прекратить свое существование на условии уничтожения также Конституционного кружка и других второстепенных клубов. Предводители Клиши не имели особой надобности в этом шумном собрании, они могли им пожертвовать, не лишая себя тем ничего важного. Затем Вилло выступил с заявлением, что Баррас при назначении своем в директоры не достиг еще подходящего возраста, но при сверке его послужного списка оказалось, что это было пустой придиркой. Между тем новые войска прибыли в Реймс и усилили беспокойство. Директория повторила те же объяснения, их опять признали недостаточными и уже назначенной комиссии поручили произвести следствие и представить еще один доклад. Гош прибыл в Париж; ему в любом случае нужно было ехать через него, отправлялся ли он в Брест или собирался совершить государственный переворот. Он без опасения предстал перед Директорией, убежденный, что, двигая свои дивизии, повинуется желанию большинства директоров. Но Карно, бывший в то время президентом Директории, решил напугать генерала; он стал спрашивать у него, в силу каких приказаний тот действовал, и угрожал обвинением за нарушение конституции. К несчастью, Ларевельер и Ревбель, не уведомленные о приказе, данном Гошу, не могли поддержать его. Баррас, отдавший это приказ, не осмеливался о том сказать, и Гошу приходилось выдерживать настоятельные вопросы Карно. Он отвечал, что не мог отправиться в Брест без войск; Карно возражал, что в Бретани имеется еще 43 тысячи человек, численность весьма достаточная для экспедиции. Однако тут Ларевельер, видя затруднительное положение Гоша, поддержал его: он от имени большинства Директории выразил чувства уважения и доверия, которые последняя имела к Гошу, и заверил, что не может быть и речи об обвинении его, чем фактически заставил прекратить заседание. Гош отправился к Ларевельеру благодарить его и там узнал, что Баррас не уведомил ни Ревбеля, ни Ларевельера о движении войск и отдал приказания без их ведома. Гош рассердился на Барраса, который, скомпрометировав его, не имел в то же время смелости его защитить. Было очевидно, что, действуя самостоятельно, не предупредив своих товарищей, Баррас желал удержать исполнительную власть исключительно в своих руках. Раздраженный Гош отнесся к Баррасу со своим обычным высокомерием и всё свое уважение перенес на Ревбеля и Ларевельера. Ничего еще не было готово к осуществлению плана, замышляемого тремя директорами, и Баррас, вызвав Гоша, только напрасно скомпрометировал его. Гош немедленно возвратился в свою главную квартиру в Вецларе и разместил войска в окрестностях Реймса и Седана, откуда они еще могли двинуться на Париж. Он был крайне разочарован поведением Барраса, но всё еще готов пожертвовать собой, если бы Ларевельер и Ревбель подали ему сигнал. Гош был сильно скомпрометирован; толковали об обвинении, но он с твердостью ждал, что может предпринять против него раздраженное большинство Совета пятисот. Его лета не позволяли Гошу занять военного министерства, и на его место был призван Шерер. Произведенная огласка не позволяла более использовать молодого генерала для осуществления плана Директории. Сверх того, значимость, которую придало бы ему такое участие, могла возбудить зависть в других генералах. Бонапарт мог дурно встретить и сам факт обращения за помощью к кому-либо, кроме него. Нашли, что лучше не прибегать к содействию никого из главнокомандующих, а взять одного из наиболее отличившихся дивизионных генералов. Придумали обратиться по этому поводу к Бонапарту – просить указать на кого-либо из генералов, сделавшихся знаменитыми под его началом: это удовлетворило бы его личному самолюбию и не оскорбило бы вместе с тем никого из главнокомандующих. Но в то самое время, как к нему думали обратиться, Бонапарт сам вмешался в ссору, угрожая контрреволюционерам и по меньшей мере стесняя Директорию. Он избрал годовщину 14 июля в качестве праздника для армий и заставлял писать адресы о готовящихся событиях. Он воздвигнул в Милане пирамиду с трофеями и именами всех солдат и офицеров, павших в Итальянскую кампанию. Празднество совершилось вокруг этой пирамиды и было поистине великолепным. Бонапарт лично присутствовал на нем и обратился к солдатам с вдохновляющей прокламацией: «Солдаты! Сегодня годовщина 14 июля. Перед вами имена собратьев по оружию, умерших на поле брани за свободу и отечество. Они подали вам пример. Вы все и вполне должны принадлежать республике; все и вполне – счастью тридцати миллионов французов; все и вполне – славе этого имени, получившего новый блеск благодаря вашим победам. Солдаты! Я знаю, что вы глубоко опечалены несчастьями, угрожающими отечеству. Но отечество не подвергается реальной опасности: там живут всё те же люди, что восторжествовали над европейской коалицией. Горы нас отделяют от Франции; но вы перешли бы их с быстротою орла, если бы топотребовалось для поддержания Конституции, защиты свободы и покровительства республиканцам. Солдаты! Правительство стоит на страже законов, ему вверенных. Не имейте опасений, и поклянемся прахом героев, умерших в наших рядах за свободу, поклянемся на наших знаменах в непримиримой войне против врагов Республики и Конституции года III!» Затем последовал обед, где генералы и офицеры провозглашали самые энергичные тосты. Главнокомандующий поднял первый тост за храбрых Штенгеля, Лагарпа и Дюбуа, умерших на поле чести. «Да сохранит нас их прах, – сказал он, – и защитит от западни наших врагов!» Затем были провозглашены тосты за Конституцию года III, за Директорию, за Совет старейшин, за французов, умерщвленных в Вероне, за реэмиграцию эмигрантов, за единение французских республиканцев, наконец, за уничтожение клуба Клиши. При последнем тосте заиграли марш к атаке. Подобные же празднества были устроены во всех городах, где находились дивизии армии, и в такой же пышной обстановке. В каждой дивизии составлялись адресы еще более выразительные, чем прокламация главнокомандующего. В его речи соблюдалось известное достоинство; в адресах же различных дивизий был восстановлен якобинский стиль 93-го года. Так себя проявили дивизии Массена, Жубера и Ожеро. Особенно же Ожеро переходил всякие пределы. «О, заговорщики, – взывал он, – трепещите! От Адидже и Рейна до Сены – только один шаг. Трепещите! Все ваши преступления сосчитаны, и возмездие за них – на острие наших штыков!» Адресы эти были покрыты тысячами подписей и отосланы главнокомандующему. Он собрал их и вместе со своей прокламацией отослал Директории, чтобы напечатать и сделать гласными. Подобный поступок довольно ясно показывал, что Бонапарт готов идти сражаться с фракцией, образовавшейся в советах, и оказать свое содействие государственному перевороту. Поскольку ему были известны раздоры в Директории, так как он предвидел возможные осложнения и желал быть оповещенным обо всем, он выбрал одного из своих адъютантов, Лавалетта, который пользовался его доверием и имел необходимую для верной оценки событий проницательность. Бонапарт отправил его в Париж с приказанием наблюдать и замечать всё; через Лавалетта он предлагал Директории деньги, в случае если бы в них возникла надобность для какого-нибудь смелого предприятия. Директория оказалась в крайнем затруднении, получив эти адресы. Они были в некотором роде незаконны, так как армиям не разрешались совещания. Принять их, сделать гласными значило предоставить армиям право вмешиваться в дела правительства, отдать республику военной силе. Но каким образом избегнуть опасности? Обращаясь к Гошу, прося у него войск, прося у Бонапарта дивизионного генерала, само правительство вызывало это вмешательство. Вынужденное прибегать к силе, нарушить законность, могло ли оно иметь иную поддержку, кроме армии? Принятие этих адресов стало неизбежным следствием того, что было сделано и что были вынуждены сделать. Такова судьба нашей несчастной республики: чтобы спастись от своих врагов, ей пришлось отдаться армии. В 1793 году страх перед контрреволюцией ввергнул республику в крайности и ужасы, печальную историю которых мы видели; страх же перед контрреволюцией принуждал ее в настоящее время броситься в объятия военных; словом, ей приходилось то разнуздывать страсти, то прибегать к штыкам.
Директория хотела бы скрыть эти адресы и не подавать дурного примера их обнародованием, но она страшно оскорбила бы тем главнокомандующего и, может быть, толкнула бы его на сторону врагов республики. Итак, адресы были напечатаны и распространены. Они навели ужас на клуб Клиши и дали почувствовать членам клуба всю неосторожность их нападок на Бонапарта. В советах восстали против вмешательства армий, говорили, что военные не должны рассуждать, в адресах увидели новое доказательство планов, приписываемых Директории. Дивизионный генерал, посланный правительству Бонапартом, еще более увеличил затруднения. Ожеро всегда возбуждал в армии некоторый беспорядок своими крайними мнениями, достойными Сент-Антуанского предместья. Он всегда был готов вступить в ссору со всяким, кто не разделял его отчаянного республиканизма; Бонапарту приходилось опасаться неприятных столкновений между своими генералами. Чтобы как-нибудь с ним развязаться, он отправил Ожеро в Париж, думая, что тот вполне годится для этого назначения, что в Париже он будет полезнее, чем в главной квартире, где праздность делала его опасным. Ожеро и не желал ничего лучшего, так как волнения клубов он любил так же, как и поле сражения, и вместе с тем был весьма чувствителен к прелестям власти. Он отправился немедленно и прибыл в Париж в начале августа. Бонапарт написал Лавалетту, что отправляет Ожеро, потому что не может держать его более в Италии; он приказывал адъютанту остерегаться последнего и продолжать свои наблюдения, оставаясь по-прежнему в стороне. В то же время Бонапарт рекомендовал ему относиться лучше к Карно, так как, хоть и высказавшись за Директорию против контрреволюционной фракции, он не хотел без всякого предлога вмешиваться в личные ссоры директоров. Директория была весьма недовольна прибытием еще и Ожеро. Этот генерал был во вкусе Барраса, охотно окружавшего себя якобинцами и патриотами предместий, всё поговаривавшего о том, как оседлает коня; но он совсем не подходил к целям Ревбеля и Ларевельера, которые желали бы иметь в своем распоряжении генерала благоразумного, умеренного, в случае надобности готового поддержать их в оспаривании планов Барраса. Прибыв в Париж для подобного поручения, Ожеро был доволен как нельзя более. Он был прекрасным, великодушным человеком и превосходным солдатом, но в то же время слишком хвастливым и малорассудительным. Он разъезжал по Парижу, принимая участие в празднествах, пользуясь известностью, составленной ему его подвигами, приписывая себе важное участие в операциях Итальянской армии, заставляя верить, что именно он внушил главнокомандующему его лучшие решения, и повторяя при всяком случае, что образумит аристократов. Ларевельер и Ревбель, весьма рассерженные таким поведением, решили побеседовать с ним и, обратившись к его тщеславию, несколько возвратить его к умеренности. Ларевельер обласкал его, и ему удалось подчинить своему влиянию славного генерала. Он дал ему почувствовать, что не следует бесчестить себя кровавым делом и можно приобрести титул спасителя Республики делом энергичным и благоразумным, которое обезоружило бы бунтовщиков без пролития крови. Ларевельер успокоил Ожеро, ему удалось сделать генерала более рассудительным. Ему немедленно дали командование над 17-м военным округом, заключавшим в себе весь Париж. Это назначение достаточно указывало на намерения Директории; они были уже вполне определенны. Войска Гоша находились на расстоянии нескольких переходов, стоило только подать сигнал, чтобы они выступили. Ждали лишь сумм, обещанных Бонапартом, которые не хотели брать в кассах, дабы не компрометировать министра Рамеля: за ним тщательно наблюдала финансовая комиссия. Суммы эти частично предназначались для подкупа гренадеров законодательного корпуса, которые могли в случае сопротивления спровоцировать столкновения, чего главным образом и старались избежать. Изощренный в интригах, Баррас взял на себя эту заботу, и это было главной причиной, замедлявшей государственный переворот. Внутренние события имели самое пагубное влияние на ход важных переговоров, завязанных Республикой с европейскими державами. Непримиримая фракция, составившая заговор против свободы и спокойствия Франции, ко всем своим винам прибавляла еще компрометацию столь желанного мира. Лорд Малмсбери прибыл в Лилль, а австрийские посланники в Монтебелло встретились с Бонапартом и Кларком, которые были уполномочены представлять Францию. Леобенские прелиминарии определяли, что будут открыты два конгресса: один общий, в Берне, для заключения мира с императором и его союзниками, другой частный, в Раштатте, для заключения мира с Германской империей; что мир с императором должен быть заключен не позже трех месяцев – иначе прелиминарии становились недействительными; что с венецианскими владениями не будет ничего сделано без соглашения с Австрией, но что вместе с тем последние не могут быть заняты императором ранее заключения мира. Венецианские события, казалось, немного нарушали эти условия, Австрия поспешила нарушить их со своей стороны еще более, заняв Истрию и Далмацию. Бонапарт сквозь пальцы смотрел на это отступление от прелиминариев, чтобы не пререкаться по поводу уже сделанного им в Венеции и того, что он еще планировал сделать на Ионических островах. Обмен ратификаций воспоследовал 24 мая (5 прериаля) в Монтебелло, неподалеку от Милана. Представителем императора был маркиз Галло, неаполитанский посланник в Вене. Затем Бонапарт приступил к совещанию с Галло, намереваясь заставить его отказаться от конгресса в Берне и склонить к сепаратным переговорам в Италии. Представляемые им к тому основания в интересах самой Австрии были превосходны. Каким образом Россия и Англия, призванные на этот конгресс, могли согласиться, чтобы Австрия получила вознаграждение за счет Венеции, когда они сами покушались на ее владения? Это было невозможно, и интересы самой Австрии, так же как и необходимость скорого мира требовали, чтобы к совещаниям приступили немедленно, и притом в Италии. Господин Галло, человек проницательный и разумный, чувствовал силу этих доводов. Чтобы заставить его решиться и склонить к тому же решению Венский кабинет, Бонапарт сделал уступку в этикете, которой венский двор придавал такое большое значение. Император боялся, что Республика пожелает отбросить старый церемониал французских королей и потребует равного места в протоколах переговоров. Император по-прежнему желал быть первым и сохранить своим посланникам преимущество перед французскими. Бонапарт, уполномоченный Директорией уступить в этих пустяках, согласился на требования Галло. Радость по этому поводу была так велика, что посланник принял идею сепаратных переговоров в Монтебелло и написал в Вену для получения полномочий на этот счет. Но старый Тугут, вполне преданный английской системе, поминутно подававший в отставку, после того как двор под влиянием эрцгерцога Карла готов был принять иную систему, – Тугут имел другие виды. Ему была неприятна мысль о мире; внутренние сложности Франции давали ему надежды, которым он еще любил предаваться, хотя они так часто оказывались обманчивы. Вера в эмигрантов уже стоила Австрии больших сумм, многих неловких политических поступков и разорительной войны, тем не менее новый заговор Пишегрю опять привел Тугута к мысли отложить заключение мира. Он решил противопоставить настоятельности французских уполномоченных рассчитанную медлительность и заставил лишить маркиза Галло полномочий и отправить в Монтебелло нового уполномоченного генерал-майора графа Меервельдта. Этот уполномоченный прибыл 19 июня (1 мессидора) и потребовал исполнения прелиминариев, то есть конгресса в Берне; Бонапарт, в негодовании из-за перемены, горячо возразил ему. Он повторил всё, что уже говорил о невозможности добиться от России и Англии согласия на сделки, основания которых были приняты в Леобене; прибавил, что конгресс повлечет за собой новые промедления; что по подписании Леобенских прелиминариев уже прошли два месяца, а на леобенских условиях мир должен быть заключен в три месяца – в случае призыва всех держав это становится невозможным. Австрийские уполномоченные опять не нашлись что возразить. Венский двор уступил и назначил конференции в Удино, в венецианских владениях, с целью приблизить место переговоров к Вене. Они должны были начаться 1 июля. Весьма озабоченный устройством вновь им образуемых республик, желая, кроме того, следить за событиями в Париже, Бонапарт хотел оставаться в Милане, а не отправляться в Удино и тем давать Тугуту повод обмануть его. Он послал в Удино Кларка и объявил, что лично прибудет лишь тогда, когда убедится – с помощью объема полномочий обоих договаривающихся лиц и хода переговоров – в добросовестности венского двора. И в самом деле, Бонапарт не ошибся: более чем когда-либо обманутый жалкими агентами роялистской фракции, Венский кабинет льстил себя надеждой, что революция освободит его от необходимости договариваться с Директорией, вследствие чего отправил странные ноты, вовсе не соответствующие ходу переговоров. В этих нотах говорилось, что венский двор хочет строго держаться в пределах прелиминариев и – вследствие того – договариваться об общем мире в Берне; что трехмесячный срок, определенный прелиминариями для заключения мира, не может быть понимаем иначе, чем считая его со времени конгресса. На основании этого, строго держась условий прелиминариев, венский двор требовал общего конгресса всех держав. Кроме того, ноты заключали горькие жалобы по поводу событий в Венеции и Генуе; утверждали, что эти события нарушают Леобенские прелиминарии и что Франция обязана дать за них удовлетворение. Бонапарт страшно разгневался, получив эти странные ноты. Первой его мыслью было немедленно собрать все дивизии, начать наступление и вновь идти на Вену, чтобы теперь уже не ограничиться такими умеренными условиями, как в Леобене. Его остановило, однако, внутреннее состояние Франции и конференции в Лилле; он думал, что в этих важных обстоятельствах следует предоставить Директории решать, что делать. Бонапарт удовольствовался тем, что заставил Кларка написать энергичную ответную ноту. Сущность ее заключалась в том, что теперь уже несвоевременно требовать конгресса, от которого отказался даже венский двор, назначив конференции в Удино; что в настоящее время к этому конгрессу не остается более повода, поскольку союзники Австрии отделились от нее и намереваются договариваться поодиночке, как доказали лилльские конференции; что трехмесячный срок не может быть понимаем иначе как со дня подписания условий в Леобене; что, наконец, прелиминарии не были нарушены в отношении Венеции и Генуи, обе эти страны могли переменить форму своего правления, не спрашиваясь кого-либо, и что, впрочем, заняв Истрию и Далмацию против всяких письменных условий, Австрия нарушила прелиминарии гораздо больше. Ответив таким твердым и достойным образом, Бонапарт предоставил всё Директории и ожидал ее приказаний, рекомендуя решаться скорее, дабы не дождаться неблагоприятного для военных действий времени года, если бы оказалось необходимым начать новую кампанию.
Переговоры в Лилле велись с большей добросовестностью, что могло бы показаться странным, так как французским уполномоченным приходилось вступать в соглашение с Питтом. Но Питт был действительно испуган положением Англии, нисколько не рассчитывал на Австрию, не имел никакого доверия к россказням роялистских агентов и желал заключить договор с Францией прежде, чем мир с императором сделает ее более сильной и требовательной. Если в прошлом году Питт желал только изловчиться, чтобы дать удовлетворение общественному мнению и предупредить сделку относительно Нидерландов, то теперь он искренне желал мира, с тем, однако, чтобы получить отдых на два или три года. Он никак не мог на самом деле согласиться окончательно оставить Нидерланды за Францией. Как мы уже сказали, всё доказывало его искренность: и выбор лорда Малмсбери, и тайные инструкции, данные этому уполномоченному. По обычаю английской дипломатии, всё было устроено так, что разом велись переговоры двоякого рода: одни официальные и только для виду, другие тайные и действительные. К лорду Малмсбери был отправлен господин Эллис, чтобы, с согласия первого, вести тайные переговоры и непосредственно доносить о них Питту. Это вынужденная тактика в представительном правлении: в официальных переговорах говорится всё, что может быть повторено в палатах, для тайных же переговоров оставляют то, что не может быть разглашено. В случае, когда правительство не согласно между собой в вопросе о мире, тайные конференции сообщают той части правительства, которая руководит переговорами. Английское посольство прибыло в Лилль 4 июля (16 мессидора) с многочисленной свитой и большой торжественностью. Францию представляли: Летурнер, недавно вышедший из состава Директории; Плевиль-ле-Пле, уже пробывший немного в Лилле вследствие своего назначения морским министром, и Юг Маре, впоследствии герцог Бассано. Из всех трех посланников только последний мог играть существенную роль в переговорах. Молодой, давно знакомый с дипломатическим миром, он соединял с умом знание форм, сделавшееся редким во Франции со времен революции. Настоящим своим назначением он был обязан Талейрану и условился с ним, что один из них получит министерство иностранных дел, а другой – посольство в Лилле. В первый период революции Маре два раза посылали в Лондон; он был хорошо принят Питтом и приобрел тесное знакомство с английским правительством. Итак, он был весьма способен представлять Францию в Лилле. Он отправился туда с обоими своими сотоварищами и прибыл одновременно с английским посольством. Опытные и тактичные, английские уполномоченные желали ближе сойтись с французскими. Летурнер и Плевиль-ле-Пле, честные, но мало привыкшие к дипломатии люди, преданные революции, отнеслись к этому иначе: они смотрели на обоих англичан как на людей опасных, всегда готовых интриговать и обманывать, с которыми следует всегда быть настороже. Они не желали видеть их иначе как в официальной обстановке и боялись скомпрометировать себя каким-либо общением с ними. Не таким образом достигаются соглашения. Лорд Малмсбери предъявил свои полномочия; условия мира в них не были упомянуты, и для них оставили место; лорд спросил, каковы условия Франции. Три французских уполномоченных предъявили условия, которые, надо полагать, представляли слишком высокий maximum. Они требовали, чтобы английский король отказался от титула короля Французского, который он продолжал носить вследствие одного из странных обычаев, сохраняемых в Англии; чтобы он отдал все корабли, взятые в Тулоне; а также возвратил Франции, Испании и Голландии все захваченные у них колонии. Взамен Франция, Испания и Голландия предлагали только мир, так как ничего у Англии не брали. Правда, положение Франции было довольно внушительным, и можно было требовать многого, но требовать всего для себя и своих союзников, ничего не предлагая, значило фактически отказаться от соглашения. Лорд Малмсбери, который хотел добиться действительных результатов, увидел, что официальные переговоры не ведут ни к чему, и стал искать более тесного сближения. Раньше своих товарищей свыкшийся с дипломатическими обычаями, Маре охотно удовлетворил желание посланника, но нужно было еще договориться с Летурнером и Плевилемле-Пле. Молодые люди из обоих посольств сблизились первые, вскоре сношения их сделались более дружественными. Со времени революции Франция до такой степени разорвала связь с прошлым, что нужно было много труда для восстановления ее старых отношений с другими державами. В прошлом году ничего этого не происходило, потому что переговоры не были искренними; но в этом году следовало перейти к реальным и благосклонным соглашениям. Лорд Малмсбери приказал разузнать у Маре, не согласится ли тот на переговоры с ним одним. Прежде чем согласиться, Маре написал в Париж, дабы получить разрешение правительства. Ему дали таковое без затруднений и немедленно, и он вступил в переговоры с английскими уполномоченными один. Более не шла речь о Нидерландах; Англия хотела только удержать некоторые главнейшие завоеванные ею колонии, чтобы вознаградить себя за военные издержки и уступки, сделанные нам. Она соглашалась возвратить все наши колонии, отказаться от всяких притязаний на Сан-Доминго и даже помочь нам утвердить там свое влияние; она хотела вознаградить себя только за счет Голландии и Испании. Так, Англия не хотела возвращать Испании Тринидад, важную по своему положению при входе в Антильское море[31] колонию; из захваченных голландских владений она хотела удержать мыс Доброй Надежды, важнейший для мореплавания в двух океанах, и Трикомали, главный порт острова Цейлон; кроме того, она хотела обменять город Нагапатнам на Коромандельском берегу на город и форт Кочин на Малабарском побережье, весьма важный для нее пункт. Что же до титула короля Франции, английские уполномоченные отказывались удовлетворить в том Францию, не желая затрагивать тщеславие королевского семейства, и без того не расположенного к миру. Касательно кораблей, взятых в Тулоне, уже снаряженных и вооруженных по английскому образцу, возвращать их находили постыдным, но за них предлагали денежное вознаграждение в 12 миллионов. Малмсбери говорил Маре, что не может возвратиться в Лондон, отдав всё и не сохранив английскому народу ни одного из завоеваний, за которые тот заплатил своей кровью и сокровищами. Дабы доказать свою искренность, он показал все тайные инструкции, врученные Эллису, которые заключали в себе доказательства искреннего желания Питта добиться мира. Эти условия заслуживали по крайней мере рассмотрения. Неожиданное обстоятельство предоставило французским уполномоченным значительное преимущество. Кроме близкой возможности соединения в Бресте испанского, голландского и французского флотов, зависевшего от первого ветра, который принудил бы отойти от Кадикса адмирала Джервиса, Англии грозила теперь другая опасность. Напуганная Испанией и Францией, Португалия оставляла своего старого союзника и собиралась заключить договор с Францией. Главнейшим условием этого договора было воспрещение принимать в свои порты более шести вооруженных кораблей какой-либо из воюющих держав. Таким образом, Англия теряла свою драгоценную стоянку на Таго. Этот неожиданный договор некоторым образом отдавал английских уполномоченных в руки Маре. Приступили к обсуждению окончательных условий. Тринидад отстоять было уже нельзя; что же до мыса Доброй Надежды, то согласились, что он будет возвращен Голландии, но под непременным условием: Франция ни в каком случае не воспользуется своим преобладанием над Голландией с целью завладеть им. Последнего более всего опасалась Англия; она не столько хотела обладать им сама, сколько лишить этой колонии Францию. Что касается Трикомали, который означал владение всем Цейлоном, он оставался за англичанами, однако с призраком обоюдности: голландский гарнизон должен был чередоваться с английским, но решено было, что это будет лишь формальностью и порт останется за англичанами. Англичане предпочитали обмен Нагапатнама на Кочин, однако не делали из такового непременного условия. За корабли, взятые в Тулоне, согласились принять 12 миллионов. Наконец, касательно титула короля Франции было условлено, что, не отрекаясь от него формально, английский король всё же перестанет им пользоваться. На этом пункте взаимные притязания уполномоченных закончились. Летурнер, остававшийся с Маре один по отбытии Плевиля-ле-Пле, назначенного морским министром, находился в полнейшем неведении относительно тайных переговоров. Маре, в вознаграждение за его ничтожную роль, предоставлял ему все внешние почести, всё представительство, за которое так держался этот честный и уживчивый человек. Сам же Маре сообщил обо всех подробностях переговоров Директории и теперь ожидал ее решений. Никогда Франция и Англия не были так близки к примирению. Было очевидно, что переговоры в Лилле совершенно отделены от переговоров в Удино и Англия действует без соглашения с Австрией. Какое решение принять относительно этих переговоров? Этот вопрос должен был волновать Директорию более всякого другого. Роялистская фракция запальчиво требовала мира, не желая его на самом деле; конституционалисты мечтали о нем искренне, даже ценою некоторых жертв; республиканцы желали мира, но без жертв, и выше всего ставили славу Республики. Они хотели бы полного освобождения Италии и возвращения колоний наших союзников, даже ценой новой кампании. Взгляды пяти директоров предписывались им их положением. Карно и Бартелеми вотировали за принятие условий Англии и Австрии; три других директора поддерживали противное мнение; эти вопросы окончательно перессорили две партии в Директории. Баррас горько упрекал Карно за Леобенские прелиминарии, ратификацию которых тот всячески поддержал. Карно, со своей стороны, сказал, что не следует слишком притеснять Австрию; последнее значило, что для того, чтобы мир был прочен, его условия должны быть умеренны. Но товарищи Карно весьма дурно приняли эти выражения, и Ревбель спросил его, кто он, – министр Австрии или должностное лицо Французской республики. Получив депеши Бонапарта, три директора хотели немедленно прервать переговоры и начать военные действия. Однако состояние Республики, страх дать новое оружие в руки ее врагов и доставить им предлог говорить, что Директория никогда не заключит мира, – все эти обстоятельства заставили директоров повременить. Они написали Бонапарту, что следует дать переполниться чаше терпения, подождать, пока недобросовестность Австрии будет доказана очевидным образом, и тогда открытие военных действий может быть приписано лишь ей одной. Вопрос касательно лилльских конференций был не менее затруднителен. В отношении Франции решение было легким: ей возвращали всё, но для Испании, терявшей Тринидад, и для Голландии, терявшей Трикомали, разрешить вопрос было трудно. Карно, которого его новое положение заставляло высказываться за мир, вотировал за эти условия, хотя они были весьма невеликодушны в отношении союзников. Так как Голландией и разделявшими ее партиями были недовольны, то он советовал предоставить ее самой себе и не вмешиваться более в ее участь – совет такой же невеликодушный, как и желание пожертвовать ее колониями. Пристрастный даже до несправедливости Ревбель горячо стоял за то, чтобы обосноваться в Голландии твердо и сделать из нее провинцию Республики; особенно же он противился принятию статьи, которой Франция отказывалась от мыса Доброй Надежды. Ревбель защищал, как это можно видеть, интересы наших союзников скорее в виду пользы Франции, чем их самих. Ларевельер, из чувства справедливости принимавший во внимание интересы союзников, отвергал предлагаемые условия на совершенно других основаниях. Он считал постыдным пожертвовать Испанией, которую вовлекли в борьбу совсем для нее чуждую и которую, в вознаграждение за союз, принуждали теперь пожертвовать важной колонией. Он считал столь же постыдным жертвовать Голландией, которую увлекли на путь революции и заботу о судьбе которой на себя возложили. Если бы Голландию в самом деле лишили поддержки Франции, это неминуемо ввергло бы ее в самый гибельный беспорядок. Ларевельер прямо заявил, что Франция была бы ответственна за всю кровь, которая пролилась бы в этом случае. Такая политика была великодушной; но, может быть, она была слишком нерасчетливой. Оставление союзников показалось постыдным, и потому приняли другое решение. Постановили обратиться к Испании и Голландии, чтобы узнать об их намерениях. Они должны были объявить прямо, желают ли мира ценой жертв, требуемых Англией, и в случае если бы желали продолжения войны – объявить, какие силы предполагают выставить для защиты общих интересов. В Лилль написали, что ответ на предложения Англии не может быть сделан до того, как спросят мнения союзников.
Эти обсуждения окончательно поссорили директоров. Минута катастрофы приближалась; обе партии следовали своему направлению и с каждым днем раздражались всё более и более. Все предлагаемые финансовой комиссией Совета пятисот меры были подправлены, чтобы с некоторыми изменениями их могли принять старейшины. Распоряжения относительно казначейства были слегка изменены: Директория по-прежнему не должна была совершать сделок самостоятельно; не подтверждая, но и не уничтожая различий между обыкновенным и чрезвычайным бюджетом, решили, что расходам на содержание армий всё же должно быть отдано преимущество. Расходование доходов ранее их поступления впредь воспрещалось, но уже сделанные таким образом расходы не считались подлежащими возвращению. Наконец, распоряжения касательно продаж национальных имуществ вносились с важным изменением: векселя, выдаваемые министрами, и боны, выдаваемые поставщиками, должны были приниматься в уплату имуществ, подобно трехчетвертным. Измененные меры были приняты; они уже меньше расстраивали средства казначейства, но всё еще были весьма опасны. Все карательные законы против священников отменялись; присяга была заменена простым заявлением, в котором священники обязывались подчиняться законам Республики. Вопрос об обрядности богослужения и колоколах был оставлен. Наследства эмигрантов открывались не в пользу государства, а в пользу родственников. Те семейства, которым уже пришлось выплатить государству наследственную часть сына или какого-нибудь родственника, должны были получить вознаграждение из национальных имуществ. Продажа церковных имуществ приостанавливалась. Наконец, самая важная из всех мер, учреждение национальной гвардии, была вотирована в несколько дней на вышеизложенных основаниях. Гвардия эта составлялась путем выборов. Именно на этой-то мере Пишегрю и его единомышленники основывали осуществление своих планов, а потому они добавили к проекту закона статью, в силу которой следовало приступить к организации гвардии по истечении десяти дней после издания закона: таким образом, они обеспечивали скорое собрание гвардии в Париже. Директория, со своей стороны, убежденная в неизбежной опасности и по-прежнему предполагая заговор готовым разразиться, приняла самое угрожающее положение. Не один Ожеро был в Париже: вследствие бездействия армий там наблюдался наплыв генералов. В Париж приехал Шерен, начальник штаба Гоша, генералы Лемуан и Юмбер, командовавшие дивизиями, направленными на Париж; Клебер и Лефевр, находившиеся в отпуске; наконец, Бернадотт, которого Бонапарт послал для представления Директории последних отнятых знамен. Кроме этих высших офицеров, офицеры всех чинов, уволенные в связи с сокращением кадров и добивавшиеся мест, наводняли Париж и высказывались против советов самым угрожающим образом. Значительное число революционеров прибыло из провинций, как они делали это всегда, когда рассчитывали на новое движение. Кроме всех этих симптомов, назначение и направление войск не оставляли более никаких сомнений. Войска по-прежнему располагались в окрестностях Реймса. Говорили, что если бы войска были предназначены исключительно для экспедиции в Ирландию, то продолжали бы свое движение на Брест и не остановились бы в департаментах, соседних с Парижем; что Гош не возвратился бы в свою главную квартиру; что, наконец, для морской экспедиции не было бы собрано такое значительное количество кавалерии. Как уже было сказано, для следствия и представления доклада касательно этих фактов была назначена комиссия. Директория дала последней самые туманные объяснения. Войска были направлены генералом Гошем, говорила она, для отдаленного назначения вследствие распоряжения Директории, и конституционную границу переступили только по причине ошибки одного из военных комиссаров. Советы же отвечали на это через Пишегрю, что войска не могут пересылаться из одной армии в другую по одному приказанию главнокомандующего; что последний должен получить на то предписание свыше; и от Директории он не может получить его иначе как через военного министра; что военный министр Петье не отдавал подобного приказания; что, следовательно, генерал Гош поступал без формального приказа; что, наконец, если бы войска и получили отдаленное назначение, то должны были бы продолжать свое движение, а не скапливаться вокруг Парижа. Эти замечания были основательны, и Директория имела достаточно причин не отвечать на них. Вслед за этими замечаниями советы декретировали, что вокруг Парижа должен быть очерчен круг радиусом в двенадцать лье; что колонны на дорогах должны указывать границы этой окружности и командиры войск, которые решились бы переступить ее, могут считаться виновными в государственной измене. Но вскоре новые факты еще более увеличили беспокойство. Гош собрал свои войска в северных департаментах, вокруг Седана и Реймса, в нескольких переходах от Парижа, в том же направлении он уже послал и другие. Эти передвижения, речи солдат, волнение, царившее в Париже, стычка уволенных офицеров с золотой молодежью дали Вилл о повод к новому заявлению. Он взошел на трибуну и рассказал о движении войск; о духе, который замечается в их рядах; о том неистовстве, которое возбуждают в них против советов. По этому поводу он вновь восстал против адресов Итальянской армии и той гласности, какую им придала Директория, и потребовал, чтобы поручили произвести новое расследование и представили о том доклад. На депутатов, назначенных инспекторами, возлагалось руководство полицией обоих советов, а следовательно, и обязанность их охранения. Предложение Вилло приняли и по представлению комиссии инспекторов 4 августа (17 термидора) обратились к Директории с несколькими вопросами. Вновь просили разъяснить, в силу каких приказаний действовал Гош и какие меры были приняты для исполнения конституционного закона, воспрещавшего войскам обсуждать текущие события. На новые вопросы Директория решила ответить энергичным посланием, не представляя, однако, в нем объяснений, которые считала неуместными. Послание редактировал Ларевельер; Карно и Бартелеми отказались его подписать. Послание было представлено 10 августа. В нем не сообщалось ничего нового. Дивизионные генералы, направлявшиеся на Париж, получили приказание от генерала Гоша, последний же – от Директории; о промежуточной инстанции, передавшей их, ничего не упоминалось. Что касается адресов, Директория сообщала, что смысл слова «обсуждать» является слишком общим и неясным, чтобы можно было решить, насколько серьезно армии преступили закон; тем не менее она признавала опасность выражения армиями своего мнения и впредь обещала останавливать их; но, добавляла, что прежде чем подвергать нареканию поступок, который позволили себе солдаты Республики, следует добраться до причин, его вызвавших; а причина тому – в общем беспокойстве, которое уже в течение нескольких месяцев владеет всеми; в недостаточности общественных доходов, которая ставит администрацию в самое плачевное положение и часто лишает жалованья людей, вот уже несколько лет проливающих кровь на службе Республике; в преследованиях и убийствах, направленных против скупщиков национальных имуществ, а также чиновников и защитников отечества; в безнаказанности преступлений и пристрастности некоторых судов; в наглости эмигрантов и непокорных священников, которые сеют повсюду раздор и внушают презрение к законам; в этой массе газет, наводнивших армии и всю страну и проповедующих необходимость восстановления монархии; в дурно скрываемом, а часто и громко выражаемом интересе к славе Австрии и Англии; в клевете, направленной против двух знаменитых генералов, которые соединили с подвигами бессмертную славу превосходнейшей дипломатии; наконец, в зловещих планах против государства, которые выказывают более или менее влиятельные лица. Директория прибавляла, что, впрочем, она приняла твердое решение и имеет основание надеяться спасти Францию от новых потрясений, ей угрожающих. Итак, далекая от оправдания своего поведения, Директория, напротив, на обвинения сама отвечала обвинениями и открыто выражала намерение продолжать борьбу и надежду выйти из таковой победительницей. Это послание приняли за настоящий манифест, и оно произвело крайне тяжелое впечатление. Совет пятисот немедленно назначил комиссию, чтобы рассмотреть послание и ответить на него. Конституционалисты начали опасаться. Они видели, с одной стороны, Директорию, готовую опереться на вооруженную силу, с другой – клуб Клиши, готовый собрать вандемьерское ополчение под предлогом организации национальной гвардии. Искренние республиканцы предпочли бы победу Директории, но считали лучшим выходом из положения, если бы вовсе не было никакого сражения; и теперь они могли ясно видеть, насколько их оппозиция – устрашение Директории и ободрение реакционеров – была для них гибельна. Они не сознавались в своей ошибке, но оплакивали положение дел и, по обыкновению, сваливали вину на своих противников. Те из сторонников клуба Клиши, которые не были посвящены в тайну контрреволюции и даже ее не желали, начинали бояться, что своими призывами разбудили революционные склонности Директории, а потому пыл их поутих. Роялистские же сторонники клуба торопились приступить к делу и боялись опоздать: они окружали Пишегрю и уговаривали его. Последний, со своей обычной флегматичностью, давал обещания агентам претендента и оттягивал исполнение этих обещаний. Впрочем, у него и не было никаких к тому средств: несколько эмигрантов и несколько шуанов в Париже еще не составляли достаточной силы; и до тех пор, пока он не мог располагать национальной гвардией, исключалась всякая серьезная попытка. Холодный и осторожный, Пишегрю справедливо оценивал положение дел и на все настояния отвечал, что следует ждать. Ему говорили, что Директория готовит удар, он отвечал, что она не осмелится. Впрочем, естественно, что он не торопился: ему не верилось в смелость Директории, средства свои он находил недостаточными и пока разыгрывал привычную роль. В этом положении благоразумные люди искренне желали избежать борьбы. Они хотели бы устроить сближение, возвратив конституционалистов и умеренных сторонников Клиши на сторону Директории, что опять дало бы ей большинство и освободило от необходимости прибегать к насилию для своего спасения. Госпожа де Сталь находилась именно в таком положении: она желала и пыталась достигнуть такого сближения, став центром этого просвещенного и блестящего общества, которое, хоть и считало правительство и правителей немного вульгарными, тем не менее любило Республику и держалось за нее. Госпожа де Сталь любила эту форму правления как лучшее поприще для человеческого ума; она уже обеспечила высоким постом одного из своих друзей и рассчитывала распределить так их всех, сделаться их Эгерией[32]. Она видела опасности, угрожавшие существующему положению, и могла предвидеть близкое столкновение. Будучи великодушной и деятельной, она не могла оставаться чуждой событиям; естественно, что она старалась воспользоваться своим влиянием, чтобы сблизить людей, которых не разделяли никакие глубокие разногласия. Госпожа де Сталь собирала в своих салонах республиканцев, конституционалистов и членов клуба Клиши и пыталась смягчить жар споров, с тактом доброй и высокообразованной женщины пыталась стать посредницей между самолюбиями. Однако она не преуспела в своих устремлениях, как это обыкновенно бывает при стараниях примирить партии; люди, наиболее противоположные друг другу, стали удаляться из ее дома. Госпожа де Сталь искала встречи с членами обеих комиссий, на которые был возложен ответ на послание Директории. Некоторые из них принадлежали к конституционалистам, как Тибодо, Эмери, Симеон, Тронсон дю Кудре, Порталис; через них можно было повлиять на редакцию обоих докладов, которые имели большое значение, так как служили ответом на вызов Директории. Однако, хотя конституционалисты и желали сближения, потому что чувствовали опасность, но это требовало с их стороны жертв, к которым их трудно было склонить. Если бы за Директорией имелась какая-нибудь реальная вина, если бы ею были приняты какие-нибудь преступные меры, то можно было бы потребовать аннулировать их и заключить примирение с взаимными жертвами; но, кроме Барраса с его разгульным образом жизни, большинство Директории вело себя с такою преданностью Республике, насколько можно было желать. Директорам нельзя было приписать никакого произвола, никакого превышения власти. Признаками опасных намерений можно было выставить лишь смену министров, движение войск, адресы армий и назначение Ожеро; но всё это были необходимые предосторожности против опасности; следовало устранить последнюю, возвратив большинство Директории, и тогда уже требовать, чтобы она отказалась от этих предосторожностей. Конституционалисты, напротив, поддерживали вновь избранных депутатов во всех их или несправедливых, или нескромных нападках на правительство, а потому именно им предстояло изменить свое поведение. Итак, нельзя было ничего требовать от Директории и приходилось весьма многого требовать от конституционалистов, что делало взаимные жертвы невозможными, а самолюбия – непримиримыми. Госпожа де Сталь, сама и через своих друзей, старалась дать понять, что Директория готова на всё решиться, что конституционалисты станут жертвами своего упрямства и вместе с ними погибнет Республика; но те не хотели идти навстречу, отказывались от всяких уступок и требовали, чтобы Директория сама сделала первый шаг. Обратились к Ревбелю и Ларевельеру; те не отказались от обсуждения, долго перечисляли все действия Директории, спрашивая, какое из них подлежит осуждению, и собеседники ничего не могли им на это ответить. Что же до отозвания Ожеро и аннулирования мер, Ларевельер и Ревбель были непоколебимы, не хотели ни в чем уступать и доказали своей холодной твердостью, что приняли окончательное решение. Госпожа де Сталь и те, кто помогал ей в ее похвальной, но бесполезной попытке, всячески настаивали на своем перед членами обеих комиссий с целью помешать принятию слишком крайних законодательных мер, а главное, отвечая на упреки, не пускались в опасные и раздраженные нарекания. Все эти старания оставались бесплодны: не было примера, чтобы партии когда-либо последовали чьим-либо рекомендациям.
В обоих советах имелись сторонники Клиши, желавшие, естественно, самых крайних мер. Прежде всего, они хотели поручить судебной власти Парижа расследовать покушения, направленные против безопасности законодательного корпуса, и требовать вывода всех войск из конституционных границ; главное же, чего они требовали, – это чтобы конституционная граница не входила в состав ни одного из военных округов. Эта последняя мера имела целью отнять командование в Париже у Ожеро и таким образом достигнуть того, чего не могли добиться путем переговоров. Эти меры были приняты обеимикомиссиями; но Тибодо и Тронсон дю Кудре, которые должны были быть докладчиками, с благоразумием и твердостью отказались представить последнее предложение. Тогда от него отказались и удовольствовались двумя первыми. Тронсон дю Кудре сделал доклад 20 августа, Тибодо – 21-го. Они косвенно отвечали на упреки Директории, и Тронсон дю Кудре, обращаясь к старейшинам, предлагал их мудрости и достоинству стать посредником между горячностью молодых законодателей Совета пятисот и щепетильностью глав исполнительной власти. Тибодо старался оправдать советы, доказать, что они не хотели ни нападать на правительство, ни клеветать на армии. Он обратился к запросу Дюмоляра по поводу Венеции и утверждал, что при этом вовсе не хотели очернять героев Италии, а только заметить, что действия их могут быть законны лишь после санкции обоих советов. Две предложенные незначительные меры были приняты, и из столь ожидаемых докладов ничего не вышло. В них вполне высказалось бессилие конституционалистов – следствие их двусмысленного положения между роялистской фракцией и Директорией: они не желали ни вступать в заговор с первой, ни идти на уступки второй. Сторонники клуба Клиши жаловались на незначительность этих докладов и указывали на слабость конституционалистов. Наиболее пылкие желали битвы и средств для нее; они спрашивали, что делает Директория для организации национальной гвардии, то есть именно для того, чем она решила не заниматься.
Карно находился в еще более странном положении, чем конституционная партия. Он открыто поссорился с клубом; он был бесполезен для конституционалистов и не принимал никакого участия в их попытках к сближению, потому что был слишком раздражителен, чтобы примириться со своими сотоварищами. Он оказался один, без поддержки, среди пустоты, не имея более никакой цели, так как прежняя цель от него ускользнула, и новое большинство, о котором он мечтал, стало невозможно. Тем не менее, из упрямого желания поддерживать в Директории настроение оппозиции, Карно продолжал требовать организации национальной гвардии. Его президентство близилось к концу, и он воспользовался остававшимся временем, чтобы начать обсуждение этого вопроса. Ларевельер встал и с твердостью хотел призвать его в последний раз обратиться, если это возможно, к своим сотоварищам. С уверенностью и мягкостью он обратился к Карно с несколькими вопросами. – Слышал ли ты когда-нибудь от нас, – спросил Ларевельер, – предложение, которое клонилось бы к уменьшению власти советов и увеличению нашей власти, к компрометации республиканской конституции? – Нет, – отвечал Карно в замешательстве. – Слышал ли ты когда-либо от нас по поводу финансов ли, войны или дипломатии, чтобы мы предлагали меру, не согласующуюся с общественными интересами? Что касается тебя лично, слышал ли ты когда-либо от нас, чтобы мы приуменьшали твои достоинства или отрицали твои заслуги? С тех пор как ты отделился от нас, можешь ли ты обвинить нас в недостатке к тебе уважения? Твое мнение, когда оно казалось нам полезным и искренне предложенным, разве оно от того не бывало выслушиваемо? Что до меня, – прибавил Ларевельер, – хотя ты и принадлежал к фракции, меня преследовавшей, выказал ли я малейшую ненависть в отношении тебя? – Нет, нет! – отвечал Карно на все эти вопросы. – Ну, – прибавил Ларевельер, – так к чему же ты хочешь отделиться от нас, чтобы пристать к партии, тебя обманывающей, которая хочет воспользоваться тобою для погибели Республики и погубить и обесчестить тебя? Ларевельер использовал самые дружеские и твердые выражения, дабы доказать Карно его заблуждения и опасность его поведения. Ревбель и Баррас превозмогли свою ненависть – Ревбель по чувству долга, Баррас по мягкости характера – и тоже обратились к Карно почти дружественно. Но дружеские увещания только раздражают гордость некоторых; Карно остался холоден и, после речей всех своих сотоварищей, сухо возобновил свое предложение. Тогда директоры прекратили заседание и удалились, убежденные, как это часто случается в подобных обстоятельствах, что их сотоварищ изменяет Республике и находится в заговоре с врагами правительства. Решили, что государственный переворот поразит его и Бартелеми, как и главнейших членов советов. Вот план, на котором остановились. Три директора по-прежнему думали, что депутаты от Клиши знали о заговоре. Ни против них, ни против Пишегрю они не добыли никаких новых доказательств, которые позволили бы преследовать заговорщиков судебным порядком; итак, оставалось прибегнуть к государственному перевороту. В обоих советах уже имелось решительно настроенное меньшинство, к нему присоединились бы все нерешительные люди, которых раздражает и отвращает недостаточная энергия, а энергичные решения подчиняют. Депутаты предлагали закрыть залы заседаний, назначить заседания в другом месте, призвать туда всех депутатов, на которых можно рассчитывать, составить список, в который вошли бы оба директора и сто восемьдесят наиболее подозрительных депутатов, а затем предложить им ссылку без судебного разбирательства. Они не желали ничьей смерти, а только принудительного удаления опасных людей. Многие думали, что этот государственный переворот уже не нужен, так как советы, устрашенные решением Директории, казалось, приостановили свои действия. Но это впечатление было лишь временным: члены клуба Клиши, видя бездействие Директории, вскоре вновь развили бы бурную деятельность. Если бы они и сдерживались до новых выборов, то с прибытием третьей трети горячность их удвоилась бы, и тогда пыл их стал бы непреодолим. Наконец, даже не принимая во внимание неизбежный результат новых выборов, Директория теперь вынуждена была исполнять принятые законы и организовать национальную гвардию, то есть дать контрреволюции оружие вандемьера: это привело бы к ужасной междоусобной войне между национальной гвардией и линейными войсками. В самом деле, до тех пор пока Пишегрю и несколько интриганов не имели иных средств, кроме запросов в Совете пятисот и несколько эмигрантов и шуанов в Париже, их планы были малоопасны; но при поддержке национальной гвардии они могли дать сражение и начать междоусобную войну. Вследствие всего вышеперечисленного Ревбель и Ларевельер остановились на том, что не следует и дальше терпеть сомнительное положение. Один Баррас всё откладывал решительные действия и приводил обоих своих товарищей в беспокойство. Они опасались, чтобы он не сошелся или с роялистской фракцией, или с якобинской и не устроил кровопролития, а потому внимательно следили за ним. Однако нужны были и некоторые другие приготовления – подкупить гренадеров законодательного корпуса, расположить войска, достать необходимые суммы. А потому решили все-таки отсрочить начало действий на несколько дней. У министра Рамеля денег брать не хотели, дабы не компрометировать его; ожидали обещанных Бонапартом сумм, до сих пор не прибывших. Как мы уже видели, Бонапарт послал своего адъютанта Лавалетта в Париж, дабы своевременно получать сведения обо всех интригах. Обстановка в Париже довольно дурно повлияла на Лавалетта, и он немедленно сообщил свои впечатления Бонапарту. К политической ненависти примешивается столько личной злопамятности, что, вблизи глядя на поведение партий, испытываешь только отвращение. Часто, если в политических раздорах обращать внимание исключительно на личности, можно подумать, что в мотивах, разделяющих людей, нет ничего великодушного, искреннего или патриотического. Почти такое впечатление могли произвести столкновения трех директоров с Карно и Бартелеми; отношения были крайне запутаны, и при первом взгляде могло показаться, что главнейшую роль играет личный интерес. Притязаний добавили и военные, находившиеся в Париже; хотя они и были раздражены против клуба Клиши, но не слишком благосклонно относились и к Директории. По обыкновению, когда себя считают необходимыми, становятся требовательны и щепетильны. Группируясь около военного министра Шерера, военные были расположены к жалобам, как будто правительство сделало для них недостаточно. Клебер, самый благородный, но и самый необходительный характер, который хорошо обрисовали, сказав, что этот генерал не желает быть ни первым, ни вторым, – Клебер заявил Директории на своем оригинальном языке: «Если на вас нападут ваши враги, я стану стрелять в них, но, повернувшись к ним лицом, к вам я обернусь спиною». Лефевр, Бернадотт и прочие выражались подобным же образом. Пораженный этим хаосом, Лавалетт писал Бонапарту, рекомендуя ему оставаться в стороне и сохранять независимость. Тогда последний, удовольствовавшись тем, что дал толчок, решил больше не вмешиваться и ждать. Директория обратилась к храброму Гошу, который один имел право быть недовольным: он послал на помощь Республике пятьдесят тысяч, большую часть приданого своей жены.
Были первые числа фрюктидора (середина августа); Ларевельер заместил Карно на месте президента Директории; ему поручили принять посланника Цизальпинской республики Висконти и генерала Бернадотта, посланного с несколькими знаменами, которые Итальянская армия еще не отправила Директории. Ларевельер решил высказаться самым смелым образом и принудить к решению и Барраса. Он произнес две запальчивые речи, в которых отвечал, не указывая на них, на два доклада Тибодо и Тронсона дю Кудре. Как мы знаем, упомянув о Венеции и недавно освобожденных итальянских народах, Тибодо заявил, что судьба их не может считаться определенной до тех пор, пока не спросят мнения законодательного корпуса Франции. Намекая на эти слова, Ларевельер сказал Висконти, что итальянские народы желали свободы, имели полное на нее право, и для того им не требовалось ничье в мире согласие. «Эту свободу, – сказал он итальянцу, – которую хотели бы отнять у вас, мы будем защищать вместе и сумеем сохранить». Угрожающий тон обеих речей не оставлял никакого сомнения относительно намерений Директории: люди, выражающиеся так, должны были готовить все свои силы. Наступило 27 августа (10 фрюктидора); сторонники клуба Клиши находились в страшном беспокойстве. В своем раздражении они вернулись к плану обвинения Директории. Этого проекта боялись конституционалисты, так как чувствовали, что он дал бы Директории повод для взрыва; они объявили, что, в свою очередь, найдут доказательство измены некоторых депутатов и потребуют их обвинения. Эта угроза остановила сторонников Клиши и помешала составлению обвинительного акта против пяти директоров. Уже давно клуб хотел присоединить к комиссии инспекторов Пишегрю и Вилло, на которых смотрели как на двух генералов партии; но это присоединение, доводя число членов комиссии до семи, нарушало регламент. Дождались возобновления комиссии в начале месяца и тогда уже включили в ее состав Пишегрю, Воблана, Деларю, Тибодо и Эмери. На комиссию инспекторов было возложено полицейское инспектирование залы; она отдавала приказы гренадерам законодательного корпуса и стала своего рода исполнительной властью советов. Старейшины создали подобную же комиссию, она соединялась с комиссией Совета пятисот, и обе они стояли на страже общей безопасности. На заседания общей комиссии отправлялись депутаты, не имевшие права присутствовать в ее составе; это делало из нее еще один клуб Клиши, где представлялись самые крайние и бесполезные запросы. Сначала предложили организовать при ней специальную полицию, чтобы следить за планами Директории. Ее поручили некоему Доссонвилю. Так как денег по-прежнему не было, каждый жертвовал на полицию из своих средств. Пишегрю, при его средствах, мог бы доставить значительнейшую часть; но, по-видимому, он не использовал для этой цели сумм, полученных от Уикхема. Агенты этой новоявленной полиции повсюду собирали ложные слухи и только пугали ими комиссию. Они повторяли чуть ли не каждый день: «Сегодня, в эту самую ночь, Директория должна арестовать, с помощью предместий, двести депутатов и перерезать их». Эти слухи приводили комиссии в беспокойство, а последнее рождало самые нескромные предложения. Директория, уже через своих шпионов, получала преувеличенные отчеты об этих предложениях и, в свою очередь, приходила в беспокойство. В салонах Директории говорили тогда, что пора нанести удар, если не хотят оказаться опереженными; произносили угрозы, которые, будучи распространяемы в свою очередь, воздавали страхом за страх. Оставшиеся в меньшинстве в обеих партиях конституционалисты с каждым днем всё более сознавали свои ошибки и угрожавшую им опасность. Они были крайне напуганы. Еще более изолированный, чем они, Карно, перессорившийся с Клиши, ненавидимый патриотами, подозрительный даже в глазах умеренных республиканцев, оклеветанный, непризнанный, каждый день получал самые зловещие предупреждения; ему говорили, что его убьют по приказанию его же товарищей. Так же угрожали и о том же предупреждали и Бартелеми, который был в панике. Впрочем, те же предупреждения делались всем. Ларевельер был уведомлен, будто шуанам уже заплачено, чтобы убить его. Находя его самым непоколебимым из трех членов большинства, именно его хотели поразить, чтобы разрушить это большинство. Несомненно, что его смерть изменила бы всё, так как новый директор, назначенный советами, непременно вотировал бы вместе с Карно и Бартелеми. Очевидная выгода от преступления и подробности, сообщенные Ларевельеру, должны были бы заставить его остерегаться. Тем не менее он, не смущаясь, продолжал свои вечерние прогулки в Саду растений. Мало, эскадронного командира 21-го драгунского полка, подучили оскорбить Ларевельера. Этот Мало был креатурой Карно и Кошона и, сам того не желая, возбудил в сторонниках Клиши надежды, сделавшие его подозрительным в глазах остальных. Смещенный за то Директорией, он приписал свое увольнение Ларевельеру и явился с угрозами к нему в Люксембург. Неустрашимый правитель мало испугался кавалерийского офицера и вытолкал его из своей квартиры. Ревбель, хоть и весьма преданный общему делу, был более горяч, но менее тверд. Ему сообщали, что Баррас переговаривается с посланником претендента и готов изменить Республике. Связи Барраса со всеми партиями могли внушать опасения всякого рода. «Мы пропали, – заявил Ревбель, – Баррас выдаст нас, нас перережут; нам не остается ничего, кроме бегства, так как мы не можем спасти Республику». Более спокойный Ларевельер отвечал Ревбелю, что, вместо того чтобы уступать, следует пойти к Баррасу, принудить его объясниться и повлиять на него с большой твердостью. Отправившись к Баррасу, они переговорили с ним и стали выяснять, почему он оттягивает начало действий. Баррас, занятый приготовлениями с Ожеро, просил еще три или четыре дня и обещал более не откладывать. Ревбель успокоился и согласился ждать.
Баррас и Ожеро, в самом деле, уже всё приготовили для осуществления давно замышляемого государственного переворота. Войска Гоша были расположены вокруг столицы, готовые через несколько часов появиться в Париже. Большую часть гренадеров законодательного корпуса подкупили при помощи помощника их командира Бланшара и нескольких других офицеров, преданных Директории. Для предупреждения сражения воспользовались также значительным недобором в рядах гренадеров, который не был пополнен. Главнокомандующий Рамель остался верен вследствие своих связей с Карно и Кошоном; но его влияния опасались мало. Из предосторожности приказали в случае необходимости стрелять всем войскам парижского гарнизона и в том числе гренадерам законодательного корпуса. Это движение войск, этот шум оружия были средством обмануть относительно действительного дня осуществления замысла. Каждый день ожидали наступления взрыва; думали, что это будет 1 сентября, затем 2-е (16 фрюктидора), но Директория не хотела использовать эти страшные даты. Тем не менее ужас сторонников клуба Клиши дошел до крайности. Полиция инспекторов, обманутая ложными признаками, убедила их, что покушение назначено на самую ночь с 1-го на 2-е. В смятении они собрались в зале комиссий. Ровер, пылкий реакционер, один из членов комиссии старейшин, прочитал донесение полиции, согласно которому двести депутатов должны были быть арестованы в эту же ночь. Другие депутаты прибежали, объявляя, что дом министра полиции весь освещен. Смятение дошло до своего предела. Члены обеих комиссий, которых должно было быть только десять, а оказалось до полусотни, жаловались на невозможность приступить к совещаниям. Наконец на заставы и к особняку полиции послали проверить донесения агентов и, узнав, что повсюду царит полнейшее спокойствие, разошлись. Сторонники клуба Клиши осаждали Пишегрю, чтобы склонить его к решительным действиям; они хотели объявить заседания советов непрерывными, собрать эмигрантов и шуанов, находившихся в Париже, идти с ними на Директорию и захватить трех директоров. Пишегрю объявил все эти планы смешными и неосуществимыми и повторил еще раз, что делать пока ничего не следует. Буйные головы партии тем не менее решили начать завтрашний день объявлением непрерывных заседаний. Директория была извещена полицией о панике среди членов клуба Клиши и об их отчаянных планах. Баррас, в руках которого находились все средства, решил ими воспользоваться этой же ночью. Войска могли в несколько часов перейти конституционную границу округа. А в ожидании перехода должно было хватить парижского гарнизона. Дабы подать благовидный предлог к сбору войск, на завтра назначили большие маневры. Никто не был извещен о точном моменте – ни министры, ни Ревбель, ни Ларевельер, – так что никто не знал, что произойдет.
День 17 фрюктидора начался в полнейшем спокойствии, в советах не было сделано ни одного предложения. Многие депутаты не явились, дабы избежать катастрофы, которую сами же неосторожно вызвали. Заседание Директории шло обычным порядком; присутствовали все пять директоров. В четыре часа пополудни, по закрытии заседания, Баррас отвел Ревбеля и Ларевельера в сторону и сказал им, что следует нанести удар в эту же ночь, дабы предупредить противника. Три директора отправились к Ревбелю, где и разместились; туда же условились призвать всех министров, запереться там и не выходить до тех пор, пока всё не будет кончено; вне же стен здания не иметь иных сношений, кроме как с Ожеро и его адъютантами. Условившись в плане, пригласили министров; когда последние прибыли, стали писать приказы и необходимые прокламации. План правительства состоял в следующем: окружить дворец законодательного корпуса, отнять у гренадеров занимаемые ими посты, распустить комиссии инспекторов, закрыть залы обоих советов, назначить другое место собрания, призвать туда депутатов, на которых можно было рассчитывать, и заставить их издать закон против депутатов, от которых хотели освободиться. Рассчитывали, что враги Директории не осмелятся явиться в новое место собрания. На основании этого решения составили прокламации, возвещавшие о раскрытии заговора против Республики; в них говорилось, что главнейшие его виновники – члены обеих комиссий инспекторов; что для предупреждения покушения Директория закрывает залы заседаний законодательного корпуса и указывает другое место для собрания депутатов, верных Республике. Депутаты Совета пятисот должны были собраться в театре «Одеон», а старейшины – в амфитеатре Медицинской школы. К прокламациям прилагалось изложение заговора, подтвержденное показаниями Дюверна де Преля и документом, найденным в портфеле д’Антрага. Всё это было немедленно напечатано и должно было ночью быть вывешено на стенах Парижа. Министры с тремя директорами заперлись у Ревбеля, а Ожеро со своими адъютантами отправился исполнять условленный план. Карно и Бартелеми, удалившиеся в свои квартиры в Люксембурге, ничего не знали об этих приготовлениях. Сторонники клуба Клиши, по-прежнему взволнованные, наполняли залу комиссий, но обманутый Бартелеми сказал им, что этой ночью ничего не случится. Пишегрю, со своей стороны, только что побывал у Шерера и уверял, что ничего еще не готово; некоторые движения войск были замечены, но приписаны готовящимся маневрам. Не видя, на основании этих уверений, причин бояться за настоящую минуту, все успокоенные разошлись по домам. Ровер остался в зале инспекторов один и лег спать на постели, назначенной для дежурящих членов. К полуночи Ожеро расположил все войска гарнизона вокруг дворца и придвинул вплотную к стенам многочисленную артиллерию. Полное спокойствие царило в Париже; слышались только шаги солдат и стук колес орудий. Нужно было без выстрела отнять у гренадеров занимаемые ими посты. К часу ночи Рамелю приказали явиться к военному министру. Он отказался, угадав, в чем дело, побежал разбудить инспектора Ровера, который не хотел верить опасности, а затем поспешил в казармы своих гренадеров, чтоб поставить под ружье резерв. Около четырехсот человек занимали разные посты в Тюильри; в резерве оставалось восемьсот гренадеров. Резерв был немедленно вызван и выстроен в саду Тюильри; полный порядок и величайшее спокойствие царили в рядах гренадеров. Около десяти тысяч линейных войск занимают окрестности дворца и готовы захватить его. Холостой выстрел к трем часам утра должен послужить сигналом. Командиры колонн подходят к разным постам. Посланный от Ожеро офицер предъявляет Рамелю приказ очистить Пон-Турнан, разводной мост между садом и площадью Людовика XV; но Рамель отказывается. Полторы тысячи человек появляются перед постом, и гренадеры, большая часть которых подкуплена, сдают его. То же происходит и на других постах. Все выходы из сада и с площади Карусель сданы, и во дворец со всех сторон проникают многочисленные пехотные и кавалерийские отряды. Двенадцать пушек с полной упряжью направлены на замок. Остается лишь выстроенный и готовый к бою резерв гренадеров под личным предводительством Рамеля. Часть гренадеров готова выполнить свой долг; другая, уже подготовленная агентами Барраса, расположена, напротив, соединиться с войсками Директории. В рядах поднимается ропот. – Мы не швейцарцы! – кричат несколько голосов. – Я был ранен 13 вандемьера роялистами, – говорит один из офицеров, – и не хочу сражаться за них 18 фрюктидора. Неповиновение начальнику распространяется среди гренадеров, Бланшар возбуждает его словами и самим своим присутствием. Комендант Рамель все-таки собирается исполнить свой долг, но в это время получает приказ из залы инспекторов не открывать огня. Тогда же прибывает Ожеро во главе многочисленного штаба. – Комендант Рамель, – говорит он, – признаете ли вы меня начальником 17-го военного округа? – Да, – отвечает Рамель. – Тогда, в качестве вашего начальника, я приказываю вам отправиться под арест. Рамель повинуется, но всё же получает несколько оскорблений от якобинцев, находившихся в штабе Ожеро; тот освобождает Рамеля от них и велит отправить в Тампль. Стук пушек и окружение замка поднимают на ноги всех. Бьет пять часов утра. Члены комиссий спешат явиться в залу. Они окружены и не могут и дальше сомневаться в присутствии опасности. Рота солдат, поставленная у двери, получает приказ впускать всех, кто явится с пропуском депутата, и не выпускать никого. Депутаты видят своего сотоварища Дюма, который спешит к месту событий, но успевают бросить ему через окно записку, дабы предупредить об опасности и посоветовать спасаться. Ожеро отбирает шпаги у Пишегрю и Вилло и отправляет их обоих в Тампль, так же как и многих других депутатов, захваченных в зале инспекторов.
В тот момент, когда эта часть заговора приводилась в исполнение против советов, Директория поручила офицеру с отрядом захватить Карно и Бартелеми. Карно, предупрежденный вовремя, успел бежать из своей квартиры, и ему удалось уйти через калитку Люксембургского сада, от которой у него был ключ. Что же касается Бартелеми, его застали дома и арестовали. Этот арест был весьма сложным моментом для Директории. За исключением Барраса, все директоры были рады бегству Карно; они желали, чтобы то же сделал и Бартелеми, и открыто предложили ему бежать. Бартелеми отвечал, что согласен, если его не скрываясь и под своим именем отправят в Гамбург; директоры не могли на это согласиться: предлагая ссылку для многих членов законодательного корпуса, они не могли с такой благосклонностью отнестись к одному из своих товарищей. Бартелеми был препровожден в Тампль; он прибыл туда в одно время с Пишегрю, Вилло и депутатами, захваченными в комиссии инспекторов. Было восемь часов утра: многие предупрежденные депутаты желали мужественно явиться на свой пост. Президент Совета пятисот Симеон и президент Совета старейшин Лафон-Ладеба добрались до своих еще не запертых зал и могли занять кресла в присутствии нескольких депутатов. Но к ним явились офицеры с приказанием удалиться. Они удалились к одному из депутатов, где наиболее храбрые задумали новую попытку. Депутаты решили собраться снова, пройти Париж пешком и с президентами во главе появиться у дверей законодательного корпуса. Было около одиннадцати часов утра. Весь Париж уже знал о происшедшем, но спокойствие этого большего города не было нарушено. Тут не кипели страсти, могущие вызвать восстание, это был только организованный властью акт против некоторых ее представителей. Толпа любопытных без шума наполняла улицы и общественные заведения. Только отдельные кучки якобинцев из предместий носились по улицам с криками «Да здравствует Республика!» и «Долой аристократов!». Они не находили в толпе ни отзыва, ни возражений. Кучки эти главным образом собирались вокруг Люксембурга. Там они кричали: «Да здравствует Директория!», а некоторые – «Да здравствует Баррас!» Группа депутатов в молчании прошла сквозь толпу, собравшуюся на площади Карусель, и появилась перед входом в Тюильри. Их не хотели впускать, они настаивали. Тогда отряд солдат отбросил их и преследовал до тех пор, пока они не рассеялись: печальное и достойное сожаления зрелище, предвещавшее близкое и неизбежное господство преторианцев! Вольно же было вероломной фракции принудить Революцию прибегнуть к опоре штыков! Часть преследуемых депутатов удалилась к президенту Лафону-Ладеба, другая – в соседний дом. Они шумно обсуждали там, как следует действовать дальше, когда к ним явился офицер с приказом разойтись. Часть депутатов была арестована, а именно: Лафон-Ладеба, Барбе-Марбуа, Тронсон дю Кудре, Бурдон (из Уазы), Гупиль де Префлен и некоторые другие. Их препроводили в Тампль, куда уже были заключены члены обеих комиссий. Тем временем сторонники Директории собрались во вновь назначенных помещениях на заседание законодательного корпуса: члены Совета пятисот отправились в «Одеон», а старейшины – в Медицинскую школу. К полудню число их было еще незначительно, но увеличивалось с каждой минутой – вследствие ли распространения вести об этом чрезвычайном собрании от одного к другому, или вследствие того, что нерешительные, боясь оказаться замеченными в противодействии правительству, поторопились явиться в новый законодательный корпус. Присутствующих время от времени пересчитывали, и когда число их в Совете старейшин дошло до 126, а в Совете пятисот до 251 (половина обоих советов плюс один член), приступили к совещаниям. Оба собрания находились в некотором затруднении, так как им предстояло придать вид законности явному государственному перевороту. Первой заботой советов было объявить непрерывность заседаний и уведомить друг друга о вступлении в отправление своих обязанностей. Депутат Пулен де Гранпре, член Совета пятисот, выступил первым со словами: «Принятые меры, место, нами занимаемое, – всё возвещает, что отечество подвергалось большим опасностям и подвергается им еще и теперь. Воздадим благодарность Директории; ей мы обязаны спасением отечества. Недостаточно, однако, одной ее бдительности, на нас лежит обязанность принять меры, способные обеспечить общественную безопасность и исполнение Конституции года III. Для этой цели я требую образования комиссии из пяти членов». Предложение было принято, и из депутатов, преданных системе Директории, образовали комиссию в составе Сийеса, Пулена де Гранпре, Виллера, Шазаля и Буле де ла Мёрта. К шести часам вечера назначили чтение послания директоров советам. Это послание включало в себя изложение заговора, насколько он был известен Директории; два документа, о которых мы уже упоминали, и отрывки из писем, найденных в бумагах роялистских агентов. Отрывки эти не прибавляли ничего нового; они лишь доказывали, что Пишегрю находился в переговорах с претендентом, а Имбер также переписывался с двором в Бланкенбурге, участие в заговоре депутатов клуба Клиши шло через Мерсана и Лемере, а обширная ассоциация роялистов распространялась по всей Франции. Кроме обозначенных, не было произнесено никаких других имен. Тем не менее эти документы произвели большое впечатление. Они доказывали невозможность судебного разбирательства вследствие недостаточности прямых и положительных доказательств. Последнее слово по поводу послания Директории принадлежало комиссии пяти и ей же предстояло предложить меры, каких требовали обстоятельства. Буле де ла Мёрт, говоривший от имени комиссии, представил причины, по которым прибегли к чрезвычайным мерам, причины, к несчастью, весьма основательные. Упомянув, что должно принять быстрые и решительные меры и без пролития крови поставить заговорщиков перед невозможностью вредить далее, он представил поданные комиссией предложения. Главнейшими из них были: объявление недействительными выборов в сорока восьми департаментах и очищение, таким образом, законодательного корпуса от депутатов, преданных вступившей в заговор фракции, наиболее опасные из которых должны были быть сосланы. Совет не имел возможности выбора: настоящее положение не допускало других мер, и, кроме того, Директория поставила себя так, что в этих мерах ей не осмеливались отказывать. Колеблющаяся и не определившаяся часть собрания, которую всегда подчиняет энергия, была на стороне приверженцев Директории и собиралась поддерживать всё, чего они ни пожелали бы. Депутат Шолле требовал, однако, отсрочки в двенадцать часов, чтобы рассмотреть эти предложения, но крики «Голосовать!» заставили его замолчать. Ограничились тем, что из списка приговоренных к ссылке вычеркнули нескольких лиц: Тибодо, Понтекулана, Тарбе, Креси, Деторси, Нормана, Дюпона де Немура и Ремюза; одних как истинных патриотов, несмотря на их оппозиционность, других как слишком незначительных, чтобы быть опасными. Затем немедленно вотировали предложенные меры. Выборы сорока восьми департаментов были кассированы, и депутаты, ими назначенные, исключены из законодательного корпуса. Все должностные лица, судьи и муниципальные чиновники, выбранные этими департаментами, отрешались от должностей. В ссылку, в место, назначенное Директорией, отправляли сорок два депутата из Совета пятисот и одиннадцать из Совета старейшин. В числе прочих находились: в Совете пятисот – Обри, Жак Эме, Буасси д’Англа, Бурдон (из Уазы), Кошери, Делайе, Дюмоляр, Жильбер де Мольер, Имбер-Коломе, Камилл Жордан, Лемере, Мерсан, Пишегрю, Симеон, Вовилье, Воблан, Вилларе-Жуайёз, Вилло; в Совете старейшин – Барбе-Марбуа, Дюма, Лафон-Ладеба, Порталис, Ровер, Тронсон дю Кудре. Два директора, Карно и Бартелеми, экс-министр полиции Кошон, его помощник Доссонвиль, командир гвардии законодательного корпуса Рамель, три роялистских агента Бротье, Ла Виллеруа и Дюверн де Прель также были приговорены к ссылке. На этом не остановились: журналисты были опасны не менее депутатов, и не было средств поразить их судебным порядком. Относительно них решили действовать так же революционно, как и в отношении членов законодательного корпуса. Владельцев, издателей и редакторов сорока двух газет приговорили к ссылке; число газет было так велико потому, что не требовалось никаких условий для издания политической прессы. Этой же участи подверглась и [роялистская] «Ежедневная газета». Для укрепления власти Директории и восстановления революционных законов, измененных или уничтоженных, были приняты и другие меры. Так, Директории предоставлялось назначение всех судей и муниципальных чиновников в сорока восьми департаментах, выборы в которых были признаны недействительными; депутатские места оставались вакантными. Изъятые статьи известного закона 3 брюмера вновь обретали силу и были даже расширены. Родственники эмигрантов, отрешенные этим законом от исполнения государственных должностей до заключения мира, новым законом лишались этого права и на четыре года после него. Эмигранты, вернувшиеся под предлогом ходатайства об исключении их из списка эмигрантов, должны были в двадцать четыре часа удалиться из общин, в которых находились, и в течение пятнадцати дней – с территории государства. Те из них, кто был бы схвачен по истечении этого срока, должны были быть судимы в двадцать четыре часа. Законы, возвращавшие сосланных священников, освобождавшие их от присяги и требовавшие от них лишь простого заявления, также аннулировались. Все законы касательно полиции и вероисповеданий восстанавливались. Простого постановления Директории было достаточно, чтобы ссылать священников, образ действий которых был бы признан вредным. В отношении газет Директория получала право прекращать впредь деятельность тех, которые показались бы ей опасными. Политические общества, то есть клубы, разрешались вновь; но Директория получала против них то же оружие, что и против газет: она могла закрыть их в любой момент. Наконец, – что было не менее важно, – организация национальной гвардии приостанавливалась и откладывалась до другого времени. Ни одна из этих мер не была кровожадна, так как время пролития крови уже прошло; но они предоставляли Директории вполне революционную власть. Они были вотированы в Совете пятисот 4 сентября (18 фрюктидора), вечером. Никто их не оспаривал; некоторые депутаты аплодировали, большинство оставались молчаливыми и покорными. Окончательное заключение по поводу принятых мер подлежало Совету старейшин, заседавших непрерывно и ожидавших предмета для совещаний. Простое чтение предложений и доклада заняло их до утра 5-го. Усталые, они сделали перерыв на несколько часов. Директория, пребывая в нетерпении получить санкцию старейшин и придать законность совершенному ею государственному перевороту, отправила законодательному корпусу послание. «Директория, – говорилось в этом послании, жертвовала собой для спасения свободы, но она рассчитывает на вас, на то, что вы ее поддержите. Сегодня уже 5-е, а вы еще ничем ей не помогли». Предложения были немедленно приняты и отправлены правительству. Как только директоры получили этот закон, они поспешили им воспользоваться, желая скорее осуществить свой план и затем восстановить порядок. Значительное число осужденных к ссылке спаслось бегством. Карно тайно отправился в Швейцарию. Директория желала дать бежать Бартелеми, который, однако, не согласился на это из оснований, приведенных выше. Из всего списка назначили сослать в Гвиану пятнадцать наиболее опасных или виновных; для некоторых из них эта ссылка была так же гибельна, как и смерть. В тот же день депутатов отправили в Рошфор, откуда фрегат должен был перевезти их в Гвиану. Это были Бартелеми, Пишегрю, Вилло, с которыми поступали так вследствие или их влияния, или доказанной виновности; Ровер, по причине известных сношений с роялистской фракцией; Обри, по причине своего значения в партии реакции; Бурдон (из Уазы), Мюрине и Деларю, вследствие их поведения в Совете пятисот; Рамель, по причине его образа действий во главе гренадеров; Доссонвиль из-за обязанностей, которые он исполнял в комиссии инспекторов; Тронсон дю Кудре, Барбе-Марбуа, Лафон-Ладеба, если не вследствие их виновности, то по причине их влияния в Совете старейшин; наконец, Бротье и Ла Вилл еруа, за участие в заговоре. К их сообщнику, Дюверну де Прелю, отнеслись снисходительнее вследствие его сообщений. Без сомнения, большая часть этого выбора была продиктована ненавистью, так, из этих пятнадцати лиц только Пишегрю и был действительно опасен. Число жертв дошло до шестнадцати вследствие преданности Летелье, слуги Бартелеми, пожелавшего сопровождать своего господина. Осужденных выслали немедленно, и на пути они подвергались, как это всегда бывает, грубости второстепенных чиновников. Однако Директория немедленно сменила генерала Дютертра, начальника конвоя, когда узнала о его дурном обхождении с арестантами. Сторонники роялизма встретились в ссылке с Бийо-Варенном и Колло д’Эрбуа. Прочие лица, подлежавшие ссылке, были отправлены на остров Олерон. В течение этих двух дней Париж оставался совершенно спокоен. Только патриоты предместий находили наказание ссылкой слишком мягким; они привыкли к революционным мерам другого рода и, положившись на Барраса и Ожеро, ожидали большего. Группы их подходили к окнам Директории с криками «Да здравствует Республика!», «Да здравствует Директория!», «Да здравствует Баррас!». Они приписывали случившееся Баррасу и желали, чтобы в течение нескольких дней ему дали подавить аристократов. Эти немногочисленные группы нимало не нарушали, однако, спокойствия Парижа. Вандемьерские секционисты, которые, не появись закон 19 фрюктидора, были бы вскоре организованы в национальную гвардию, не имели достаточно энергии, чтобы взяться за оружие; государственный переворот не встретил с их стороны никакого противодействия. Впрочем, общественное мнение оставалось колеблющимся. Искренние республиканцы хорошо сознавали, что роялистская фракция сделала энергичные меры неизбежными, но они сожалели о нарушении законов и о вмешательстве военной силы; почти даже сомневались в виновности заговорщиков, видя замешанным в их рядах такого человека, как Карно; боялись, что личная ненависть принимала слишком большое участие в решениях Директории. Наконец, считая даже решения необходимыми, они все-таки печалились, и имели полное к тому основание, потому что становилось очевидным, что Конституция, на которую возлагали все надежды, не стала защитой от смут и раздоров.
 День 18 фрюктидора
День 18 фрюктидора
Население подчинилось и с этого дня значительно отшатнулось от политики. С 9-го термидора французы перешли от ненависти к старому порядку к ненависти в отношении террора. Затем они не хотела вмешиваться в дела, кроме как с целью противодействовать Директории, которую сравнивали с Конвентом и Комитетом общественного спасения. Испуганные теперь энергией Директории, французы видели в 18 фрюктидора указание оставаться чуждыми происходящим событиям; вследствие чего с этого дня политическая горячка охладела вовсе. Таковы были последствия государственного переворота 18 фрюктидора. Говорили, что, когда его исполнили, он сделался уже бесполезен; что Директория достаточно напугала и повлияла на роялистскую фракцию; что, упорствуя в совершении государственного переворота, она приготовила захват власти военной силой, подавая пример нарушения законов. Но, как мы уже сказали, роялисты были устрашены лишь на время; с вступлением новой трети они всё бы опрокинули и свергли Директорию; между роялистской фракцией и армиями началась бы тогда междоусобная война. Предупредив это движение и своевременно подавив его, Директория предотвратила междоусобную войну, и если она и попадала таким образом под охрану вооруженной силы, то тем переносила печальную, но неизбежную необходимость: вслед за такой революцией, как наша, законность могла быть только иллюзией. Не под защитой законной власти могли партии подчиниться и успокоиться; чтобы их сдерживать, сблизить, соединить и защитить против всей Европы, стоящей под оружием, нужна была более крепкая власть, и этой властью была военная сила.
Глава LVI
Последствия 18 фрюктидора – Назначение Мерлена из Дуэ и Франсуа де Нёвшато – Смерть Гоша – Закон против бывших дворян – Труды Бонапарта в Италии; образование Цизальпинской республики – Кампо-Формийский договорВосемнадцатое фрюктидора привело роялистов в трепет. Священники и эмигранты оставляли Париж и большие города и направлялись к границам; те, кто хотел было возвратиться, вновь удалялись в Германию и Швейцарию. Закон 19 фрюктидора вооружил Директорию всеми революционными полномочиями, и никто не осмеливался более ей противиться. Как всегда бывает при перемене любой системы, Директория начала с преобразования ведомств и на большую часть мест назначила явных патриотов. Все избираемые должности в сорока восьми департаментах подлежали ныне назначениям, что давало Директории возможность значительно распространить свое влияние и увеличить число приверженцев. Первой ее заботой было замещение обоих директоров, Карно и Бартелеми. Ревбель и Ларевельер, влияние которых значительно увеличилось благодаря последним событиям, не желали навлечь на себя обвинений в том, что они исключили двух своих товарищей, чтобы распоряжаться в правительстве самим: они потребовали немедленного назначения законодательным корпусом двух новых директоров. Не таково было мнение Барраса, и еще менее того – Ожеро. Последний был в восторге от 18 фрюктидора и своего в нем участия. За это время он пристрастился к политике и власти; у него появилось честолюбие, желание попасть в Директорию; он хотел бы, чтобы три директора – не спрашивая законодательного корпуса – призвали его заседать с ними. Это притязание не удовлетворили, и Ожеро не оставалось другого средства сделаться директором, как добиться большинства в советах; но и в этой надежде ему пришлось обмануться. Мерлен из Дуэ, министр юстиции, и Франсуа де Нёвшато, министр внутренних дел, значительным числом голосов взяли верх над своими конкурентами. Кандидатами, имевшими после них большее число голосов, были Массена и Ожеро; у Массена было несколькими голосами больше. Два новых директора вступили в отправление своих должностей в обычной обстановке. Они были республиканцами более в стиле Ревбеля и Ларевельера, чем Барраса; кроме того, они имели другие привычки и другие характеры. Мерлен был юристом; Франсуа де Нёвшато – литератором; образ жизни их соответствовал занятиям и способствовал сближению с Ревбелем и Ларевельером. Может быть, впрочем, и следовало бы желать, для влияния и внушительности Директории в глазах армий, чтобы в нее был призван один из наших главных генералов. Двух министров, сделавшихся директорами, Директория заменила двумя превосходными администраторами из провинции. Она надеялась составитьправительство из людей чуждых парижским интересам и менее склонных к фаворитизму. Министром юстиции назначили Ламбрехтса, бывшего комиссаром при центральной администрации Диля; это был неподкупный человек. Министерство внутренних дел поручили Летурнеру, комиссару центральной администрации Нижней Луары, администратору способному, деятельному и честному, но совсем чуждому столице и ее обычаям, а потому порой ведущему себя во главе большой администрации несколько странно. Директоры радовались тому, как прошло задуманное. Их могло беспокоить лишь молчание генерала Бонапарта, долго не писавшего и не присылавшего обещанных сумм. Его адъютант Лавалетт не показывался в Люксембурге после переворота; можно было подозревать, что он вооружил своего генерала против правительства и сообщил ему ложные сведения о положении дел. Лавалетт, в самом деле, не переставал советовать Бонапарту держаться в стороне, оставаться чуждым государственному перевороту и ограничиться лишь той помощью, какую он доставил Директории своими прокламациями. Баррас и Ожеро призвали Лавалетта, угрожали ему, говоря, что, без сомнения, он обманул Бонапарта, и объявили, что если его и не арестуют, то лишь из уважения к его генералу. Лавалетт немедленно отправился в Италию. Ожеро поспешил написать Бонапарту и своим друзьям в армии, чтобы самыми благоприятными красками обрисовать всё случившееся. Недовольная поведением Моро, Директория решила его отозвать, но получила от него письмо, произведшее весьма сильное впечатление. Моро держал корреспонденцию Клинглина в тайне, но решил сообщить о ней правительству 18 фрюктидора. Он утверждал, что сделал это еще до получения известий о событиях 18-го числа, чтобы тем дать Директории доказательство виновности ее опасных врагов. Утверждают, однако, что Моро телеграфом известили о перевороте, и он поспешил написать донос, который, уже ничем более не компрометируя Пишегрю, снимал ответственность с него самого. Что бы ни думали об этих предположениях, ясно, что Моро долго скрывал важный секрет и решился его открыть лишь в самую минуту катастрофы. Все говорят, что, не будучи республиканцем в достаточной степени, чтобы донести на своего друга, он не был в то же время настолько верным другом, чтобы до конца не выдать его. В этом случае проявился весь политический характер Моро: слабый, колеблющийся, нерешительный. Директория вызвала генерала в Париж – дать отчет в своем поведении. Изучив корреспонденцию, директоры нашли в ней подтверждение всего, что они знали о Пишегрю, и должны были сожалеть, что не узнали о корреспонденции раньше. В этих бумагах нашли также доказательство верности Моро Республике; но его всё же наказали за слабость и молчание, отняв у него командование и оставив без места в Париже.
Гош, по-прежнему во главе армии Самбры-и-Мааса, провел целый месяц в самом страшном беспокойстве. В своей главной квартире в Вецларе – на случай, если партия Совета пятисот восторжествует, – он держал наготове карету, дабы бежать в Германию с молодой женой. Только это обстоятельство заставило его в первый раз подумать о своих интересах и собрать сумму, необходимую в случае отъезда; мы уже говорили, что большую часть приданого своей жены он ссудил Директории. Весть о 18 фрюктидора наполнила сердце Гоша радостью и освободила его от опасений. В знак признательности Директория соединила две большие армии – Самбры-и-Мааса и Рейнскую – в одну под общим названием Германской и поручила Гошу командование. К несчастью, здоровье молодого главнокомандующего вовсе не позволяло ему удерживать это обширнейшее командование, знак доверия к нему правительства. С некоторого времени сухой и частый кашель и нервные конвульсии беспокоили друзей и медиков Гоша. Неизвестная болезнь разрушала организм этого молодого человека, когда-то полного здоровья, присоединявшего к своим талантам преимущества красоты и самой мужественной силы. Несмотря на состояние здоровья, он трудился над организацией командования и обдумывал ирландскую экспедицию, из которой Директория хотела сделать средство удержания Англии в страхе; но кашель стал более сильным, и к середине сентября у Гоша начались невыносимые боли. Ему рекомендовали приостановить занятия, но он не соглашался. Он призвал своего врача и сказал ему: «Дайте мне лекарство для занятий, но только чтобы этим лекарством не был отдых». Побежденный болезнью, Гош слег в постель 17 сентября и умер на следующий день в сильнейших страданиях. Армия остолбенела, так как искренне обожала своего молодого генерала. Весть быстро распространилась и опечалила республиканцев, рассчитывавших на таланты и патриотизм Гоша. Немедленно разнесся слух об отравлении; не могли поверить, чтобы столько молодости, силы и здоровья было уничтожено болезнью. Произвели вскрытие; медицинский факультет внимательно изучил желудок и кишки; органы нашли покрытыми черными пятнами и, не признавая их несомненным свидетельством яда, по-видимому, однако, склонялись к этому диагнозу. Отравление приписали директорам, что было нелепо, так как никто в Директории не был способен к такому преступлению, чуждому нашим нравам; главное же – не в их интересах было его совершать. Гош в самом деле был лучшей поддержкой Директории, против ли роялистов, или честолюбивого завоевателя Италии. С большей вероятностью можно было предположить, что он был отравлен в западных провинциях. По мнению его медика, расстройство здоровья Гоша началось со времени его последнего пребывания в Бретани. Заявляли, впрочем, без доказательств, что молодого генерала отравили во время обеда, который он давал представителям партий, стараясь подготовить их сближение. Директория устроила на Марсовом поле великолепные похороны – в присутствии всех государственных деятелей и при огромном стечении народа. Значительные военные силы сопровождали похоронный кортеж, впереди которого шел старый отец главнокомандующего. Это торжество оставило глубокое впечатление и было одним из самых знаменательных в наши героические времена. Так закончилась одна из прекраснейших жизней Революции. На этот раз по крайней мере не на эшафоте. Гошу было двадцать девять лет. Простой солдат гвардии, он в несколько месяцев создал себя сам. С физической храбростью он соединял энергию, глубокий ум, отличное знание людей, понимание политических событий и, наконец, всемогущую пружину – страсть; его страсти были слишком пылки и, быть может, стали главной причиной смерти. Особое обстоятельство увеличивало интерес, внушаемый его качествами; неожиданные случайности каждый раз прерывали его карьеру: победитель при Вейсенбурге, он вдруг брошен в тюрьму; выйдя оттуда и сразу попав в Вандею, он выполняет там прекраснейшую политическую роль; и в ту минуту, когда готовится осуществить свое великое предприятие против Ирландии, его опять останавливают; назначенный в армию Самбры-и-Мааса, он одерживает с ней очередную блестящую победу, но его наступление прерывают Леобенские прелиминарии; наконец, когда во главе Германской армии перед ним опять открывалось необъятное будущее, он вдруг поражен жестокой болезнью и в сорок восемь часов сходит в могилу. Впрочем, если прекрасная память может вознаградить за потерю жизни, то Гош вполне заслужил эту награду. Победы, великое замирение, универсальные таланты, безупречная честность, общее убеждение всех республиканцев, что только он один мог бы бороться против победителя при Риволи и Пирамидах, что его честолюбие осталось бы республиканским и стало бы непреодолимой преградой для великого честолюбия, претендовавшего на трон, словом, великие дела, благородные замыслы и двадцать девять лет – вот вся его память. Нельзя не признать, что она прекрасна! Не будем жалеть, что он умер так рано: для славы Гоша, Клебера и Дезе несравненно лучше, что они не сделались маршалами. Им выпала честь умереть свободными гражданами, не будучи вынужденными, как Моро, искать пристанища в иностранных армиях. Командование Германской армией правительство поручило Ожеро и освободило себя тем от его назойливости, которая становилась в Париже поводом для беспокойства.
Директория в несколько дней приняла все меры, каких требовали обстоятельства; но ей оставалось заняться финансами. Закон 19 фрюктидора, выдавая ей наиболее опасных ее противников и восстанавливая закон 3 брюмера, возвратил Директории всё, что у нее хотели отнять оба совета, он даже дал ей род революционного всемогущества. Но правительству предстояло возвратить такие же преимущества и в отношении финансов, так как и по этому предмету хотели было сузить пределы его влияния. Относительно бюджета года VI представили обширный проект. Первой заботой стало возвращение Директории отнятых у нее прав касательно сделок казначейства и порядка платежей. Все статьи, принятые по этому предмету обоими советами, были аннулированы. Затем следовало подумать о введении новых налогов, дабы облегчить уже чересчур обложенную поземельную собственность и сравнять доходы с расходами. Разрешили учредить лотереи; был введен дорожный сбор и сбор на заклад имущества. Канцелярские пошлины урегулировали, сбор по ним должен был значительно возрасти; акцизы на иностранный табак также увеличили. Благодаря этим новым доходным статьям поземельный налог мог быть сокращен на 228 миллионов, личные подати – на 50, общая же сумма доходов на год VI оказалась сведена до 616 миллионов. Предполагаемый доход от продажи национальных имуществ, входящий в эту сумму, составлял лишь 20 миллионов. Доведя этими мерами доходы до 616 миллионов, следовало той же цифрой ограничить и расходы. Предполагали, что военные издержки, даже в случае новой кампании, не превзойдут 283 миллионов. Прочие государственные расходы были исчислены в 247 миллионов, и если бы эти деньги были уплачены сполна, расходы значительно превысили бы средства Республики. Предложили выплатить только треть, то есть 86 миллионов. Таким образом, расходы на войска, прочие государственные ведомства и долг составляли 616 миллионов, так же как и доходы. Но чтобы не выйти из этих пределов, следовало принять окончательное решение относительно долга. С возвращением к звонкой монете и уничтожением бумажных денег уплата процентов не могла производиться в полной мере: четвертую часть платили наличными деньгами, а остальное – трехчетвертными, что напоминало оплату ассигнациями. Итак, единственным источником выплаты долга по-прежнему оставались национальные имущества, и в интересах государства и его кредиторов было необходимо принять на этот счет хоть какие-нибудь меры. Долг, проценты по которому достигали 258 миллионов, был действительно громаден для того времени. Тогда еще не были известны средства кредита и могущество погашения. Доходы были значительно ниже, чем они сделались впоследствии; Франция, которая через несколько лет платила миллиардные налоги, тогда едва могла достать 616 миллионов. Долг был чрезмерен, и государство фактически находилось в положении банкрота. Решили по части долга платить проценты наличными, а вместо оплаты процентов трехчетвертными, обеспечиваемыми национальными имуществами, выплачивать этими имуществами сам капитал. Сохраняемая третья часть была названа консолидированной третью и внесена в Большую книгу в качестве бессрочной ренты. Две прочие трети должны были быть выплачиваемы капиталом, в двадцать раз превышавшим ренту, бонами, принимаемыми при платежах за национальные имущества. Правда, на рынке боны эти стоили шестую часть своей цены, и для того, кто не хотел покупать земель, это решение оборачивалось настоящим банкротством. Несмотря на послушание советов после 18 фрюктидора, эта мера вызвала большой протест. Противники выплаты долга утверждали, что это чистое банкротство, что долг в начале революции был дан на условиях национальной чести, а следовательно, подобная выплата двух третей бесчестит Республику; что кредиторы, которые не желают покупать имущества, теряют девять десятых ценности выдаваемых им бумаг, так как такой значительный выпуск уронит их ценность; даже не имея предубеждения против владения имуществами, государственные кредиторы большей частью слишком бедны, чтобы покупать земли, а собираться в ассоциации для общинного приобретения они не имеют возможности; что консолидированная треть все-таки меньше остальных двух третей; что, наконец, если республика не может в настоящее время платить всех процентов по долгу, то для кредиторов все-таки лучше ждать, как они делали это до сих пор, улучшения своей участи, чем быть немедленно лишенными выданных им обязательств. Сторонники проекта Директории отвечали, что государство, в случае невозможности платить свои долги, имеет такое же право предоставить кредиторам свое имущество, как и частное лицо; а долг значительно превосходит средства Республики, и при таком положении вещей она может оставить залог, то есть национальные имущества. При покупке земель кредиторы потеряют мало, а в их руках земли скоро возвысятся до своей прежней ценности, и кредиторы возвратят то, что потеряли. При этом имуществ осталось еще на миллиард 300 миллионов, а мир уже близок, по заключении его за национальные имущества должны приниматься в уплату только боны. Впрочем, утверждали сторонники правительства, с кредиторами поступали подобным же образом и до сих пор; им все-таки платили имуществами, и кредиторы более ничего бы не выиграли, если бы и стали ждать: уплата всего долга немыслима, при ликвидации же участь их по крайней мере определяется. Выплата процентов по консолидированной части начнется немедленно, так как к тому имеются средства, и Республика, со своей стороны, будет освобождена от страшного бремени, вступит на правильную дорогу, предстанет перед Европой с незначительным долгом и будет иметь более внушительный вид в момент заключения мира. Эта мера была неизбежна. Республика повторяла при этом то, что делала всегда: все обязательства выше своих средств она удовлетворяла землями и по той цене, которой стоили земли на момент продажи. Прежние долги она оплатила ассигнациями, нынешние же оплачивала землями. Словом, правительство делало что могло. Так же платили свой долг и Соединенные Штаты: вместо всякого платежа кредиторы получили берега Миссисипи. Меры подобного рода, как и революции, вредят частным интересам; но их следует переносить как вещь неизбежную. Итак, благодаря новым налогам, доведшим доходы до 616 миллионов, и сокращению долга в наших финансах восстановилось равновесие, и можно было надеяться на менее затруднительное положение в течение года VI (с сентября 1797-го до сентября 1798-го).
К этим мерам – последствиям победы – республиканская партия добавила и другую. Республиканцы говорили, что республика лишь тогда может считать себя вне опасности, когда враждебная ей каста бывших дворян будет извергнута из ее недр; они желали, чтобы из Франции были изгнаны все семейства, бывшие некогда благородными или выдававшие себя за таковых; ценность их имуществ предполагалось выплатить им французскими товарами, они же сами должны были перенести свои предрассудки, страсти и само свое существование в другие страны. Этот проект поддерживали Сийес, Буле де ла Мёрт, Шазаль и все открытые республиканцы, но против него решительно восстали Тальен и друзья Барраса. Баррас сам был благородного происхождения, главнокомандующий Итальянской армией был рожден дворянином, многие друзья Барраса, разделявшие его удовольствия и наполнявшие его салоны, также были дворяне; и хотя для лиц, служивших Республике, и было сделано исключение, тем не менее салоны Барраса были сильно раздражены против предложенного закона. Проект был представлен обоим советам и вызвал в них своего рода восстания, что принудило отозвать его и сильно изменить. Теперь прежние дворяне не были осуждены на изгнание, но считались как бы иностранцами и для приобретения прав гражданства должны были выполнить известные формальности и удовлетворить требованиям натурализации. Исключения делались лишь для лиц, служивших Республике, в армиях или в администрации. Баррас, его друзья и завоеватель Италии, о происхождении которого старались помнить, были освобождены от последствий этой меры. Правительство вновь проявило вполне революционную энергию. С устранением оппозиции, которая в Директории и обоих советах делала вид, что желает мира, правительство показывало себя более твердым и требовательным в переговорах в Лилле и в Удино. Директоры немедленно призвали в ряды всех отпускных солдат, поставили армии под ружье и послали своим уполномоченным новые инструкции. Как уже было сказано, Маре в Лилле удалось свести воедино притязания морских держав. Мир был обеспечен при условии, что Испания уступит Англии Тринидад, Голландия – Трикомали, а Франция навсегда откажется от притязаний на мыс Доброй Надежды. Предстояло получить согласие Испании и Голландии. Директория нашла Маре слишком уступчивым и решила его отозвать; в Лилль послали с новыми инструкциями Бонье и Трельяра. В этих инструкциях Франция прямо требовала возвращения не только всех своих колоний, но и колоний своих союзников. Она не соглашалась также держаться Леобенских прелиминариев, определявших границей Австрии в Италии Ольо; теперь она хотела полного освобождения Италии до Изонцо, Австрии же предоставляла удовольствоваться секуляризацией некоторых церковных владений в Германии. Франция отзывала выбранного и посланного Карно Кларка, который в своей корреспонденции не щадил генералов Итальянской армии, считавшихся лучшими республиканцами; вести же переговоры с Австрией уполномочивали Бонапарта.
Ультиматум Директории, озвученный ее новыми представителями, прервал почти уже оконченные переговоры. Лорд Малмсбери был весьма смущен этим фактом, так как искренне желал мира, как для того, чтобы славно закончить свою карьеру, так и ввиду необходимости доставить передышку своему правительству. Он очень сожалел о неизбежности срыва переговоров, но Англия не могла отказаться от всех своих завоеваний, не получив за это ничего взамен. Лорд Малмсбери начал склонять Маре попробовать повлиять на решение Директории и даже предложил несколько миллионов для подкупа какого-нибудь из директоров. Маре отказался вести переговоры подобного рода и оставил Лилль. Малмсбери и Эллис тоже немедленно уехали и уже не возвращались. Хотя и можно упрекнуть Директорию в том, что она оттолкнула несомненный и выгодный для Франции мир, но побуждение ее к тому было вполне почетным: не совсем честно с нашей стороны было бы оставлять наших союзников и заставлять их нести жертвы из-за преданности нашему делу. Директория, рассчитывая вскоре заключить с Австрией мир или заставить ее принять его силой оружия, надеялась освободиться от всех врагов на континенте и иметь возможность обратить все силы против Англии. Ультиматум, представленный Бонапарту, совсем ему не понравился; он рассчитывал добиться требуемых условий. В самом деле, трудно было заставить Австрию вовсе отказаться от Италии и ограничиться секуляризацией некоторых церковных владений в Германии: для этого нужно было по меньшей мере идти на Вену. Но Бонапарт не мог более рассчитывать на эту честь; перед ним простирались все силы австрийской монархии, и теперь уже Германская армия должна была нанести удар неприятелю и проникнуть на земли Австрийского дома. К этой причине неудовольствия присоединилась и другая, когда Бонапарт узнал о подозрениях, имевшихся против него в Париже. Ожеро послал одного из своих адъютантов с письмами ко многим офицерам и генералам Итальянской армии; этот адъютант, по-видимому, исполнял некое поручение: оправдать во мнении армии 18 фрюктидора. Бонапарт ясно видел, что его остерегаются, и поспешил разыграть роль оскорбленного, жалуясь с горечью человека, который чувствует свою необходимость, что правительство обращается с ним страшно неблагодарно, поступает как с Пишегрю после вандемьера; а потому он просит отставки. Этот человек, с таким великим и твердым умом, умевший так достойно и благородно вести себя, в данном случае уподоблялся капризному и балованному ребенку. Директория не ответила на его просьбу об отставке и ограничилась уверением, что правительство не писало никаких писем и не отправляло никаких адъютантов. Бонапарт успокоился, но всё еще просил поручить кому-нибудь другому переговоры и организацию итальянских республик. Он беспрестанно повторял, что болен, не может ездить верхом и переносить тяготы новой кампании. Тем не менее, хоть он и в самом деле был болен и отягощен безмерными трудами в течение двух лет, но не желал быть замещенным ни в какой должности и, в случае надобности, нашел бы в силе духа энергию, которой, казалось, недоставало его телу. Одним словом, Бонапарт решил продолжать переговоры и соединить со славой первого полководца и славу миротворца. Ультиматум Директории стеснял его, но и в этом случае, как и во многих других, он решил не следовать слепо за правительством. Его труды в настоящую минуту были огромны. Он организовал итальянские республики, создавал флот в Адриатике, задумывал великие планы на Средиземном море и вел переговоры с уполномоченными Австрии. Сначала Бонапарт планировал преобразовать освобожденные провинции Северной Италии в два государства. Он уже давно создал Циспаданскую республику и теперь намеревался присоединить это маленькое государство к Венеции и вознаградить тем последнюю за потерю провинций Террафермы; Ломбардию же он думал организовать отдельно под именем Транспаданской республики. Вскоре, однако, мысли его на этот счет переменились, и Бонапарт предпочел образовать из освобожденных провинций одно государство. Тот же местный патриотизм, который сначала препятствовал объединению Ломбардии с другими провинциями, теперь, напротив, предписывал их соединение; так, например, Романья не желала присоединения к легатствам и Моденскому герцогству, но соглашалась зависеть от центрального правительства в Милане. Бонапарт вскоре обнаружил, что, учитывая ненависть каждого к своему соседу, легче соединить всех под одной властью. Наконец, для него более не существовало затруднения выбрать между Венецией и Миланом и предпочесть один из этих городов в качестве места пребывания правительства: он решил пожертвовать Венецией. Бонапарт не любил венецианцев и видел, что перемена правительства не изменила настроения умов в республике. Знать, мелкое дворянство и чернь оставались врагами французов и революции и по-прежнему желали успеха австрийцам; только небольшая часть среднего сословия одобряла новый порядок вещей. Почти всё население Венеции, казалось, желало, чтобы перемена военной фортуны позволила Австрии вновь восстановить прежнее правительство. К тому же венецианцы не внушали Бонапарту никакого к себе уважения: им недоставало самого важного в его глазах – силы. Их каналы и порты были засорены, флот находился в самом плачевном состоянии, сами они были ослаблены наслаждениями и неспособны к энергичным действиям. «Это народ слабый, изнеженный и трусливый, – писал он, – у него нет ни земли, ни воды, и мы можем делать с ним всё, что пожелаем». Бонапарт пришел к мысли отдать Венецию Австрии с условием, чтобы последняя отказалась от границы по Ольо, определенной Леобенскими прелиминариями, и ограничилась линией Адидже. Эта река, представлявшая превосходную границу, отделяла бы тогда Австрию от новой республики; важная крепость Мантуя, которую, согласно прелиминариям, предполагалось возвратить Австрии, оставалась за новой итальянской республикой, а Милан, безо всякого спора, становился ее столицей. Бонапарт рассуждал в интересах итальянской свободы: уж если нельзя освободить всей Италии до Изонцо, то лучше пожертвовать Венецией, чем границей по Адидже и Мантуей. В итоге была образована республика, включающая Ломбардию, Модену и Реджио, Болонью и Феррару, Романью, Бергамаско, Брешию и Мантую, простиравшаяся до Адидже, с прекрасными крепостями Пичигетоне и Мантуей, с населением в три миллиона шестьсот тысяч жителей, плодородной почвой, реками, каналами и портами. Бонапарт немедленно приступил к организации новой республики, желая дать ей иную конституцию, чем французская. Он находил, что в последней исполнительная власть слишком слаба; не имея определенной склонности к той или иной форме правления, побуждаемый лишь стремлением образовать государство сильное и способное к борьбе с соседними аристократиями, он желал бы более сосредоточенного и энергичного государственного устройства. Бонапарт попросил, чтобы ему прислали Сийеса для консультаций на этот счет, но Директория не разделяла его мнений и настаивала на введении в новой республике французской конституции. Бонапарт повиновался, и наша конституция была немедленно принята в Италии. Новую республику назвали Цизальпинской. В Париже хотели назвать ее Транзальпинской: это имя в некотором роде указывало на Париж как на центральную фигуру; итальянцы же желали видеть центр в Риме; все их стремления клонились к освобождению их отечества, к его единству, к восстановлению древней метрополии. Название Цизальпинской более всего удовлетворило их. Предоставлять самим итальянцам выбор первого правительства нашли неблагоразумным. На первый раз Бонапарт сам назначил пятерых директоров и членов обоих советов, стараясь сделать лучший выбор, по крайней мере, насколько это позволяло ему его положение. Он назначил директором Сербеллони, одного из знатнейших сеньоров Италии; велел повсюду организовать национальную гвардию и собрал тридцать тысяч новоиспеченных гвардейцев на праздник Федерации в Милане 14 июля. Присутствие в Италии французской армии, ее подвиги и слава начинали распространять в этой стране, мало привыкшей к оружию, военный энтузиазм. Бонапарт старался содействовать этому всеми возможными способами. Он осознавал, насколько новая республика слаба в военном отношении, уважал в Италии только одну пьемонтскую армию, так как в течение последнего столетия только пьемонтский двор вел войны. Молодой генерал писал в Париж о необходимости взращивать в новой республике военные нравы, иначе одного полка сардинского короля будет достаточно, чтобы ее уничтожить. Бонапарту удалось преуспеть в изменениях, так как он в высшей степени обладал даром сообщать другим свою любимейшую склонность к военному делу. Никто не умел до такой степени пользоваться своей славой, чтобы обращать военные успехи в моду, направив в эту сторону все тщеславия и честолюбия. С этого времени нравы Италии стали меняться. Ряса, бывшая модной одеждой молодых людей, стала заменяться мундиром. Вместо того чтобы проводить время, прислуживая женщинам, молодые итальянцы стали посещать манежи, фехтовальные залы, гимнастические снаряды и военные учения. Дети играли уже не в церковную службу, а в войну, у них появились целые полки оловянных солдатиков. В комедиях, в уличных фарсах итальянец всегда представлялся трусоватым, хотя и остроумным, а какой-нибудь толстяк военный, иногда француз, чаще же немец, сильный, храбрый и грубый, в конце концов награждал итальянца несколькими палочными ударами под громкие аплодисменты зрителей. Народ не хотел более выносить такие намеки; удовлетворяя новым вкусам публики, актеры стали играть храбрых итальянцев, которые, поддерживая свою честь и свои права, обращали чужеземцев в бегство. Так постепенно начинал складываться национальный дух. Тем не менее этот переворот едва наметился; Цизальпиния не могла еще иметь другой силы, кроме поддержки Франции. Как в Голландии, тут намеревались оставить часть армии, которая отдохнула бы от своих трудов, спокойно наслаждаясь славой, и сообщила свой военный дух всей стране. С его обычной, всё обнимавшей предусмотрительностью Бонапарт составил обширный и величественный план. Эта республика являлась как бы аванпостом Франции; необходимо было открыть нашим войскам скорый доступ в нее. Бонапарт набросал план дороги из Франции – через Женеву, Вале, Симплон – в Ломбардию и уже вступил по этому предмету в переговоры со Швейцарией. Для составления сметы издержек были отправлены инженеры, Бонапарт указывал все технические детали с той точностью, которая всегда сопровождала его самые обширные и, по-видимому, наиболее химерические планы. Он желал, чтобы эта первая прорезавшая Альпы дорога была широка, прочна и величественна, сделалась бы образцовым произведением свободы и памятником могущества Франции. Занимаясь делами обязанной ему своим существованием республики, Бонапарт в то же время исполнял роль судии и посредника между двумя народами. Вальтеллина возмутилась против верховной власти Граубюндена. Эта обширная долина состоит из трех долин, по своему положению принадлежащих Италии, так как воды их впадают в Адду. Она находилась под игом Граубюндена, которое, как и всякое иго одного народа над другим, было в высшей степени невыносимо. В Швейцарии имелась не одна тирания подобного рода; приобрела также печальную известность и тирания Берна над кантоном Ваадт. Вальтеллинцы восстали и требовали принять их в состав Цизальпинской республики. Они обратились к Бонапарту, основывая свое прошение на прежних договоренностях, по которым покровительство над Вальтеллиной принадлежало государям Милана. Граубюнденцы и вальтеллинцы условились предоставить разрешение распри третейскому суду Бонапарта, который и принял это посредничество с разрешения Директории. Он советовал граубюнденцам признать права вальтеллинцев и присоединить их в качестве нового члена Лиги Гризон[33]. Они отказались и желали защитить свое право тирании. Бонапарт назначил срок для визита к нему обеих сторон. По истечении срока граубюнденцы отказались явиться. Тогда Бонапарт на основании прежних договоров постановил заочный приговор, объявлявший вальтеллинцев свободными и дозволявший им присоединиться к Цизальпинии. Это решение, согласное и с правом, и со справедливостью, произвело в Европе большое впечатление. Оно испугало бернскую аристократию, обрадовало кантон Ваадт и присоединило к Цизальпинии богатое, храброе и многочисленное население. В то же время за советом к Бонапарту относительно своей конституции обратилась Генуя. Не будучи завоевана, она сама могла утверждать законы и в этом отношении не зависела от Директории. В Генуе боролись две партии – аристократическая и демократическая. Первое восстание, как мы уже видели, произошло в мае, второе, более обширное, чуть не стало фатальным для республики. Оно было вызвано подстрекательством священников к свержению нового правительства. Находившийся там с некоторым числом войск французский генерал Дюфо восстановил порядок. Генуэзцы обратились к Бонапарту, тот им отвечал суровым, полным благоразумных советов письмом, в котором рекомендовал сдерживать демократический пыл. Он изменил генуэзскую конституцию: вместо пяти правителей, облеченных исполнительной властью, он оставил только троих и уменьшил число членов советов, дав таким образом правительству организацию менее народную, но более сильную. Он предоставил больше преимуществ дворянам и священникам, дабы примирить их с новым порядком вещей; их хотели отстранить от общественных должностей, и он осудил это намерение. «Вы хотите делать, – писал он генуэзцам, – то же, что делали они». Он намеренно предал гласности письмо, заключавшее эту фразу. Это было как бы осуждением того, что происходило в Париже в отношении дворян. Бонапарт рад был косвенным путем вмешаться в политику, подать свое мнение, противное Директории, а главное – немедленно отделиться от победившей партии: он предпочитал остаться независимым, не одобрять и не служить никакой фракции, презирать их и господствовать над всеми. Оставаясь законодателем, посредником и вершителем судеб народов, он был занят и другими важными заботами, не менее глубоко проявлявшими его предусмотрительность. Бонапарт завладел морскими силами Венеции и вызвал адмирала де Брюэ на Адриатику для овладения венецианскими островами. Мысли его были обращены к Средиземному морю, к его значению и той роли, которую мы могли на нем сыграть. Бонапарт пришел к заключению, что если на океане мы и должны были встретить более значительные морские силы, то этого не должно произойти на Средиземном море. Была бы или нет освобождена вся Италия, уступлена или нет Австрии Венеция, он в любом случае желал, чтобы Франция удержала Ионические острова. Население островов хотело обрести подданство Франции. Мальта, самый важный на Средиземном море пункт, принадлежала одряхлевшему ордену, которому предстояло исчезнуть перед влиянием революции. К тому же, если бы Франция не завладела Мальтой, она должна была подпасть под власть англичан. Дабы окончательно разорить орден, Бонапарт наложил запрет на имения его кавалеров в Италии. Он завязал интриги в самой Мальте, охраняемой только несколькими кавалерами и слабым гарнизоном, и собирался отправить к острову свой маленький флот, чтобы захватить его. «С этих пунктов, – писал Бонапарт Директории, – мы будем господствовать над Средиземным морем и сторожить готовую распасться Оттоманскую империю, чтобы или поддержать ее, или получить свою часть при ее разделе. Мало того, – прибавлял Бонапарт, – мы можем сделать бесполезным для англичан их могущество на океане. Они оспаривали у нас в Лилле обладание мысом Доброй Надежды; мы можем обойтись без него. Нам стоит только занять Египет, и мы будем иметь прямой путь в Индию и легко устроим там прекраснейшую колонию в мире!» Итак, его мысль в Италии получила первый толчок к знаменитой экспедиции, попытка которой была совершена в следующем году. «Напасть на Англию следует в Египте», – писал Бонапарт в письме от 16 августа 1797 года. Для осуществления этих целей он вытребовал себе адмирала Брюэ с шестью кораблями, несколькими фрегатами и корветами. Кроме того, он сохранил для себя предлог завладеть венецианскими морскими силами. По смыслу заключенного договора Венеция должна была выплатить три миллиона морским вооружением. Под этим предлогом Бонапарт захватил всю пеньку, железо и другие товары, составлявшие, впрочем, единственное богатство венецианского арсенала. Завладев запасами под предлогом трех миллионов, Бонапарт завладел кораблями под предлогом захвата островов для ставшей демократической Венеции. Он велел заканчивать постройку уже начатых кораблей и успел таким образом вооружить шесть военных кораблей, шесть фрегатов и несколько корветов, которые присоединил к эскадре, приведенной Брюэ из Тулона. Затем Бонапарт вернул миллион, отозванный Директорией, выдал Брюэ суммы на вербовку матросов в Албании и Греции и создал таким образом на Средиземном море внушительные силы. Главной их стоянкой Бонапарт назначил Корфу, руководствуясь соображениями, вполне одобренными правительством. Из Корфу эта эскадра могла в случае новых неприязненных действий направиться в Адриатику и действовать совместно с Итальянской армией; она могла отправиться на Мальту, влиять на неаполитанский двор, и, если бы присутствие ее в океане стало необходимо для исполнения какого-нибудь плана, то она могла скорее направиться к проливу из Корфу, чем из Тулона. В Корфу, наконец, эскадра училась маневрированию и свыкалась с морем быстрее, чем в Тулоне, где она обыкновенно стояла на месте без движения. «У вас никогда не будет моряков, – писал Бонапарт, – если вы будете их держать в ваших портах». Так был занят досуг Бонапарта, который доставляла ему рассчитанная медлительность Австрии. Он подумывал о своем положении в отношении этой державы; ею со времени Леобенских прелиминариев были совершены громадные военные приготовления. Большую часть своих военных сил Австрия передвинула в Каринтию – защитить себя от настойчивости Бонапарта и охранить Вену. В Венгрии поднялось ополчение: уже три месяца восемнадцать венгерских кавалерийских полков обучались на берегах Дуная. Следовательно, Австрии было чем поддержать переговоры в Удино. У Бонапарта оставалось всего 70 тысяч войск, и в том числе весьма немного кавалерии. На случай новой кампании он просил подкреплений и настаивал на ратификации союзного договора с Пьемонтом, дабы получить 10 тысяч пьемонтских солдат, достоинства которых так ценил. Но Директория не желала посылать подкрепления, так как передвижение войск привело бы к дезертирству; она предпочитала ускорить наступление Германской армии и освободить Итальянскую скорее, нежели ее подкрепить; Директория колебалась с подписанием договора с Пьемонтом, не желая защищать трон, естественного падения которого желала и ожидала. Она только послала несколько пеших кавалеристов; в Италии было чем их экипировать. Лишенный средств, на которые рассчитывал, Бонапарт видел собиравшуюся со стороны Юлианских Альп грозу и старался заменить изобретательностью своего гения средства, в которых ему отказывали. Он вооружил и укрепил Пальманову и обратил ее в первоклассную крепость, которая сама по себе одна потребовала бы долгой осады. Уже одно это обстоятельство значительно изменяло положение. Затем Бонапарт навел мосты на Изонцо и построил предмостные укрепления, дабы иметь возможность действовать со своей обычной быстротой. Если бы переговоры прервались до того, как выпал снег, он еще надеялся застать австрийцев врасплох, расстроить их, несмотря на превосходство в численности, и достигнуть ворот Вены. Итак, Бонапарт желал, чтобы переговоры скорее закончились. После странной ноты от 18 июля, в которой уполномоченные вновь настаивали на конгрессе в Берне и восставали против совершенного в Венеции, Бонапарт послал им резкий ответ, доказывая тем Австрии, что вновь готов устремиться на Вену. Галло, Меервельдт и третий уполномоченный Дегельман прибыли 31 августа; вслед за тем немедленно начались переговоры. Однако, очевидно, целью их все-таки было тянуть время: признавая сепаратные переговоры в Удино, австрийцы не считали их окончательными до Бернского конгресса. Они объявляли, что конгресс в Раштатте должен открыться немедленно и переговоры будут вестись на нем одновременно с переговорами в Удино: это должно было значительно усложнить ситуацию и породить столько же затруднений, что и общий конгресс в Берне. Бонапарт заметил на то, что мир с империей должен быть заключен лишь после мира с императором, и объявил, что в случае открытия конгресса Франция не пошлет на него своих уполномоченных; он прибавил, что если к 1 октября мир с императором заключен не будет, то Леобенские прелиминарии будут считаться недействительными. В таком положении были дела, когда 18 фрюктидора обмануло все ложные ожидания Австрии. Кобенцель немедленно отправился из Вены в Удино, а Бонапарт прибыл в Пассериано, красивое имение на некотором расстоянии от Удино; всё возвещало, что на этот раз желание заключить мир искренне. Конференции происходили попеременно то в Удино у Кобенцеля, то в Пассериано у Бонапарта. Кобенцель обладал острым, но не слишком рациональным умом: кроме того, он был высокомерен и резок. Три других уполномоченных хранили молчание. По увольнении Кларка Бонапарт один представлял Францию; в его характере также не было недостатка ни в надменности, ни в резкости. Хотя все понимали, что Кобенцель хочет заключить договор, тем не менее он выказывал ни с чем не сообразные притязания. По его мнению, со стороны Австрии достаточно было уступки Нидерландов, что же касается Рейнской границы, то уступка последней зависела уже от Империи. В качестве вознаграждения за богатые и густонаселенные бельгийские провинции Австрия хотела владения не в Германии, но в Италии. Леобенские прелиминарии назначали ей венецианские владения до Ольо, то есть Далмацию, Истрию, Фриуль, Бергамаско, Брешию и Мантую вместе с крепостью; но эти провинции и вполовину не вознаграждали ее за то, что она теряла, уступая Бельгию и Ломбардию. Со стороны Австрии, по мнению Кобенцеля, было не слишком много требовать не только оставления за собой Ломбардии, но и приобретения Венеции и легатств, как и восстановления в правах герцога Моденского. Всё это краснобайство Кобенцеля Бонапарт встретил с непоколебимым хладнокровием; на безумные притязания он отвечал такими же чрезмерными притязаниями, высказываемыми резким, не допускающим противоречия тоном. Он требовал для Франции Рейнской границы, включая и Майнц, для Италии же – границы по Изонцо. Между этими крайними притязаниями нужно было найти середину. Как уже было сказано, Бонапарт предвидел, что, уступив Венецию, можно было надеяться, что император отодвинет границу от Ольо до Адидже, а области Бергамаско, Брешия и Мантуя будут отданы Цизальпинии; что, мало того, император согласится отдать Франции Рейнскую границу даже с Майнцем и, наконец, оставить за нею Ионические острова. Бонапарт решил заключить договор на этих условиях: в таком договоре он находил для Франции много выгод, а на большее в настоящее время она рассчитывать не могла. Принимая Венецию, император компрометировал себя во мнении Европы, так как, защищая его интересы, Венеция изменяла Франции. Оставляя Адидже и Мантую, император придавал прочность новой итальянской республике; предоставляя нам Ионические острова, он готовил наше господство на Средиземном море; признавая за нами Рейнскую границу, он делал Империю бессильной отказать нам в этом; отдавая нам Майнц, он предоставлял нам реальное обладание этой границей и серьезно компрометировал себя перед Империей, сдавая крепость, принадлежащую одному из германских князей. Правда, начав новую кампанию, можно было или окончательно уничтожить австрийскую монархию, или принудить ее по меньшей мере отказаться от всей Италии. Но Бонапарт имел немало личных причин избегать новой кампании. Всё преимущество получала Германская армия, командуемая Ожеро, так как перед ней вовсе не было неприятеля. Напротив, перед Итальянской армией были все австрийские силы; ей не могла предстоять блестящая роль, она была бы вынуждена обороняться и не смогла бы первой достигнуть Вены. Наконец, Бонапарт устал, он хотел немного отдохнуть и насладиться своей славой. Одно сражение ничего не добавило бы к чудесам кампаний последних двух лет, подписанием же мира он увенчивал себя двойной славою генерала и миротворца. Правда, подписанием договора на таких условиях Бонапарт формально нарушал волю Директории; но он чувствовал, что правительство не осмелится отказать в ратификации договора: это значило бы пойти против общественного мнения всей Франции. Директория уже задела его, прервав переговоры в Лилле, онаоскорбила бы его еще более, отказав в ратификации заключенного им договора, и оправдала бы тем все упреки роялистской фракции, обвинявшей ее в желании вечной войны. Итак, подписывая договор, Бонапарт чувствовал, что принуждает Директорию к его ратификации. Он смело предъявил свой ультиматум Кобенцелю: Венеция отходила к Австрии, но Адидже и Мантуя – к Цизальпинии, а Рейн и Майнц – к Франции, с Ионическими островами в придачу. Последняя конференция состоялась в Удино, у Кобенцеля, 16 октября (25 вандемьера). С той и другой стороны объявили, что готовы прервать переговоры; Кобенцель заявил, что его кареты приготовлены. Разместились за длинным четырехугольным столом; с одной стороны сидели четверо австрийских уполномоченных, с другой – один Бонапарт. Кобенцель повторил всё им сказанное, утверждал, что еще никогда Франция не заключала такого прекрасного мира и, без сомнения, сумеет оценить поведение своего уполномоченного, пожертвовавшего интересами и спокойствием страны своему военному честолюбию. Бонапарт спокойно и бесстрастно выдержал это оскорбительное обращение и дал Кобенцелю закончить речь; затем он направился к столику, на котором, как драгоценность, был выставлен фарфоровый прибор – подарок Екатерины Великой Кобенцелю, схватил его и швырнул на пол со словами: «Война объявлена; но помните, не пройдет трех месяцев, и я разобью вашу монархию, как разбиваю теперь этот фарфор». Этот поступок и эти слова привели австрийских уполномоченных в полное остолбенение. Бонапарт раскланялся с ними, вышел, немедленно сел в карету и послал офицера к эрцгерцогу Карлу с извещением, что военные действия начнутся через двадцать четыре часа. Испуганный Кобенцель немедленно послал в Пассериано подписанный ультиматум. Одним из условий договора было освобождение Лафайета, который в течение пяти лет геройски переносил свое заключение в Ольмюце. На следующий день, 17 октября, договор был подписан; его назвали именем деревни, расположенной между двумя армиями, в которой, однако, уполномоченные так и не побывали, так как там не нашлось для них приличного помещения. Эта деревня называлась Кампо-Формио. Она дала свое имя знаменитому договору, первому, который заключил германский император с Французской республикой. Условились, что император признает за Францией Рейнскую границу и Ионические острова и сдаст нашим войскам Майнц. Цизальпинскую республику должны были составлять: Романья, легатства, герцогство Моденское, Ломбардия, Вальтеллина, Бергамаско, Брешия и Кремона, город и крепость Мантуя с округом; границей ее была Адидже. Кроме того, император принимал разные условия, вытекающие из этого и предыдущих договоров, заключенных Республикой. Он обязывался вознаградить герцога Моденского за потерю владений с помощью Брайсгау, употребить свое влияние в Германии, чтобы выговорить вознаграждение штатгальтеру за потерю Голландии и королю Прусскому за потерю небольшой территории, уступленной нам на левом берегу Рейна. В силу этих обязательств голос императора был обеспечен на конгрессе в Раштатте в благоприятном для Франции смысле. В обмен на это император получал Фриуль, Истрию, Далмацию, Котор, город Венецию и все земли до Адидже. Никогда еще Франция не заключала такого прекрасного мира. Она завоевала свои естественные границы и удержала их за собою с согласия континента. В Северной Италии произошла великая революция: там разрушили древнее государство и основали новое. Но уничтоженное государство было деспотической аристократией, непримиримым врагом свободы; вновь основанное же государство было республикой с либеральными учреждениями, которая собиралась распространить свободу по всей Италии. Можно было, правда, сожалеть, что австрийцы не были отброшены до Изонцо, что вся Северная Италия и город Венеция не были присоединены к Цизальпинии: с новой кампанией достигли бы и этого результата. Но началу ее воспрепятствовали частные соображения молодого победителя. Личный интерес начинал портить расчеты великого ума, и на первом и, может быть, самом прекрасном поступке его жизни осталось пятно. Хотя Бонапарт мог не сомневаться в ратификации договора, однако он все-таки беспокоился, так как этот трактат был формальным отступлением от инструкций Директории. Бонапарт отправил его со своим верным начальником штаба Бертье, которого любил и еще не посылал во Францию насладиться аплодисментами парижан. Со своим обычным тактом он посылал вместе с военным и ученого: это был Монж, входивший в состав комиссии, которой поручили отобрать итальянские произведения изящных искусств, и, несмотря на свой ярый демагогизм, очарованный, как и многие другие, гением, обходительностью и славою Бонапарта. Монж и Бертье в несколько дней прибыли в Париж. Они приехали туда ночью и разбудили уже спавшего президента Директории Ларевельера-Лепо. Хоть они и везли мирный договор, оба посланника далеко не испытывали обычной в таких обстоятельствах радости и доверия: в самом деле, предстояло признаться в непослушании правительству. С большими предосторожностями они изложили суть договора и всячески извиняли генерала. Ларевельер принял их со всем вниманием, заслуживаемым обоими этими выдающимися лицами, но не высказал о договоре никакого мнения и сказал только, что Директория сделает свое заключение. Весть о мире уже распространилась по всему Парижу; радость царила чрезвычайная; условий еще не знали, но, каковы бы они ни были, все были уверены, что они блестящи. Превозносили Бонапарта и его славу. Как и можно было предвидеть, восторженно встречали в нем и миротворца, и воина; мир, который он подписал из эгоизма, восхваляли как замечательный поступок военного бескорыстия. Говорили, что молодой генерал, желая дать мир своему отечеству, отказался от славы нового похода. Радость распространялась так быстро, что Директории было затруднительно обмануть общие ожидания, отвергнув Кампо-Формийский договор. Договор этот стал следствием формального ослушания, так что Директория была вполне вправе отказать в его ратификации; важно было преподать урок молодому смельчаку, нарушившему точные предписания правительства. Но как обмануть всеобщие ожидания? Как осмелиться вторично отказаться от мира, раз уже отказавшись от него в Лилле? Директории было опасно бравировать и по другой причине. В самом деле, с непризнанием договора Бонапарт подавал в отставку и неудачи неизбежно воспоследовали бы вслед за открытием неприязненных действий в Италии. Какую ответственность правительство брало на себя в таком случае? Кроме того, договор представлял громадные выгоды: он открывал великолепную будущность, давал более, нежели Леобенские прелиминарии, наконец, оставлял свободными все силы Франции для подавления Англии. Итак, Директория одобрила договор: всеобщая радость сделалась еще живее и глубже. Ловким расчетом директоры хотели возмутить всех против Англии: герой Италии и его непобедимые товарищи должны были обратиться от одного врага к другому, и в тот самый день, как договор был обнародован, Бонапарт правительственным постановлением назначался главнокомандующим Английской армией. Молодой генерал собирался оставить Италию, чтобы дать себе немного отдыха и насладиться славой, равной которой не обладал ни один из его современников. Вместе с Бонье и Трельяром он был назначен уполномоченным на Раштаттский конгресс для заключения мира с Империей. Условились, что в Раштатте он встретит Кобенцеля и обменяется с ним ратификациями Кампо-Формийского договора. На Бонапарта же было возложено и наблюдение за исполнением условий относительно Майнца. С обычной своей предусмотрительностью он заранее убедился, что австрийские войска не вступят в Пальманову иначе как по занятии Майнца французами.
До своего отъезда в Раштатт Бонапарт сделал последние распоряжения в Италии; подписал остававшиеся назначения в советы и правительство Цизальпинии, определил условия занятия Италии французскими войсками и взаимоотношения их с новой республикой. Командование над ними поручили Бертье; французские войска образовали корпус в 30 тысяч человек, содержащихся за счет Цизальпинии, в которой они должны были оставаться до общего мира. Бонапарт вывел свои войска из Венеции и сдал город австрийцам. Видя себя предаваемыми в руки Австрии, венецианские патриоты вознегодовали. Бонапарт обеспечил им убежище в Цизальпинии и выговорил для них у австрийского правительства время для продажи имуществ. Венецианцев не тронула, однако, эта заботливость, и они посылали на голову жертвовавшего ими победителя запальчивые и весьма естественные проклятия. Виллетар, секретарь французского посольства, который, видимо, поручился перед ними за французское правительство, написал Бонапарту письмо, крайне сурово, впрочем, принятое. Выказали глубокую печаль не одни патриоты; дворянство и народ, некогда предпочитавшие Австрию Франции, так как симпатизировали принципам одного правительства и ненавидели принципы другого, в настоящую минуту ощущали пробуждение национальных чувств и выказали к своему древнему отечеству искреннюю привязанность, сделавшую их достойными участия, которого прежде они не внушали. Царило общее отчаяние: одна молодая дама отравилась, а старый дож без чувств упал к ногам австрийского офицера, перед которым должен был принести клятву верности. Бонапарт обратился к итальянцам с прокламацией, в которой прощался с ними и давал им последние советы. Она была написана тем твердым, благородным и немного напыщенным языком, которым обыкновенно отличались его речи. «Мы дали вам свободу, – обращался он к цизальпинцам, – сумейте ее сохранить. Чтоб быть достойными своей судьбы, издавайте лишь благоразумные и умеренные законы, приводите их в исполнение твердо и энергично; покровительствуйте распространению просвещения и уважайте религию. Не наполняйте ваши войска безродными людьми, но гражданами, разделяющими принципы республики и непосредственно заинтересованными в ее благоденствии. Вам недостает еще сознания силы и чувства собственного достоинства, приличного свободным народам: разделенные и порабощенные в течение долгих веков, вы сами бы не завоевали себе свободы; но через несколько лет, хотя бы вы и были предоставлены самим себе, никто не будет в состоянии вас ее лишить. До тех же пор великая нация защитит вас от нападения соседей, а ее политическая система будет связана с вашей… Через несколько дней я вас оставлю. Лишь приказания моего правительства и настоятельная опасность для Цизальпинской республики могут опять вернуть меня к вам». Последняя фраза была ответом тем, кто распространял слухи о желании Бонапарта стать королем Ломбардии. Он ни на что не променял бы титула и роли первого генерала Французской республики. Один из австрийских уполномоченных предложил ему от имени императора владение в Германии; Бонапарт отвечал, что не хочет быть обязанным своей фортуной ничему, кроме признательности французской нации. Предугадывал ли он свою будущность? Нет, без сомнения; но и будучи только первым гражданином Республики, он имел право предпочитать это звание всякому другому. Итальянцы провожали его с сожалениями и не без печали наблюдали на своем небосклоне закат этой блестящей звезды.
Бонапарт быстро проехал Пьемонт, направляясь через Швейцарию в Раштатт. На пути его встречали блестящими празднествами и подарками. Государи и народы хотели видеть этого знаменитого воина, в руках которого находились судьбы стольких людей. В Турине король приготовил ему подарки, выражая признательность за поддержку перед Директорией. В Швейцарии, в Ваадте, Бонапарта встретили с энтузиазмом, как освободителя Вальтеллины. Молодые девушки в трехцветных одеждах подносили ему венки. Повсюду можно было увидеть его изречение, столь дорогое Ваадту: «Никакой народ не может быть подданным другого народа». Куда бы ни приходил Бонапарт – всюду теснилась толпа любопытных; при въезде его в города стреляли из пушек. Бернское правительство, с неудовольствием наблюдавшее энтузиазм, внушаемый освободителем Вальтеллины, запретило офицерам салютовать; ему не повиновались. Прибыв в Раштатт, Бонапарт встретил там всех германских государей, с нетерпением его ожидавших. Он немедленно заставил французских уполномоченных принять положение, соответствующее их поручениям и значению, отказался принять Ферзена, который был послан шведским королем как представитель его на конгрессе Империи: вследствие прежних сношений Ферзена с французским двором, ему не следовало теперь договариваться с Французской республикой. Этот отказ произвел сильное впечатление и доказал постоянное стремление Бонапарта возвысить великую нацию, как он называл ее в своих речах. Обменявшись ратификациями Кампо-Формийского договора и договорившись относительно передачи Майнца, он решил отправиться в Париж. Бонапарт не находил ничего важного в местных совещаниях, а главное – предвидел бесконечные проволочки, неизбежные при необходимости согласовать пожелания всех мелких германских владетелей. Подобные обязанности были ему не по вкусу; кроме того, он устал; также было весьма естественно торопиться прибыть в Париж и вступить в Капитолий современного Рима. Бонапарт выехал из Раштатта, инкогнито проехал через Францию и прибыл в Париж вечером 5 декабря 1797 года (15 фримера года VI). Он остановился в маленьком домике, купленном им на улице Шантерен. Этот обладатель громадной гордыни скрывал последнюю с хитроумием женщины. При сдаче Мантуи он лишил себя удовольствия видеть дефилирующим перед ним сдавшегося Вурмзера; в Париже он хотел скрыться в самом темном и скромном жилище. В своей речи, костюме, привычках Бонапарт выказывал простоту, удивлявшую умы и еще более поражавшую их контрастом. Уведомленный о его прибытии, весь Париж горел нетерпением приветствовать своего генерала. Министр иностранных дел Талейран, к которому Бонапарт чувствовал сильную склонность, пожелал посетить его в тот же вечер. Бонапарт попросил позволения не принимать его и следующим утром сам нанес ему визит. Залы министерства иностранных дел были полны замечательных личностей, спешивших видеть героя. Не обращаясь ни к кому прямо, Бонапарт тем не менее сразу заметил Бугенвиля[34], подошел к нему и произнес несколько слов, которые, сказанные им лично, должны были произвести глубокое впечатление. Бонапарт уже стал выказывать предпочтение государя к человеку знаменитому и полезному. Талейран представил Бонапарта директорам. Хотя между Директорией и генералом было достаточно поводов к неудовольствию, однако свидание прошло успешно. Приличия требовали от директоров демонстрации удовольствия, а от генерала – почтительности. Впрочем, заслуги последнего были так велики, а слава так блестяща, что увлечение должно было заставить замолчать неудовольствия. Для торжественного вручения Кампо-Формийского договора Директория устроила празднество. Местом для него были выбраны не приемные залы Директории, но большой двор в Люксембурге. Сделали всё, чтобы это торжество стало одним из самых внушительных. В глубине двора, на эстраде, у подножия Алтаря Отечества сидели директоры, одетые в римские тоги; ниже них, в креслах, расставленных амфитеатром, – министры, посланники, члены обоих советов, судебные и административные должностные лица. Великолепные трофеи, отбитые у неприятеля знамена, стояли вокруг; стены были украшены трехцветными обоями; на галереях собралось лучшее общество столицы, хоры расположились у ограды; вокруг дворца была расставлена многочисленная артиллерия, которая соединяла свои залпы с музыкой и возгласами зрителей. Для этого дня Шенье составил один из своих лучших гимнов. Празднество происходило 10 декабря. Директория, члены присутственных мест и зрители расселись по своим местам и с нетерпением ждали знаменитого человека, которого многие из них еще не видели. Он явился в сопровождении Талейрана: на министра была возложена честь его представления, так как в настоящее время в Бонапарте чтили прежде всего миротворца. Все современники, пораженные этим невзрачным телосложением, этим бледным римским профилем, этим огненным взглядом, еще и теперь говорят о том воздействии, какое он произвел, о невыразимом ощущении гения и власти, оставляемом им на всех. Появление Бонапарта вызвало общий восторг. При виде столь простого человека, которого окружала такая слава, со всех сторон раздались восклицания: «Да здравствует Республика!», «Да здравствует Бонапарт!». Тогда Талейран начал говорить и постарался в сжатой и остроумной речи отнести славу полководца не к Бонапарту лично, но к Революции, армиям и великой нации. Он поддерживал скромность Бонапарта и, с обычной своей проницательностью, отгадывал, как бы герой хотел, чтобы о нем говорили в его присутствии. Затем Талейран перешел к тому, что могли – сказал он – назвать его честолюбием; указал на патриархальное стремление к простоте, отличающее Бонапарта, пристрастие его к отвлеченным наукам, столь любимое им чтение Оссиана; прибавил, что, может быть, придется некогда пробудить Бонапарта и силой оторвать от приятностей трудолюбивого уединения. Слова эти были на устах у всех и повторялись во всех речах, произнесенных на этом великом торжестве. После Талейрана начал говорить Бонапарт: «Граждане! Чтобы сделаться свободным, французский народ был принужден бороться с монархами. Чтобы получить правление, основанное на разуме, он должен был восторжествовать над предубеждениями восемнадцати столетий. Конституция III года и вы вместе преодолели эти затруднения. В продолжение двадцати столетий Европою попеременно управляли религия, феодализм и роялизм; с мира, ныне вами заключенного, начнется эпоха представительных правлений. Вам удалось организовать великую нацию, обширная территория которой ограничена лишь потому, что сама природа указала ей естественные пределы. Вы сделали более того. Две прекраснейших европейских страны, некогда славившиеся искусствами и науками, бывшие колыбелью великих людей, смотрят теперь с упованием на гения свободы, восстающего из гробниц предков. Это два подножия, на которые судьба поставит два великих народа. Я имею честь вручить вам трактат, подписанный в Кампо-Формио и ратифицированный его величеством императором. Мир обеспечивает свободу, благосостояние и славу Республики. Когда счастье французского народа будет основано на лучших законах, вся Европа сделается свободной». Речь эта не была еще кончена, а восклицания уже раздались снова. Президент Директории Баррас ответил Бонапарту. Речь его была длинна, запутанна и мало шла к делу; он восхвалял скромность и простоту героя; в ней между прочим ловко отдавалась честь Гошу, предполагаемому сопернику завоевателя Италии. «Зачем Гош не здесь, – вопрошал президент Директории, – чтобы видеть и обнять своего друга!» Гош, в самом деле, с великодушной горячностью защищал в прошлом году Бонапарта. Согласно новому направлению, к которому подталкивали умы, Баррас указывал герою на новые лавры, он предлагал ему сорвать их в Англии. По произнесении этих речей хор исполнил гимн Шенье под аккомпанемент великолепного оркестра. Затем подошли два генерала, сопровождаемые военным министром: это были храбрый Жубер, герой Тироля, и Андреосси, один из отличнейших артиллерийских офицеров. Они подошли, неся великолепное знамя, которое Директория в конце кампании подарила Итальянской армии: это был как бы новый штандарт республики. Он был испещрен следующими надписями, вышитыми золотом: «Итальянская армия захватила сто пятьдесят тысяч пленных, сто семьдесят знамен, пятьсот пятьдесят тяжелых орудий, шестьсот полевых орудий, пять понтонных парков, девять кораблей, двенадцать фрегатов, двенадцать корветов, восемнадцать галер. Заключила перемирия с королями Сардинии и Неаполя, папою, герцогами Пармы и Модены, Леобенские прелиминарии, конвенцию в Монтебелло с Генуэзской республикою. Подписала мирные трактаты в Толентино и Кампо-Формио. Освободила народы Болоньи, Феррары, Модены, Масса-Каррары, Романьи, Ломбардии, Брешии, Бергамо, Мантуи, Кремоны, части владений Вероны, Бормио и Вальтеллины, Эгейского и Италийского морей. Отправила в Париж произведения Микеланджело, Гверчино, Тициана, Веронезе, Корреджио, Рафаэля, Леонардо да Винчи, и пр. Восторжествовала в восемнадцати генеральных сражениях: при Монтенотте, Миллезимо, Мондови, Лоди, Боргетто, Лонато, Кастильоне, Ровередо, Бассано, Сан-Джорджио, Фонтана Иове, Кальдиеро, Арколе, Риволи, Ла Фаворите, Тальяменто, Тарвисе, Ноймаркте. Дала шестьдесят семь сражений». В свою очередь Жубер и Андреосси также произнесли речи, на которые лестно отвечал президент Директории. После этих речей генералы получили от президента братский поцелуй. Когда Баррас обнял Бонапарта, все четыре директора как бы невольно бросились к нему. Всеобщие восклицания оглашали воздух; к ним присоединил свои крики народ, собравшийся на улицах, им вторил грохот пушек. Вот так Франция отдалась необыкновенному человеку. Не будем винить в слабости наших отцов; эта слава является нам уже отодвинутая временем и несчастьями и все-таки приводит нас в восторг! Повторим с Эсхилом: «Что же было бы, если бы мы видели самое чудовище!»
Глава LVII
Пребывание Бонапарта в Париже; его отношение к Директории – Проект высадки в Англию – Раштаттский конгресс – Революция в Голландии, Риме и Швейцарии – Внутреннее положение Франции; выборы года VI – Египетская экспедиция и приготовления к нейЗа торжественным приемом, устроенным Бонапарту Директорией, следовал ряд празднеств, которые давали в его честь от своего имени директоры, члены советов и министры. Каждый хотел превзойти других в великолепии. Герой этих празднеств был поражен вкусом, выказанным министром иностранных дел, и приобрел склонность к старинному французскому изяществу. Посреди этой роскоши он выказал себя простым, благорасположенным, но сдержанным и почти недоступным наслаждению; в толпе Бонапарт отличал и избирал преимущественно людей полезных и знаменитых, с которыми вступал в беседу в той области науки или искусства, в которой они себя прославили. Многие знаменитости удостоились в эти дни знакомства с Бонапартом. Образование молодого генерала было равным образованию офицеров, недавно вышедших из военных школ. Но благодаря инстинкту гения он мог разговаривать о предметах, совершенно ему чуждых, и высказывать некоторые рискованные, но оригинальные взгляды, которые чаще всего являются только дерзостью невежества, но высказываемые людьми высоких дарований вводят в заблуждение и прельщают даже специалистов. В обществе с удивлением замечали эту способность говорить обо всем. Газеты, передававшие мельчайшие подробности касательно личности Бонапарта, сообщали, что, обедая у Франсуа де Нёвшато, он говорил о математике с Лагранжем и Лапласом, о метафизике – с Сийесом, о поэзии – с Шенье, о законоведении и гражданском праве – с Дону. Вообще в присутствии Бонапарта редко решались его расспрашивать, но очень старались навести его на разговор о военных походах. Если ему и приходилось участвовать в таких разговорах, он никогда не говорил о себе, а только о своей армии, своих солдатах и республиканской храбрости; ярко рисовал шум битв; умел описать и заставить почувствовать решительный момент, указать, как его следует понимать; приводил слушателей в восторг своими ясными и драматичными рассказами. Если подвиги выказывали в Бонапарте великого полководца, то разговоры открывали оригинальный, плодовитый, точный ум, умеющий увлечь. Подвигами Бонапарт завоевал симпатии народа, а своими беседами стал приобретать благорасположение передовых людей Франции. Уже и без того сильное пристрастие к нему стало еще большим, когда его начали лучше узнавать. Даже самые следы иностранного происхождения, не изглаженные еще тогда временем, усиливали производимое им впечатление. Странность всегда увеличивает обаяние гения, особенно же во Франции, где при крайнем однообразии нравов чрезвычайно пристрастны к оригинальности. Бонапарт избегал толпы и прятался от взоров; иногда даже весьма дурно принимал слишком живые выражения энтузиазма. Госпожа де Сталь, любившая – и имевшая на то право – величие, гений и славу, ждала случая повидать Бонапарта и выразить ему свое удивление. Он же желал, чтоб каждый был на своем месте, и его повелительному характеру было неприятно, что она иногда забывает свое; он находил в ней чересчур уж много ума и экзальтации, под ее удивлением он предчувствовал ее независимость и был холоден, суров и несправедлив к ней. Госпожа де Сталь однажды внезапно спросила его, кто первая, по его мнению, из женщин, и он сухо отвечал: «Та, у которой больше детей». С этого дня началась взаимная антипатия, которая обеспечила этой знаменитой женщине столь незаслуженные неприятности, а Бонапарта заставила совершать поступки, приличные лишь мелкой и грубой тирании. Он мало где показывался, жил в своем небольшом домике на улице Шантерен, которой управление департамента дало другое название – улица Победы. Его общество составляли лишь несколько ученых: Монж, Лагранж, Лаплас, Бертолле; генералов: Дезе, Клебер, Каффарелли; артистов; в особенности же знаменитый актер, утраченный Францией ныне, Тальма был желанным гостем. К нему Бонапарт всегда чувствовал особенную склонность. Генерал выезжал в простой карете, на спектаклях присутствовал в закрытой ложе и, казалось, нисколько не разделял пристрастия своей жены к легкомысленной жизни. Он очень ее любил и находился под влиянием особенной грации, которая, как в частной жизни, так и на троне, никогда не оставляла госпожу Богарне, заменяя ей красоту. Вследствие ссылки Карно в Институте Франции открылась вакансия, ее поспешили предложить Бонапарту. Он не замедлил принять место, в день заседания, назначенного для его приема, уселся между Лагранжем и Лапласом и с тех пор во время торжественных церемоний не снимал с себя мантии, выказывая тем свое желание скрыть воина под одеждой ученого. Такая слава неизбежно бросала тень на членов правительства, не имевших в запасе ни продолжительного управления, ни личного величия; воин-миротворец затмевал их совершенно. Тем не менее они выказывали к нему самое большое уважение, а он отвечал им изысканной почтительностью. Обыкновенно менее всего говорят о том, чем заняты более всего. Директория была далека от того, чтобы высказывать свои опасения. Она получала многочисленные донесения шпионов, которые подслушивали в казармах и общественных собраниях, что говорят о Бонапарте. Говорили, что будто Бонапарт вскоре свергнет ослабевшее правительство и спасет Францию от роялистов и якобинцев. Играя в откровенность, Директория показывала молодому генералу эти донесения, притворяясь, что смотрит на них с презрением и считает генерала недоступным честолюбию. Бонапарт, также умевший притворяться, с признательностью принимал эти свидетельства, уверяя, что достоин доверия, которое ему оказывают. Между тем с той и другой стороны царила крайняя подозрительность. Если полицейские шпионы сообщали Директории о планах захвата власти, то окружавшие Бонапарта офицеры говорили о намерении отравить его. Смерть Гоша породила нелепые подозрения, генерал же, хотя и был лишен мелочной трусости, тем не менее желал быть осторожным и весьма остерегался, когда обедал у кого-либо из директоров. Ел мало, и только те блюда, которые отведывал сам хозяин. Баррас любил делать вид, что является создателем фортуны Бонапарта; что, перестав быть его покровителем, остается его другом. Он выказывал крайнюю преданность, с обычной своей изворотливостью стараясь убедить Бонапарта в своей привязанности, охотно выдавал речи своих товарищей и показывал, что сам-то стоит в стороне. Бонапарт не принимал на веру уверений этого хитреца и не удостаивал доверием его услужливость. По некоторым вопросам к мнению Бонапарта обращались часто. Приглашая его в Директорию, к нему посылали министра; он являлся туда, садился рядом с директорами и подавал свое мнение с тем превосходством такта, которое отличало его как в делах административных и правительственных, так и в делах военных. В политике Бонапарт держался направления, которое соответствовало его положению. Перед 18 фрюктидора, после того как им был дан толчок и падение роялистской фракции было обеспечено, Бонапарт вдруг остановился и не хотел оказывать правительству поддержки больше той, какая была необходима, чтобы воспрепятствовать возврату монархии. Достигнув этого результата, он, казалось, не хотел более связывать себя с Директорией, а напротив – предпочитал оставаться в стороне, на виду у всех партий, не ссорясь ни с одною. Положение цензора более всего соответствовало его честолюбию. Такая роль легка в правительстве, раздираемом фракциями и поминутно близком к падению; она и выгодна, так как привязывает к себе всех недовольных, то есть все партии, которых отталкивает от себя правительство, сдерживая их и не имея при этом достаточно силы раздавить. Прокламации Бонапарта к цизальпинцам и генуэзцам, особенно те места, где он намекает на законы, направленные против дворян, достаточно доказывают его настоящее направление ума. Было заметно – и его речи достаточно это показывали, – что он осуждает политику правительства после 18 фрюктидора. После этого события патриоты должны были неизбежно подняться; хотя они и не господствовали над Директорией, но все-таки незаметно направляли ее: это можно было видеть по ее духу, мерам и назначениям. Соблюдая полную сдержанность, Бонапарт, однако, позволял видеть свое неодобрение правительства; по-видимому, он считал его слабым, неспособным, обуреваемым то одной фракцией, то другой. Словом, было очевидно, что он не желает оставаться на стороне директоров и если и препятствует возврату монархии, то из этого еще не следует, что он принимает Революцию и ее деяния. Приближалась годовщина 21 июля; нужно было уговорить Бонапарта показаться на торжестве, которое готовилось в пятый раз. Он не хотел являться на церемонию, демонстрируя ли тем, что осуждает поступок, память о котором праздновали, или что не желает иметь ничего общего с людьми, совершившими вандемьерские расстрелы и издавшими затем прокламации 18 фрюктидора. Считали, однако, что он должен присутствовать как бывший главнокомандующий Итальянской армией и уполномоченный Франции в Кампо-Формио, а теперь один из уполномоченных в Раштатте и главнокомандующий Английской армией. Бонапарт возражал, что все эти звания не могут принудить его ни к чему и что, следовательно, его добровольное присутствие станет признаком одобрения. Сошлись на том, что Институт, членом которого был Бонапарт, будет присутствовать на церемонии в полном составе. Зарождающееся могущество отгадывается скоро. Толпы офицеров и льстецов уже окружали Бонапарта; они спрашивали, ограничится ли он командованием армиями и не примет ли участия в делах правления. Не зная еще, чем он мог и должен был стать, Бонапарт прекрасно замечал, что является первым человеком своего времени. Видя влияние Пишегрю в Совете пятисот, а Барраса – в Директории, он рассчитывал на великую политическую роль; но в настоящую минуту не мог играть никакой: он был слишком молод, чтобы быть директором, ему не исполнилось еще и тридцати. Говорили об исключении в его пользу, но этого нужно было добиваться, такое исключение обеспокоило бы республиканцев и заставило бы их громко выступить против него. При этом быть одним из пяти членов правительства, иметь лишь один голос в Директории, бороться с независимыми советами – не этой роли Бонапарт желал; из-за такого результата не стоило хлопотать об изменении закона. У Франции еще имелся могущественный враг – Англия; и хотя Бонапарт и был покрыт лаврами, ему выгоднее было завоевать новые и предоставить правительству биться в тяжелой борьбе с партиями.
Как было сказано выше, в тот самый день, когда подписание Кампо-Формийского договора стало известно в Париже, Директория, желая обратить против Англии умы, немедленно образовала армию под названием Английской и назначила генерала Бонапарта командовать ею. Правительство открыто желало напасть на Англию и как можно скорее совершить высадку на побережье. Смелость умов того времени позволяла смотреть на такое предприятие как на вполне осуществимое. Недавняя попытка высадки в Ирландии доказывала, что можно достичь берега при благоприятном ветре и под пеленой тумана. Не думали, чтобы английская нация, не имевшая тогда сухопутной армии, при всем ее патриотизме, могла сопротивляться удивительным солдатам Италии и Рейна, особенно же гению победителя при Кастильоне, Арколе и Риволи. Правительство хотело вызвать из Италии все войска, кроме двадцати пяти тысяч человек. Большую Германскую армию, составленную из прежних Рейнской и армии Самбры-и-Мааса, хотели сократить настолько, чтобы в ней оставались необходимые силы для влияния в течение Раштаттского конгресса, остальную же часть ее решили направить к берегам океана. Туда же направляли и все свободные войска. Инженерные генералы искали по берегам лучшие места для посадки войск на суда; во всех портах приказали собрать значительные силы; чрезвычайная активность царила в морском ведомстве. Всё еще надеялись, что благоприятный ветер удалит эскадру, блокировавшую Кадикский рейд, и испанские морские силы будут в состоянии соединиться с французскими. Что до голландского флота, на соединение которого с нашим также надеялись, – он потерпел серьезную неудачу в виду Тексела, только остатки его вернулись в голландские порты. Но испанского и французского флотов было достаточно, чтобы прикрыть флотилию и обеспечить перевозку в Англию 60 или 80 тысяч человек. Для всех этих приготовлений требовались новые финансовые средства. Бюджет года VI, определенный в 616 миллионов, не был достаточен для чрезвычайных вооружений. Искали содействия этому предприятию в торговом мире, так как кампания была в его интересах, и предложили добровольный заем в восемьдесят миллионов, обеспечиваемый государством. Часть прибыли от экспедиции должна была выступать в виде премии и разыгрывалась в лотерею между заимодавцами. Подписку на такой заем предлагали Директории известные негоцианты. Проект займа был представлен законодательному корпусу и с первых же дней, по-видимому, имел успех: подписались на пятнадцать или двадцать миллионов. Директория не ограничивалась военными приготовлениями, но принимала меры и против торговли Англии: ввоз английских товаров был уже воспрещен, для захвата их разрешили домовые обыски, которые и были произведены одновременно по всей Франции 4 января 1798 года. Бонапарт был, судя по внешним признакам, на стороне этого великого движения и готов был ему содействовать; на самом же деле последнее мало входило в его виды. Перебросить 60 тысяч человек в Англию, идти на Лондон и занять его не казалось ему особенно затруднительным. Но он сознавал, что завоевать страну и утвердиться в ней невозможно, можно лишь ограбить ее, отнять часть богатств, уменьшить ее значение на ближайшие полвека, но для этого пришлось бы пожертвовать десантной армией и вернуться после варварского нашествия почти одному. Обладая большой властью и опытом в выборе средств, будучи и в самом деле раздраженным против Англии, Бонапарт серьезно думал позже вступить с нею в единоборство и поставить на карту свое везение; теперь же у него были другие мысли и другие планы. Одна причина особенно отклоняла его от этого предприятия. На приготовления требовалось несколько месяцев, и для попытки высадки следовало ждать туманов и ветров будущей зимы. Бонапарт не хотел оставаться целый год праздным в Париже, ничего не прибавляя к своим подвигам и опускаясь в общественном мнении уже по одному тому, что не возвышался. Он обдумывал проект другого рода, проект столь же гигантский, как и высадка в Англию, но более необыкновенный, более обширный по своим последствиям, более согласный с его воображением, а главное, более близкий по времени. Внимание его уже в Италии было обращено на Средиземное море: там он создал небольшой флот при разделе венецианских владений, выговорил Франции Ионические острова, завязал интриги на Мальте в надежде отнять остров у ордена и Англии; наконец, он часто обращал свои взоры на Египет как на промежуточный пункт между Европой и Азией, занятием которого Франция обеспечивала преобладание своей торговли на Востоке и даже в Индии. Эта идея завладела воображением Бонапарта и теперь господствовала над ним. В министерстве иностранных дел имелись драгоценные документы, рассказывающие о колониальном, морском и военном значении Египта; Бонапарт попросил их у Талейрана и стал тщательно изучать. Таким образом, делая вид, что повинуется желаниям Директории, он думал совсем о другом предприятии; воображение его блуждало на берегах Востока. Смутная и необъятная будущность вставала перед ним. Углубиться в эти страны солнца и славы, где побеждали и основывали империи Александр и Магомет, прогреметь там так, чтобы отзвук, повторенный эхом Азии, дошел бы до Франции, стало для него опьяняющей перспективой. Итак, Бонапарт объезжал берега океана в течение января и февраля 1798 года, но занимали его другие мысли и другие планы.
В то время как Республика направляла все свои силы против Англии, ей предстояло еще окончательно определить свои интересы на континенте. Политическая задача Франции была необъятна: ей нужно было заключить в Раштатте договор с Германской империей, то есть с самим феодализмом; направить по новому пути три свои дочери-республики – Батавскую, Цизальпинскую и Лигурийскую; поставленная во главе демократической системы лицом к лицу с системой феодальной, ей следовало помешать столкновению между обеими, иначе опять возобновилась бы борьба – правда, оконченная ею с такой славой, но и с такими страшными жертвами. Со дня открытия Раштаттского конгресса прошло уже два месяца; представителями Франции на нем были Бонье, весьма умный человек, и Трельяр, человек честный, но суровый. В течение немногих проведенных на конгрессе дней Бонапарт тайно заключил с Австрией необходимые для занятия Майнца и Мангеймского тет-де-пона сделки. Было решено, что австрийские войска при приближении французских оставят крепости имперскому ополчению; либо пугая это ополчение, предоставленное самому себе, либо прибегнув к штурму, французы должны были завладеть вышеназванными крепостями, что и было исполнено. Будучи оставлены австрийцами, войска курфюрста сдали Майнц. Гарнизон Мангеймского тет-де-пона пытался сопротивляться, но был вынужден уступить; тем не менее при этом погибло несколько сотен человек. Из этих событий уже можно было заключить, что тайными статьями Кампо-Формийского договора Австрия признавала за Французской республикой границу по Рейну. Условились также, что французская армия очистит правый берег Рейна и перейдет на левый на всем протяжении от Базеля до Майнца. Австрийцы же должны были отойти за Дунай до самого Леха, а также очистить крепости Инголыитадт, Ульм и Филипсбург, так что положение их относительно Германской империи делалось схожим с положением французских армий. Итак, уполномоченным Империи предстояло совещаться посреди двойной ограды войск. Австрия, однако, не вполне добросовестно исполнила тайные статьи: она оставила свои гарнизоны в Ульме, Инголынтадте и Филипсбурге. Чтобы не испортить добрых отношений, Франция закрыла глаза на это отступление от договоренностей. Подняли вопрос о взаимной отправке друг к другу посланников. Австрия отвечала, что в настоящую минуту можно ограничиться сношениями через тех дипломатов, которых державы отправили на Раштаттский конгресс. В этих решениях не ощущалось такого уж большого желания Австрии возобновить дружественные сношения с Францией. Первые объяснения между депутацией Империи и австрийскими посланниками были полны горячности. Германские государства жаловались, что Австрия содействовала их ограблению, признавая за Францией Рейнскую границу и вероломно отдавая Майнц и Мангеймский тет-де-пон; они жаловались, что Австрия, сначала вовлекая Империю в борьбу, оставила ее затем и отдала ее провинции в обмен за владения в Италии. Посланники императора отвечали, что он был вовлечен в войну, защищая интересы Империи, а точнее владетельных эльзасских князей; что, взявшись за оружие, он в течение шести лет прилагал необыкновенные усилия и вынес всю тяжесть войны фактически на себе одном, потеряв в борьбе часть своих владений; что после такой дорогой ценой оплаченных усилий он мог бы ожидать признательности, а не жалоб. Истина же заключалась в том, что император воспользовался интересами эльзасских князей лишь как предлогом к войне; поддерживал ее единственно из своего честолюбия; вовлек в нее, вопреки его желанию, союз германских государств, которому изменял теперь, ища вознаграждений за его счет. После горячих, ни к чему не приведших препирательств следовало успокоиться и установить основания переговоров. Французы хотели левый берег Рейна и предлагали вознаградить терявших свои владения князей секуляризацией церковных владений. Австрия, недовольная приобретением большей части венецианских владений и хотевшая вознаградить себя еще несколькими епископствами, о чем у нее имелись тайные статьи с Францией; Пруссия, согласившаяся с Францией о вознаграждении на правом берегу за Клевское герцогство, которое она теряла на левом; князья, лишившиеся владений и предпочитавшие приобретение новых на правом берегу, вдали от соседства французов, – все одинаково желали уступки Рейнской границы и, в качестве вознаграждения, секуляризации церковных владений. Империи трудно было устоять против такого стечения желаний. Так как полномочия, данные депутации, ставили непременным условием сохранение неприкосновенности Германской империи, то французские посланники объявили эти полномочия ограниченными и недостаточными и потребовали других. Сейм прислал новые; теперь стороны уже могли договариваться об уступке Рейнской границы и отказе от левого берега, но тем не менее депутация продолжала упорно защищать его. Она представляла к тому весьма много оснований, так как в основаниях никогда не бывает недостатка. Отнюдь не Германская империя, заявляла депутация, первой объявила войну. Задолго до того, как сейм издал о ней декларацию, Жюстин уже завладел Майнцем и вторгся в Франконию, и союзу оставалось лишь защищаться. Лишение частитерритории поколеблет его государственное устройство, скомпрометирует самое его существование, необходимое для спокойствия Европы. Провинции левого берега Рейна, которые хотят у них отнять, не представляют большего значения для такого обширного государства, каким сделалась Французская республика. Линия Рейна могла быть заменена другой военной линией, например Мозелем. Из-за весьма, наконец, ничтожных выгод Республика отказывается от столь прекрасной, столь чистой и полезной для нее славы – политической умеренности. Вследствие всего вышеизложенного депутация предлагала оставить Германской империи земли за Мозелем и сделать границей эту реку. На эти основания Франция могла представить свои, тоже превосходные. Без сомнения, фактически начала войну и наступление она; но действительная война – намерений, замыслов, приготовлений – была начата Империей. В Трире и Кобленце собрались и организовались полчища эмигрантов, оттуда-то они должны были направиться унижать и дробить Францию. И Франция пользуется этим – не за тем, чтобы воздать злом за зло, а чтобы вознаградить себя за вынужденную войну, приобретая свою естественную границу – линию Рейна. Итак, продолжали спорить: уступки, даже самые неизбежные, всегда оспариваются. Но было очевидно, что депутация уступит левый берег, и если еще спорит по этому вопросу, то для того лишь, чтобы получить лучшие условия по другим спорным пунктам. Таково было положение Раштаттских переговоров в течение февраля 1798 года.
Тем временем Ожеро, которому Директория, чтобы как-нибудь с ним развязаться, поручила Германскую армию, окружил себя самыми бешеными якобинцами. Его назначение могло быть принято Империей лишь крайне дурно: она опасалась заразы революционных идей и жаловалась на зажигательные лозунги, распространяемые по всей Германии. Общее брожение Европы не предполагало непременно французского вмешательства в качестве объяснения распространения революционных сочинений. Но Директории требовалось устранить всякий предлог к жалобам, к тому же она была недовольна опрометчивым поведением Ожеро: в итоге, директоры отняли у него командование и послали его в Перпиньян под предлогом образования армии, которая будет действовать против Португалии. По наущению Питта португальцы не ратифицировали договор с Республикой, и теперь требовалось поразить союзницу Англии. Впрочем, всё это были лишь пустопорожние разговоры, и поручение Ожеро оставалось приукрашенной немилостью. Франции предстояло не только восстановить сношения со всей Европой, но и руководить новыми республиками. Последние, естественно, были обуреваемы крайностями. На Франции лежала обязанность помочь им избежать потрясений, которые в свое время терзали ее; к тому же она за тем и была призвана, за то ей и платили. Французские армии в Голландии, Цизальпинии и Лигурии содержались за счет этих республик. Если французы решили бы не нарушать их независимости, а предоставить своей участи, то все три республики подверглись бы контрреволюции или разнузданности якобинцев. В первом случае подвергалась опасности республиканская система, во втором – сохранение общего мира. Преобладание якобинцев в Голландии вооружило бы Пруссию и Германию, преобладание их в Цизальпинии и Лигурии потрясло бы всю Италию и вновь вынудило бы к борьбе Австрию. Необходимо было присмирить эти республики, но при этом появлялось другое неудобство: вся Европа жаловалась, что Франция сделала из Голландии, Цизальпинии и Лигурии своих подданных, а не союзников; французов упрекали в стремлении к всемирному владычеству. Итак, нужно было выбирать таких посланников, образ мыслей которых вполне подходил бы стране, куда они отправлялись, и которые имели бы столько такта, чтобы, не делая этого открыто, заставить почувствовать волю Франции. Как видно, необходимо было преодолеть затруднения всякого рода, дабы удержать от столкновения две явившиеся в Европе противоположные политические системы. Они враждовали уже шесть лет, мы будем их видеть в течение года переговоров, и этот год лучше, чем шестилетняя война, докажет их естественную несовместность. Мы уже описывали партии, разделявшие Голландию. Умеренная и благоразумная партия, желавшая конституции, поддерживающей государственное единство и соответствующей времени, имела своими противниками оранжистов, сторонников штатгальтера; федералистов, сторонников прежней самостоятельности провинций, которые стремились к господству в своих провинциях и желали сохранить только слабую федеральную связь; наконец, демократов или якобинцев, желавших единства и чистой демократии. Директория поддерживала первую партию, так как хотела, не впадая в крайности, примирить старую федеративную систему с достаточно сосредоточенным управлением. Много обвиняли французское правительство за желание установить повсюду единую и нераздельную республику и крайне неосновательно рассуждали о ее системе. Единая и нераздельная республика 93-го года – это результат глубокой мысли, если не могущественного инстинкта. Такое однородное и хорошо сплоченное государство, как Франция, находившееся при этом в такой опасности, не могло принять федеративной системы: с введением таковой оно неминуемо погибло бы, – федеративность не соответствовала ни ее географическому строю, ни ее политическому положению. Без сомнения, желать повсюду единства и нераздельности было бы нелепо; но, поставленная во главе новой системы, Директория должна была создать себе могущественных союзников и постараться дать им необходимую силу и прочность; последние же немыслимы без известной степени сосредоточенности и единства. Такова была мысль, или, лучше сказать, инстинкт, который направлял действия властей Французской республики. Со своей стороны, Голландия была бы поставлена федеративной системой в бессильное положение. Ее национальное собрание до сих пор еще не могло дать ей конституции. Собрание ограничивало все регламенты прежних штатов, в нем преобладал федерализм. Сторонники единства и умеренной конституции требовали уничтожения этих регламентов и быстрого введения конституции, а французского посланника Ноайля обвиняли в покровительстве федералистам. В таком положении Франции нельзя было медлить с вмешательством: голландской армией назначили командовать Жубера, одного из сподвижников Бонапарта в Италии, прославившегося походом в Тироль, скромного, бескорыстного, храброго солдата и горячего патриота; Ноайля же сменил Делакруа, бывший министр иностранных дел; впрочем, можно было бы сделать лучший выбор. Директории, к несчастью, недоставало людей для дипломатического поприща. Между членами настоящих или прошлых собраний было много людей просвещенных и выдающихся; но все они не привыкли к дипломатическим приличиям и формам, были слишком догматичны и угрюмы; трудно было отыскать таких, которые с твердостью убеждений соединяли бы мягкость форм, что было необходимо нашим посланникам за границей: требовалось, чтобы они могли заставить уважать наши доктрины, не оскорбляя предубеждений старой Европы. Прибыв в Голландию, Делакруа присутствовал на обеде, данном дипломатическим обществом. Выражаясь самым демагогическим языком, Делакруа воскликнул, поднимая бокал: «Отчего не найдется батава, который решился бы пронзить кинжалом регламент на Алтаре Отечества?!» Легко себе представить действие, которое должны были произвести на иностранцев подобные выходки. И в самом деле, регламент был вскоре проколот. Сорок три депутата протестовали против решений национального собрания. Они собрались 22 января 1798 года (3 плювиоза) в ратуше города Харлема и при поддержке наших войск повторили то же, что было сделано за четыре месяца до того, 18 фрюктидора, в Париже. Они исключили из национального собрания некоторое число подозрительных депутатов, нескольких арестовали, отменили регламент и обратили собрание в род конвента. Несколько дней спустя была отредактирована и получила законную силу конституция, подобная французской. В подражание Конвенту новые власти образовали правительство из членов этого собрания и сами из себя составили директорию и законодательный корпус. Обыкновенно такие процедуры устраивают самые крайние представители партий. Можно было опасаться, что новое батавское правительство будет слишком заражено демократизмом и под влиянием Делакруа перейдет предел, который ей хотела указать Директория. Подобие фрюктидорских событий в Голландии не замедлило подать европейской, особенно же прусской, дипломатии повод заявить, что Франция управляет Голландией и простирается на самом деле до Тексела.
Лигурийская республика находилась в довольно неплохом положении, хотя и ее, как все новые государства, подтачивали две крайние партии. Что же до Цизальпинии, она стала жертвой самых необузданных страстей. Провинциализм разделял цизальпинцев, принадлежавших к прежним государствам, последовательно уничтоженным Бонапартом. Кроме того, новую республику волновали австрийские агенты, дворяне, священники и даже демократы. Последние были опаснее всего, так как находили поддержку в Итальянской армии, составленной, как известно, из самых горячих патриотов Франции. Директории так же трудно было давать направление образу мыслей своих армий в иностранных землях, как и своим посланникам; и в этом отношении ей предстояли такие же затруднения, как и в других. Она еще не посылала своего представителя новой республике; а в качестве главнокомандующего французское правительство представлял Бертье. Определить отношения между новой республикой и республикой-матерью предстояло союзным договором. Этот договор был составлен в Париже и представлен на ратификацию советов. Обе республики заключали наступательный и оборонительный союз на все возможные случаи, и, в ожидании того, как Цизальпиния сделается военным государством, Франция давала ей вспомогательный корпус в двадцать пять тысяч человек на следующих условиях. Цизальпиния должна была предоставить помещения для расквартирования войск, складов, госпиталей, а также 10 миллионов ежегодно на содержание войска. На случай войны должны были быть предоставлены чрезвычайные субсидии. Франция оставляла Цизальпинии значительную часть отбитой неприятельской артиллерии для вооружения ее крепостей. В этих условиях не было ничего чрезмерного, однако многие цизальпинские депутаты, дурно относившиеся к республиканскому порядку и Франции, жаловались в Совете старейшин, что этот договор убыточен, что злоупотребляют зависимостью, в какой находилось новое государство; в результате договор не приняли. Бонапарт, вынужденный сам выбирать состав советов и правительства, не мог безошибочно сделать все назначения; теперь приходилось менять их. Советы, назначенные военной властью Бонапарта, были изменены военной же властью Бертье. Тот удалил некоторых наиболее упрямых членов, а затем вновь представил договор, который и приняли. Было крайне неприятно, что Франции опять пришлось обнаружить свое участие, так как Австрия не замедлила выступить с претензией о том, что, несмотря на все обещания Кампо-Формио, Цизальпиния не независима и фактически является французской провинцией. Аккредитованный от Цизальпинии в Австрии посланник Марескальки встретил, по этой причине, затруднения в своем признании. Территория Франции и новых республик вдавалась в феодальную Европу самым опасным для поддержания мира образом. Между Францией и ее новыми провинциями Савойей и Цезальпинией находилась вполне феодальная, хотя и республиканская Швейцария. Пьемонт, подписавший союзный договор с Францией, располагался между Францией, Цизальпинией, Савойей и Лигурией. Цизальпиния и Лигурия окружали Парму и Тоскану и могли будоражить Рим и Неаполь. Директория рекомендовала своим агентам самую большую сдержанность и воспретила подавать демократам какие-либо надежды. Посланники в Пьемонте, Тоскане, Риме и Неаполе получили приказания демонстрировать самое дружеское расположение в отношении государей, при которых состояли. Они должны были заверить, что нисколько не в намерениях Директории распространять революционные начала, что впредь она ограничится лишь удержанием республиканской системы там, где последняя установилась, но не будет стараться ее распространить в державах, которые будут вести себя честно в отношении Франции. Намерения Директории были искренни и благоразумны. Она, без сомнения, желала революции успеха, но не должна была более содействовать ему вооруженной рукой. Впредь надлежало действовать так, чтобы, если революция и возникнет в каком-либо государстве, нельзя было приписать Франции деятельного в ней участия. К тому же Италия была наполнена государями, родственниками или союзниками великих держав – вредить им, не подвергая себя опасности большой войны, было невозможно. Австрия не замедлила бы вступиться за Тоскану, Неаполь и даже, может быть, Пьемонт; Испания, несомненно, вступилась бы за герцога Пармского. Таковы были инструкции Директории; но нельзя управлять страстями, особенно любовью к свободе. Могла ли Франция воспрепятствовать переписке французских, лигурийских и цизальпинских демократов с демократами пьемонтскими, тосканскими, римскими и неаполитанскими, в которой первые вдыхали в последних жар своих убеждений, поощрений и надежд? Они говорили, что политика препятствует французскому правительству явно вмешиваться в революции, но как только они будут совершены, французы окажут им свое покровительство, и нужно просто иметь смелость их начать. Волнение царило в итальянских государствах. Количество арестов увеличивалось, а наши посланники ограничивались лишь ходатайствами за лиц, несправедливо преследуемых. В Пьемонте аресты были многочисленны, но ходатайства Франции выслушивались часто. Тоскана тоже соблюдала достаточную умеренность. В Неаполе также имелся разряд людей, разделявших новые мнения, но двор, столь же кровожадный, сколь и безумный, боролся с ними с помощью оков и пыток. Наш посланник Труве терпел всяческие унижения; его сторонились как зачумленного, неаполитанцам запрещалось с ним видеться, он даже не мог найти себе врача. Отправляли в тюрьмы тех, кто имел сношения с французским посольством или носил короткие и не напудренные волосы. Письма французского посланника перехватывали, распечатывали и удерживали в неаполитанской полиции в течение десяти или двенадцати дней. Французов убивали. Даже во время своего пребывания в Италии Бонапарт едва мог сдерживать ярость неаполитанского двора; можно себе представить, на что последний оказался способен во время его отсутствия. У французского правительства имелось достаточно сил наказать этот двор; но в видах сохранения общего мира директоры рекомендовали Труве соблюдать умеренность, ограничиваться представлениями и стараться воздействовать с помощью убеждения. Ближе всех к падению подошло папское правительство. Не его вина, что ему пришлось защищаться; тут также производились аресты, но старый папа, гордость которого была сломлена, и неискусные кардиналы с трудом могли поддержать расшатанное государство. Подстрекательствами цизальпинцев уже поднялась Анконская мархия и образовала Анконитанскую республику. Оттуда демократы раздували возмущение по всему государству. Сторонников у них было немного, но их поддерживало общее недовольство. Папское правительство потеряло в глазах народа свой внушительный блеск с того времени, как контрибуции, наложенные в Толентино, заставили его отдать даже драгоценные камни и мебель Святого престола. Новые налоги, бумажные деньги, терявшие около двух третей своей ценности, отчуждение пятой части церковных имуществ возбудили неудовольствие во всех классах, даже в самом духовенстве. Римская знать, довольно близко знакомая с европейским просвещением XVIII века, уже громко роптала против слабого, ни к чему не способного правительства, утверждая, что светской власти римских пап уже пора перейти из рук невежественных, неспособных, чуждых знания жизни холостяков в руки практичных и знакомых со светом граждан. Таким образом, настроение народа было малоблагоприятным. Однако демократы оставались немногочисленными; кроме того, против них были предубеждены в связи с вопросом о религии, считая их врагами таковой. Волновались также французские художники в Риме; но Жозеф Бонапарт[35] старался сдерживать их; он говорил, что у них нет достаточных сил для решительных шагов и они только погубят себя и бесполезно скомпрометируют Францию; что, наконец, он их не поддержит и оставит переносить последствия своей неосторожности. Тем не менее 26 декабря 1797 года (6 нивоза) они предупредили Жозефа о предстоявшем движении. Тот выслушал их и пригласил оставаться спокойными, однако они не поверили французскому посланнику. Тактика руководителей революции состояла в том, чтобы осмелиться на всё и заставить Францию ввязаться вопреки ее желанию. И в самом деле, 28 декабря мятежники собрались для попытки восстания, но, рассеянные папскими драгунами, уже скоро искали убежища в управлении французского посланника и под аркадами палаццо Корсини, где он жил. Жозеф прибыл немедленно, с несколькими французскими военными и генералом Дюфо, молодым и подающим надежды офицером Итальянской армии. Он хотел стать посредником между папскими войсками и инсургентами, во избежание резни; но, не уважая его звания, папские войска открыли огонь и убили несчастного Дюфо прямо рядом с Жозефом. Этот молодой человек должен был жениться на свояченице последнего. Смерть его произвела необыкновенное впечатление. Многие иностранные посланники явились к Жозефу, особенное же внимание проявил испанский посланник Азара. Только римское правительство в течение четырнадцати часов не посылало никого к послу Франции, хотя тот и не переставал писать правительству в течение всего дня. Жозеф в негодовании потребовал паспортов; ему их выдали, и он немедленно отправился в Тоскану. Всем было ясно, что папское правительство могло предупредить эту сцену – ее предвидели в Риме уже за два дня, но хотели дать ей обнаружиться, чтобы преподать демократам строгий урок. А затем, в смятении, правительство не сумело принять нужных предосторожностей – предупредить нарушение международного права и покушение на французское посольство. В Цизальпинии тотчас же возникло против Святого престола крайнее раздражение, а Итальянская армия громко требовала, чтобы ее вели на Рим. Директория находилась в затруднительном положении: в папе она видела духовного главу партии, враждебной Революции; с другой стороны, лишить власти римского первосвященника было большим искушением, несмотря на опасность оскорбить тем державы и вызвать их вмешательство. Однако каковы бы ни были соображения, удерживавшие от неприязненного решения, революционные страсти восторжествовали, и Директория приказала генералу Бертье, главнокомандующему в Италии, идти на Рим. Надеялись, что падение папской власти не вызовет никакого вмешательства извне, так как папа не являлся ни родственником, ни союзником какого-либо двора. Велика была радость всех республиканцев, когда 10 февраля 1798 года (22 плювиоза) Бертье подошел к древней столице мира, в которую не входили еще до сих пор республиканские армии. Наши солдаты остановились в виду древнего и великолепного города. Посол Азара, постоянный посредник всех итальянских держав, прибыл в главную квартиру для заключения конвенции. Замок Святого Ангела был сдан французам на естественном между цивилизованными народами условии уважать богослужение, общественные учреждения, частных лиц и собственность. Папу в Ватикане не тронули, Бертье же вступил в Капитолий через Народные ворота, как древние римские триумфаторы. В восторге от осуществления своих желаний, демократы собрались на Кампо Вачино, где еще виднеются остатки старинного Форума, и, окруженные обезумевшим народом, провозгласили Римскую республику. Нотариус составил акт, по которому народ, именовавший себя римским, объявлял о своем вступлении в державные права и об образовании республики. От папы, оставшегося в Ватикане в одиночестве, потребовали отречения от светской власти, так как в его духовную власть вмешиваться не хотели. Он с достоинством отвечал, что не может отказаться от собственности, ему не принадлежащей, наследия апостолов, которое находится в его руках только на сохранении. Эта теология мало тронула наших республиканских генералов, и папа, со всем уважением, заслуженным его летами, был ночью взят из Ватикана и препровожден в Тоскану, где и получил убежище в монастыре. Римский народ, казалось, мало сожалел об этом государе, хотя он и царствовал более двадцати лет. К несчастью, насилие не против лиц, но против собственности запятнало вступление французов в древнюю столицу мира. Во главе армии стоял уже не строгий и непоколебимый начальник, который если не из добродетели, то из страха перед беспорядками так сурово наказывал грабителей. Только Бонапарт мог обуздать алчность в этой столь богатой стране. Бертье отправился в Париж; его преемником остался Массена. Этот герой, чьей победе при Цюрихе Франция обязана вечной признательностью за спасение от неизбежной гибели, говорят, первым подал пример. Его примеру последовали другие. Стали грабить дворцы, монастыри, собрания редкостей. Евреи, следовавшие за армией, за бесценок скупали предметы роскоши, которые им отдавали расхитители. Все предметы по праву завоевания должны были составлять казенную собственность, и продажей их с публичных торгов следовало бы выплатить жалованье армии, не получавшей его пять месяцев. Неудовлетворительное состояние финансов в Цизальпинии помешало ей доставить условленную по договору субсидию. Солдаты и низшие офицеры жили в страшной нищете; они негодовали, глядя на своих начальников, обогащавшихся грабежом и компрометировавших славу французского имени без всякой выгоды для своей армии. Против Массена возмутились: офицеры собрались в церкви и объявили, что не желают служить под его началом. Часть населения, враждебная французам, готовилась воспользоваться раздором для организации восстания. Тогда Массена вывел армию из Рима, оставив гарнизон в замке Святого Ангела. Опасность остановила военный бунт, но офицеры продолжали держаться друг друга и требовали преследования грабителей и отозвания генерала. Таким образом, к затруднениям в делах новых республик и в выборе и направлении наших представителей присоединилась еще необходимость сдерживать армии, и всё это на огромных для административных сношений расстояниях. Директория отозвала Массена и отправила в Рим комиссию из четырех честных и просвещенных лиц: Дону, Монжа, Флорана и Фейпу; на них возложили организацию новой республики. Всё, что касалось финансов, отдали Фепу, искусному и честному администратору. Итальянская армия была разделена на две; войска, свергнувшие папу, составили вторую армию – Римскую. Новую революцию предстояло оправдать перед державами. Испания, набожности которой можно было опасаться, но которая находилась под французским влиянием, не протестовала ничем. Однако корыстный интерес более несговорчив, чем религиозная ревностность; и по этой причине два самых недовольных двора были венский и неаполитанский. Венскому двору трудно было перенести распространение французского влияния в Италии. Чтобы не раздражать его, новую республику не присоединили к Цизальпинии; она составила самостоятельное государство. Соединить их вместе значило вызвать идею итальянского единства и дать повод предполагать намерение демократизировать всю Италию. Хотя император и не прислал в Париж своего посланника, к нему все-таки отправили послом Бернадотта – дать необходимые объяснения по поводу последних событий в Италии и состоять при венском дворе. Что же касается неаполитанского двора, то при виде революции у своих ворот ярость его не знала пределов. Чтобы неаполитанцы могли успокоиться, им нужно было отдать по меньшей мере две или три римских провинции. Главным же образом Неаполь рассчитывал на герцогство Беневентское и Понте-Корво, находя их для себя вполне удобными. Для соглашения с Неаполем послали Тара; Труве назначили в Цизальпинию.
Итак, Революция добивалась неизбежного успеха, и гораздо скорее, чем того желала Директория. Мы уже называли страну, вступлением в которую она угрожала, – это Швейцария. Казалось бы, Швейцарии, этой древней колыбели свободы, отечеству простых и патриархальных нравов, не приходилось ничего принимать от Франции, но из того, что тринадцать кантонов имели республиканские формы правления, еще не следовало, что справедливость управляла взаимными отношениями этих маленьких республик, а главное – существовала в их отношении к своим подданным. Феодализм, та же военная иерархия, царил между этими республиками: одни народы зависели от других как вассал от своего сюзерена и стонали под железным игом. Аргау и кантон Ваадт зависели от бернской аристократии; Нижний Вале – от Верхнего; итальянские округа, соседствующие с Италией, зависели от разных кантонов. Кроме того, имелась масса общин, подчиненных сразу нескольким городам. Кантоном Санкт-Галлен управлял монастырь. Почти все кантоны, находившиеся в подчинении, обрели таковую зависимость на основании хартий, преданных забвению; их было воспрещено даже показывать. Деревни зависели от городов и были подчинены самым возмутительным монополиям; нигде не была так велика тирания цехов. Почти во всех правительствах аристократия медленно и последовательно завладевала властью, которую всю почти и захватила. В Берне, стоявшем на первом месте в ряду этих маленьких государств, несколько семейств завладели всей властью и отстранили от нее всех прочих; у них была своя Золотая книга, в которую вписывали все правящие семейства. Часто нравы смягчают законы, но не так было здесь. При случае эти аристократии мстили маленьким государствам. Берн, Цюрих и Женева часто прибегали к арестам и пыткам. Повсюду в Европе встречались швейцарцы, изгнанные из своего отечества или спасавшиеся изгнанием от мести аристократов. Впрочем, дурно сплоченные, мало привязанные друг к другу, тринадцать кантонов не имели никакой силы; они были не в состоянии защищать свою свободу. Все они, как дурные братья, в своих частных столкновениях прибегали к соседним государствам и заключали отдельные договора: одни с Австрией, другие с Пьемонтом, третьи с Францией. Итак, Швейцария представляла собой только прекрасное воспоминание и удивительную местность; политически же она являлась цепью мелких и унизительных тираний. Понятно, какое действие должен был оказать на нее пример Французской революции. В Цюрихе, Базеле и Женеве начались волнения, в последнем городе – даже с пролитием крови. Во всей Французской Швейцарии, главным образом в Ваадте, революционные идеи имели большой успех. Со своей стороны, швейцарские аристократы использовали всякий повод, чтобы раздосадовать Францию, и всеми путями старались устроить при случае неприятности, чтобы ей не представилось повода выказать над ними свое могущество: в Берне принимали эмигрантов и оказывали им всевозможные услуги. В Швейцарии же составлялись все тайные заговоры против Республики; уже упоминалось, что английский агент Уикхем заправлял всеми пружинами контрреволюции именно в Базеле. Директория имела, следовательно, причины быть недовольной. Существовало весьма удобное средство отмстить Швейцарии. Преследуемые бернскими дворянами, ваадтцы обратились к покровительству Франции. Когда герцог Савойский уступил их Берну, Франция гарантировала им права договором 1565 года и неоднократно уже опиралась на этот договор и требовала его исполнения. А значит, не было ничего странного в заступничестве Директории, к которому прибегали ваадтцы. Многие из этих мелких зависимых кантонов имели иностранных покровителей. Выше упоминалось об энтузиазме населения Ваадта при встрече освободителя Вальтеллины. Ваадтцы, полные надежд, отправили в Париж депутатов и открыто добивались французского покровительства. Их соотечественник, храбрый и несчастный Лагарп, умер, сражаясь за наше дело в Италии, во главе одной из наших дивизий; тирания, которую терпели ваадтцы, была ужасной, и если уж не политические соображения, то простое чувство человечности должно было побудить Францию вмешаться. Нельзя было бы себе представить, чтобы Франция, при ее новых принципах, отказалась от исполнения договоров, защищавших свободу соседнего народа, которые исполнялись даже старой монархией. Только одно соображение могло тому воспрепятствовать: это значило дать новый повод для беспокойства Европе, особенно же в минуту крушения папского трона в Риме. Но Франция, остерегавшаяся трогать Германию, Пьемонт, Парму, Тоскану или Неаполь, не имела причин к такой осторожности в отношении Швейцарии; к тому же ей очень хотелось утвердить сходное со своим правительство в стране, которая считалась военным ключом всей Европы. Здесь, как и в Риме, Директорию отвлек от политики наблюдения высший интерес. Передать Альпы в дружественные руки было столь же завлекательным побуждением, как и свергнуть папство. На основании этих соображений 28 декабря 1798 года (8 нивоза) Франция объявила, что принимает Ваадт под свое покровительство и что члены правительств Берна и Фрейбурга отныне отвечают за неприкосновенность личности и собственности ваадтцев. Генерал Менар с бывшей дивизией Массена перешел Альпы и стал у Каружа в виду Женевского озера. Генерал Шауэнбург с дивизией Германской армии поднялся по Рейну и стал около Эржеля, в окрестностях Базеля. При таком обороте дел население Ваадта, Базельского епископства и деревень возле Цюриха возликовало. Ваадтцы потребовали возобновления своих старых штатов. Берн отвечал, что будут приниматься лишь личные петиции, но собрание штатов не будет допущено, а затем потребовал возобновления присяги на верность. Это послужило сигналом к восстанию Ваадта. Ландфохты, как гнусные тираны, были прогнаны, впрочем, не подвергаясь оскорблениям; повсюду водрузили деревья свободы, и в несколько дней Ваадт превратился в Леманскую республику. Директория признала республику и приказала генералу Менару занять ее, уведомив перед тем Бернский кантон, что ее независимость гарантирована Францией. В то же время революция совершилась и в Базеле. Главным двигателем ее был трибун Оке, умный человек, весьма преданный революции и имевший большие связи с французским правительством. Сельские жители вместе с горожанами были допущены в конвент, который был образован для составления конституции. Автором ее был Оке, она походила на французскую, служившую образцом для всей республиканской Европы, была переведена на все три языка – французский, немецкий и итальянский – и распространена по всем кантонам. Находившийся в Базеле французский представитель Менго продолжал вдохновлять народное движение. В Цюрихе возмутилось сельское население, потребовав участия в управлении. Между тем дворяне Берна собрали армию и созвали в Аргау общий сейм для обсуждения положения Швейцарии и чтобы потребовать от каждого кантона федеральный контингент. Они разглашали между своими немецкими подданными, что Французская Швейцария хочет отделиться от союза и присоединиться к Франции; что религия в опасности и ее хотят уничтожить парижские атеисты. Таким путем они побудили спуститься с гор Оберланда народ простой, невежественный, фанатичный, убежденный, что покушаются на его древнюю веру. Набрали около двадцати тысяч человек, разделенных на три корпуса, расположенных по реке Аре (во Фрейбурге, Муртене, Бюрене и Золотурне) и наблюдавших за французами. Тем временем сейм, собравшийся в Аргау в феврале, в смущении не знал, на что решиться. Его присутствие в Аргау не помешало поселянам восстать, водрузить дерево свободы и объявить свою независимость. Бернские войска вступили в Аргау, опрокинули дерево свободы и устроили беспорядки. Агент Менго объявил, что население Аргау находится под покровительством Франции. Военные действия еще не начинались, хотя обе стороны уже были наготове. Франция, призванная населением, которому она гарантировала безопасность, защищала его своими войсками и угрожала прибегнуть к оружию в случае, если против жителей будет совершено какое-нибудь насилие. Со своей стороны, бернская аристократия настаивала на державных правах, объявляла, что хочет жить с Францией в мире, но удержать и возвратить свои владения. К ее несчастью, все старые правительства вокруг нее падали – добровольно или через насилие. Базель освобождал итальянские ландфохтства; Верхний Вале освобождал Нижний; во Фрейбурге, в Золотурне и Санкт-Галлене нарастала революция. Теснимая со всех сторон, бернская аристократия соглашалась на некоторые уступки (например, допустить к управлению еще пятьдесят человек из деревень), но откладывала на год изменение конституции. Такая пустая уступка не могла ничего исправить. Французский парламентер отправился к бернским войскам, поставленным на границе Ваадта, с объявлением, что если они двинутся далее, то будут атакованы. Парламентер подвергся нападению, и два всадника из его конвоя были убиты. Этот случай решил открытие войны. Брюн, командующий французскими войсками, участвовал в нескольких совещаниях в Пайерне, но они ни к чему не привели, и 2 марта (12 вантоза) французские войска выступили. Генерал Шауэнбург с Рейнской дивизией, расположенной у Базеля, завладели Золотурном и течением Аре. Брюн с Итальянской дивизией завладел Фрейбургом. Командовавший бернскими войсками генерал Эрлах отступил на позиции, прикрывающие Берн со всех сторон, как со стороны Золотурна, так и со стороны Фрейбурга. Как это всегда происходит в таких случаях, отступление имело свои обычные результаты среди фанатично настроенных и недисциплинированных солдат: они сейчас же убедились, что изменнически преданы, и перебили своих офицеров. Часть их рассеялась. Тем не менее у Эрлаха еще осталось несколько батальонов, известных всей Европе своей дисциплинированностью и храбростью, и некоторое число отважных крестьян. Пятого марта Брюн на Фрейбургской и Шауэнбург на Золотурнской дорогах атаковали швейцарскую армию. Генерал Пижон с авангардом Брюна напал на позицию при Нойенегге. Швейцарцы дали геройский отпор и, благоприятствуемые местностью, загородили путь нашим закаленным итальянским ветеранам. Но в то же время Шауэнбург со стороны Золотурна отнял у Эрлаха позицию при Фраубруннене, и город Берн остался с этой стороны беззащитен. Швейцарцы вынуждены были отойти и в беспорядке отступили к Берну. Перед городом французы обнаружили множество отчаянных и фанатичных горцев; женщины и старики сами устремлялись на их штыки, и приходилось, к сожалению, убивать этих несчастных, искавших бесполезной смерти. Жители гор поддерживали свою старинную репутацию храбрецов, но выказали себя столь же озверевшими и ослепшими от ярости, как и испанская чернь. Вновь они перерезали своих офицеров и теперь уже убили несчастного Эрлаха. Знаменитый бургомистр Берна Штейгер едва спасся от ярости фанатиков, сбежав через горы Оберланда в малые кантоны, а оттуда – в Баварию. Взятие Берна вынуждало к покорности и все большие швейцарские кантоны. Брюн, призванный, как это часто случалось с нашими генералами, основать республику, думал отделить французскую часть Швейцарии, Женевское озеро, Ваадт, часть Бернского кантона и Вале и составить из них отдельную республику – Роданскую[36]. Но швейцарские патриоты желали революции в своем отечестве именно в надежде достигнуть тем двух важных выгод: уничтожения зависимости одних народов от других и единства всей Гельвеции. Они желали исчезновения всех внутренних тираний и образования центрального правительства и достигли того, что из всех частей Швейцарии была образована одна республика. В Аргау созвали собрание для представления республике новой конституции, придуманной в Базеле. Для соглашения швейцарцев – как между собою, так и с Францией – относительно введения удовлетворявшей всех конституции Директория послала бывшего конвенционалиста Лекарлье. Тут и там вспыхивало последнее сопротивление в малых горных кантонах: Ури, Гларусе, Швице и Цуге. Побитые священники и аристократы убеждали несчастных горцев, что покушаются на их религию и независимость. Распускали нелепые слухи о том, что Франции нужны солдаты для войны с Англией и потому она хочет завладеть сильными детьми Швейцарии, посадить их на суда и выслать к берегам Великобритании. Вступив в Берн, французы завладели правительственными кассами, что составляет обычное и менее всего оспариваемое право войны. Вся собственность побежденного правительства принадлежит государству победившему. Во всех этих малых государствах, экономных и скупых, имелись солидные сбережения. Для жалованья и содержания войск наложили контрибуцию на аристократию Берна, Фрейбурга, Золотурна и Цюриха.
Приближался конец зимы 1798 (года VI); едва пять месяцев прошло после Кампо-Формийского мира, а положение Европы уже значительно изменилось. Республиканская система с каждым днем распространялась всё более; к трем основанным Францией республикам прибавилось еще две, и не более чем в два месяца. Повсюду в Европе звучали новые названия: Батавская республика, Гельветическая республика, Цизальпинская, Лигурийская, Римская, наконец. Вместо трех государств Франции приходилось теперь руководить пятью: новые заботы, новая необходимость давать державам объяснения. Директория постепенно вступала на этот скользкий путь. Нет ничего честолюбивее известной системы: почти всё становится принадлежностью ее одной, и часто даже без умысла ее творцов. В то время как Директории приходилось заниматься внешними делами, ее также беспокоили выборы. После 18 фрюктидора членами советов оставались лишь депутаты, которых Директория захотела сохранить и на которых могла рассчитывать, то есть все те, кто одобрял государственный переворот или претерпел от него. Прошло шесть месяцев затишья после борьбы между исполнительной властью и советами; как мы видели, Директория употребила их на переговоры, морские проекты и создание новых государств. Хотя царило полное спокойствие, но было еще далеко до совершенного согласия: две власти, противоположные по существу и значению, не могут находиться в согласии продолжительное время. Образовалась новая оппозиция уже не из роялистов, но из патриотов. Можно заметить, что, победив одну партию, правительство вынуждено было вступить в борьбу с прежними своими союзниками, так как последние делались в свою очередь слишком требовательными и начинали возмущаться. Со времени 9 термидора, когда партии уравновесились, они попеременно то терпели поражения, то одерживали победы: патриоты были побеждены в жерминале и прериале, роялисты непосредственно после них – в вандемьере. С вандемьера и учреждения Директории патриоты, в свою очередь, взяли верх до попытки в Гренельском лагере. С этого дня роялисты оказались на коне, но опять потеряли главную роль 18 фрюктидора, и теперь наступало время поднять голову патриотам. Такой ход дел характеризовали выразительным словом, которое использовали и позже, – шатания. Политику, заключавшуюся в попеременном поддержании то одной, то другой партии, называли системой шатания. Директорию упрекали в том, что она прибегла к этой системе и стала рабой фракции, ей помогавшей. Упрек этот был неоснователен, потому что никакое правительство не может уничтожить все партии сразу и управлять страною без них и вопреки им, по крайней мере в том случае, когда правительство не ставит во главе правления победоносный меч. При каждой перемене системы вынуждены изменять состав администрации, назначать тех чиновников, образ мыслей которых согласуется с восторжествовавшей системой. Все сторонники победившей партии, полные надежд, толпою теснятся вокруг и докучают правительству, готовые напасть на него, если оно не удовлетворит их желания. И вот теперь поднялись патриоты, пользуясь поддержкой депутатов, вотировавших в советах вместе с Директорией. Притязаниям многих Директория дала отпор, но некоторых пришлось удовлетворить. Комиссарами в департаменты (префектами) назначили многих патриотов, другие готовились воспользоваться выборами, чтобы попасть в законодательный корпус; большая часть назначений была сделана в их пользу. Кроме новой оппозиции, состоявшей из патриотов, желавших злоупотребить 18 фрюктидора, имелась и другая – именовавшая себя конституционалистами. Последние вновь поднялись, претендовали быть независимыми, умеренными, преданными существующим законам; эту оппозицию составляли люди, не принадлежавшие ни к какой партии, но имевшие личные претензии. Одним не удалось добиться посольства, чина или подряда для кого-нибудь из своих родственников; другим не хватило несколько голосов, чтобы попасть на вакантное место в Директории. Такого рода неудовлетворенность – вещь обыкновенная при новом, недавно утвердившемся правительстве, состоявшем из людей, лишь накануне бывших простыми гражданами. Утверждают, что наследуемые должности – узда для честолюбия, и это правда, если только ее ограничивают некоторыми должностями. Не подозревая об этом, Директория сделала недовольными множество депутатов, считавшихся некогда ее приверженцами; вследствие их притязаний с ними крайне трудно было расплатиться за поддержку во время фрюктидорских событий. Один из братьев Бонапарта, Люсьен, выбранный от Корсики депутатом в Совет пятисот, стал в ряды оппозиции конституционалистов не потому, что имел предлог к личному неудовольствию, но из подражания своему брату: он тоже принимал роль цензора правительства. Такое положение приличествовало семейству, желавшему поставить себя на особое место. Люсьен был остроумен и одарен замечательным ораторским талантом, на трибуне он производил большой эффект, особенно благодаря отблеску славы брата. Выехав из Рима, прибыл в Париж Жозеф; он жил роскошно, принимал депутатов, генералов и многих замечательных людей. Эти два брата могли сделать многое из того, что приличия и сдержанность воспрещали главнокомандующему. Тем не менее, если теперь и можно было отличить оттенки мнений в почти единогласных ранее советах, то еще нельзя было заметить никакой резкой черты между ними: в советах царили умеренность и взаимное внимание, и все предложения Директории одобрялись абсолютным большинством. Всё предвещало,что выборы года VI будут проведены в благоприятном для патриотов смысле. Патриоты преобладали во Франции во всех новых республиках, и Директория решилась воспользоваться любыми законными путями, чтобы не дать последним стать сильнее нее самой. Ее комиссары обращались с умеренными циркулярами, заключавшими в себе, правда, внушения, но не угрозы. Она не располагала ни одним из способов воздействия наподобие гнусных подтасовок, придуманных в настоящее время для направления выборов по произволу правительства. Во время выборов года V некоторые избирательные собрания разделились, и, во избежание насилия, часть избирателей вотировала отдельно. Тому же было предположено следовать и в избирательных собраниях настоящего года: почти всюду они разделились; почти всюду меньшинство избирателей под предлогом нарушения закона или насилия против них, составив отдельные собрания, устраивало особые выборы. Правда, в некоторых департаментах обычное буйство патриотов узаконивало удаление их противников. В некоторых избирательных собраниях в меньшинстве оказались патриоты, и тогда они тоже отделились; но почти повсюду они были в большинстве, так как враждебное им население, принимавшее такое деятельное участие в предшествовавших выборах и напуганное 18 фрюктидора, теперь испытывало отвращение к политике и не желало принимать в ней участия. Тем не менее в Париже выборы проходили весьма оживленно; образовались два избирательных собрания: одно в Оратории – из патриотов, заключавшее по меньшей мере 600 избирателей, другое в Институте – из умеренных республиканцев, числом 228 избирателей. Вообще выборы были двойные. Недовольные, люди, которые желали изменения существовавшего порядка вещей, уже поговаривали: «Так не может продолжаться; совершив 18 фрюктидора против роялистов, мы теперь вынуждены делать то же против патриотов». Стали толковать об изменении Конституции, даже сделали об этом предложение Директории, но она его отвергла. Можно было принять по поводу выборов различные решения. Действуя на основании строгих принципов, советы должны были бы одобрить выборы, совершенные большинством; иначе выходило, что меньшинство, отделяясь, могло взять верх и завладеть выборами. Насилие и любое отступление от закона могли служить основанием к признанию недействительным выбора большинства, но никак не к утверждению выбора меньшинства. На этом мнении особенно настаивали патриоты в советах, так как тогда их партия имела бы большинство почти во всех собраниях и могла рассчитывать на верную победу. Но основное большинство советов не желало позволять им подобного и предложило два средства: или выбирать между кандидатами разделившихся избирательных собраний, или устроить новое 18 фрюктидора. Последнего средства допустить было нельзя; первое же было гораздо более естественным и мирным. Оно и было принято. Почти повсюду выборы патриотов признали недействительными, а выборы их противников утвердили. Тем не менее, несмотря на эту меру, новая треть внесла в советы поддержку патриотической партии. Последняя была очень раздражена мерой, принятой для исключения ее избранников, и вследствие того стала больше восставать против Директории. Предстояло выбрать нового директора. Жребий выйти из состава Директории выпал Франсуа де Нёвшато. Он был замещен Трельяром, бывшим одним из наших уполномоченных в Раштатте; на последнем конгрессе его заменил Жан Дебри, бывший законовед и член Национального конвента.
С тех пор как, с введением Конституции года III, партии были принуждены бороться в ограниченных конституцией узких пределах, внутренние события получали меньше блеска. Особенно же после 18 фрюктидора трибуна утратила свое былое значение. Внимание привлекали внешние сношения. Значительное влияние Республики в Европе, ее выдающиеся и многосторонние сношения с державами, кортеж следующих за нею спутников-республик, устраиваемые ею повсюду революции, ее планы против Англии – всё это приковывало общее внимание. Как Франция сумеет одолеть свою соперницу, и удастся ли ей поразить ее теми страшными ударами, какие она уже нанесла Австрии? Вот вопрос, который занимал всех. Уже привыкли к такой смелости и к таким чудесам, что переправа через Ла-Манш не представляла собой ничего удивительного. Друзья и враги Англии считали ее в большой опасности; и сама она, находя свое положение весьма небезопасным, прилагала чрезвычайные усилия для самозащиты. Внимание всего мира было обращено на пролив Па-де-Кале. Бонапарт, думавший о Египте так, как два года назад думал об Италии, как он вообще думал обо всем, то есть с неудержимой настойчивостью, предложил Директории свой план, который она и обсуждала в настоящее время. Великие гении, устремлявшие свой взгляд на карту мира, все думали о Египте. Можно указать на троих: Альбукерки[37], Лейбница и Бонапарта. Альбукерки чувствовал, что Португалия, открывшая дорогу в Индию вокруг мыса Доброй Надежды, может лишиться этого великого торгового пути, если другие воспользуются Нилом и Красным морем. Вследствие этого он задумал изменить направление Нила и повернуть его в Красное море, дабы сделать его течение недоступным и навсегда обеспечить индийскую торговлю за Португалией. Тщетная предусмотрительность гения, который хочет сделать вечным всё превратное и изменчивое! При Людовике XIV великий и всеобъемлющий Лейбниц обратился к монарху с меморандумом, одним из лучших памятников разума и политического красноречия. Людовик XIV хотел напасть на Голландию из-за нескольких медалей. «Государь, – говорил ему Лейбниц, – не у них дома вы можете победить этих республиканцев; вы не перейдете за их плотины и заставите стать на их сторону всю Европу. Нанести удар вы им можете лишь в Египте. Там вам откроется настоящий торговый путь в Индию; вы выхватите из рук голландцев их торговлю, вы обеспечите вечное владычество Франции над Востоком, вы обрадуете всё христианство, весь мир будет глядеть на вас; далекая от того, чтобы против вас вооружаться, Европа будет рукоплескать вам». Эти-то великие идеи, которыми пренебрег Людовик XIV, занимали теперь молодого республиканского генерала. О Египте подумывали еще недавно. Шуазель намеревался занять его, когда все колонии в Америке были под угрозой. Об этом думали и тогда, когда Иосиф II и Екатерина угрожали Оттоманской империи. Незадолго до этого французский консул в Каире, господин Магаллон, просвещенный и способный человек, хорошо знакомый с положением дел на Востоке и в Египте, обратился к правительству с целью указать как на насильственные поборы, взимаемые мамелюками с французских товаров, так и на выгодные последствия, какие можно было бы извлечь, наказав мамелюков. Бонапарт ознакомился со всеми этими документами и на основании полученных данных составил свой план. По его мнению, Египет был промежуточным пунктом между Европой и Индией; там нужно было утвердиться, чтобы разорить Англию; оттуда можно было владычествовать над Средиземным морем и сделать из него, согласно одному из выражений Бонапарта, Французское озеро; обеспечить сохранность Оттоманской империи или взять лучшую ее часть после разделения. Раз утвердившись в Египте, можно было избрать два пути: или создать морские силы в Красном море и уничтожить господство англичан в Индии, или сделать из Египта колонию и огромный склад. Индийская торговля не замедлила бы перейти туда, оставив мыс Доброй Надежды. В Каире уже сходились все караваны Сирии, Аравии и Африки; торговля уже одних этих стран могла бы сделаться очень обширной. Египет был плодоноснейшей страной. Кроме изобилия зерна всякого рода, он мог доставлять все колониальные продукты Америки, так что, обладая им, можно было обходиться без прочих колоний. Итак, смотря на Египет как на исходный пункт для нападения на английские владения в Индии или как на склад, – в любом случае можно было быть уверенным в возвращении великой торговли на ее настоящий путь, который протекал бы через владения Франции. Это смелое предприятие имело в глазах Бонапарта все выгоды своевременности. Согласно обстоятельному донесению консула Магаллона, настоящая минута больше всего подходила для экспедиции в Египет. Ускорив приготовления к отплытию, туда можно было прибыть в первые летние дни. Жатва тогда уже должна была быть окончена и собрана, ветры же еще благоприятствовали бы движению флотилии вверх по Нилу. Бонапарт придерживался мнения, что до зимы высадка в Англии невозможна, и притом последняя уже слишком предупреждена; экспедиция же в Египет, напротив, будучи неожиданной, не встретит препятствий, а нескольких месяцев будет достаточно для утверждения там французов, сам же он возвратится осенью для исполнения высадки в Англию; время будет тому благоприятствовать, Англия пошлет в Индию часть своих морских сил, и для высадки на английские берега можно будет ожидать гораздо меньших препятствий. Кроме всех этих побуждений, Бонапарт имел еще и личные: праздность в Париже была для него невыносима, и он не видел возможности что-либо совершить в политике, а между тем он хотел идти дальше. Он говорил тогда: «Великое имя можно приобрести лишь на Востоке». Директория, которую обвиняли в том, что она послала Бонапарта в Египет, чтобы как-нибудь с ним развязаться, напротив, представляла большие возражения против этого плана. Ларевельер-Лепо особенно упорно его оспаривал. Он говорил, что рискуют тридцатью или сорока тысячами лучших французских солдат, подвергают их случайностям морского сражения, лишают себя лучшего генерала, которого Австрия опасается больше других; и всё это в такую минуту, когда замирение континента далеко не может считаться полным, а образование республик может вызвать сильное раздражение; что, ко всему этому, вторгаясь в провинции Порты, заставляют и ее взяться за оружие. Бонапарт находил на всё это возражения. Он говорил, что нет ничего легче, чем избегнуть англичан, стоит только оставить их в неведении относительно плана; что участь Франции, при ее трехсот– или четырехсоттысячной армии, не зависит от тридцати или сорока тысяч солдат, а что касается его самого – он скоро возвратится; что Порта уже потеряла Египет после узурпации мамелюков и с удовольствием будет смотреть на наказание их Францией; что взрыв на континенте не воспоследует так скоро и пр., и пр. Он говорил также и о Мальте, что отнимет ее мимоходом у ордена и обеспечит Франции обладание ею. Споры были весьма горячи и привели к сцене, с тех пор описываемой ошибочно. Бонапарт, в порыве нетерпения, обмолвился словом «отставка». «Я далек от желания дать вам ее, – воскликнул Ларевельер с твердостью, – но если вы подадите прошение о ней, я придерживаюсь того мнения, что ее следует принять!» С этой минуты Бонапарт уже не заикался об отставке. Наконец побежденная настояниями и доводами Бонапарта, Директория согласилась на предлагаемую экспедицию. Ее прельстили величие предприятия, его торговые выгоды, обещание Бонапарта возвратиться зимой и попытать счастья на побережье Англии. Условились о секретности и, для лучшего сохранения тайны, решили не прибегать к помощи секретарей. Мерлен, президент Директории, собственноручно написал приказ об экспедиции. Условились, что Бонапарт может взять 36 тысяч человек из прежней Итальянской армии, известное число офицеров и генералов по своему выбору, ученых, инженеров, географов, рабочих всякого рода и эскадру Брюэ, усиленную частью кораблей, остававшихся в Тулоне. Казначейству приказали выдавать Бонапарту каждую декаду полтора миллиона. Бонапарт немедленно образовал комиссию, на которую возложил осмотр портов Средиземного моря и подготовку в них всех необходимых транспортных средств. Эта комиссия именовалась Комиссией вооружения берегов Средиземного моря. Ей, как и всем, не была известна цель вооружений; секрет знали только Бонапарт и пять директоров. А поскольку большие приготовления велись разом во всех портах, то и предполагали, что вооружение Средиземного моря – только последствие таких же вооружений на океане. Армия, собранная на Средиземном море, называлась левым крылом Английской армии. Бонапарт приступил к делу с необыкновенной энергичностью, какую он вносил в исполнение всех своих планов. Бегая попеременно то к военному министру, то к морскому, оттуда к министру финансов, а затем в казначейство, он лично наблюдал за исполнением своих приказаний, применял всё свое влияние, чтобы торопить экспедицию, переписывался со всеми портами, со Швейцарией и Италией и подготовил всё необыкновенно быстро. Для сосредоточения транспортов и войск он назначил четыре пункта: главный транспорт должен был выйти из Тулона, второй из Генуи, третий из Аяччо, четвертый из Чивитавеккьи. Бонапарт направил на Тулон и Геную отряды Итальянской армии, возвращавшиеся во Францию, а на Чивитавеккью – дивизию, отправленную на Рим. Он заключил во Франции и Италии контракты с капитанами торговых кораблей и достал в портах, которые должны были служить пунктами отплытия, четыреста судов. Он собрал многочисленную артиллерию, отобрал 2500 самых лучших кавалеристов и посадил их на суда без лошадей; последними он рассчитывал их снабдить за счет арабов. С собой он велел иметь только седла и сбрую, на борт же взять только 300 лошадей, чтобы при высадке иметь несколько всадников и некоторое число запряженных орудий. Он собрал рабочих всякого рода. В Риме велел взять типографские станки с греческим и арабским шрифтом, а также известное число типографщиков. Он образовал полную коллекцию физических и математических инструментов. Ученые, артисты, инженеры, рисовальщики, географы – число лиц, которые должны были сопутствовать Бонапарту, простиралось до сотни. Сотрудниками его предприятия являлись самые знаменитые имена; в экспедиции принимали участие Монж, Бертолле, Фурье, Доломье, врачи Деженетт и Ларрей. Все хотели разделять славу молодого генерала. Не знали даже, удастся ли высадиться, но за ним готовы были следовать повсюду. Дезе, во время переговоров в Удино, отправился посетить ставшие столь знаменитыми поля сражений в Италии. Затем он подружился с Бонапартом и пожелал ему сопутствовать. Клебер жил в Шайо, по-прежнему недовольный правительством и не желая просить назначения. Он часто посещал признанного мастера в искусстве, которое так страстно любил. Бонапарт предложил ему отправиться вместе с ним. «Но адвокаты, – сказал Клебер, – захотят ли они?» Так он называл директоров. Бонапарт взялся уладить все затруднения. «Ну, – сказал Клебер, который думал, что отправляются в Англию, – если вам понадобится спустить брандер в Темзу, поставьте на него Клебера, и вы увидите, на что он годится».
 Клебер
Клебер
К этим двум первоклассным генералам Бонапарт присоединил Ренье, Дюга, Вобуа, Бона, Мену, Бараге д’Илье, Ланна, Мюрата, Бельяра и Доммортена, всех своих славных сподвижников по Италии. Храбрый и ученый Каффарелли дю Фальга командовал инженерами. Нерешительный, но преданный Бертье должен был оставаться главным начальником штаба. Удерживаемый любовной страстью, он чуть было не бросил генерала, обеспечившего его карьеру; впрочем, устыдился, извинился и поспешил на посадку. Эскадрой командовал Брюэ; Вильнев, Бланк дю Шайла и Декре состояли в ней контр-адмиралами. Гантом был начальником морского штаба. Итак, всё, что во Франции имелось знаменитого в военном деле, науках и искусствах, веруя в молодого главнокомандующего, объединилось на судах, отправлявшихся по неизвестному назначению. Франция и Европа были полны слухами о приготовлениях в Средиземном море. Составляли всякого рода предположения. Спрашивали, куда отправляется Бонапарт. Куда идут эти храбрецы, эти ученые, эта армия? Одни говорили – в Черное море, возвратить Крым Порте; другие – в Индию, помогать султану Типу-Саибу; третьи более подходили к цели, утверждая, что собираются рыть Суэцкий перешеек или высадятся на его берегу, а потом опять сядут на суда в Красном море и отправятся в Индию; наконец, некоторые отгадывали действительное назначение экспедиции и говорили, что она отправляется в Египет. Последнее предположение оправдывала записка, читанная в прошлом году в Институте. Наконец, предполагали еще более глубокую комбинацию. Вся эта обстановка, по мнению некоторых, была не более как обман. Бонапарт желал только пройти Гибралтарский пролив с эскадрой Средиземного моря, атаковать лорда Сент-Винсента, блокировавшего Кадикс, отбросить его, освободить испанскую эскадру и провести ее в Брест, где состоялось бы столь желанное соединение всех морских сил континента. И вот почему экспедиция в Средиземном море называлась левым крылом Английской армии. Это последнее предположение преобладало во мнениях английского правительства. Кабинет уже шесть месяцев жил в страхе и не знал, откуда разразится так давно уже надвигавшаяся гроза. В минуту опасности оппозиция объединилась с правительством и стояла за общее дело. Шеридан обратил всё свое красноречие против честолюбия, против наглости французского народа и, за исключением неприкосновенности личных прав английских граждан, по всем вопросам соглашался с правительством. Питт немедленно вооружил вторую эскадру, и были приложены чрезвычайные усилия, чтобы она смогла выйти в море. Затем усилили десятью большими кораблями эскадру лорда Сент-Винсента, дабы дать ему возможность лучше запереть пролив, к которому, по всей видимости, собирался направиться Бонапарт. Адмирал Сент-Винсент, в свою очередь, отправил Нельсона с тремя кораблями в Средиземное море – крейсировать и наблюдать за движением французов.
Всё было готово к посадке войск и отплытию. Бонапарт собирался было отправиться в Тулон, как вдруг событие, случившееся в Вене, и расположения, выказанные разными кабинетами, чуть не удержали его в Париже. Появление двух новых республик вновь вызвало страх революционной заразы. Англия, желая подогреть эту боязнь, наполнила все дворы своими лазутчиками. Она убеждала прусского короля оставить нейтралитет и предохранить Германию от революции, то же английские агенты делали и в России в отношении императора Павла. Кроме того, Англия старалась вызвать в Австрии беспокойство по поводу занятия Альп французами и предлагала ей субсидии для возобновления войны; и в то же время возбуждала безумные страсти королевы Неаполитанской и Актона. Этот двор был раздражен более чем когда-либо; он непременно желал, чтобы Франция очистила Рим или уступила ему часть римских провинций. Напрасно новый посланник Тара выказывал крайнюю умеренность – страсти при неаполитанском дворе разгорались.
 Бонапарт
Бонапарт
Итак, положение дел на континенте внушало весьма справедливые опасения, и их усилило еще одно событие. Бернадотт отправился в Вену дать объяснения Австрийскому кабинету; он должен был там и остаться, хотя в Париже не было австрийского посланника. Этот генерал, беспокойного и тщеславного ума, был мало способен к роли, на которую назначался. Четырнадцатого апреля (25 жерминаля) в Вене собирались праздновать годовщину вооружения императорских волонтеров. Уже упоминалось о ревности, выказанной этими волонтерами в позапрошлом году, и об участи их при Риволи и Ла Фаворите. Бернадотт без всякого достаточного основания вознамерился воспрепятствовать этому празднеству, утверждая, что это оскорбление Франции. Император совершенно резонно отвечал, что он господин в своих владениях, что Франции никто не препятствовал праздновать свои победы, но что и он также свободен праздновать самоотверженность своих подданных. Бернадотт пожелал ответить на празднество другим празднеством и стал отмечать в своем особняке воспоминание об одной из побед Итальянской армии, годовщина которой приходилась на этот же день: он вывесил на подъезде трехцветное знамя. Венская чернь, возбужденная, как говорят, лазутчиками английского посольства, бросилась на особняк французского посланника, перебила в нем стекла и устроила беспорядки. Австрийское правительство поспешило послать Бернадотту помощь и повело себя в отношении него иначе, чем римское правительство в отношении Жозефа Бонапарта. Бернадотт, неосторожность которого вызвала это событие, выехал из Вены и прибыл в Раштатт. Венский кабинет был крайне раздосадован этим происшествием. Было ясно, что если бы Австрия даже и хотела взяться за оружие, то не начала бы с оскорбления нашего посланника и вызова к открытию военных действий, к которым еще не был готова. Напротив, несомненно, весьма недовольный Францией и ее последними захватами, предчувствуя, что ему придется вступить с нею в борьбу, в настоящее время император не был расположен к войне и считал свои народы слишком уставшими, а средства – слишком слабыми для нападения на республиканского колосса. Кабинет поспешил обнародовать осуждение этого события и написал Бернадотту, оправдывая свое поведение. Директория сочла своим долгом увидеть в событии в Вене повод к разрыву. Она тотчас же дала контрордер Бонапарту и желала, чтобы он немедленно отправился в Раштатт – повлиять на императора и принудить его дать удовлетворение, в противном же случае следовало объявить войну. Бонапарт, весьма недовольный отсрочкой, не хотел ехать в Раштатт; лучше Директории оценивая положение, он утверждал, что происшествие не имеет той важности, какую ему придают. В самом деле, Австрия тотчас же написала, что пошлет в Париж посланника, господина Дегельмана; она даже хотела уволить первого министра Тугута, а затем объявила, что Кобенцель отправится в место, назначенное Директорией для объяснений с французским посланником о происшествии в Вене и о переменах, происшедших в Европе со времени подписания Кампо-Формийского мира. Итак, гроза, по-видимому, рассеивалась. Тем более что значительно продвинулись и Раштаттские переговоры. Шаг за шагом оспаривая левый берег Рейна, желая сохранить территорию между Мозелем и Рейном и небольшую территорию между Руром и Рейном, депутация Германской империи наконец согласилась уступить весь левый берег. Линия Рейна была признана естественной границей Франции. Приняли и другое не менее важное начало – вознаграждение князей, лишенных владений, с помощью секуляризации. Но оставались не менее затруднительные пункты: раздел островов Рейна, сохранение укрепленных пунктов и тет-де-понов, участь монастырей и дворянства левого берега Рейна, уплата долга стран, уступаемых Франции, и проч., и проч. Все эти вопросы было нелегко разрешить, особенно при германской медлительности. Таково было состояние континента. Горизонт, казалось, немного прояснялся. Бонапарт наконец получил разрешение отправиться в Тулон. Условились, что Талейран непосредственно после него поедет в Константинополь, дабы дать Порте уверения относительно Египетской экспедиции.
Глава LVIII
Египетская экспедиция – Высадка перед Александрией; взятие этой крепости – Наступление на Каир – Сражение при Пирамидах – Административные труды Бонапарта в Египте – Морское сражение при Абукире, уничтожение французского флотаБонапарт прибыл в Тулон 9 мая 1798 года (20 флореаля года VI). Его присутствие обрадовало армию, которая начинала роптать и бояться, что что-нибудь воспрепятствует ему стать во главе экспедиции. Это была старая Итальянская армия. Она была богата, покрыта славой, и о ней можно было сказать, что Фортуна ей улыбнулась. А потому в этой армии не наблюдалось особой готовности к войне; требовалось всё обожание своего полководца, чтобы сесть на суда и отправиться в неизвестном направлении. При прибытии Бонапарта в Тулон армия встретила его с восторгом; она не видела своего генерала уже восемь месяцев. Немедленно же Бонапарт, не объясняя солдатам цели, обратился к ним со следующей прокламацией:
«Солдаты! Вы составляете крыло Английской армии. Вы воевали в горах, на равнинах, при осадах; остается вам еще война на море. Римские легионы, которым вы часто подражали, но всё еще уступаете, сражались с Карфагеном то на этом море, то на равнине у Зама. Победа никогда не покидала их, потому что они всегда были храбры и неутомимы в трудах, дисциплинированны и единодушны. Солдаты, взоры Европы устремлены на вас! Вам предстоит великое предназначение: сражаться, преодолевать опасности и труды. Вы сделаете еще больше, чем уже сделали для блага отечества, счастия всех людей и вашей собственной славы! Солдаты, матросы, пехотинцы, артиллеристы, кавалеристы, будьте единодушны! Помните, что в день сражения вы будете нуждаться друг в друге. Солдаты и матросы, до сих пор мало входили в ваши нужды и ваше положение; теперь же на вас обращены все попечения Республики: вы будете достойны армии, к которой принадлежите. Гений свободы, от колыбели своей сделавший Республику высшей распорядительницей Европы, желает, чтобы она стала тем же и на морях, и среди отдаленнейших наций!»
Нельзя было лучше объявить о великом предприятии, покрыв его тайной. Эскадра Брюэ состояла из тринадцати линейных кораблей, из коих один 120-пушечный (это был «Ориент», на борт которого собирались взойти адмирал и главнокомандующий), два 80– и десять 74-пушечных. Кроме того, имелись два 64-пушечных венецианских корабля, шесть венецианских и восемь французских фрегатов, семьдесят два корвета, куттера, авизо, канонирских лодок и всякого рода мелких военных судов. Число транспортных судов, собранных как в Тулоне, так в Генуе, Аяччо и Чивитавеккьи, простиралось до четырех сотен. Итак, на Средиземном море должно было развеваться разом более пятисот парусов. Никогда еще моря не видали такой армады. На кораблях находились 40 тысяч войск всех родов оружия и 10 тысяч матросов. У них имелся запас пресной воды на месяц, а продовольствия – на два. Паруса подняли 19 мая (30 флореаля) при громе пушек и криках всей армии. Сильные ветры несколько повредили один фрегат на выходе из порта. Те же ветры причинили Нельсону, крейсировавшему с тремя кораблями, такие неприятности, что он вынужден был направиться для починки своих судов к острову Сан-Пьетро. Будучи таким образом удален от французской эскадры, он не видел, как она вышла. Флот направился сначала к Генуе, чтобы присоединить к себе транспортные суда, собранные в этом порту под командованием генерала Бараге д’Илье. Затем эскадра поплыла к Корсике, присоединила к себе в Аяччо транспорт под командованием Вобуа и направилась в Сицилийское море – присоединить транспорт Чивитавеккьи код командованием Дезе. Бонапарт думал плыть на Мальту и мимоходом испробовать смелое предприятие, успех которого он давно уже подготовил тайными интригами. Он хотел завладеть этим островом, главенствующее положение которого в Средиземном море делало его весьма важным для Египта: остров вскоре перешел бы в руки англичан, если их не опередить. Орден мальтийских рыцарей постигла участь всех средневековых учреждений: он утратил цель своего существования, а вследствие того – и свое достоинство, и свою силу. Он представлял собою злоупотребление, полезное лишь для тех, кто его эксплуатировал. Кавалеры имели в Испании, Португалии, Франции, Италии и Германии значительные имущества, пожертвованные благочестивыми людьми для покровительства христианам, посетителям святых мест. С той поры как пилигримы перестали путешествовать по миру, роль и обязанность кавалеров состояла в охранении христианских народов от варваров и в уничтожении гнусного пиратства, разорявшего Средиземное море. Имущества ордена было достаточно для содержания значительных морских сил, но кавалеры нисколько не думали о создании таковых; у них было лишь два или три старых фрегата, никогда не выходивших из порта, и несколько галер, которые только или сами устраивали празднества, или принимали в них участие по всем портам Италии. Гроссмейстеры и командоры, высоко поставленные в христианском мире, растрачивали доходы ордена в роскоши и праздности. Не осталось ни одного кавалера, который сражался бы с неверными. Орден не внушал к себе более никакого почтения. Во Франции его имущества были отняты, Бонапарт захватил их также и в Италии, а в пользу ордена не поступило ни одного заявления. Бонапарт привлек на свою сторону нескольких кавалеров и предполагал неожиданно устрашить их смелостью и принудить сдаться, так как у него не было ни времени, ни средств для атаки крепости, которая считалась неприступной. Видя господство французских эскадр на Средиземном море, орден уже предчувствовал опасность и попросил покровительства Павла I. Бонапарту не без больших усилий удалось соединиться с транспортным отделением Чивитавеккьи уже перед самой Мальтой. Пятьсот французских парусов появились в виду острова 9 июня (21 прериаля), двадцать два дня спустя по выходе из Тулона. Вид их вызвал в городе смятение. Чтобы иметь случай придраться к чему-нибудь и начать враждебные действия, Бонапарт попросил у гроссмейстера дозволения запастись водой. Гроссмейстер Фердинанд фон Гомпеш отказал, ссылаясь на регламенты, так как последние не разрешали впускать более двух кораблей враждующих держав. Однако когда являлись англичане, их встречали иначе. Бонапарт заявил, что это доказательство самой явной злонамеренности, и приказал высаживаться. На следующий день французские войска высадились на остров и обложили Лавалетту, одну из сильнейших крепостей Европы, в которой насчитывается около тридцати тысяч жителей. Для обстрела фортов Бонапарт свез с судов артиллерию. Кавалеры отвечали на его огонь, но очень неудачно. Они решили совершить вылазку, и при этом значительное число их попало в плен. Беспорядок распространился в крепости. Многие кавалеры французского происхождения заявили, что не могут сражаться против своих соотечественников. Некоторых из них бросили в тюрьму. Все потеряли голову; жители предпочитали сдаться. Гроссмейстер, человек малоэнергичный, надеясь на великодушие риволийского победителя, надеялся выгадать от общего крушения: он выпустил одного из арестованных французских кавалеров и послал его к Бонапарту для переговоров. Договор был вскоре подписан. Кавалеры предоставляли Франции господство над Мальтой и зависевшими от нее островами; взамен Франция обещала свое заступничество на Раштаттском конгрессе, чтоб выхлопотать гроссмейстеру княжество в Германии, а в случае неудачи обещала ему пожизненный пенсион в 300 тысяч франков и единовременное вознаграждение в 600 тысяч звонкой монетой. Каждому кавалеру французского происхождения обязывались платить 700 франков пенсиона, а старикам, перешедшим за шестидесятилетний рубеж, – 1000 франков; Франция обещала свое посредничество в том, чтобы кавалеры других национальностей могли пользоваться своими имуществами у себя на родине. Таковы были условия, на которых Франция вступила в обладание первым портом Средиземного моря и одним из наиболее сильных укрепленных пунктов. Нужно было всё обаяние Бонапарта, чтобы завладеть им без боя; вся его смелость, чтобы потерять перед ним несколько дней, имея за спиной преследовавших его англичан. Осматривая укрепления, расположению которых он удивлялся, Каффарелли дю Фальга, столь же остроумный, сколь и храбрый, выразился следующим образом: «Мы весьма счастливы, что нашелся в крепости некто, чтобы отпереть нам ворота». Бонапарт оставил на Мальте Вобуа с тремя тысячами гарнизона и Реньо де Сен-Жан-д’Анжели в качестве гражданского комиссара. Он сделал все необходимые распоряжения для учреждения на острове муниципального управления и немедля поставил паруса, чтобы плыть к берегам Египта. Эскадра подняла якорь 19 июня (1 мессидора), после десятидневной остановки. Теперь главным было уйти от англичан. Починив свои корабли на острове Сан-Пьетро, Нельсон получил от лорда Сент-Винсента подкрепление в 10 линейных кораблей и несколько фрегатов, так что теперь его эскадра состояла из 13 высокобортных кораблей и нескольких кораблей меньших размеров. Первого июня (13 прериаля) он возвратился к Тулону, но не нашел там французской эскадры: она уже двенадцать дней как вышла оттуда. От Тулона он отправился к рейду Таламоне, оттуда – в Неаполь; он прибыл туда в то самое время, когда Бонапарт оставлял Мальту. Узнав, что французы появились в виду Мальты, Нельсон последовал за ними, предполагая атаковать, если удастся их настигнуть. Французская эскадра была готова к сражению. Возможность встретить англичан представлялась всякому и не пугала никого. На каждом линейном корабле Бонапарт распределил по пять сотен отборных людей, которых ежедневно обучали приемам при орудиях; во главе их стояли генералы, которые в высшей степени свыклись уже с огнем, состоя под начальством Бонапарта. Он принял за основание своей морской тактики следующий план: каждый корабль должен преследовать лишь одну цель, завязать бой с неприятельским кораблем, поддерживать бой лишь против него одного и затем стараться сойтись с ним на абордаж. Для исполнения этого были отданы соответствующие распоряжения; Бонапарт рассчитывал на испытанную храбрость отборных войск, размещенных по кораблям. Этот человек, который, по нелепым отзывам клеветников, боялся случайностей морского перехода, напротив, спокойно, среди судов английского флота, вверялся своей фортуне. Среди эскадры царило веселое расположение духа; еще не знали точно, куда направляются, но тайна уже начинала проясняться, и с нетерпением ждали берега, который предстояло завоевать. Вечерами ученые и генералы собирались на борту «Ориента», у главнокомандующего, и начинались остроумные рассуждения членов Египетского института. В какой-то момент английская эскадра оказалась в нескольких милях от громадного французского флота, и об этом ничего не знали с обеих сторон. Нельсон начал наконец догадываться, что французы направляются в сторону Египта, тогда он повернул на Александрию и обогнал их; не найдя там французов, он поспешил в Дарданеллы, чтобы не упустить их еще раз. По счастливой случайности, французская экспедиция появилась в виду Александрии не далее чем через день после его отплытия, 1 июля (13 мессидора). Прошло около полутора месяцев с того дня, как французы оставили Тулон. Бонапарт тотчас же послал за французским консулом. Тот сообщил, что англичане стояли здесь третьего дня; полагая, что они всё еще недалеко, Бонапарт решил произвести высадку тотчас же. Войти прямо в Александрийский порт было нельзя, так как крепость, казалось, готовилась обороняться; пришлось высаживаться на соседнем берегу, на некотором расстоянии от нее, в бухте, именуемой Марабу. Дул сильный ветер, и море бешено разбивалось о подводные камни. Солнце уже клонилось к закату. Бонапарт подал сигнал и хотел высаживаться. Он сел в шлюпку, и солдаты стали требовать высадки. Начали спускать на воду гребные суда, но волны каждую минуту грозили разбить их друг о друга. Наконец, минуя большие опасности, удалось добраться до берега. В то же время на горизонте показался парус; сочли, что это английское судно: «Фортуна! – воскликнул Бонапарт. – Ты меня оставляешь! Как! Не дать всего только пяти дней!» Фортуна его не оставляла, так как это был нагнавший их французский фрегат. Вечером и ночью с трудом высадили на берег четыре или пять тысяч человек. Бонапарт решил немедленно идти на Александрию, застать эту крепость врасплох и не дать туркам времени приготовиться к обороне. Тотчас же выступили в поход. Не было высажено еще ни одной лошади; весь штаб, Бонапарт, даже Каффарелли на своей деревяшке, сделали четыре или пять лье по песку и к рассвету прибыли к Александрии. Этот древний город, детище Александра, не имел уже великолепных зданий, бесчисленных домов, большого населения; он был на три четверти разорен. Турки, богатые египтяне, европейские негоцианты жили в новом городе, в единственно сохранившейся части. Немногочисленные арабы прозябали в развалинах старого города; старая стена, фланкируемая несколькими башнями, окружала новый и старый город, и вокруг нее простирались пески, которые в Египте подвигаются вперед по мере того, как цивилизация отступает. Четыре тысячи французов, предводительствуемые Бонапартом, прибыли к городу с рассветом: на песчаной равнине они встретили только кучку арабов, которые обменялись с ними несколькими ружейными выстрелами и ускакали в пустыню. Бонапарт разделил свой отряд на три колонны. Бон, с первой, пошел направо к Розетским воротам; Клебер, со второй, пошел к воротам у Александрийской колонны, находившимся в центре. Турки и арабы, прекрасные солдаты, спрятавшиеся за крепостными стенами, встретили наступающих метким огнем, но французы приставили лестницы и перелезли через старую стену. Клебер пал первым, раненый пулей в лоб. От развалины к развалине гнали арабов до нового города. Защитники готовились отстаивать улицу за улицей, и сражение грозило стать кровопролитным, но турецкий капитан предложил свое посредничество для переговоров. Бонапарт объявил, что не хочет опустошать страну и отнимать ее у великого султана, но только – вырвать ее из-под владычества мамелюков и отмстить за оскорбления, которые последние нанесли Франции. Он обещал, что местные власти будут оставлены, богослужение будет таким же свободным, как и прежде, собственность будет уважена и пр. Благодаря этим условиям сопротивление прекратилось: в тот же день французы стали обладателями Александрии. Между тем армия заканчивала высадку. Теперь предстояло укрыть эскадру или в Александрийском порту, или на соседнем рейде, организовать управление, согласное с местными нравами, и принять план вторжения в Египет. Опасность морского путешествия и встречи с англичанами теперь миновала; самые большие препятствия были побеждены с тем везением, которое, по-видимому, всегда сопровождает молодость великого человека. Египет, в котором только что высадились французы, – одна из оригинальнейших, наиболее благоприятно расположенных и плодоноснейших стран земли. Положение его известно. Африка соединяется с Азией узким Суэцким перешейком, шириною в несколько лье, который, будучи в настоящее время прорезан каналом, открыл прямой путь из Средиземного моря в Индийский океан и освободил мореплавателей от необходимости проходить огромные расстояния и огибать среди бурь мыс Доброй Надежды. Египет простирается параллельно Красному морю и Суэцкому перешейку, который принадлежит Египту. Эта-то страна, как у древних, так и в средние века, во времена процветания Венеции, была промежуточным пунктом индийской торговли; такая роль обусловлена ее положением между Западом и Востоком. Географические особенности страны и ее форма не менее необыкновенны. Нил, одна из величайших рек мира, берет свое начало в горах Абиссинии, протекает шестьсот лье по пустыням Африки, затем входит в Египет или, скорее, в него падает, ниспровергаясь с Сиенских водопадов[38], и потом течет еще, до своего впадения в море, на протяжении двухсот лье. Его берега и образуют весь Египет: это долина в двести лье, шириной от пяти до шести лье; с обоих берегов она окаймлена океаном песка. Эти песчаные пустыни прорезываются несколькими низкими и бесплодными горными цепями, которые бросают ничтожную тень на безмерное протяжение пустынь: одни отделяют Нил от Красного моря, другие – от великой пустыни, в которой и теряются. На левом берегу Нила, на известном от него расстоянии, уже в пустыне, тянутся два языка пригодной для возделывания земли, составляющие исключение из песков и немного покрытые зеленью. Этих оазисов два – большой и малый. Если бы усилиями людей в них провели рукав Нила, то из них можно было бы сделать плодоносные провинции. На расстоянии 50 лье от моря Нил разделяется на два рукава, которые впадают в Средиземное море на расстоянии 60 лье друг от друга, первый в Розетте, второй в Дамиетте. Прежде были известны семь рукавов Нила; они еще и теперь заметны, но только два из них судоходны. Треугольник, образуемый двумя рукавами и морем, называется Дельтой. Это самая плодоносная часть Египта, так как она орошена наилучшим образом и максимально пересечена каналами. Вся страна разделяется на три части: Дельта, или Нижний Египет, Средний Египет и Верхний Египет, или Саид. Постоянные ветры, непрерывно дующие с севера к югу в течение мая, июня и июля, приносят к устьям Нила, в эту всегда ясную и безоблачную страну, облака и гонят их к горам Абиссинии. Там эти облака скапливаются, падают ливнем в июле, августе и сентябре, и происходят знаменитые разливы Нила. Таким образом земля с помощью наводнений получает орошение, которого не получает от дождей. Дождей там не случается вовсе, и египетские болота, которые были бы источниками болезней под небом Европы, там не производят и следа лихорадки. Когда воды спадают, Нил оставляет плодоносный ил, единственно обрабатываемую почву, которая доставляет обильные жатвы, некогда служившие продовольствованию Рима. Чем больше бывает разлив, тем больше пространство возделываемой земли. Землевладельцы ежегодно перемеривают свои участки, так как разлив стирает границы; потому землемерие и составляет в Египте важное искусство. Каналы могли бы распространить разлив и уменьшить скорость течения воды, заставить ее стоять более продолжительное время и расширить плодоносную землю за счет пустыни. Нигде в другом месте труд человека не имел бы более благотворных результатов; нигде цивилизация не была бы более желательна. Нил и пустыня спорят друг с другом за Египет, и цивилизация доставила бы средство победить пустыню и заставить ее отступить. Считают, что некогда Египет мог продовольствовать двадцатимиллионное население, не считая хлеба, вывозимого в Рим. Когда французы вступили в Египет, он едва мог прокормить три миллиона человек. Разлив заканчивается приблизительно в сентябре. С того же времени начинаются полевые работы. В период с октября по февраль поля Египта представляют восхитительный вид плодородия и свежести. Они покрыты богатыми плодами, испещрены цветами, это одно большое пастбище для бесчисленных стад. В марте начинается жара, почва растрескивается иногда до такой степени, что по ней опасно ездить верхом. Полевые работы тогда уже кончены: египтяне уже собрали все дары года. Кроме зерна, Египет производит лучший рис, лучшие овощи, сахарный тростник, индиго, кассию[39], лен, пеньку и хлопок. Ощущается недостаток в маслах; но Египет получает их из соседней Греции, ему недостает табаку и кофе, но он находит их рядом, в Сирии и Аравии. Египет также лишен леса, так как древесные породы не могут произрастать на ежегодных наносах. Сикоморы и пальмы – единственныедеревья в Египте. За неимением дров топливом служит кизяк. Египетские пастбища кормят бесчисленные стада. Его удивительные лошади славятся по всему миру своей красотой, живостью, привязанностью к хозяевам. Египет – родина верблюда, который пьет и ест про запас на несколько дней, а нога его шагает без устали по движущимся пескам, сам он – как живой корабль для путешествия по морю песка. В Каир ежегодно стекаются бесчисленные караваны, как флоты, приходящие с обеих сторон пустыни. Одни приходят из Сирии и Аравии, другие – из Африки и с Варварского берега[40]. Они доставляют товары, производимые странами с жарким климатом: золото, слоновую кость, редкие перья, неподражаемые шали, благовония, смолы, ароматы всякого рода, кофе, табак, редкие деревья и невольников. Каир становится великолепным хранилищем лучших произведений земли, коим никогда не может подражать могущественный промышленный гений народов Запада, потому что их производит сама природа и жгучее солнце жарких стран. Итак, индийская торговля, как и торговля других стран, не может иметь притязания на вечность. Стоит только устроить в Египте такое хранилище, безопасное, с законами и удобствами европейской жизни, – и он притянет к себе богатства со всех концов света. Население, проживающее в Египте, как и развалины покрывающих его городов, – это остатки многих древних народностей. Копты, старинное население Египта; арабы, отвоевавшие Египет у коптов; наконец, турки, отвоевавшие его у арабов, – вот народности, чьи остатки жалко прозябают на земле, которой они недостойны. Когда французы вступили в Египет, коптов было самое большее 200 тысяч. Презираемые, бедные, забитые, они, как и все угнетаемые классы населения, занимались самой грязной работой. Почти всё население составляли арабы. Некоторые из них, высокого происхождения, вели свою генеалогию от самого Магомета; крупные землевладельцы, они, кичась некоторым остатком арабской учености и своим благородным происхождением, соединяли духовные или судебные должности и, именуясь шейхами, составляли египетскую знать. В диванах они представляли страну, когда ее тираны желали к ней обращаться; в мечетях – составляли род университета, где обучали религии, нравственности по Корану, отчасти философии и юриспруденции. Большая мечеть Джемиль-Азара[41] была первым учебным и религиозным учреждением Востока. Более мелкие землевладельцы составляли второй и самый многочисленный класс; наконец, основное население, низведенное до положения рабов, феллахи, жило в нищете и презрении. Был еще четвертый класс – бедуины, кочевники. Верхом или на верблюде, гоня перед собой многочисленные стада, дети пустыни блуждали, ища пастбища в оазисах, или раз в год приходили засевать земли по границам Египта. Их основным занятием было конвоирование караванов или сдача внаем верблюдов. Однако будучи бессовестными разбойниками, они часто грабили торговцев, которых сопровождали или ссужали верблюдами. Часто даже, злоупотребляя гостеприимством, которое им оказывали, предоставляя окраины обрабатываемых земель, бедуины устремлялись в долину Нила, грабили деревни и потом с добычей удалялись в пустыню. Турецкая небрежность оставляла безнаказанными эти опустошения; с разбойниками пустыни она боролась не лучше, чем с ее песками. Число кочующих арабов, разделенных на племена по обоим берегам долины, простиралось до 100 или 120 тысяч; они доставляли от 20 до 25 тысяч всадников, храбрых, но годных лишь для того, чтобы беспокоить неприятеля, а никак не сражаться с ним. Третью народность, наконец, составляли турки; они были так же немногочисленны, как и копты; число их не превышало 200 тысяч. Они подразделялись на собственно турок и мамелюков. Первые, явившиеся сюда со времени последнего завоевания султанами Константинополя, почти все были включены в список янычаров; но вносили они себя в эти списки только для того, чтобы иметь привилегии янычаров, и весьма небольшое число их обыкновенно действительно состояло на службе. Турок очень мало было и в ополчении паши. Этот паша, назначаемый из Константинополя, представлял в Египте султана; но окруженный лишь несколькими янычарами, он наблюдал постепенное исчезновение власти, представителем которой являлся, – именно благодаря тем самым предосторожностям, которые султан Селим принял для ее сохранения. Этот султан, считая, что вследствие своей отдаленности Египет может освободиться от владычества Константинополя, придумал создать противовес с помощью ополчения мамелюков. Но так как нельзя преодолеть физических условий, делающих одну страну независимой или зависимой от другой, то вместо паши независимыми от Константинополя и хозяевами Египта сделались мамелюки. Это были кавказские невольники. Лучшие из сынов Кавказа, перевезенные в ранней молодости в Египет, воспитанные в полной неизвестности о своем происхождении и в любви к оружию, они сделались храбрейшими и самыми ловкими всадниками на всей земле. Они почитали за честь не иметь происхождения, быть купленными за большие деньги, проявлять доблесть в бою. Мамелюки составляли собственность двадцати четырех беев, своих начальников. У каждого из беев было по 500 или 600 мамелюков. Их содержали и передавали в наследство иногда своим сыновьям, чаще же своему любимцу мамелюку, который, в свою очередь, становился беем. Каждому мамелюку прислуживали два феллаха. Численность всего конного ополчения простиралась до 12 тысяч всадников, которым служили 24 тысячи рабов. Мамелюки и были истинными господами и тиранами страны. Они жили за счет доходов с земель, принадлежащих беям, и всякого рода налогов. Копты, которые, как мы уже сказали, занимались самой грязной работой, были их сборщиками налогов, шпионами, поверенными: люди забитые и подавленные всегда служат сильнейшему. Двадцать четыре бея, равные в правах, не были таковыми на самом деле. Они воевали друг с другом, и сильнейший, подчиняя других, получал пожизненную верховную власть. Он был независим от паши, представителя константинопольского султана, оставлял его прозябать в Каире и часто даже отказывал ему в мири, поземельном налоге, который принадлежал Порте. Итак, Египет был настоящим феодальным государством, как и средневековая Европа; он представлял завоеванный народ, ополчение завоевателей, выступавших против своего государя, и, наконец, старинное и забитое население на службе и жалованье сильнейшего. Во главе беев в настоящее время стояли два человека: Ибрагим-бей, богатый, лицемерный, могущественный; и Мурад-бей, неустрашимый, мужественный и полный огня. Они как бы условились разделить между собою власть; Ибрагим-бей ведал гражданской частью, Мурад-бей – военной. На нем лежала обязанность руководить сражениями, он знал это дело превосходно и пользовался любовью мамелюков, вполне ему преданных.
Бонапарт, соединявший с гением полководца весь такт и ловкость основателя государств, которому притом пришлось уже управлять завоеванными странами, – немедленно оценил политику, которой следовало придерживаться в Египте. Прежде всего надлежало вырвать эту страну из рук ее настоящих владык – мамелюков. С ними-то и предстояло сражаться – как оружием, так и с помощью политики. К тому же для неприязненного к ним отношения имелись причины: они не переставали дурно обходиться с французами. Что касается Порты, не следовало давать ей повод думать, что хотят нанести ущерб ее верховной власти; напротив, требовалось показать, что Порту уважают; в нынешнем своем положении она имела мало значения. С Портой можно было договориться об уступке Египта, предоставив ей какие-либо иные выгоды или разделив с нею власть, что тоже было бы не худо, так как, оставив пашу в Каире и наследуя только одну власть мамелюков, французы уже могли быть вполне довольны. Что касается населения, то, чтобы приобрести его расположение, нужно было склонить на свою сторону главную его силу, то есть арабов. Оказывая внимание шейхам, лаская их древнюю гордость, льстя, как это происходило в Италии, их тайному желанию – восстановлению древнего арабского отечества, можно было обеспечить себе обладание страной и даже привязать ее к себе; а если прибавить к этому уважение собственности и народа, то любовь населения была бы обеспечена. Бонапарт принял образ действий, согласный с этими соображениями, столь же справедливыми, сколь и практичными. Обладая вполне восточным воображением, он легко усвоил торжественную и внушительную речь, приличествующую арабской традиции. Он издал прокламации, которые сразу перевели на арабский и распространили по стране. Он писал паше: «Французская республика решилась послать могущественную армию – положить предел разбоям египетских беев так же, как она была принуждена это сделать несколько раз в этом столетии против беев Туниса и Алжира. Ты, который должен быть господином беев и которого они держат в Каире без всякой власти и значения, – ты должен смотреть на мое прибытие с удовольствием. Ты уже извещен, без сомнения, что я прибыл не за тем, чтобы нанести вред Корану или султану. Ты знаешь, что французская нация – единственная союзница султана в Европе. Выйди мне навстречу и прокляни со мною вместе нечестивую породу беев». К египтянам Бонапарт обратился со следующими словами: «Народ Египта! Вам скажут, что я пришел искоренить вашу религию. Не верьте; отвечайте, что я пришел возвратить вам ваши права, наказать узурпаторов и что я больше, чем мамелюки, уважаю Бога, его Пророка и Коран». Отзываясь о тирании мамелюков, он сказал: «Есть ли где хорошая земля? Она принадлежит мамелюкам. Есть ли красивая невольница, красивая лошадь, красивый дом? Всё это принадлежит мамелюкам. Если Египет и в самом деле их ферма, пусть они покажут тот договор, по которому им его уступил Бог. Но Бог справедлив и милосерден к народу, он повелел, чтобы власть мамелюков кончилась». Выражая чувства французов, Бонапарт прибавил: «Мы тоже истинные мусульмане. Разве не мы свергли папу, который говорил, что нужно вести войну с мусульманами? Разве не мы уничтожили мальтийских кавалеров за то, что эти безумные собирались вести войну с мусульманами? Трижды счастливы будут те, кто встанет за нас! Они будут благоденствовать. Счастливы те, кто останется безучастным в борьбе! Они будут иметь время узнать нас и потом встать на нашу сторону. Но погибель, трижды погибель тому, кто вооружится за мамелюков и будет сражаться против нас! Для них нет никакой надежды; они погибнут». Затем Бонапарт обратился к своим солдатам: «Вы предпринимаете завоевание, которое содействует просвещению и торговле всего мира. Вы нанесете Англии самый верный и чувствительный удар в ожидании минуты, когда можно будет нанести ей удар смертельный. Народ, среди которого мы будем жить, – мусульмане; первый закон их веры гласит: Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомет пророк Его. Не противоречьте им; обходитесь с ними, как вы обходились с евреями и итальянцами. Уважайте муфтиев и имамов, как уважали вы раввинов и епископов. Оказывайте ту же веротерпимость в отношении обрядов Корана и мечетей, какую оказывали в отношении синагог и монастырей, религий Моисея и Иисуса. Римские легионы покровительствовали всем религиям. Вы найдете здесь обычаи не европейские, привыкайте к ним. Народы, к которым мы идем, поступают с женщинами не так, как поступаем мы. Помните, что тот, кто насилует, тот подлец повсюду. Первый город, куда мы вступим, построен Александром. На каждом шагу нас встретят великие воспоминания, достойные возбудить ревность французов». Бонапарт немедленно сделал все распоряжения по поводу утверждения своей власти в Александрии и похода на Каир, столицу всего Египта. Был июнь, близился разлив Нила. Бонапарт хотел прибыть в Каир до разлива, а время, в которое он будет продолжаться, потратить на утверждение в стране и ее обустройство. Он отдал приказ о том, чтобы всё в Александрии оставалось в прежнем виде, чтобы не начали как-либо притеснять религию, а кади по-прежнему отправляли правосудие. Он хотел только отобрать права у мамелюков и оставил комиссара для взимания обычных налогов. Бонапарт устроил диван из шейхов и горожан благородного происхождения, дабы советоваться с ним о мерах, которые предстояло принимать французским властям. Он оставил в Александрии гарнизон в три тысячи человек и поручил командование им Клеберу, которого его рана обрекла на бездействие на месяц или на два. Затем Бонапарт поручил молодому офицеру редких способностей, обещавшему Франции великого инженера, привести Александрию в оборонительное положение и произвести для того все необходимые работы. Этот полковник с небольшими издержками и в непродолжительное время выполнил великолепную работу. Затем Бонапарт дал приказ обеспечить флот. Следовало узнать, могут ли большие корабли входить в Александрийский порт. Комиссии поручили сделать в нем зондировку и представить доклад о результатах. В ожидании же такового флот поставили на якорь в Абукире. Бонапарт приказал Брюэ, если будет признано, что корабли не могут войти в Александрию, скорее устроить это дело и отправляться на Корфу. Озаботившись всем вышесказанным, он отдал необходимые для похода распоряжения. Значительная флотилия с продовольствием, артиллерией, снарядами и багажом должна была следовать вдоль берегов до Розетского устья, там войти в Нил и подняться вверх одновременно с французской армией. Сам Бонапарт выступил с главными силами, которые, за оставлением гарнизонов на Мальте и в Александрии, доходили до 30 тысяч человек. Он приказал флотилии подняться по берегу Нила на высоту Романие. Там он предполагал соединиться с ней и идти вверх по Нилу параллельно течению, выйдя таким путем из Дельты в Средний Египет. Из Александрии в Романие вели две дороги: одна по населенным местностям вдоль моря и Нила, другая – прямая, более короткая, вела через пустыню Даманхур. Бонапарт не колебался и избрал кратчайшую. Ему важно было скорее прибыть к Каиру. Дезе шел впереди с авангардом, за ним в нескольких лье следовали главные силы. В поход выступили 6 июля (18 мессидора). Когда солдаты вступили на эту безграничную равнину пересыпавшихся под ногами песков, со знойным небом над головами, где взор только изредка встречал несколько пальм и кучки арабских всадников, появлявшихся и исчезавших там и сям на горизонте, – их охватила печаль. После долгих и упорных итальянских походов они уже чувствовали потребность в отдыхе. Безгранично веря своему генералу, они последовали за ним в далекую страну, так как им обещали землю обетованную, откуда каждый должен был вернуться настолько богатым, чтобы купить шесть акров земли. Когда же они увидели эту пустыню, в них проснулось раздражение, которое доходило даже до отчаяния. Все колодцы, выкопанные вдоль дороги на известном расстоянии один от другого, были уничтожены арабами. В них едва оставалось немного грязной воды, которой было недостаточно для утоления жажды. Солдатам объявили, что в Даманхуре они найдут облегчение; но они нашли там только жалкие хижины, где невозможно было достать ни хлеба, ни вина, но только немного воды и чечевицу в изобилии. Нужно было опять углубляться в пустыню. Бонапарт видел, как даже храбрые Ланн и Мюрат в ярости бросили свои шляпы в песок и топтали их ногами. Однако своим влиянием он сдерживал всех, его присутствие предписывало молчание, а иногда даже вызывало веселость. Солдаты не желали обвинять своего генерала в лишениях; они вымещали неудовольствие на тех, кто с любопытством осматривал страну; видя ученых, любознательно разглядывавших малейшую развалину, они говорили, что это из-за них всех понесло в такую даль. В особенности Каффарелли, храбрый, как гренадер, любопытный, как начитанный и сохранявший в своей памяти всякую мелочь ученый, стал в глазах солдат человеком, обманувшим их генерала и увлекшим его в эту отдаленную страну. А поскольку ногу он потерял на Рейне, они говорили: «Ему-то это всё пустяки: у него одна нога во Франции». Однако после страшных страданий, переносимых сначала с ропотом, а потом с веселостью и мужеством, 10 июля (22 мессидора) наконец прибыли к берегам Нила. При виде реки и столь желанной воды солдаты бросились вперед, выкупались и забыли об усталости. Дивизия Дезе, которая из авангарда перешла в арьергард, обнаружила опередивших ее двести или триста мамелюков и рассеяла их несколькими картечными выстрелами. Эти первые мамелюки возвещали близкую встречу с неприятельской армией. И в самом деле, храбрый Мурад-бей собирал все свои силы около Каира, а в ожидании сбора галопировал с тысячью всадников вокруг нашей армии, чтобы проследить за ее движением. Армия дождалась в Романие прибытия флотилии, отдохнула тут до 13 июля и отправилась в Шебрейс. Там ждал Мурад-бей со своими мамелюками. Флотилия отправилась вперед и, опередив армию, вступила в бой, не дожидаясь поддержки. У Мурад-бея также была своя флотилия, кроме того, он с берега поддерживал огнем свои джермы (легкие египетские суда). Французской флотилии пришлось выдержать весьма тяжелый бой. Командовавший ею морской офицер Перре выказал редкую храбрость; его поддерживали кавалеристы, которые, прибыв в Египет спешенными в ожидании, когда можно будет сесть на лошадей, отбитых у мамелюков, передвигались на судах. Захватили у неприятеля две канонирские шлюпки и отразили атаку. В это время прибыла армия, состоявшая из пяти дивизий. Ей еще не приходилось сражаться с такими странными неприятелями. Быстроте, стремительности и силе натиска кавалерийской атаки, сабельным ударам предстояло противопоставить неподвижность пехотинца, его длинный штык и отряды, обращенные лицом во все стороны. Бонапарт построил свои пять дивизий в пять каре, в середине поместил обозы и Главный штаб. Артиллерия была размещена по углам каре. Все пять дивизий могли оборонять друг друга перекрестным огнем. На эти живые крепости Мурад-бей кинул тысячу или тысячу двести неустрашимых всадников, которые с громкими криками пустили во весь опор своих лошадей, разрядили свои пистолеты, затем выхватили сабли и устремились во фронт. Повсюду встретив изгородь штыков и страшный огонь, они пронеслись перед рядами французов, многие попадали с лошадей, а оставшиеся во всю прыть ускакали. Потеряв таким образом двести или триста лучших своих всадников, Мурад-бей отступил к вершине Дельты и готовился ждать нас со всеми своими силами на высоте Каира. Этого сражения было достаточно, чтобы познакомить армию с ее новыми противниками и внушить Бонапарту тактику, какую следовало против них принять. Направились к Каиру. Флотилия на Ниле держалась на высоте армии. Следующие дни армия шла безостановочно. Солдатам предстояло испытывать новые лишения, но теперь уже они шли вдоль Нила и могли хотя бы каждый вечер купаться. При виде врагов к ним вернулся их прежний пыл. «Эти солдаты уже немного отвыкли от лишений, как бывает всегда, когда приобретено довольно славы, – говорил Бонапарт. – Я всегда находил их великолепными под огнем». Во время похода к солдатам часто возвращалось дурное расположение, а с ним и насмешки. Ученые начинали внушать к себе большое уважение храбростью, которую они выказывали: Монж и Бертолле проявили при Шебрейсе поистине героическую храбрость. По-прежнему подшучивая над учеными, солдаты были полны к ним внимания и уважения. Всё никак не обнаруживая Каира, хваленого чуда Востока, они говорили, что его вовсе не существует, а если он и есть, то, как в Даманхуре, это лишь скопище хижин. Они всё еще говорили, что бедного генерала обманули и что он дал сослать себя и своих товарищей в эти отдаленные места по своему добродушию. Вечером, отдохнув, солдаты, читавшие или слышавшие сказки из «Тысячи и одной ночи», повторяли их своим товарищам и сулили им чудесные, залитые золотом дворцы. В ожидании же дворцов у них не было хлеба, и они питались чечевицей, голубями и великолепными арбузами. Солдаты даже прозвали арбуз Святым Пастеком[42].
Подходили к Каиру; у столицы должны были дать решительное сражение. Мурад-бей собрал здесь большую часть своих мамелюков, около 10 тысяч человек. За ними следовало вдвое более феллахов, которых вооружили и заставили собраться за укреплениями. Тут же находились еще несколько тысяч янычаров и спагов[43], зависевших от паши, который, несмотря на письмо Бонапарта, дал себя увлечь на сторону своих притеснителей. Мурад-бей сделал распоряжения к обороне берегов Нила. Столица находится на правом берегу реки, лагерь же Мурад-бей расположил на обширной равнине между Нилом и пирамидами Гизы, самыми высокими в Египте. Большая деревня Эмбабе примыкает к реке; для ее укрепления произвели некоторые работы, составленные и выполненные с турецким невежеством. Вырыли обычную траншею, окружившую всю деревню, и расставили вокруг неподвижные батареи, орудия которых, не имея полевых лафетов, не могли переезжать с места на место. Таков был укрепленный лагерь Мурад-бея. В нем находились 24 тысячи янычар и феллахов, которым предстояло сражаться за укреплениями с обычным турецким упорством. Эта укрепленная и упертая в реку деревня образовала правое крыло армии. Мамелюки Мурад-бея, 10 тысяч всадников, были развернуты на равнине между рекой и пирамидами. Несколько тысяч арабов, союзников мамелюков лишь на тот случай, если бы пришлось грабить и резать после победы, заполняли пространство между пирамидами и мамелюками. Менее воинственный и храбрый товарищ Мурад-бея Ибрагим стоял с тысячью мамелюков на другом берегу Нила. Он забрал своих жен, невольников и богатства, готовый очистить Каир и уйти в Сирию, если победителями останутся французы. Значительное число джерм покрывало Нил, в них были сложены сокровища мамелюков. Вот в каком порядке оба бея ждали Бонапарта. Двадцать первого июля (3 термидора) французская армия выступила еще до рассвета. Французы знали, что подходят к Каиру и встретят неприятеля. Слева за рекой они видели высокие минареты этого большого города, а справа – гигантские пирамиды, окрашенные восходящим солнцем. При виде памятников армия остановилась, охваченная любопытством и удивлением. Лицо Бонапарта сияло энтузиазмом; он проскакал перед рядами солдат и вскричал, указывая на пирамиды: «Помните, с вершин этих пирамид сорок веков смотрят на вас!» Дальше двинулись скорым шагом. Всё росли и росли минареты Каира и высились пирамиды; стали видны полчища, охранявшие Эмбабе, сверкало блиставшее золотом и сталью оружие 10 тысяч всадников, раскинутых на огромном протяжении. Бонапарт тотчас же отдал все необходимые распоряжения. Как и под Шебрейсом, армию разделили на пять дивизий. Дивизии Дезе и Ренье стояли на правом крыле, развернутые к пустыне; дивизия Дюга – в центре; дивизии Мену и Бона образовали левое крыло, вдоль Нила. Оценив в сражении при Шебрейсе свойства местности, а также характер неприятеля, Бонапарт сделал распоряжения на основании прежнего опыта. Каждая дивизия образовала каре, в каждом фасе* которого было по шесть шеренг. Сзади стояли взводы гренадеров, готовые подкрепить опасные пункты. Артиллерия находилась в углах каре, обозы и генералы – в центре. Каре эти шли, а не стояли на месте, и тогда оба боковых фаса двигались рядами. В случае атаки они останавливались и оборачивались во все стороны; когда же сами хотели отнять позицию, то первые три шеренги выдвигались вперед и составляли колонны, три же прочих по-прежнему составляли сзади каре с вдвое меньшей толщиной фасов, готовые принять на себя наступающие колонны. Таковы были сделанные Бонапартом распоряжения. Он боялся, что стремительные итальянские солдаты, привыкшие атаковать в штыки, с трудом будут выносить бесстрастную неподвижность живых стен, и позаботился их к тому приготовить. Приказано было не торопиться стрелять, а хладнокровно ждать врага и открывать огонь лишь в упор. Подошли на расстояние пушечного выстрела. Бонапарт, находившийся в среднем каре, образованном дивизией Дюга, осмотрел в подзорную трубу положение эмбабского лагеря. Он заметил, что артиллерия не имеет полевых лафетов и потому не может выдвинуться на равнину, а без нее неприятель не выйдет из своих укреплений. Из этих-то соображений Бонапарт и рассчитал свои движения. Он решил направить дивизии направо, то есть на мамелюков, двигаясь вне дальности пушечного выстрела из Эмбабе; затем отрезать мамелюков от их укрепленного лагеря, окружить, сбросить в Нил и атаковать Эмбабе лишь после окончательного разгрома мамелюков. Уничтожив последних, ему нетрудно было бы справиться с полчищами, толпившимися в лагере. Немедля был подан сигнал к наступлению. Первым двинулся Дезе, на крайнем правом крыле. За ним следовали каре Ренье и Дюга, в котором скакал Бонапарт. Два других обходили Эмбабе вне досягаемости выстрелов его орудий. Мурад-бей, хоть и необразованный, но обладавший проницательным глазомером и сильным характером, тотчас угадал намерение противника и решил атаковать его прямо во время наступления. Две тысячи мамелюков он оставил поддерживать Эмбабе, с остальными же устремился на два правых каре. Когда на него налетели первые всадники, каре Дезе еще не выстроилось, но тотчас же изготовилось встретить атаку. Восемь тысяч всадников, скачущих в карьер по равнине, представляют огромную силу. С необыкновенной пылкостью они устремились на дивизию Дезе. Наши солдаты, ставшие теперь столь же хладнокровными, как были горячи до тех пор, спокойно ждали их и встретили в упор страшным ружейным и картечным огнем. Остановленные пальбой, бесчисленные всадники кружили около наших рядов и вокруг изрыгающей смерть и пламя цитадели. Храбрейшие бросились на штыки и, опрокидывая своих лошадей на наших пехотинцев, сумели устроить пролом в каре. Тридцать или сорок таких смельчаков пали мертвыми к ногам Дезе, в самой середине каре. Тогда всадники развернулись от каре Дезе в сторону следовавшего за ним Ренье. Встреченные таким же огнем, они хотели повернуть вспять, но нашли позади дивизию Дюга, которую Бонапарт направил к Нилу, были разбиты окончательно и обратились в беспорядочное бегство. Часть беглецов спаслась вправо, по направлению к пирамидам, другая же бросилась в Эмбабе, внося в деревню смятение. С этой минуты в укрепленном лагере стал распространяться беспорядок. Бонапарт, заметив это, приказал двум своим дивизиям слева приблизиться к Эмбабе и завладеть им. Бон и Мену двинулись на укрепления и остановились на некотором расстоянии от них. Каре раздвоились, первые шеренги образовали колонны к атаке, прочие же составляли каре, по-прежнему представляя живые крепости. Но в то же время мамелюки, как те, которых Мурад-бей оставил в Эмбабе, так и спасшиеся бегством, хотели нас опередить: они бросились на наши колонны, в то время как они только начали наступление. Колонны немедленно остановились, замечательно быстро выстроились в каре, твердо встретили мамелюков и нанесли им значительный урон. Одни бросились в Эмбабе, где беспорядок дошел до крайнего предела, другие пустились в бегство по равнине между Нилом и нашим правым крылом и были перестреляны или опрокинуты в реку. Тогда наступающие колонны быстро налетели на Эмбабе, завладели деревней и сбросили в Нил множество феллахов и янычаров. Многие из них утонули, но большинству удалось спастись вплавь, так как жители Египта вообще превосходные пловцы. Сражение кончилось. Арабы, ожидавшие у пирамид победы мамелюков, углубились в пустыню. Мурад-бей, с лицом в крови, увел остатки своей кавалерии в Верхний Египет. Ибрагим-бей, с другого берега следивший за поражением, направился к Сирии. Мамелюки зажгли джермы, на которых были сложены их богатства. Эта добыча ускользнула от нас, и солдаты видели ночью, как пламя пожирало богатства, которые должны были бы достаться им. Бонапарт разместил главную квартиру в Гизе, на берегу Нила, где находился прекрасный дворец Мурад-бея. Как в Гизе, так и в Эмбабе нашли значительные припасы, и наши солдаты могли вознаградить себя за долгие лишения. Они нашли в садах Гизы превосходный виноград, сбором которого они бы занялись, если бы у них не было другого занятия – искать добычу на поле сражения: там на мертвых оставались прекрасные шали, отличное оружие, там паслись лошади и валялись кошельки с двумя или тремя сотнями золотых монет, так как мамелюки носили с собой всё свое богатство. Вечер, ночь и следующий день солдаты занимались сбором добычи. Мамелюков было убито от пяти до шести сотен человек, и более тысячи потонуло в Ниле. Солдаты стали вылавливать утопленников, чтобы обобрать их, и потратили на это занятие еще несколько дней.
Сражение едва стоило нам сотни убитых и раненых: если потеря и бывает велика, когда каре проломлено, то она ничтожна, если каре отражает атаку. Мамелюки потеряли своих лучших всадников убитыми или утопшими. Силы их были рассеяны, а обладание Каиром – обеспечено французам. Страшный беспорядок царил в этой столице. В ней проживало более трехсот тысяч жителей, и оскотинившаяся чернь неистовствовала и хотела воспользоваться смятением для грабежа богатых дворцов беев. К несчастью, французская флотилия еще не поднялась по Нилу, и мы не имели возможности переправиться через него, дабы завладеть Каиром. Некоторые находившиеся там французские негоцианты были посланы шейхами к Бонапарту для соглашения с ним по поводу занятия города. Он нашел несколько джерм и послал на них отряд для водворения в Каире спокойствия, защитив тем личную безопасность горожан и их имущество от ярости черни. На следующий день Бонапарт занял Каир и вступил в обладание дворцом Мурад-бея.
 Резня в Каире
Резня в Каире
Едва устроившись, он поспешил применить политику, которой уже следовал в Александрии и которая должна была примирить с ним страну. Он посетил главнейших шейхов, польстил им, обнадежил восстановлением арабского владычества, пообещал сохранение их богослужения и обычаев и успел совершенно расположить их к себе. Главное – нужно было добиться, чтобы шейхи мечети Джемиль-Азара объявили, что они на стороне французов. Это значило то же, что папская булла для христиан. Бонапарт использовал всю присущую ему ловкость и вполне достиг цели. Шейхи сделали требуемое заявление и советовали египтянам подчиниться Божьему посланнику, который уважает Пророка и явился отмстить тирании мамелюков. Как и в Александрии, Бонапарт учредил в Каире диван, составленный из главнейших шейхов и наиболее видных лиц города. Цель этого дивана заключалась как в желании расположить к себе египтян, советуясь с ними, так и в том, чтобы научиться у них всем подробностям их внутреннего управления. Было решено, что во всех провинциях также будут устроены малые диваны, которые будут посылать депутатов в диван Каира. Бонапарт решил предоставить отправление правосудия кади. Согласно своему плану наследовать правам мамелюков, он секвестровал их имущества и продолжал взимать в пользу французской армии установленные мамелюками прежде налоги. Для этого требовалось иметь в своем распоряжении коптов; Бонапарт ничего не упустил из виду, чтобы склонить их на свою сторону, и дал им надежду на облегчение участи. Он отправил генералов с отрядами вниз по Нилу – занять Дельту, по которой французы лишь прошли; а также к Верхнему Нилу – для занятия Среднего Египта. При входе в Верхний Египет был поставлен Дезе со своей дивизией, он должен был отнять эти земли у Мурад-бея, как только, с началом осени, начнут спадать воды Нила. Генералы были снабжены подробными инструкциями и собирались проводить на занимаемых территориях ту же политику, какая была принята в Александрии и Каире. Затем Бонапарт озаботился благосостоянием и здоровьем солдат. Египет начинал им нравиться: они находили здесь отдых, изобилие, здоровый и чистый воздух. Они привыкали к особенностям местных нравов, которые составляли пока лишь предлог для насмешек. С обычной прозорливостью отгадывая намерение генерала, солдаты тоже разыгрывали почтение к Пророку и подшучивали над ролью, которую принуждала их играть политика.

Для приготовления хлеба Бонапарт построил печи, расквартировал солдат в лучших жилищах мамелюков и внушал им необходимость уважать женщин. Солдаты нашли в Египте отличных ослов; им доставлял большое удовольствие осмотр окрестностей и путешествия на этих животных по деревням. Французская кавалерия была посажена на лучших лошадей на свете, на арабских скакунов, отнятых у мамелюков. Бонапарт озаботился также поддержанием сношений с соседними странами, дабы сохранить богатую торговлю Египта и иметь возможность воспользоваться ею. Он сам назначил эмир-хаджи – офицера, избираемого ежегодно для охраны большого каравана, отправляющегося в Мекку. Он уведомил о том французских консулов на Варварском берегу, дабы они могли сообщить беям, что эмир-хаджи назначен и караваны могут отправляться. Через шейхов Бонапарт написал письмо шерифу Мекки[44] о том, что пилигримы и караваны везде найдут безопасность и покровительство. Каирский паша последовал за Ибрагим-беем в Белебей. Бонапарт написал ему, также как и пашам Сен-Жан д’Акра и Дамаска, уверяя их в добром расположении Франции к Блистательной Порте. К несчастью, последние предосторожности были бесполезны: чиновники Порты с трудом могли поверить, чтобы французы, вторгнувшиеся в одну из богатейших провинций их владыки, действительно были его друзьями. Арабов поразил характер молодого завоевателя. Они не могли понять такого милосердия со стороны смертного, в руках которого были громы. Они называли его достойным сыном Пророка, любимцем великого Аллаха; в своей большой мечети они пели следующее молебствие: «Гнев великого Аллаха против нас миновал! Он забыл наши проступки, довольно уже наказал нас долгим угнетением мамелюков! Воспоем милосердие великого Аллаха! Кто же тот, что избег опасностей моря и ярости своих врагов – Любимец победы? Кто же тот, кто провел здравыми и невредимыми на берега Нила храбрецов Запада? Это воля великого Аллаха, великого Аллаха, гнев которого против нас миновал. Воспоем милосердие великого Аллаха! Беи возложили свое упование на их лошадей; беи выстроили к сражению их пехоту. Но Любимец Победы во главе храбрецов Запада уничтожил и пехоту, и конницу мамелюков. Как утренний туман, подымающийся с Нила, рассевается солнечными лучами, так и армия мамелюков была рассеяна храбрецами Запада; всё потому, что великий Аллах ныне раздражен против мамелюков; потому что храбрецы Запада – правая зеница великого Аллаха». Чтобы казаться арабам еще менее чужим, Бонапарт желал принять участие в их празднествах. Он присутствовал на празднике в честь Нила, одном из самых значительных в Египте. Река эта – благодетельница всей страны; а потому жители чувствуют к ней особенное уважение, доходящее до почти религиозного почитания. Во время паводка она входит в Каир через большой канал, плотина запирает ей доступ в него, пока река не поднимется до известной высоты; тогда плотину разваливают, и день ее открытия составляет день общей радости. Объявляют высоту, до которой дошла река, и когда рассчитывают на большой уровень, радость становится общей, так как это предвестие изобилия. Торжество это празднуют 18 августа (1 фрюктидора). Бонапарт приказал всей армии стать под ружье и выстроил солдат по берегам канала. Огромное население с радостью смотрело на храбрецов Запада, принимавших участие в празднике. Бонапарт во главе своего штаба сопровождал власти страны. Сначала шейх объявил высоту, которой достиг Нил: двадцать пять футов, что вызвало большую радость. Затем приступили к разбору плотины. В ту минуту, как в канал устремились воды реки, раздался залп французской артиллерии. По обычаю, в канал ринулись барки – выиграть приз, предназначенный той, которая доплывет первой. Бонапарт лично выдал этот приз. Толпа мужчин и детей погрузилась в воды Нила, приписывая этому омовению целительные свойства. Женщины бросали в воду локоны и куски ткани. Город был иллюминован, и день закончился пиршествами. С неменьшей торжественностью прошел и праздник Пророка. Бонапарт отправился в большую мечеть, сел на подушки, как шейхи, поджав под себя ноги, читал с ними молитвы, раскачиваясь и мотая головой. Своим благочестием он подавал пример всем правоверным. Затем Бонапарт поприсутствовал на обеде, данном великим шейхом, который был избран в тот же день. Вот такими-то средствами молодой генерал, столь же глубокий политик, сколь и великий полководец, умел расположить к себе население. Временно льстя предрассудкам людей, он работал над распространением просвещения среди жителей и занимался образованием знаменитого Института Египта. Он собрал ученых и художников, сопутствовавших ему, и присоединил к ним некоторых из наиболее просвещенных офицеров, таким образом составив Институт, которому назначил особые доходы и помещение в одном из обширнейших дворцов Каира. Одни должны были заняться точным описанием страны и составлением подробной ее карты; другие – изучать развалины и бросить новый свет на историю страны; третьи – исследовать ее и публиковать наблюдения, касающиеся физики, астрономии или естественной истории; четвертые – изыскивать средства, которыми можно было бы улучшить жизнь египтян: машины, каналы, гидротехнические сооружения на берегах Нила, новые способы обрабатывания этой особенной и отличной от Европы почвы. Если фортуна и должна была впоследствии отнять у нас эту прекрасную страну, то по крайней мере она не могла лишить нас завоеваний, которые в ней предстояло сделать науке; готовился памятник, долженствовавший стать почетным свидетельством гения наших ученых, так же как сама экспедиция должна была свидетельствовать о героизме наших солдат. Первое президентство в Институте принадлежало Монжу, Бонапарту – лишь второе. Он предложил для обдумывания следующее: найти лучший способ постройки ветряных мельниц; придумать замену хмелю, которого нет в Египте, для производства пива; определить удобные для возделывания винограда места; составить проект снабжения Каира водой; выкопать колодцы в разных местах пустыни; отыскать средство к очищению и освежению нильской воды; придумать, как с пользою применить развалины, которыми загроможден Каир, так же как и другие древние города Египта; отыскать вещества, идущие на изготовление пороха, чтобы можно было наладить его производство в Египте. Уже по этим вопросам можно судить о направлении мыслей Бонапарта. Немедленно по всем провинциям отправились инженеры и ученые описывать и составлять карты страны. Таковы были заботы зарождающейся колонии и тот путь, по которому ее основатель направлял ее труды.
Провинции Нижнего и Среднего Египта были завоеваны без труда, это стоило французам лишь нескольких стычек с арабами. Было достаточно одного форсированного марша, чтобы отбросить Ибрагим-бея в Сирию. Дезе ожидал осени, чтобы отнять Верхний Египет у Мурад-бея, который туда удалился с остатками своей армии. Но в это самое время фортуна повернулась к Бонапарту спиной. Оставляя Александрию, он настоятельно рекомендовал Брюэ поставить свою эскадру вне видения англичан, для чего ему следовало или войти в Александрийский порт, или направиться в Корфу, но ни в каком случае не оставаться на Абукирском рейде, потому что неприятеля выгоднее встретить на парусах, нежели на якоре. По поводу вопроса, можно ли ввести в Александрийский порт 120– и 80-пушечные корабли, вышел горячий спор. Относительно всех прочих судов сомнений не было, но двум 80-пушечным и одному 120-пушечному нужно было подняться на три фута выше той черты, на которой они сидели; а для этого их следовало разоружить или построить особые камели[45]. На таких условиях Брюэ не желал вступать в порт; он думал, что, приняв такие предосторожности относительно своих трех самых сильных кораблей, он никогда не будет в состоянии выйти из порта в присутствии неприятеля и может быть блокирован даже слабой неприятельской эскадрой. Адмирал решил отправиться в Корфу. Будучи, однако, весьма предан Бонапарту, он не хотел поднимать паруса раньше, чем получит известие о вступлении французов в Каир и утверждении их в Египте. Промедление это его погубило: следствием стало одно из самых роковых событий времен Революции, возымевшее на судьбы мира наиболее решающее влияние. Адмирал Брюэ причалил на Абукирском рейде. Этот рейд представляет собой правильный полукруг. Наши тринадцать кораблей стояли полукружьем параллельно берегу. Чтобы обеспечить линию, адмирал упер ее с одной стороны в маленький остров Абукир. Он никак не предполагал, что какой-нибудь неприятельский корабль может пройти между этим островом и линией его расположения и взять его с тыла; в таковой уверенности Брюэ ограничился тем, что поставил на острове батарею двенадцатифунтовых орудий – исключительно с целью воспрепятствовать высадке неприятеля. Он считал себя до такой степени защищенным с этой стороны, что оставил тут свои худшие корабли. Адмирал больше опасался за другую оконечность полукружья. С этой стороны неприятель мог пройти между берегом и французской эскадрой; потому адмирал расположил здесь свои сильнейшие корабли. Его успокаивало еще то важное обстоятельство, что это была южная сторона, ветер же дул с севера, так что неприятель, желавший атаковать с этой стороны, обнаружил бы противный ветер и не решился бы вступить в бой при таком неблагоприятном обстоятельстве. В таком положении Брюэ спокойно ожидал известий, которые должны были решить его отправление. Проплавав по Архипелагу и возвратившись в Адриатику, Неаполь и Сицилию, Нельсон, наконец, удостоверился в высадке французов в Александрии. Он немедленно поплыл к ней, дабы встретить эскадру и сразиться с нею. Он послал фрегат отыскать французов и провести рекогносцировку. Фрегат обнаружил врага на Абукирском рейде и мог свободно осмотреть всю линию наших судов. Если бы адмирал, имевший в Александрийском порту множество фрегатов и мелких судов, оставил некоторые из них под парусами, то он мог бы держать англичан в отдалении, воспрепятствовать осмотру наших расположений и вообще узнать о приближении англичан. К несчастью, он ничего этого не сделал. Окончив свою рекогносцировку, английский фрегат возвратился к Нельсону; тот, зная теперь все подробности расположения флотилии, тотчас же направился к Абукиру. Он прибыл туда 1 августа (14 термидора) к шести часам вечера. Адмирал Брюэ еще не отобедал. Нельсон подал сигнал к сражению, но боя с неприятелем ждали так мало, что ни наодном корабле не подали треноги и не сняли коек, часть же экипажей и вовсе находилась на берегу. Адмирал послал офицеров собрать и привезти матросов, а также взять тех, кто находился на транспортах. Он не предполагал, что Нельсон атакует тем же вечером, а потому надеялся успеть получить требуемые подкрепления. Нельсон решил атаковать немедленно и попробовал смелый маневр, которым надеялся выиграть сражение. Он хотел устремиться на наши расположения с левой стороны, то есть от острова Абукира; не обращая внимания на мелководье, пройти между этим островом и нашей эскадрой и стать между берегом и французами. Маневр этот был опасен, но неустрашимый англичанин не колебался. Число судов было одинаковым с обеих сторон – по тринадцати высокобортных кораблей. Нельсон устремился в атаку к восьми часам вечера. Сначала его маневр не был удачен: «Каллоден», желавший пройти между Абукиром и линией наших кораблей, стал на мель. Следовавший за ним «Голиаф» был удачливее, ему удалось пройти, но, гонимый ветром, он миновал наш первый корабль и смог остановиться только против третьего. За ним следовали английские корабли «Зилус», «Одейшес», «Тесей» и «Орион». Им также удалось поместиться между линией наших кораблей и берегом. Они дошли до «Тоннана», стоявшего в ряду французских кораблей восьмым и завязали сражение с нашим центром. Другие английские корабли двигались с внешней стороны французской линии, которую и поставили между двух огней. И поскольку на французских кораблях не ожидали нападения с берега, то корабельные батареи с береговых бортов были завалены койками и два первых наших корабля не смогли открыть огонь в этом направлении: у одного был перебит рангоут, у другого сбиты мачты. Но в центре, где стоял «Ориент», адмиральский корабль, был страшный огонь. «Беллерофон», один из лучших кораблей Нельсона, был лишен снастей и мачт и принужден отойти. Также и другие страшно пострадавшие английские корабли ушли с поля сражения. Адмирал Брюэ, располагавший только частью своих матросов, тем не менее выдерживал огонь неприятеля и надеялся даже, несмотря на удачный маневр Нельсона, одержать победу, если бы только отданные им в это время приказания были исполнены. Англичане завязали бой лишь с нашим левым крылом и центром; правое крыло, составленное из пяти лучших кораблей, не имело перед собою неприятеля. Адмирал Брюэ подал ему сигнал поднять паруса и зайти на линию боя снаружи; если бы этот маневр удался, то английские корабли сами были бы поставлены между двух огней; но сигналов не заметили. В подобном случае подчиненный должен не колебаться, а спешить на помощь к своему начальнику. Контр-адмирал Вильнев, храбрый, но нерешительный, остался неподвижен, ожидая приказаний. Итак, наше левое крыло и центр по-прежнему оставались между двух огней. Тем не менее адмирал и его капитаны показывали чудеса храбрости и изо всех сил поддерживали честь французского флага. Мы потеряли два корабля, англичане также потеряли два; наш огонь имел перевес. Несчастный Брюэ был ранен и не хотел оставить палубы: «Адмирал, – сказал он, – должен умереть, отдавая приказы». Ядро убило его на вахтенных шканцах. К одиннадцати часам великолепный корабль «Ориент» загорелся и взлетел на воздух. Этот страшный взрыв на некоторое время приостановил ожесточенное побоище. Не уступая врагу, наши атакованные пять кораблей – «Франклин», «Тоннан», «Пепль Суверьен», «Спартиат» и «Аквилон» – всю ночь выдерживали неприятельский огонь. У правого крыла еще была возможность поднять якорь и идти к ним на помощь. Нельсон опасался этого маневра; его суда так пострадали, что он не смог бы выдержать атаки. Однако Вильнев поднял паруса, но лишь для того, чтобы уйти; он не надеялся на успех, рискуя своими кораблями против Нельсона. Три его корабля выбросились на берег, с двумя другими и двумя фрегатами он направился к Мальте. Сражение продолжалось более пятнадцати часов. Все атакованные экипажи выказали чудеса храбрости. У храброго капитана Пети-Туара ядром оторвало обе ноги, он приказал принести себе табаку, остался на вахтенных шканцах и, как Брюэ, дождался, пока его убило другим ядром. Вся наша эскадра, за исключением двух кораблей и двух фрегатов, уведенных Вильневом, была уничтожена. Флоту Нельсона нанесли такие повреждения, что он не мог преследовать французов. Таково было знаменитое морское сражение при Абукире, самое гибельное, в каком только приходилось участвовать французскому флоту; оно повлекло за собой самые пагубные военные последствия. Доставивший французов в Египет флот, который мог бы их поддерживать и пополнять потери в их рядах; помогать операциям на сирийском берегу, влиять на Порту и заставить ее довольствоваться неудовлетворительными объяснениями, принуждая терпеть вторжение в Египет; который, наконец, в случае неудачи, должен был возвратить французов в их отечество, – этот флот был уничтожен. Известие о поражении быстро распространилось по Египту и на минуту привело армию в отчаяние. Бонапарт встретил эту новость с бесстрастным спокойствием. «Видно, – сказал он, – придется умирать тут или вернуться такими же великими, как древние». Он писал Клеберу: «Это принуждает нас совершить еще более великие деяния, нежели мы думали. Нужно быть наготове». Великая душа Клебера была достойна такого языка. «Да, – отвечал он, – нужно совершать великие вещи; я подготавливаю к тому мои способности». Мужество этих смельчаков поддержало армию и восстановило ее воинственный дух. Бонапарт старался развлекать своих солдат экспедициями и заставить их скорее забыть это поражение. При праздновании 1 вандемьера основания Республики он хотел еще более возбудить их воображение; с этой целью на колонне Помпея было велено начертать имена первых сорока солдат, павших при штурме Александрии. Эти сорок безвестных солдат, вышедших из глухих деревень Франции, стали Помпею и Александру товарищами по бессмертию. Бонапарт обратился к своей армии с величественным воззванием:
«Солдаты! Мы празднуем сегодня первое число года VII Республики. Пять лет тому назад независимости французского народа угрожала опасность; но вы взяли Тулон, и это было предвестием гибели врагов ваших. Год спустя вы разбили австрийцев при Дето. Прошел еще год, и вы уже были на вершине Альп. Два года тому назад вы стояли под Мантуей и одержали знаменитую победу при Сан-Джорджио. В прошлом году вы были у источников Дравы и Изонцо, на возвратном пути из Германии. Кто бы тогда сказал вам, что сегодня вы будете на берегах Нила, в средоточии древнего мира? На вас обращено внимание всего света, начиная с англичан, знаменитых искусствами и торговлей, и заканчивая последним самым отвратительным и жестоким бедуином. Солдаты, ваша участь прекрасна, так как вы достойны своих деяний и мнения, какое о вас составили. Вы умрете со славою, подобно храбрым, имена коих вырезаны на этой колонне; или, увенчанные лаврами, возвратитесь в отечество, заставив все народы удивляться себе. В течение пяти месяцев, со времени удаления нашего из Европы, мы были постоянным предметом заботы со стороны наших соотечественников. В этот день сорок миллионов граждан празднуют учреждение представительного правления; сорок миллионов думают о вас и говорят: “Трудам и крови их мы обязаны общим миром, спокойствием, процветанием торговли и благодеяниями гражданской свободы!”»
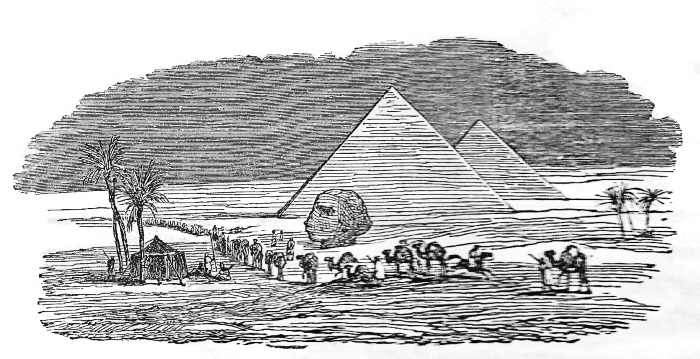
Глава LIX
Гибельные последствия морского сражения при Абукире – Объявление войны со стороны Порты – Успех Раштаттских переговоров – Перемены в Цизальпинской республике – Финансы года VII – Завоевание Неаполитанского королевства – Отречение от трона короля ПьемонтаЕгипетская экспедиция оставалась тайной для Европы еще долго после отправления нашего флота, и завоевание Мальты позволило строить предположения о назначении экспедиции. Взятие этой крепости, считавшейся неприступной, окружило французских аргонавтов необыкновенным блеском. Высадка в Египте, занятие Александрии, сражение при Пирамидах поразили воображение жителей Франции и всей Европы. Имя Бонапарта, казавшееся столь славным, когда оно доходило с Альп, долетая из отдаленных стран Востока производило еще более поразительное действие. Его пребывание в Египте служило темой всех разговоров. Но что значило всё уже исполненное Бонапартом в сравнении с его предполагаемыми гигантскими проектами: говорили, что он пройдет Сирию и Аравию и устремится или на Константинополь, или на Индию. Злосчастное сражение при Абукире если не уничтожило обаяния предприятия, то пробудило все надежды врагов Франции и облегчило их замыслы. Англия, крайне обеспокоенная из-за своей торговли, повсюду искавшая против нас новых союзников, наполнила Константинополь интригами. Султан был не прочь наблюдать за наказанием мамелюков, но он не хотел окончательно лишиться Египта. Талейран, который должен был ехать в Константинополь, чтобы дать султану надлежащие объяснения, туда не поехал. Ничто не могло помешать английским агентам убедить Порту, что честолюбие Франции ненасытимо, что, возмутив всю Европу, она хочет потрясти и Восток и, пренебрегая давним союзом, уже вторглась в богатейшую провинцию Турецкой империи. Как эти подстрекательства, так и подкуп дивана были бы бессильны подвигнуть Порту на враждебные действия, если бы она опасалась канонады прекрасного флота Брюэ; но поражение при Абукире лишило французов всего их влияния на Востоке и принесло Англии решительный перевес. Порта торжественно объявила Франции войну 4 сентября (18 фрюктидора) и, таким образом, из-за провинции, давно уже ею потерянной, рассорилась со своей естественной союзницей и объединилась со своими опаснейшими врагами – Россией и Англией. Султан повелел собрать армию для отвоевания Египта. Последнее обстоятельство ставило французов в весьма затруднительное положение: отрезанным от Франции и лишенным победоносным флотом англичан возможности получать подкрепления, им предстояло еще подвергнуться натиску полчищ Востока; вся же их численность не превосходила тридцати тысяч человек. Победоносный Нельсон прибыл в Неаполь для ремонта своей сильно пострадавшей эскадры, а также и для того, чтобы воспользоваться торжеством триумфа. Вопреки всем договорам, связывающим неаполитанский двор с Францией и воспрещавшим ему оказывать помощь нашим неприятелям, все порты и верфи обеих Сицилий были открыты Нельсону. Сам он был встречен с необыкновенными почестями. Король и королева приветствовали его у входа в порт и назвали героем-освободителем Средиземного моря. Стали поговаривать, что триумф Нельсона должен стать сигналом общего пробуждения, что державы должны воспользоваться случаем, когда самая грозная армия Франции и ее величайший полководец заперты в Египте – и поднять против нее оружие, отбросив ее солдат и ее принципы в ее пределы. При всех дворах велись весьма деятельные происки. Писали в Тоскану и Пьемонт, желая пробудить их скрытую ненависть к Франции; говорили, что время объединиться против общего врага, помочь неаполитанскому двору – и разом восстать в тылу французов, перерезав их от одного конца полуострова до другого. Австрии говорили, что она не должна упустить случая напасть на Францию с фронта и отнять у нее Италию, когда итальянские державы, в свою очередь, зайдут французам в тыл. Это было легко: на Адидже уже не было Бонапарта и его грозной армии. Обращались к Германской империи, лишенной части своих владений и принужденной уступить левый берег Рейна; пытались вывести из нейтралитета Пруссию; старались склонить Павла I подать помощь, столь давно обещанную Екатериной. Эти подстрекательства не могли быть приняты дворами только благоприятно; не все они, однако, были в состоянии прислушаться к ним. Ближайшие к Франции правительства были больше всего раздражены против нее и готовы отказаться от революции; но уже вследствие близости к республиканскому колоссу они были вынуждены проявлять сдержанность и благоразумие. Легче всего было склонить к такому плану Россию, наиболее удаленную от Франции и, как по этой причине, так и по нравственному состоянию своих народов, наименее подверженную влиянию общественного мнения. Искусная политика Екатерины, заключавшаяся в усилении затруднений на Западе, дабы всегда иметь предлог к вмешательству в дела западных держав и свободу действий в отношении Польши, – эта политика не сошла с нею в могилу. Такой подход свойственен любому русскому правительству, он вытекает из самого его положения: способы и средства могут меняться, смотря по характеру царствующего государя, но цель, к которой Россия неуклонно и неудержимо стремится, остается той же. Екатерина ограничивалась тем, что подавала французским эмигрантам надежды и оказывала им помощь; она проповедовала крестовый поход и не посылала сама ни одного солдата. Ее преемник преследовал ту же цель, но сообразно своему характеру; этот пылкий и великодушный государь сначала, по-видимому, отступил от политики Екатерины и отказался от исполнения союзного договора с Англией и Австрией; но после этого временного уклонения он возвратился к обычной политике русского двора. Он предоставил убежище претенденту и после Кампо-Формий-ского договора принял на службу эмигрантов. Он считал своей обязанностью стать главой европейского дворянства, угрожаемого демагогами; в этом намерении его еще больше утвердило обращение к нему Мальтийского ордена, признавшего его своим протектором. Павел предложил свое покровительство Германской империи и желал гарантировать неприкосновенность ее границ. Взятие Мальты крайне раздражило его, и он выказал готовность содействовать своими армиями Австрии в войне против Франции. Итак, Англия торжествовала одинаково и в Петербурге, и в Константинополе, соединяя в общем деле непримиримых до того врагов. Но не везде, однако, замечалась та же ревностность: Пруссия была слишком довольна своим нейтралитетом и истощением Австрии, чтобы вмешаться в борьбу двух враждебных держав. Она заботилась лишь о предохранении от революционной заразы своей границы со стороны Голландии и Франции, для чего расставила войска в виде своеобразного санитарного кордона. Священная Германская империя, уже испытавшая на себе могущество Франции и всегда подверженная опасности стать театром войны, желала мира. Того же желали и лишенные владений князья, потому что рассчитывали получить вознаграждение на правом берегу; войны желали только духовные владетели, которым грозила секуляризация. Итальянские державы – Пьемонт и Тоскана – ждали только случая, но дрожали под железной рукой Французской республики; они требовали, чтобы им подал сигнал Неаполь или Австрия. Что касается Австрии, хотя она и была расположена удачнее прочих держав монархической коалиции, тем не менее с обычной своей медлительностью колебалась в принятии решения, а главное, опасалась за свои народы, уже очень истощенные войною. Франция противопоставила ей две новые республики – Швейцарию и Рим, что сильно раздражало австрийский двор и располагало его начать борьбу; но Австрия посмотрела бы на это расширение сквозь пальцы, если бы, в свою очередь, была вознаграждена новыми областями. Для достижения этой цели она предложила проводить конференции в Зельце (в Эльзасе). Эти конференции должны были состояться летом 1798 года, недалеко от Раштаттского конгресса, и переговоры на них должны были идти одновременно с конгрессом. От их результата зависело решение Австрии и исход усилий, которые были предприняты для образования новой коалиции. Францию в Зельце должен был представлять Франсуа де Нёвшато. По этой причине и выбрали небольшой городок Зельц на левом берегу Рейна, недалеко от Раштатта; последнее условие было необходимо, так как конституция воспрещала выбывающему директору удаляться за пределы Франции раньше срока. Со стороны Австрии был назначен Кобенцель. С самого начала переговоров можно было наблюдать настроения этой державы: Австрия желала расширения своей территории. Франция прежде всего хотела соглашения по поводу последних событий в Вене и стремилась получить удовлетворение за оскорбления, нанесенные Бернадотту, Австрия же избегала объяснений по этому предмету и откладывала их до конца переговоров. Французский уполномоченный беспрестанно возвращался к ним; впрочем, ему было приказано удовольствоваться любым ответом. Франция желала, чтобы притворная немилость Тугута стала таковой на самом деле и чтобы перед Бернадоттом просто извинились. Кобенцель удовольствовался заявлением, что его двор не одобряет происшедшего в Вене, но не стал говорить ни о каком удовлетворении и продолжал настаивать на расширении территории. Было ясно, что самолюбие одних будет удовлетворено лишь после того, как получит удовлетворение честолюбие других. Австрия утверждала, что образование двух новых республик, Римской и Гельветической, и прямое влияние Франции на Цизальпинскую, Лигурийскую и Батавскую республики составляют решительное отступление от Кампо-Формийского договора и опасное нарушение равновесия в Европе; Франция лишь тогда сможет заставить забыть свои последние захваты, когда согласится на соответствующие вознаграждения, какими могли стать новые провинции в Италии. Хотели, чтобы граница по Адидже была подвинута вперед и австрийские владения достигли По и Адды, то есть чтобы императору уступили большую часть Цизальпинской республики. Кобенцель предлагал вознаградить за это Цизальпинскую республику частью Пьемонта, остальную же часть этого королевства отдать герцогу Тосканскому; а королю Пьемонта предоставить Папскую область. Итак, ценой расширения своей территории в Ломбардии и земель своего родственника в Тоскане австрийский император соглашался признать учреждение Гельветической республики, свержение папы и раздробление Пьемонта. Множество причин не позволяло Франции согласиться на эти предложения: во-первых, она не могла согласиться на новое раздробление только что образовавшейся Цизальпинии и на возвращение под австрийское иго освобожденных провинций; во-вторых, не далее чем в прошлом году Франция заключила с королем Пьемонта договор, по которому гарантировала защиту его владений, и гарантировала главным образом против Австрии, следовательно, она не могла пожертвовать и им. Итак, Франсуа де Нёвшато не мог принять предложений Кобенцеля; они расстались, не условившись ни в чем. По случаю событий в Вене также не было дано никакого удовлетворения. Господин Дегельман, которого предполагалось отправить посланником в Париж, никуда не поехал; объявили, что оба двора будут продолжать свои сношения через посланников на конгрессе в Раштатте. Очевидно, с этой минуты Австрия уже приняла решение, но, прежде чем начать неприязненные действия, желала обеспечить себе содействие главнейших европейских держав. Кобенцель отправился в Берлин, откуда затем должен был ехать в Санкт-Петербург. Целью этих поездок было образование совместно с Англией новой коалиции. Русский император отправил в Берлин одного из важнейших сановников своей империи – князя Репнина. Кобенцель собирался объединить свои усилия с усилиями князя Репнина и английского посольства, чтобы склонить к коалиции молодого русского императора. Франция, со своей стороны, послала в Берлин одного из знаменитейших своих граждан – Сийеса. Постоянно дующийся и недовольный правительством, не из честолюбия, как Бонапарт, но в досаде за конституцию, не им сочиненную, Сийес становился неудобен. Придумали предоставить ему посольство. Это был случай удалить его, воспользоваться его услугами, а главное – дать средства существования. Основное посольство находилось в Берлине, так как ни в Австрию, ни в Россию, ни в Англию посланников не отправляли. Берлин же был театром всех интриг, и хотя Сийес был мало способен к ведению дипломатических дел, он оставался проницательным наблюдателем, на которого можно было положиться. К тому же его замечательная репутация делала его более всех способным представлять Францию, особенно в Германии. Король без особого удовольствия встретил знаменитого революционера, однако не принять его вовсе не решился. Сийес держался умеренно и с достоинством и был принят так же, но оставлен в одиночестве; как и за всеми нашими посланниками за границей, за ним тщательно наблюдали. Немцам было весьма любопытно наблюдать за ним, но они не осмеливались делать это открыто; его влияние на берлинский двор было ничтожным. Лишь ясное понимание своих интересов удерживало короля Прусского от согласия на уговоры Англии, Австрии и России. Тогда как в Германии старались заставить примкнуть к коалиции короля Прусского, преисполненный после победы Нельсона радости и безрассудной смелости неаполитанский двор осуществлял громадные военные приготовления и повторял свои искательства перед Тосканой и Пьемонтом. Франция, как бы из снисхождения, предоставила ему занять герцогство Беневент; но эта уступка Неаполь не удовлетворила: он льстил себя надеждой приобрести половину бывшей Папской области.
Переговоры в Раштатте продолжались успешно для Франции. По назначении Трельяра директором и отбытии Бонапарта в Египет их заменили на конгрессе Жан Дебри и Клод Робержо. После установления границы по Рейну предстояло еще разрешить массу военных, политических и коммерческих вопросов. Наша депутация сделалась крайне требовательной и заявляла притязания гораздо больше тех, на какие была вправе рассчитывать. Прежде всего она желала уступки всех рейнских островов, что было весьма важной статьей, особенно в военном отношении. Затем она желала сохранения Келя и его территории напротив Страсбурга, а также Касселя и его территории напротив Майнца. Франция хотела, чтобы вновь был устроен мост для возобновления торгового пути между Старым и Новым Брайзахом; чтобы против прежнего моста в Гюнингене нам уступили на германском берегу пятьдесят акров земли и чтобы важная крепость Эренбрайтштайн была срыта. Затем французы требовали свободы судоходства по Рейну и по всем его притокам в Германии; уничтожения всех внутренних заставных пошлин; одинакового таможенного сбора по обоим берегам. Наконец, Франция предъявляла самое важное последнее условие: долги, лежащие на землях левого берега, уступаемого Франции, следовало перевести на те земли правого берега, которые должны были служить вознаграждением прежних владетелей. Депутация Германской империи возражала, утверждая, что линия Рейна должна представлять одинаковую безопасность для обеих наций; что эта-то причина и являлась главным основанием для требования ее со стороны Франции; такой безопасности не существовало бы для Германии, если бы Франция удержала за собой все наступательные пункты. Итак, депутация Империи предлагала естественной линией раздела тальвег, то есть середину главного судоходного русла. Все острова вправо от этой линии принадлежали бы Германии, влево – Франции, ставя таким образом между двумя народами естественную преграду – главное судоходное русло. Вследствие такой точки зрения депутация требовала разрушения укреплений Касселя и Келя и отказывалась от уступки пятидесяти акров против Гюнингена; она не желала, чтобы Франция сохраняла наступательные пункты, в то время как Германия все их теряет. С меньшими уже основаниями она отказывалась от срытия Эренбрайтштайна, сохранение которого было несовместимо с безопасностью Кобленца. Австрия соглашалась предоставить свободу судоходства по Рейну, но требовала свободы навигации на всем его течении и желала, чтобы Франция принудила Батавскую республику признать эту свободу. Что касается свободы судоходства по рекам внутри Германии, последнее уже выходило из пределов ведения австрийцев и составляло частное право каждого отдельного государства. Она соглашалась на сохранение бичевой полосы[46], всё же, что относилось к заставным пошлинам и их уничтожению, находила подлежащим обсуждению в отдельном торговом договоре. Касательно земель, уступаемых Франции, депутация полагала, что их долги должны остаться на них же, поскольку долг, по определению права, неотделим от залога, и требовала, чтобы имения иммедиатизированного дворянства[47] рассматривались как частная собственность и были оставлены за ним. Кроме того, депутация требовала, чтобы французские войска очистили правый берег и прекратили блокаду Эренбрайтштайна, так как она уже довела его жителей до голода. Такие противоположные притязания привели к появлению в течение лета ряда нот и контрнот. Наконец, к августу и сентябрю 1798 года французскими уполномоченными была принята черта тальвега. Франция соглашалась на срытие Касселя и Келя, но требовала на Рейне, на высоте Майнца, остров Петерзау, имевший весьма большое значение для этой крепости; Империя, со своей стороны, соглашалась на разрушение Эренбрайтштайна, а также на свободное судоходство по Рейну и уничтожение заставных пошлин. Оставалось условиться относительно торговых мостов, имущества иммедиатизированного дворянства, законов об эмигрантах на уступаемых землях и, наконец, долгов, лежащих на последних. Светские владетели заявили, что следует пойти на любые уступки, совместные с честью и безопасностью Империи, чтобы достичь мира, столь необходимого Германии. Большая часть князей желала заключения мирного договора; их к этому склоняла Пруссия. Что же до Австрии, она, напротив, стала мешать ходу переговоров и возбуждать неудовольствие духовных владетелей. Представители Империи, высказываясь за мир, тем не менее соблюдали из страха перед Австрией большую осторожность и старались лавировать между ней и Пруссией. А французские уполномоченные выказывали крайнюю суровость в обхождении и держались в стороне от всех.
Во время этих событий Франция, которой предстояло руководить пятью образовавшимся вокруг нее республиками, вынуждена была бороться со всякого рода затруднениями: следовало направлять общественное мнение, продовольствовать войска, мирить наших посланников с генералами, наконец, поддерживать доброе согласие с соседними государствами. Надлежало повсюду придерживаться того же образа действий, как и во Франции, то есть, нанеся удар одной партии, поражать затем и другую. Для удаления федералистов и уничтожения прежних регламентов, а также чтобы дать стране административное устройство, подобное Франции, в Голландии 22 января (3 плювиоза) устроили переворот, похожий на переворот 18 фрюктидора. Эта революция благоприятствовала демократам: они завладели всей властью; желая подражать Конвенту и знаменитым декретам 5 и 13 фрюктидора, они исключили из национального собрания всех депутатов, казавшихся подозрительными, и, не прибегая к новым выборам, образовали директорию и два совета. Генерал Дендельс, один из самых видных представителей умеренной партии, прибыл в Париж, вступил в соглашение с директорами и затем отправился обратно в Голландию для нанесения демократам того же удара, который был нанесен им недавно в Париже исключением из законодательного корпуса. Генерал Жубер получил приказание поддерживать Дендельса. Последний объединился с министрами и с помощью батавских и французских войск рассеял директорию и советы, образовал временное правительство и назначил новые выборы. Французский посланник Делакруа, поддерживавший демократов, был отозван. Сцены эти произвели свое обычное действие: не замедлили заявить, что рычагом управления служат штыки и что новые государства находятся в полной и совершенной зависимости от Франции. Утверждение единой и нераздельной республики в Швейцарии, к сожалению, не обошлось без кровопролития. Малые кантоны Швиц, Цуг, Гларус, возбуждаемые священниками и местной аристократией, поклялись противиться водворению нового порядка. Не желая прибегать к силе, генерал Шауэнбург отрезал их сообщение с другими кантонами. Тогда упорствующие кантоны взялись за оружие и вторглись в Люцерн, стали грабить его и опустошать. Шауэнбург двинулся на них и после нескольких стычек принудил просить мира и признать новую конституцию. Пришлось также прибегнуть к оружию против крестьян Верхней Вальтеллины, которые спустились в Нижнюю с целью вновь утвердить свое господство. Несмотря, однако, на все эти препятствия, в мае 1798 года конституция вступила в силу повсюду. Правительство Гельвеции собралось в Аргау. Оно состояло из директории и двух советов, при нем находился зять Ревбеля, французский комиссар Рапина, с которым правительство должно было советоваться. Положение правительства было весьма затруднительным: скрывшиеся в горах священники и аристократы ждали лишь благоприятного случая, чтобы вновь поднять население; приходилось остерегаться их и следить за ними, продовольствовать и снабжать всем нужным французскую армию, организовать администрацию и готовиться к самостоятельному политическому существованию. Эта задача представляла равные трудности как для гельветического правительства, так и для находившегося при нем французского комиссара. Было вполне естественно, что для покрытия военных издержек Франция завладела казначействами старых аристократических кантонов: как деньги казначейств, так и припасы складов требовались французам для содержания армии. В связи с этим Рапина приказал запечатать все казначейства. Многие швейцарцы, даже желавшие революции, находили весьма неприглядным захват денег и запасов старых правительств. Как и все горцы, швейцарцы благоразумны и храбры, но весьма скупы. Они желали, чтобы им подарили свободу и избавили от олигархов, но при этом вовсе не желали нести военных издержек. В то время как Голландия и Италия, почти не жалуясь, переносили всю тяжесть длинных и опустошительных кампаний, швейцарские патриоты подняли крик из-за нескольких миллионов. Директория Гельвеции, в свою очередь, наложила новые печати на печати Рапина, также протестуя против распоряжения. Тогда Рапина приказал немедленно снять печати директории и объявил, что ее роль является чисто административной, что она бессильна против власти Франции и впредь ее декреты и законы будут иметь силу лишь до тех пор, пока в них не будет ничего противного постановлениям французского комиссара и главнокомандующего. Враги революции (в гельветические советы попали многие из них) радовались этому столкновению и уже кричали о тирании. Они заявляли, что их независимость нарушена, что Французская республика, имевшая притязание нести им свободу, на самом деле принесла лишь порабощение и нищету. Оппозиция проявлялась не только в советах, но также в директории и в местной администрации. В Люцерне и Берне она состояла из прежних аристократов и ставила всевозможные преграды взиманию у дворянских семей пятнадцати миллионов. Рапина решился также очистить правительство и администрацию Гельвеции. Письмом от 16 июня (28 прериаля) он потребовал отставки двух директоров, министра иностранных дел, а также всего состава административных палат Люцерна и Берна. Такому требованию, выставленному к тому же в виде приказа, отказать не смогли. Отставки были немедленно поданы, но грубость, с которой в этом случае держал себя Рапина, дала повод к новым крикам и сделала виновным уже его. В самом деле, открыто требуя перемены лиц, французский комиссар нарушал все обычные формы, тогда как того же результата легко было достичь другими способами. Французская директория немедленно написала Гельветической, снимая с себя ответственность за поведение Рапина. Комиссара отозвали; тем не менее отставленные члены были исключены. Взамен советы избрали Окса, автора конституции, и Лагарпа, брата генерала, убитого в Италии, одного из главных организаторов революции в Ваадтланде и одного из честнейших и благонамереннейших граждан страны. Девятнадцатого августа (2 фрюктидора) между Французской и Гельветической республиками был заключен наступательный и оборонительный союз. Согласно этому договору, воюющая держава имела право на содействие другой и могла просить у нее помощи, размеры которой определялись обстоятельствами; обращавшаяся за помощью держава должна была содержать вспомогательные войска за свой счет. По всем рекам Швейцарии и Франции взаимно провозглашалась свобода судоходства; две дороги должны были быть открыты: одна из Франции в Цизальпинию, через Вальтеллину и Симплон, другая из Франции в Швабию, вверх по Рейну и восточному берегу озера Констанц. Таким образом Франция обеспечивала себе две военные дороги для удобной связи с союзными государствами и возможности стремительного дебуширования в Германию и Италию. Говорили, что две эти дороги переносят театр войны в союзные государства; но таковой опасности они подвергались уже вследствие самого их союза с Францией. Дороги являлись лишь средством прибыть скорее и вовремя защитить своих союзников. Женева и Моншуа были присоединены к Франции. Итальянские округа, долго колебавшиеся в выборе между Цизальпинией и Гельветической республикой, высказались за присоединение к последней. Лига Гризона, которую Директория хотела присоединить к Швейцарии, разделилась на две враждебные партии, одна предпочитала владычество Австрии, другая – Гельвеции. Монахи и иностранные агенты вызвали новое бедствие в Унтервальдене, восстановив крестьян этой долины против французских войск. Под Штансом произошло ожесточенное сражение, и пришлось поджечь этот несчастный город, чтобы изгнать из него фанатиков. Те же затруднения предстояли и на другой стороне Альп. Усиливалась анархия в отношениях между подданными новых государств и их правительствами, между последними и нашими армиями и, наконец, между нашими посланниками и генералами: везде царил полнейший беспорядок. Маленькая Лигурийская республика была ожесточена против Пьемонта и во что бы то ни стало желала вызвать в нем революцию; в Лигурию удалилось значительное число пьемонтских демократов, которые теперь устраивали набеги в свою страну, пытаясь свергнуть короля. Эти попытки были, однако, неудачны, и множество жертв погибли напрасно, что не остановило Лигурийскую республику, и она продолжала задевать Пьемонт: собирала и вооружала всё новых беженцев и сама хотела начать войну. Наш посланник в Генуе Сотэн едва мог сдержать волнения. А посланнику в Турине Женгене приходилось непрерывно объясняться с Пьемонтом и умерять его негодование. В Цизальпинии царил неменьший беспорядок. Образовывая республику, Бонапарт не имел времени точно рассчитать разделение территории или число необходимых чиновников, устроить достойное муниципальное и финансовое управление. Это небольшое государство имело двести сорок представителей, число департаментов было весьма значительным, государственные доходы пожирались армией чиновников, не существовало никакой правильной и единообразной системы налогов. При значительном богатстве страны в ней совсем не было финансов, и она едва могла оплачивать субсидию на содержание наших армий. После того как Бертье исключил из советов некоторых членов, там преобладали революционеры: как в советах, так и в клубах только и слышались призывы якобинцев, а наши армии поддерживали это настроение. Брюн уже возвратился в Италию, где, после отправки Бертье в Египет, был назначен главнокомандующим всех французских войск. Его окружали самые пылкие патриоты. Начальник ломбардских войск Лагоц отличался такой же крайностью мнений и чувств. Поведение наших офицеров в Цизальпинии составляло другую причину беспорядка. Они вели себя в республике как в завоеванной стране; дурно обращались с жителями, требуя у них зимних квартир, которых, согласно договору, им не полагалось; опустошали местности, в которых квартировали; позволяли себе собирать реквизиции, как в военное время; требовали денег у местной администрации и брали их без всякого основания из городских казначейств. Особенно же нестерпимыми поборами отличались коменданты крепостей: так, например, комендант Мантуи присвоил себе исключительное право рыболовства в озере. Требовательность генералов возрастала с их чином; помимо прямых поборов, они вступали еще и в бессовестные сделки с подрядчиками. Компания, продовольствовавшая Итальянскую армию, уступала ее главному штабу 40 % своей прибыли; уже из этого можно заключить, как велика была последняя. Вследствие дезертирства в армии оставалась лишь половина солдат по спискам, так что республика платила вдвое больше, чем следовало; несмотря на всё это, содержание солдатам выдавалось весьма неаккуратно, большая часть не получала жалованья в течение нескольких месяцев. Цизальпинские патриоты потворствовали всем этим беспорядкам, не жалуясь, потому что их поддерживал главный штаб. Положение дел в Риме было чуть лучше: комиссия в составе Дану, Флорана и Фепу благоразумно и добросовестно управляла завоеванной страной. Принятая конституция была составлена тремя комиссарами по образцу французской, от которой отличалась лишь названиями и несколькими частностями: директоры назывались консулами, совет старейшин – сенатом, другой совет – трибунатом. Недостаточно, однако, было дать конституцию – нужно было привести ее в действие; а введению ее препятствовал не фанатизм римлян, как можно было бы полагать, но их леность. Серьезно противились введению конституции в силу лишь некоторые крестьяне в Апеннинах, подстрекаемые монахами; но зато среди самого населения Рима, которое должно было составить консулат, сенат и трибунат, замечались беспечность и крайняя неспособность к труду. Нужны были необыкновенные усилия, чтобы заставить их заседать через день, и они непременно требовали летних вакаций. К лености нужно еще прибавить полнейшую неопытность и неспособность к администрированию. В цизальпинцах было больше ревностности, правда, непросвещенной и неумеренной, то есть делавшейся столь же пагубной, как и беспечность. Можно было опасаться, что с отбытием французской комиссии римское правительство рухнет само собою вследствие бездеятельности или удаления членов, а между тем в Риме весьма дорожили государственными должностями, как и во всех странах, где не развита промышленность. Комиссия положила конец злоупотреблениям, совершавшимся в первое время по нашем вступлении в Рим. Она взяла в свои руки финансовое управление. Фепу, честный и способный администратор, ввел хорошо продуманную систему налогов. Ему также удалось вполне удовлетворить потребности армии; Римская армия получила всё не выданное ей за прежнее время жалованье, так же как и дивизия, севшая на суда в Чивитавеккьи. Если бы и в Цизальпинии управляли финансами подобным образом, страна не была бы отягощена, а наши солдаты находились бы в довольстве. Военная власть в Риме была подчинена комиссии. Заменивший Массена генерал Сен-Сир отличался крайней честностью, но из властолюбия, общего для всех его сотоварищей, казалось, был недоволен необходимостью подчинения. В Милане особенно не нравилось всё, что происходило в Риме: итальянские демократы были раздражены тем, что демократы римские сдерживаются комиссией; Главный французский штаб, от которого зависели римские дивизии, досадовал, что от него ускользает богатая часть завоеванной страны, и мечтал о времени, когда комиссия наконец прекратит свою деятельность.
Неосновательно было бы обвинять Директорию в беспорядках, царивших в союзных странах. Никакая воля, как бы могущественна она ни была, не могла сдержать взрыва страстей; что же до поборов, то и воля Наполеона была бессильна препятствовать им в завоеванных странах. Чего не могла сделать такая гениальная и сильная личность, то тем более было неосуществимо для правительства, состоявшего из пяти лиц и находившегося на огромном расстоянии. Однако большинство членов Директории стремились обеспечить благосостояние новых республик и крайне негодовали по поводу наглости генералов и воровства подрядчиков. За исключением Барраса, участвовавшего в половине всех выгод компаний, четыре директора энергично высказывались против происходившего в Италии. Ларевельер, суровая честность которого особенно восставала против этих бесчинств, предложил Директории план, который и был ею принят. Он желал, чтобы комиссия продолжала по-прежнему руководить римским правительством и сдерживать военную власть; чтобы в Милан представителем французского правительства отправился посланник, который лишил бы Главный штаб всякого влияния и внес требуемые обстоятельствами изменения в цизальпинской конституции, сократил число административных делений, чиновников, членов советов; чтобы, наконец, последнему сопутствовал администратор, способный создать известную систему налогов и отчетности. Для осуществления предложений Ларевельера в Милан были посланы Труве, французский посланник в Неаполе, и Фепу, один из членов римской комиссии. По прибытии своем в Милан Труве следовало окружить себя самыми просвещенными людьми Цизальпинии и согласовать с ними все изменения, какие необходимо было внести как в конституцию, так и в личный состав правительства. Выработав все эти изменения, он должен был предложить их цизальпинским советам через преданных депутатов и в случае надобности поддержать их властью Франции. Однако при этом он должен был, насколько возможно, держаться в стороне и не навязывать своего участия явно. Прибыв из Неаполя в Милан, Труве приступил к исполнению данных ему предписаний, но тайну этого поручения сохранить было трудно. Вскоре все узнали, что цель прибытия французского посланника – изменение конституции и сокращение административных должностей. Патриоты, по обхождению посланника чувствовавшие, что сокращению этому подвергнутся именно они, пришли в бешенство. Они нашли поддержку в Главном штабе армии, тоже недовольном новой властью, и началось скандальное столкновение между французским посольством и штабом французской армии, поддерживаемым итальянскими патриотами. На Труве нападали с крайней запальчивостью; утверждали, что посланник хочет нарушить конституцию и возобновить насилие, которое Директория применяет в отношении союзных республик. Французские офицеры вели себя крайне неприлично на данном Труве бале и вызвали большой скандал; эти сцены были тем более печальны, что происходили на виду у иностранных посланников. Иностранцам не только давали возможность стать свидетелями самых прискорбных раздоров, но их оскорбляли на дипломатических обедах, провозглашая тосты за уничтожение королей. То есть в Милане торжествовалсамый буйный якобинизм. Брюн и Лагоц отправились в Париж искать поддержки Барраса; но предупрежденная об этом заранее Директория оставалась непоколебима в своем решении. Лагоц получил приказ выехать из Парижа, лишь только он туда прибыл; Брюну же предписали вернуться в Милан и содействовать переменам, какие предстояло устроить Труве. Продумав необходимые изменения конституции, Труве представил их на рассмотрение наиболее благоразумным депутатам. Они одобрили изменения; но неудовольствие из-за вмешательства французского посланника было так велико, что депутаты не решились предложить эти изменения советам. Тогда Труве пришлось прибегнуть к французским войскам и явно выказать власть, которую он стремился скрыть. Впрочем, мало имелось разницы в том или другом способе действия; нелепо было бы для Франции, создавшей эти республики и поддерживавшей их существование, не воспользоваться своей силой для утверждения в них порядка вещей, какой она считала наилучшим. Неприятно было лишь то, что французы не устроили всё наилучшим образом с первого же дня и разом, дабы не проявлять неоднократно свое могущество. Тридцатого августа (13 фрюктидора) Труве собрал директорию и оба совета Цизальпинии; он представил им новую конституцию и все административные и финансовые законы, приготовленные Фепу. Советы были сокращены до ста двадцати членов. Те лица, которые должны были остаться в советах и правительстве, указывались заранее. Устанавливалась четкая система налогов; они разделялись на личные и косвенные, что хотели ввести и во Франции к крайнему неудовольствию патриотов. Все эти изменения были одобрены и приняты. Брюн удостоверял поддержку французских войск. Итак, раздражение цизальпинских патриотов не получило никакого результата, и переворот совершился беспрепятственно. Постановили также созвать собрания избирателей для одобрения внесенных изменений. Задача Труве была выполнена; французское правительство находило, что после того недовольства, которое он вызвал в Цизальпинии, его нельзя оставлять в Милане и нужно дать ему другое назначение, а в Милан отправить человека, чуждого последним столкновениям. К несчастию, Баррас сумел устроить так, что на это место назначили бывшего якобинца, пронырливого льстеца Фуше. Труве же был назначен в Штутгарт. Воспользовавшись его отъездом, Брюн со смелостью, которую можно объяснить лишь царившей тогда среди военных распущенностью, позволил себе внести весьма важные изменения. Он потребовал отставки трех директоров, назначенных Труве, сменил нескольких министров и даже подправил конституцию. Когда один из трех директоров, Сопранци, вздумал было противиться, Брюн велел солдатам схватить его и выставить из дворца правительства. Затем он поспешил созвать собрания избирателей, дабы те одобрили измененный им проект. Прибывшему в это время Фуше следовало бы воспрепятствовать подобному самоуправству, но он предоставил Брюну полную свободу действий. Изменения конституции Труве, с более поздними поправками Брюна, были приняты первичными собраниями, находившимися под давлением военной силы и буйства патриотов. Узнав об этих подробностях, французская Директория не выказала слабости: она кассировала всё сделанное Брюном и сменила его; Жуберу же поручили привести дела в то положение, в каком их оставил Труве. Фуше возражал, что после того как собрания избирателей уже утвердили конституцию с поправками Брюна, новые ее изменения могут быть дурно приняты. В этом он был прав, и Жубер склонялся к его мнению. Но Директория не могла допустить подобной смелости со стороны своих генералов, а главное – позволить им так самовластно распоряжаться в союзных государствах. Она отозвала Фуше, который таким образом совсем немного пробыл в Цизальпинии, и приказала восстановить конституцию в том виде, какой ей был дан от имени Франции Труве. Лицам, от которых Брюн потребовал отставки, предложили вернуться к занимаемым должностям. Итак, Цизальпиния получила то самое устройство, какого желала Директория. Но эти беспрерывные перемены, эти препирательства, эта борьба наших гражданских и военных властей производили самое печальное впечатление, лишали освобожденные народы доверия и уважения к Французской республике и доказывали всю затруднительность попыток удержать эти спутники на их орбитах. В силу привычки пользоваться любым случаем для нападок на правительство и обращать в преступление самые препятствия, им встречаемые, Директорию серьезно упрекали по поводу событий в Цизальпинии. Начавшая пробуждаться в советах двойная оппозиция с разных сторон критиковала наше вмешательство в итальянские дела. Оппозиция патриотов говорила, что против союзной республики совершено насилие, причем нарушены французские законы, потому что цизальпинская конституция гарантирована союзным договором, этот договор одобрен советами и не может быть нарушен Директорией. От оппозиции конституционной, или умеренной, можно было скорее ждать одобрения, нежели упреков, так как изменения, произведенные в Цизальпинии, были направлены против патриотов; но в этой части оппозиции находился Люсьен Бонапарт, а он искал предлога к ссоре с правительством и считал своим долгом защищать творение брата, на которое Директория нападала. И Люсьен кричал, подобно патриотам, что покушаются на независимость союзников, нарушают договора и прочее, и прочее… Обе оппозиции день ото дня всё резче высказывались против правительства. Они стали оспаривать у Директории некоторые прерогативы, которые были даны ей законом 19 фрюктидора и которыми она иногда пользовалась. Так, этот закон предоставлял ей право закрывать клубы или запрещать журналы, направление которых казалось опасным. Директория закрыла несколько крайних клубов и запретила некоторые журналы, распространявшие ложные или злоумышленные известия. Патриоты восстали против этого и потребовали отмены многих статей закона. Советы решили, что эти статьи сохранят свою силу до издания нового закона о печати; немедля приступили к подготовительным работам для проектирования этого закона.
Директория встречала не меньше противодействия и в отношении финансов. Нужно было завершить бюджет года VI (1797–1798) и предложить новый на год VII (1798–1799). Бюджет года VI был определен в 616 миллионов, имелся дефицит в 62 миллиона и, кроме того, значительный недобор в поступлениях. Несмотря на торжественное обещание расплаты с кредиторами по процентам консолидированной трети, выплата не была произведена сполна; решили, что в счет недоплаченного получат билеты, принимаемые в уплату налогов. Нужно было немедленно определить бюджет наступающего года. Расходы определили в 600 миллионов, не предполагая новой континентальной войны. Следовало уменьшить уже очень значительный поземельный и личный налоги и повысить гербовый сбор, канцелярские и таможенные пошлины и пр. На местные расходы декретировали добавочные суммы, на содержание же госпиталей и других учреждений – сбор на городских заставах. Несмотря на эти надбавки, министр Рамель утверждал, судя по примеру предшествующих лет, что действительное поступление не превзойдет трех четвертей предполагаемого и доводить действительное поступление до цифры 450 или 500 миллионов уже значило слишком преувеличивать. На основании этого министр требовал новых доходных статей для покрытия расходов в 600 миллионов; он предложил налог на окна и двери, а также на соль. По этому поводу возникли пререкания, но налог на окна и двери был утвержден, подготовили также доклад относительно налога на соль. В самих по себе в этих противоречиях не было ничего дурного, но они были признаком скрытой вражды; не хватало лишь общественного бедствия, чтобы дать ей случай разразиться. Знакомая с положением европейских дел, Директория видела новые опасности и близкое возобновление континентальной войны. Кобенцель и Репнин не могли заставить Пруссию отказаться от нейтралитета и с неудовольствием покинули берлинский двор; но Павел I заключил договор с Австрией и говорили, что его войска уже двинулись. Австрия деятельно вооружалась; неаполитанский двор предписывал поголовный набор всего населения. В виду подобного движения от берегов Вислы до Вольтурно крайне неосмотрительно было бы не вести приготовлений и со своей стороны. Наши армии были значительно ослаблены дезертирством, и Директория решила обеспечить их комплектование великим учреждением, которое еще предстояло создать. Конвент два раза брал с населения Франции «налог кровью», и каждый раз в виде чрезвычайной меры, но так и не установил постоянного закона для ежегодного набора солдат. В марте 1793 года Конвент призвал к оружию 300 тысяч человек; в августе того же года он принял великое и прекрасное решение всеобщего вооружения. Затем республика поддерживала свое существование лишь в силу этой меры, принуждая оставаться под знаменами солдат, вставших в ряды в то время. Но большая часть прежних солдат убыла – или от потерь в сражениях, или от болезней; значительная часть возвратилась на родину. Дали отпуск лишь 12 тысячам, но дезертиров было в десять раз больше; и трудно было оставаться строгим к людям, защищавшим на протяжении шести лет свое отечество. Офицерские кадры оставались в строю, и они были превосходны. Их следовало пополнить новыми наборами и принять не чрезвычайную временную меру, но общую и постоянную; словом, требовался закон, который составил бы неотъемлемую часть конституции. Придумали конскрипцию. Генерал Журдан был докладчиком этого великого и благодетельного закона, которым, как и всем на земле, злоупотребляли, но который тем не менее спас Францию и вознес ее на вершину славы. Каждый француз объявлялся солдатом по праву в течение известного периода своей жизни. Этот период был определен от двадцати до двадцати пяти лет. Достигшие этого возраста были распределены по годам на пять классов. Смотря по мере надобности, правительство осуществляло призыв, начиная с первого класса, то есть с двадцатилетних, и с наиболее молодых людей каждого класса. Все пять классов могли быть призваны по мере надобности, так что срок службы солдат простирался от одного года до пяти лет, смотря по тому, поступали они на службу в двадцать пять или в двадцать лет. В военное время срок службы был неограничен, и уже правительству предоставлялось выдавать отпуска, когда к тому не было препятствий. От службы под знаменами не освобождался никто, кроме женившихся до издания закона или уже заплативших свой долг отечеству в предшествовавших войнах. Этот закон предусматривал обыкновенные случаи, когда же в чрезвычайных случаях отечество объявлялось находящимся в опасности, правительство имело право призвать всё население в виде поголовного ополчения. Этот закон не встретил оппозиции и рассматривается как одно из важнейших достижений революции. Директория немедленно потребовала его применения и сделала представление о наборе 200 тысяч конскриптов для пополнения армии и чтобы поставить ее в требуемое обстоятельствами внушительное положение. Представление было единодушно принято 23 сентября 1798 года (2 вандемьера года VII). Хотя оба совета часто препятствовали Директории из раздражения или зависти, тем не менее они желали сохранить Республике ее военное преимущество перед европейскими державами. Набор людей неизбежно вызывает и расход денег. Директория потребовала сверх бюджета 125 миллионов, из которых 90 предполагались на вооружение 200 тысяч конскриптов, а 35 – на поправление последнего несчастья с нашими морскими силами. Вопрос заключался в том, откуда их взять. Министр Рамель доказал, что билеты, выпущенные на погашение двух третей долга, вернулись почти сполна, вследствие того оставались свободными национальные имущества на 400 миллионов; ими можно было располагать для потребностей республики. На основании этого декретировали продажу национальных имуществ на искомые 125 миллионов. Имущества продавались за сумму, в восемь раз превышавшую цифру определенного с них дохода; двенадцатая ее часть должна была быть уплачена наличными, остальное – обязательствами покупщиков; цена обязательств определялась по взаимному соглашению, и уплата по ним должна была быть произведена в полуторагодичный срок, причем они должны были приносить 5 % дохода. Эти бумаги, вследствие готовности, с которой их принимали компании, почти равнялись металлическим деньгам. Никто не оспаривал намерения прибегнуть к такому средству, также как и самого закона о конскрипции, неизбежным следствием которого стала эта мера.
Директория должным образом ответила на угрозы Европы и поддержала достоинство Республики. Произошли два маловажных события: одно – в Ирландии, другое – в Остенде. В Ирландии вспыхнуло восстание, и Директория послала туда генерала Юмбера с полутора тысячами человек. К несчастью, вследствие затянувшейся доставки необходимых сумм второй отряд в 10 тысяч человек под командованием генерала Сарразена не смог выйти в море, так что Юмбер остался без подкрепления. Он держался так долго, что прибытие подкреплений совершенно изменило бы положение дел; но после ряда делавших ему честь стычек вынужден был сложить оружие со всем своим отрядом. Подобная же неудача со стороны англичан вознаградила эту потерю. Время от времени они пытались обстреливать наши порты, хотели высадиться в Остенде для уничтожения наших шлюзов; но, будучи преследуемы и отрезаны от своих кораблей, попали в плен в числе двух тысяч человек. Хотя Австрия и заключила союзы с Россией и Англией и таким образом могла рассчитывать на русскую армию и английские деньги, тем не менее она всё еще колебалась со вступлением в борьбу. Испания, которой было крайне неприятно возобновление общей континентальной войны и которая одинаково боялась как успехов республиканской системы, так и ее гибели, вновь явилась посредницей в примирении раздраженных противников. Ее посредничество, возбуждая обсуждения и представляя некоторую надежду на возможность сделки, заставляло венский двор колебаться или по меньшей мере медлить. В Неаполе, где неистово негодовали из-за всякой отсрочки, желали найти способ завязать борьбу, чтобы вынудить Австрию взяться за оружие. Безумие этого двора было беспримерным. Судьбой Бурбонов в эту эпоху было впадать в ошибки через своих жен; в таком положении находились сразу трое из них: Людовик XVI, Карл IV и Фердинанд. Участь несчастного Людовика XVI известна. То же влияние, хотя и разными путями, привело к неминуемой гибели и Карла IV, и Фердинанда. Неаполитанцев заставили надеть английскую кокарду; на Нельсона смотрели как на покровительствующее божество. Приказали набирать в армию пятую часть населения, что составляло ненужную крайность: достаточно было взять и пятидесятую часть, чтобы занять почетное место в ряду держав. Каждый монастырь должен был выставить вооруженного и снаряженного всадника; часть церковных имуществ была пущена в продажу; все налоги были удвоены, мало того, несчастный прожектер, все военные планы которого имели такой неудачный исход и которому в будущем судьба готовила еще более решительные поражения, Макк, был вытребован в Неаполь, чтобы встать во главе армии. Ему устроили триумф раньше победы и наградили титулом освободителя Италии, тем же самым, который носил Бонапарт. Ко всем этим военным приготовлениям прибавляли еще акафисты святым, молитвы святому Януарию и пытки тех, кто подозревался в сочувствии французским идеям. Кроме того, этот бессильный двор продолжал свои интриги в Пьемонте и Тоскане. Он желал, чтобы пьемонтцы восстали в тылу армии, стоявшей в Цизальпинии, а тосканцы – в тылу Римской; пользуясь случаем, неаполитанцы атаковали бы последнюю с фронта, а австрийцы сделали бы то же в Цизальпинии, рассчитывая таким образом, что ни один француз не спасется. Пьемонтский король, человек религиозный, колебался с принятием этого плана вследствие союзного договора, связывавшего его с Францией; но ему говорили, что полученная в результате принуждения клятва не носит обязательного характера, что пьемонтцы решительно вправе вырезать французов всех до последнего. Впрочем, совесть тут была гораздо меньшим препятствием, чем бдительность Директории. Что же касается эрцгерцога Тосканы, то у него не было решительно никаких средств. Чтобы склонить к борьбе и его, Неаполь обещал прислать с эскадрой Нельсона армию. Со своей стороны, Директория была настороже и уже принимала меры предосторожности. По-прежнему озлобленная против Пьемонта, Лигурийская республика наконец объявила войну этому государю. К ненависти, проистекающей из несходства в принципах, присоединялась еще застарелая вражда близких соседей, и эти два маленьких государства во что бы то ни стало хотели помериться друг с другом силами. Директория вмешалась в ссору, Лигурийской республике объявила, что она должна сложить оружие, королю же Пьемонта – что берет на себя поддержание спокойствия в его владениях, но для этого ей необходимо располагать важным укрепленным пунктом. Вследствие чего французы немедля потребовали занятия Туринской цитадели. Подобное притязание могло оправдываться лишь опасениями, которые возбуждал пьемонтский двор; между старыми и новыми государствами царила вражда, а потому они не могли доверять друг другу. Пьемонтский король представлял серьезные возражения, но не имел средств противиться требованиям Директории. Французы заняли цитадель и немедленно приступили к ее вооружению. Директория отделила Римскую армию от Цизальпинской и поручила командование ею генералу Шампионне, отличившемуся на Рейне. Армия эта была разбросана по всей Папской области: в Анконе стоял генерал Касабланка с 4–5 тысячами человек; на противоположном скате Апеннин, у городка Терни, – Лемуан с 2–3 тысячами; наконец, левое крыло под командованием Макдональда в составе 5 тысяч человек располагалось по Тибру. Кроме того, небольшой резерв находился в самом Риме. Вся численность Римской армии не превосходила 15–16 тысяч человек. Необходимость защищать страну и затруднительность продовольствования в ней заставили нас разбросать свои войска; и если бы деятельный и хорошо руководимый противник сумел воспользоваться случаем, то французам пришлось бы раскаяться в своей раздробленности. В Неаполе рассчитывали на эти обстоятельства и льстили себя надеждой застичь французов врасплох и уничтожить их по частям. Сколько славы: взять на себя инициативу, одержать первые победы и вынудить наконец Австрию вступить на поприще, которое ей открывали! Эти-то основания побудили неаполитанский двор к действиям. Неаполитанцы надеялись, что французы будут легко разбиты и Австрия не станет более колебаться. Посланник Галло и князь Пиньятелли, несколько лучше знакомые с положением европейских дел, представляли возражения против намерения двора взять на себя инициативу; но их благоразумные советы отказались слушать. Чтобы оторвать короля от невинных занятий и заставить его решиться на войну, говорят, даже подделали письмо от императора: в нем неаполитанский двор будто бы вызывался на открытие военных действий. К концу ноября дали приказ начать выступление; двинулась вся неаполитанская армия; при ней с большой свитой находился сам король. Войны не объявляли, только представили французам требование очистить Папскую область; на такое требование они отвечали приготовлениями к бою, несмотря на всю несоразмерность в численности. При взаимном положении армий легко было раздавить французов, рассеянных по всей области, – направо и налево от Апеннин. Следовало идти прямо на их центр и направить войска между Римом и Терни; тогда левое крыло французов, оставленное за Апеннинами для защиты Анконы, было бы отрезано от правого крыла, расположенного по эту сторону гор на Тибре; тогда они не могли бы соединиться и оказались бы отброшены в беспорядке до Северной Италии. Полуостров был бы освобожден; Тоскана, Папская область, Анкона подпали бы под владычество Неаполя. Численность неаполитанских войск делала исполнение этого плана еще более легким, но Макк не мог позволить себе применить такой простой маневр. Как и прежде, он хотел окружить неприятеля множеством отдельных отрядов. У него было до 60 тысяч человек, из которых 40 тысяч составляли действующую армию, а 20 находились в гарнизонах. Вместо того чтобы направить эту массу войск на главный пункт – Терни, он разделил ее на шесть колонн. Первая должна была действовать по ту сторону Апеннин, вдоль Адриатики, направляясь в Анкону через Асколи; вторая и третья, по эту сторону гор, должны были идти, поддерживая связь с первой, одна – на Терни, другая – на Маглиано; четвертой, составлявшей главную силу, предписывалось движение к Фраскати и Риму; пятой назначалось, двигаясь берегом Средиземного моря, соединиться с главными силами на Аппиевой дороге; наконец, последняя, посаженная на эскадру Нельсона, должна была пойти в Ливорно, поднять Тоскану и преградить французам дорогу. Всё было готово, чтобы окружить и погубить французов, но ничего не было сделано, чтобы сначала разбить их. В таком-то порядке Макк и выступил со своими 40 тысячами. Многочисленность обозов, отсутствие дисциплины в войсках и дурное состояние дорог делали его движение весьма медленным; неаполитанская армия представляла собой длинный, беспорядочный и разрозненный хвост. Предупрежденный вовремя, Шампионне оставил два отряда для наблюдения за движением неприятеля и чтобы прикрыть марш отдельных корпусов, двигавшихся на соединение между собою. Не надеясь удержать Рим, он решил занять позицию позади него на берегах Тибра, между Чивита-Кастелланой и Чивита-Дукале, и, сосредоточив там свои силы, перейти в наступление. В то время как Шампионне благоразумно отступал и очищал Рим, оставив 800 человек в замке Святого Ангела, Макк гордо наступал по всем дорогам и, по-видимому, нигде не встречал сопротивления. Он подошел к воротам Рима 29 ноября 1799 года (9 фримера) и беспрепятственно вступил в него. Королю приготовили торжественную встречу. Этот слабый государь, приветствуемый как завоеватель и освободитель, был упоен той военной славой, какую ему приписывали. Впрочем, ему посоветовали благородным образом использовать свою победу, и он пригласил папу вновь вступить в управление своим государством. Однако армия, менее великодушная, совершила страшные грабежи, а римская чернь набросилась на дома тех, кто обвинялся в приверженности революции, и разграбила их. Останки несчастного Дюфо извлекли из могилы и совершили над ними возмутительные надругательства. В то время как неаполитанцы таким образом развлекались в Риме, Шампионне приводил в исполнение свой искусный план. Сознавая, что главный пункт располагается в верхнем течении Тибра, он поставил Макдональда в сильной позиции у Чивита-Кастелланы и подкрепил его всеми войсками, какими мог располагать. Часть своих войск из Анконы он перевел за Апеннины и оставил генералу Касабланке лишь такое число войск, какое было необходимо для того, чтобы замедлить движение неприятеля. Сам Шампионне отправился в Анкону, торопить прибытие парков и снарядов. Не пугаясь того, что готовилось у него в тылу в Тоскане, он лишь поручил офицеру с небольшим отрядом наблюдать за неприятелем с этой стороны. Наконец неаполитанцы встретили французов на дорогах, по которым следовали. Они были втрое многочисленнее, но им пришлось иметь дело со знаменитыми итальянскими ветеранами и убедиться, что это не так-то легко. Колонна, двигавшаяся через Асколи, была далеко отброшена Касабланкой, а на дороге в Терни генерал Лемуан захватил в плен неаполитанского полковника со всем отрядом. Этот первый опыт войны с французами оказался не таким, чтобы ободрить неаполитанцев; тем не менее Макк распорядился завладеть позицией, которую считал самой важной, – Чивита-Кастелланой, где находился Макдональд с главными силами. Город расположен в лощине, французы занимали довольно сильную позицию во фронте, подступы к ней защищали несколько отдаленных постов. Макк со значительными силами атаковал Боргетто, Непи, Риньяно; последним пунктом должна была завладеть вспомогательная колонна, направленная по другой стороне Тибра. Ни одна из этих атак не удалась: одна колонна, обращенная в бегство, потеряла свою артиллерию, другая была окружена и потеряла три тысячи пленными; остальные, смущенные неудачей, ограничились одними маневрами. Неаполитанские войска нигде не смогли выдержать атаки французов. Макк, немного растеряв запасы самоуверенности, отказался от мысли завладеть центральной позицией при Чивита-Кастеллане; он наконец заметил, что не на этом пункте следовало пытаться прорвать неприятельскую линию. Главный удар должен был быть нанесен в Терни, находящемся ближе к Апеннинам и слабее защищенном французами. Тогда Макк решил отвести свои войска из Чивита-Кастелланы к Терни; но, чтобы скрыть такое движение, нужна быстрота исполнения, невозможная с недисциплинированными войсками. Для перехода через Тибр с главными силами требовалось несколько дней; а Макк, вследствие своей ошибки, еще более замедлил и без того медленное движение. Макдональд, которого он воображал удерживаемым в Чивита-Кастеллане, успел перейти за Тибр, а Лемуана подкрепили в Терни, так что неаполитанцы были опережены на всех пунктах, которые они рассчитывали захватить врасплох. Первое движение генерала Метша из Кальви на Отриколи привело только к полному поражению. Девятого декабря, отброшенный на Кальви, этот генерал был окружен и вынужден, вместе с 4 тысячами человек, сложить оружие перед отрядом в 3500 человек. С этой минуты Макк более уже не думал ни о чем, кроме отступления к Риму, а оттуда далее до Альбанских гор, где можно было усилиться новыми подкреплениями. Не численность солдат требовалось увеличить, следовало изменить их качество; и не отступлением на несколько лье от поля сражения можно было придать им мужество и привить немного дисциплины.
Узнав об этих печальных событиях, неаполитанский король тайком вышел из Рима, куда так торжественно вступил несколько дней тому назад. Неаполитанцы очистили город, к великому удовольствию римлян, которых их присутствие начало тяготить более, чем присутствие французов. Шампионне вступил в Рим через семнадцать дней после того, как вышел оттуда. Он поистине заслуживал почестей триумфатора. Славный генерал не хотел ограничиться только обороной римских владений: он составил смелый план по завоеванию Неаполитанского королевства со своей слабой армией. Это предприятие было затруднительным не столько вследствие силы неаполитанцев, сколько из-за настроений населения, которое могло начать долгую и очень опасную партизанскую войну. Тем не менее Шампионне не остановил своего наступления. Он вышел из Рима, преследуя Макка, захватил у него значительное число пленных и нанес полное поражение колонне, высадившейся в Тоскане, от которой осталось лишь три тысячи человек. Совершенно деморализованный, Макк быстро отступил в Неаполитанское королевство и остановился только перед Капуей, на линии Вольтурно. Он отобрал лучшие войска, расположил их перед Капуей и по всему протяжению Вольтурно, весьма глубокой реки, представляющей трудноодолимую преграду. Между тем король вступил в Неаполь, и его внезапное возвращение привело город в смятение. Раздраженный неудачами армии, народ кричал об измене, требовал оружия и грозил перерезать генералов, министров, всех, кому приписывали несчастья войны, а также тех, кого обвиняли в сочувствии французам и революции. Гнусный двор не колебался и раздал лаццарони оружие, способы применения которого легко было предвидеть. Едва эти варвары получили остававшееся в арсеналах оружие, как восстали и завладели Неаполем. Крича об измене, они схватили посланника короля и умертвили его. Актон, которому уже начинали приписывать общественные бедствия, королева, король и весь двор были в ужасе. Неаполь не казался более достаточно безопасным местом пребывания; тотчас же решили удалиться в Сицилию. Тридцать первого декабря драгоценная королевская мебель, все сокровища дворцов Казерты и Неаполя и казна в двадцать миллионов были свезены на эскадру Нельсона, которая и направила паруса к Сицилии. Актон не пожелал бравировать опасностью пребывания в Неаполе и отправился вместе с королевой. Всё, что не могло быть увезено, было сожжено. Среди бури, при зареве пожарища подожженных верфей, этот трусливый и преступный двор оставлял в минуты опасности им же скомпрометированное королевство. Говорят, оставили распоряжение прирезать всю богатую буржуазию, обвинявшуюся в революционных настроениях. Все, занимавшие хоть какое-то положение, до нотариусов включительно, должны были быть умерщвлены. Князь Пиньятелли остался в Неаполе, облеченный нужными полномочиями. Между тем к Неаполю приближался Шампионне. Он, в свою очередь, совершил ту же ошибку, что и Макк, – разделил свою армию на несколько колонн, которые должны были соединиться у Капуи. Это соединение в затруднительной для передвижения французских войск стране, среди фанатичного и восстававшего против врагов Бога и святого Януария населения, было весьма сомнительным. Шампионне, прибыв с главными силами к берегам Вольтурно, пытался было атаковать Капую. Отраженный многочисленной артиллерией, он отказался от мысли завладеть неприятельской позицией нечаянным ударом и отвел свои войска в ожидании прибытия других колонн. Эта попытка была сделана 2 января 1799 года (14 нивоза). Восставшие неаполитанские крестьяне перехватывали наших курьеров и наши транспорты. Шампионне не получал никаких известий от других колонн, и положение его можно было считать весьма критическим. Пользуясь этим, Макк предложил ему приступить к взаимному соглашению. Шампионне, рассчитывая на удачу французов, смело отклонил предложения Макка. К счастью, в это время подошли прочие колонны, и тогда он заключил перемирие на следующих условиях: Макк должен был оставить линию Вольтурно, отдать Капую французам, отступить за черту, проведенную от Ланьи на Средиземном море до Офанто на Адриатическом, и уступить таким образом большую часть Неаполитанского королевства. Кроме этой уступки территорий, определялась контрибуция в восемь миллионов серебром. Перемирие было подписано 11 января. Когда в Неаполе получили известие о перемирии, народ пришел в еще большую ярость, стал еще громче кричать, что королевские офицеры ему изменяют. Вид комиссара, которому поручили получить контрибуцию в восемь миллионов, окончательно разъярил толпу; она возмутилась и воспрепятствовала исполнению перемирия. Смятение достигло того, что испуганный князь Пиньятелли оставил Неаполь. Эта прекрасная столица окончательно попала в руки лаццарони; в ней не оставалось никаких признанных властей, и жителям грозили страшные потрясения. Наконец, после трехдневных беспорядков, удалось выбрать начальника, имевшего у лаццарони доверие: это был князь Молитерно. В то же время такие же беспорядки начались и в армии Макка. Его солдаты, далекие от мысли приписать свои несчастья собственной трусости, обвиняли в них своего генерала и хотели его казнить. Предполагаемый освободитель Италии, которому месяц назад воздавали триумфальные почести, не имел другого убежища, как лагерь французов. Он просил у Шампионне прибежища. Республиканский генерал, позабыв мало приличный язык прежних писем Макка, пригласил его к своему столу и возвратил шпагу. Затем, вследствие неисполнения Неаполем условий перемирия, Шампионне двинулся к этой столице с целью завладеть ею, что было нелегко, так как многочисленное население ее становилось весьма опасным за стенами города. Пришлось провести при приближении к городу несколько стычек, и лаццарони выказали тут больше храбрости, чем неаполитанская армия. Близость опасности удвоила их ярость. Князь Молитерно, желавший сдержать их, перестал их устраивать, и они выбрали начальниками двух человек из своей среды. С той поры их разнузданность уже не знала границ: против буржуазии и дворян, обвиняемых в якобинизме, начали совершать всякого рода насилие. Беспорядок дошел до такой степени, что уже все жители, заинтересованные в охранении порядка, ждали прибытия французов. Обыватели сообщили Макку, что присоединятся к нему, чтобы сдать Неаполь. Сам князь Молитерно обещал завладеть фортом Сент-Эльм и сдать его французам. Двадцать третьего января (4 плювиоза) Шампионне пошел на штурм. Лаццарони храбро сопротивлялись, но буржуазия завладела фортом и другими постами города, а затем впустила французов. Лаццарони, однако, укрепились в домах и хотели защищать улицу за улицей, в случае крайности готовые сжечь город; но, к счастью, удалось взять в плен одного из их начальников, с ним хорошо обошлись, пообещали ему уважать святого Януария, и добились наконец того, что бунтовщики сложили оружие. С этой минуты Шампионне сделался владыкой Неаполя и всего королевства: он поспешил восстановить порядок и обезоружить лаццарони. Согласно намерениям французского правительства он провозгласил новую республику, которой дал древнее имя – Партенопейская[48]. Таков был исход жестокости и злобы неаполитанского двора. Двадцати тысяч французов в течение двух месяцев оказалось достаточно, чтоб расстроить все его обширные проекты и обратить его владения в республику. Эта кратковременная компания Шампионне немедленно составила ему блестящую репутацию. Римская армия приняла тогда название Неаполитанской и была отделена от Итальянской армии. Шампионне более не подчинялся Жуберу.
В то время как эти события происходили на полуострове, завершилось и падение Пьемонтского королевства. Из предосторожности, которую достаточно оправдывали обстоятельства, Жубер уже завладел Туринской цитаделью и вооружил ее артиллерией, взятой в пьемонтских арсеналах; но эта предосторожность при настоящем положении вещей была недостаточной. В Пьемонте не прекращались волнения: республиканцы беспрестанно совершали новые попытки и даже потеряли шестьсот человек во время нападения на Алессандрию. Карикатурный маскарад, зло изображавший двор, устроили в Туринской цитадели; в нем участвовали как пьемонтцы, так и французские офицеры, и он вызвал в Турине кровопролитное столкновение. Пьемонтский двор не мог быть расположен к нам дружественно, это достаточно ясно доказывала переписка неаполитанского посланника с господином Приоккой, министром Пьемонта. В подобных обстоятельствах Франция, находясь в ожидании новой войны, не могла оставить две враждующих партии и неприязненное ей правительство на пути своих сообщений через Альпы; она имела на пьемонтский двор такие же права, как защитники крепости на строения, которые мешают или вредят обороне. Было решено, что короля Пьемонтского заставят отречься. Республиканцев поддержали и помогли им завладеть Новарой, Алессандрией, Сузой и Чивассо. Королю сказали, что он не должен оставаться в возмутившихся владениях, которым вскоре предстояло сделаться театром войны: от него потребовали отречения и оставили ему остров Сардинию. Отречение было подписано 9 декабря 1798 года (19 фримера). Итак, у двух самых сильных итальянских государей – неаполитанского и пьемонтского – из всех их владений остались лишь два острова. В виду ожидавшихся событий не хотели затруднять себя образованием новой республики и в ожидании результата войны решили, что Пьемонтом будет временно управлять Франция. В Италии оставалось завладеть лишь одной Тосканой. Для занятия ее достаточно было и простого оповещения; но его отложили и ждали, пока открыто выскажется Австрия.
Глава LX
Состояние администрации и армий в начале 1799 года – Военные приготовления – Открытие кампании 1799 года – Военные операции в Италии – Последствия наших первых поражений – Многочисленные обвинения, направленные против Директории – ВыборыТаково было положение дел в начале 1799 года. После всех произошедших событий война казалась неизбежной. Перехваченная корреспонденция, звон оружия неаполитанского двора, который не решился бы взять на себя инициативу, не рассчитывая на могущественное вмешательство, серьезные приготовления Австрии, наконец, прибытие русского корпуса в Моравию – всё это не оставляло никаких сомнений. Наступил январь 1799 года, и было очевидно, что не пройдет и двух месяцев, как начнутся военные действия. Таким образом, несовместимость двух великих систем, поставленных революцией лицом к лицу, доказывалась фактами. Франция начала 1798 год в окружении трех республик: Батавской, Цизальпинской и Лигурийской, к концу же года их было уже шесть. Такое расширение стало результатом не столько завоеваний, сколько духа самой системы: были вынуждены помочь униженному Ваадту; в Риме – отмстить за смерть несчастного Дюфо, погибшего при попытке примирить две партии; в Неаполе отражали нападение мятежников. Достоверно, что Директория, как ни была уверена в могуществе Французской республики, однако желала мира по причинам политическим и финансовым; достоверно также, что император, желая войны, хотел ее в то же время отдалить; и тем не менее все вели себя так, будто хотят вступить в борьбу немедля. Революция придала французскому правительству уверенности в себе и необычайную смелость. Последнее событие в Неаполе, само по себе маловажное, еще более убедило директоров в мысли, что всё должно бежать перед французскими штыками. Таково было, впрочем, мнение всей Европы. Чтобы заставить врагов Франции помериться с нею силами, требовалась вся громадность собранных ими для этого средств. Но такая уверенность в своих силах была преувеличена и не позволяла видеть истинную затруднительность положения. Последствия доказали, что средства французов громадны, но для настоящей минуты их недостаточно, чтобы обеспечить победу. Директория должна была, кроме Франции, управлять Голландией, Швейцарией и всей Италией, разделенной на республики. Как мы уже видели, управлять ими посредством местных правительств было еще затруднительнее, чем прямо предписывать им свои законы. За несовершенством организации из них нельзя было извлечь никаких средств – ни денег, ни людей. И тем не менее их нужно было защищать и оборонять линию, простиравшуюся без перерыва от Тексела до Адриатического моря. Требуемые таким военным положением силы предстояло извлечь лишь из одной Франции, и в то время, когда наши армии были значительно ослаблены. Сорок тысяч лучших солдат находились в Египте вместе с нашим великим полководцем. Армии, остававшиеся во Франции, сократились наполовину по причине дезертирства, которое неизбежно в мирное время. Правительство платило жалованье тому количеству солдат, какое числилось по спискам, но в рядах не оставалось, может быть, и ста пятидесяти тысяч. Управление и штабы пользовались жалованьем дезертиров и тем напрасно отягощали финансы. Эти сто пятьдесят тысяч человек представляли собой прекрасные кадры, которые можно было пополнить новым набором конскриптов, но для этого требовалось время, а конскрипция была декретирована совсем недавно. Наконец по-прежнему в полном расстройстве были финансы – прежде всего вследствие дурной организации взимания налогов. Вотировали бюджет в 600 миллионов и, в виде экстраординарного ресурса, еще на 125 миллионов национальных имуществ; но медленность поступлений и ошибки в исчислении некоторых доходных статей оставляли значительный дефицит. Ко всему этому следует прибавить, что необходимая в обширной государственной машине субординация начинала ослабевать. Сдерживать военных становилось труднее с каждым днем. Непрерывная война позволяла им сознавать свою необходимость; они делались повелительны и требовательны. Размещенные в богатых странах, они желали этим воспользоваться и становились сообщниками всевозможных махинаций. Они с трудом повиновались приказам гражданских властей, пример чему мы видели выше во время ссоры Брюна с Труве. Наконец, двойная оппозиция, возникшая после 18 фрюктидора, обозначалась внутри страны всё более четко. Патриоты, остановленные на последних выборах, готовились одержать верх на новых. Умеренные холодно, но с горечью критиковали все меры правительства и, по обычаю всех оппозиций, упрекали его даже в затруднениях, которые оно встречало и которые чаще всего были непреодолимы. Правительство – это сама сила: ему следует торжествовать; тем хуже для него, если этого не происходит. Обыкновенно, когда правительство объясняет свои неудачи, его извинений никто не слушает. Таково было положение Директории в то время, когда в Европе возобновилась война. Директория прилагала большие усилия, чтобы восстановить порядок в огромной машине, которой ей приходилось управлять. Хаос по-прежнему царил в Италии. Средства этой прекрасной страны расточались и терялись, не доходя до армии. Едва комиссия, на которую возложили учреждение и управление Римской республикой, закончила отправление своих обязанностей, тотчас стало ощущаться влияние главных штабов. Сменили консулов, которых считали умеренными. Уничтожили выгодные контракты на поставку продовольствия армии. Комиссия, в которой Фепу заведовал финансовым управлением, заключила договор на содержание и уплату жалованья расположенным в Риме войскам, а также на перевозку всех художественных произведений, отправляемых во Францию; плата за это определялась национальными имуществами, отобранными у духовенства. Договор этот был упразднен, а подряд отдан компании Бодена, разорявшей Италию; последнюю поддерживали главные штабы, которым она уступала процент из своих прибылей. Занятый Пьемонт представлял новую добычу для грабежа, и честность главнокомандующего Итальянской армии Жубера не составляла гарантии против жадности главного штаба и компаний. Неаполю грабежи угрожали особенно. В Директории восстали против этих беспорядков. Особенно Ларевельер, как самый неподкупный и лучше всех знакомый с фактами вследствие своих частных сношений с Труве и членами римской комиссии, – Ларевельер желал, чтобы правительство выказало должную энергию. Он предложил и провел весьма благоразумный проект – учредить в подчиненных Франции странах и там, где будет находиться ее армия, независимые от главных штабов комиссии, на которые возложили бы всю финансовую и гражданскую часть. В Милане, Турине, Риме и Неаполе гражданские комиссары должны были получать у союзных стран условленные контрибуции, заключать подряды, совершать все финансовые сделки, словом, доставлять армиям всё нужное, но не позволять военным начальникам самим распоряжатьсяденьгами. Комиссии получили, однако, приказание выдавать суммы, требуемые генералами, причем последние не были обязаны сообщать назначения этих сумм: они отдавали отчет в расходах лишь правительству. Четыре директора одобрили это приказание и предписали Шереру немедленно озаботиться приведением его в исполнение. И поскольку тот демонстрировал некоторую снисходительность в отношении своих товарищей, ему сообщили, что он сам будет отвечать за все беспорядки, которых не остановит. Как ни была эта мера справедлива сама по себе, но она должна была сильно оскорбить главные штабы. Особенно же возмущались в Италии; говорили, что подобные предосторожности бесчестят военных, связывают руки генералам и лишают их всякого авторитета. Шампионне в Неаполе уже показал себя как законодатель и назначил комиссию для администрирования завоеванной страны. Фепу был послан в Неаполь принять в свое управление финансовую часть. Он сделал необходимые распоряжения, чтобы взять администрацию в свои руки, и отменил некоторые дурно истолкованные меры, принятые Шампионне. Последний, с обычной спесью людей его сословия, посчитал себя оскорбленным; он имел смелость издать постановление, которым приглашал Фепу и других комиссаров покинуть Неаполь в двадцать четыре часа. Подобное поведение было нестерпимо; не признавать приказаний Директории и выгнать из Неаполя облеченных ее полномочиями комиссаров – такой поступок следовало наказать самым строгим образом. Директория не выказала слабости и благодаря энергии честных директоров, желавших положить конец грабительству, проявила всю свою власть. Она сменила Шампионне, несмотря на блеск его последних успехов, и предала его военному суду. К несчастью, разрушение порядка на этом не остановилось. Храбрый Жубер дал себя убедить, что постановлениями Директории оскорблена честь военных; он не желал сохранять командования на новых условиях и подал в отставку. Директория ее приняла. Бернадотт отказался быть преемником Жубера по тем же причинам. Директория, однако, не уступила и настояла на своих постановлениях. Затем директора занялись набором конскриптов, производившимся весьма медленно. Так как первые два класса не смогли доставить двухсот тысяч человек, разрешили брать из всех классов, пока не дойдут до требуемой цифры. Для того чтобы выиграть время, заботы об обмундировании новых рекрутов возложили на общины, а издержки вычитали из поземельного налога. Новые конскрипты должны были немедленно отправиться на границы и образовать там гарнизонные батальоны взамен старых войск, расположенных в крепостях и резервных лагерях; по окончании обучения они должны были присоединиться к действующим армиям. Директория занялась также дефицитом. Министр Рамель, всё время после учреждения Директории управлявший нашими финансами с честностью и ясным пониманием дела, утверждал ныне, что дефицит составит 65 миллионов, не считая недобора, происходившего от замедления в поступлениях. По поводу цифры дефицита возник жестокий спор. Противники Директории называли не более 15 миллионов, Рамель доказывал, что дефицит доходит по меньшей мере до 65, а может быть и 75 миллионов. Налога на окна и двери оказалось недостаточно. Подвергли обсуждению налог на соль. Вновь поднялся крик, говорили, что народ угнетают, хотят заставить нести все тяготы один класс населения, возобновляют прежний королевский соляной налог и прочее и прочее. Люсьен Бонапарт с большим упорством представлял свои возражения, а сторонники правительства защищали предложение, настаивая на его необходимости. В итоге налог этот был отклонен Советом старейшин. Взамен удвоили налог на окна и двери и удесятерили налог на парадные двери. Земли протестантского духовенства были пущены в продажу, а затем декретировали, что священники в вознаграждение за свои имущества будут получать жалованье. К несчастью, всеми этими средствами нельзя было располагать в скором времени. Как и в предшествовавшие годы, приходилось выдавать подрядчикам ассигновки на получение еще не поступивших налогов. Даже кредиторам, которым по уплате им двух третей долга обещана была самая строгая точность, и тем платили билетами, которые принимались в уплату налогов. Таким образом, опять приходилось изворачиваться с помощью случайных мер. Недостаточно было собрать солдат и найти средства на их содержание – требовалось распределить их согласно известному плану и выбрать им генералов. Как мы уже сказали, приходилось охранять Голландию, границу по Рейну, Швейцарию и всю Италию, то есть вести военные действия от Тарентского залива до острова Тексел. Голландия с одной стороны была защищена нейтралитетом Пруссии, в котором, по-видимому, можно было не сомневаться, но скоро должен был совершить высадку англо-русский флот, и следовало защитить ее от этой опасности. Рейнская граница прикрывалась двумя крепостями, Майнцем и Страсбургом; и хотя вряд ли можно было ожидать, что Австрия решится проникнуть через эту границу, однако осторожность требовала прикрыть ее обсервационным корпусом. Перешли бы мы в наступление сами или ожидали бы неприятеля, в любом случае встреча с австрийскими армиями состоялась бы в окрестностях озера Констанц, на берегах Верхнего Дуная или в Швейцарии. Нужны были: действующая армия, которая направилась бы на равнины Баварии, обсервационный корпус для прикрытия Швейцарии и, наконец, большая армия в Италии – для охранения ее с севера от австрийцев, а с юга от объединенных сил англичан и неаполитанцев. Театр предстоявшей кампании был огромен и не исследован и оценен так, как впоследствии, после долгих войн и бессмертных кампаний. Тогда думали, что ключ к равнинам находится в горах. Швейцария, расположенная посередине огромной линии, на которой предстояло вести борьбу, казалась ключом всего континента; и Франция, обладавшая Швейцарией, по всей видимости, имела решительное преимущество. Считалось, что, контролируя истоки Рейна, Дуная и По, Франция контролирует и их течение. Это была ошибка. Понятно, что когда две армии упирают одно свое крыло в горы, им, разумеется, важно обладать этими горами, так как та из них, которая ими владеет, получает возможность обойти неприятеля. Но когда поле сражения находится в пятидесяти или ста лье от гор, они теряют свое значение. Швейцария представляет лишь одну выгоду – она лежит на прямом пути из Франции в Австрию, и понятно, что для спокойствия обеих держав и всей Европы перекрытие выходов на этом пути было бы благодеянием. В этом смысле нейтралитет Швейцарии интересует всю Европу и не без основания считается краеугольным камнем общего спокойствия Заняв Швейцарию, Франция приобрела преимущество обладания прямыми выходами в Австрию и Италию, и на этом основании обладание Швейцарией можно было считать важным преимуществом; но, с другой стороны, если изобилие выходов является преимуществом для наступающей державы, то оно же становится неудобным для государства, вынужденного по своей слабости к оборонительному образу действий. Такое обороняющееся государство должно бы желать, чтобы число пунктов, подверженных атаке, было как можно меньшим и оставалась возможность сосредоточить свои силы. Франции было весьма трудно охранять всё пространство от Майнца до Генуи, вместо того чтобы, по примеру 1793 года, сосредоточить силы между Майнцем и Страсбургом с одной стороны и Монбланом и Генуей – с другой. План правительства, впрочем, предполагал повсюду действовать наступательно и, как и прежде, поражать внезапными ударами; но распределение сил на этот раз оказалось как нельзя более неудачным. Одна обсервационная армия была расположена в Голландии, другая – на Рейне. Действующая армия должна была выйти из Страсбурга, перейти Шварцвальд и вторгнуться в Баварию. Другая действующая армия должна была сражаться в Швейцарии за обладание горами и поддерживать армии, расположенные на Дунае и в Италии. Большая армия в Италии должна была перейти Адидже и оттеснить австрийцев до Изонцо. Наконец, последняя обсервационная армия собиралась прикрывать Южную Италию и охранять Неаполь. Численность Голландской армии предполагалась в 20 тысяч человек, Рейнской, Неаполитанской и Швейцарской – по 40 тысяч, Дунайской и Итальянской – по 80 тысяч; всего 300 тысяч человек, не считая гарнизонов. При такой численности армий подобное распределение их не было бы ошибкой; но если набором конскриптов и можно было довести армии до такого состава, то в настоящее время от этого были далеки. В Голландии не могли оставить более 10 тысяч человек. На Рейне могли собрать всего несколько тысяч: войска, назначенные в эту армию, удерживались внутри страны как для надзора за Вандеей, так и для охраны общественного порядка на приближавшихся выборах. Армия, которой предстояло действовать на Дунае, была самой большой – 40 тысяч человек, Швейцарская и Неаполитанская составляли по 30, а Итальянская – 50 тысяч. Итак, у нас было всего 160 или 170 тысяч человек; разбросать их от Тексела до Тарентского залива было самой большой неосторожностью, какую только можно себе представить. Если уж Директория, увлекаемая революционной смелостью, хотела действовать наступательно, то более чем когда-либо следовало выбрать пункты атаки и собраться на них с достаточными силами. В Италии было необходимо, по примеру Бонапарта, собрать большую часть на Адидасе и нанести решительные удары здесь. Фактами уже было доказано, что, разбив австрийцев на Адидасе, легко было сдерживать Рим, Флоренцию и Неаполь. На Дунае следовало уменьшить Швейцарскую и Рейнскую армии, усилить действующую Дунайскую и дать решительное сражение в Баварии. Можно было сократить пункты атаки: остаться в наблюдении на Адидже и действовать наступательно лишь на Дунае. И Бонапарт, и эрцгерцог Карл доказали – первый великими примерами, второй глубокими размышлениями, – что борьба между Австрией и Францией должна разрешаться на Дунае. В оправдание Директории следует сказать, что тогда еще не обнимали таких обширных военных театров и единственный человек, способный на это, находился в Египте. Выбор генералов был не удачнее планов. Правда и то, что со смертью Гоша и с отъездом Бонапарта, Дезе и Клебера в Египет выбор значительно уменьшился. Оставался генерал, военная репутация которого была полностью заслуженна, – Моро. Можно было быть более смелым и предприимчивым, но не более твердым и более верным. Государство, защищаемое таким человеком, не могло погибнуть. Впавший в немилость вследствие своей роли в деле Пишегрю, он скромно согласился стать простым инспектором пехоты. Его предложили Директории на место главнокомандующего Итальянской армией; пост этот казался самым важным, после того как Бонапарт привлек внимание к этой стране и она сделалась яблоком раздора между Австрией и Францией. Баррас всеми силами воспротивился этому решению. Он приводил доводы крайнего патриота и представлял Моро подозрительным. Его сотоварищи имели слабость уступить ему, Моро был отстранен и остался простым дивизионным генералом в армии, которой ему следовало бы командовать. Он с благородством принял это место. Жубер и Бернадотт отказались от командования Итальянской армией по причинам, о которых мы уже упоминали. Тогда вспомнили о Шерере, военном министре. Этот генерал своими успехами в Бельгии и блестящей победой при Лоано приобрел серьезную репутацию; он был умен, но уже одряхлел от возраста и болезней и не был способен командовать молодыми людьми, полными сил и смелости. Кроме того, он поссорился с большинством своих товарищей вследствие строгости, с которой сдерживал распущенность среди военных. Баррас предложил Шерера в главнокомандующие Итальянской армией. Говорят, что это было сделано с целью заставить генерала покинуть военное министерство, где его строгость становилась докучливой. Однако те военные, мнения которых спросили, Бернадотт и Жубер, отозвались о нем так же, как отзывались о нем тогда в армии, то есть с большим уважением; и Шерера назначили главнокомандующим. Он отказывался от назначения, ставя на вид свой возраст, здоровье, а особенно свою непопулярность в настоящей должности; но все продолжали настаивать, и он вынужден был согласиться. Шампионне, преданный суду, был замещен в командовании Неаполитанской армией Макдональдом, а Массена поручили командовать Гельветической армией. Эти назначения были превосходны, и Франция могла оставаться ими как нельзя более довольной. Важнейшую Дунайскую армию отдали генералу Журдану. Несмотря на неудачи в кампанию 1798 года, не были забыты его заслуги 1793 и 1794 годов. За исключением Моро, Дунайская армия не могла оказаться в лучших руках. К несчастью, она была до такой степени слабее противника, что в управлении ею требовалась смелость победителя Арколе и Риволи. Бернадотт получил Рейнскую армию, а Брюн – Голландскую. Приготовления к войне Австрии значительно превосходили наши. Не полагаясь, как мы, на свои успехи, она потратила два года, истекшие с Леобенских прелиминариев, на набор, снаряжение и обучение новых войск. Австрийцы снабдили их всем необходимым и выбрали лучших генералов. Австрия могла выставить 225 тысяч человек, не считая необученных рекрутов, при том что Россия доставляла ей вспомогательный корпус в 60 тысяч человек, фанатичную храбрость которых славили по всей Европе и командовал которыми знаменитый Суворов. Итак, коалиция выставляла против нас около 300 тысяч человек. Кроме того, были обещаны еще два других русских корпуса, которые назначались – один в Голландию, а другой в Неаполь. План коалиции был, впрочем, не лучше нашего. Это были педантичные соображения придворного совета, не одобряемые эрцгерцогом Карлом, но навязанные ему и всем генералам: отступать от плана им не дозволялось. Как и план французов, этот план основывался на том соображении, что горы являются ключом к победе. Значительные силы были нагромождены для охранения Тироля и Граубюндена и занятия, если это будет возможно, Высоких Альп. Второй целью, которой, по-видимому, более всего дорожил придворный совет, была Италия: за Адидже располагались значительные силы. Самый же важный театр войны, долина Дуная, казалось, вовсе не привлекал внимания. Самое лучшее, что было сделано с этой стороны, – туда послали эрцгерцога Карла. Расположение австрийских сил было следующим: в Баварии – эрцгерцог Карл с 54 тысячами пехоты и 24 тысячами кавалерии; в Форарльберге, вдоль Рейна, до его впадения в Констанц – генерал Готце с 24 тысячами пехоты и двумя тысячами кавалерии; в Тироле – Бельгард с 44 тысячами пехоты и двумя кавалерии; наконец, на Адидже – Край с 64 тысячами пехоты и 11 тысячами кавалерии. Кроме того, русский корпус должен был соединиться с Краем для совместных операций в Италии. Готце и Бельгарду предстояла горная война. Они должны были завладеть истоками рек, пока армии на равнинах будут пытаться перейти их. Со стороны французов та же обязанность падала на Гельветическую армию. Итак, с той и с другой стороны массе смельчаков предстояло сражаться на недоступных скалах, обладание которыми не могло иметь никакого влияния на исход войны[49]. Французские генералы не переставали уведомлять Директорию о недостатке сил. Журдан послал несколько батальонов в Бельгию для подавления там в некоторых местностях народных волнений и одну полубригаду в Гельветическую армию взамен полубригады, отправленной оттуда в Италию, и теперь у него оставалось не более 38 тысяч человек. Подобные силы слишком не соответствовали силам эрцгерцога, чтобы можно было рассчитывать на успех. Журдан требовал поспешить с формированием армии Бернадотта, в которой насчитывалось пока не более пяти или шести тысяч человек, а главное – с организацией новых батальонов. Он хотел бы, чтобы ему позволили притянуть к себе или Рейнскую армию, или Гельветическую, в чем был вполне прав. Массена, в свою очередь, жаловался на отсутствие складов и необходимых транспортных средств для продовольствования армии в этих бесплодных и крайне затруднительных для сообщения местах. На эти представления Директория отвечала, что конскрипты отправляются и скоро будут сформированы в действующие батальоны; что Гельветическую армию не замедлят довести до 40 тысяч человек, а Дунайскую – до 60; и как только выборы будут закончены, старые батальоны, удерживаемые внутри страны, образуют ядро Рейнской армии. Бернадотт и Массена получили приказ содействовать операциям Журдана и согласовываться с его видами. По-прежнему рассчитывая на наступательный образ действий и подкрепляемая уверенностью в своих солдатах, Директория желала, чтобы ее генералы, несмотря на несоразмерность сил, неожиданно атаковали неприятеля и смутили австрийцев стремительностью натиска. В таком смысле и были отданы все приказания. Граубюнденцы, разделенные на две партии, долго колебались между австрийским и швейцарским владычествами и наконец призвали к себе австрийцев. Считая их швейцарскими подданными, Директория приказала Массена занять территорию Граубюндена, предварительно потребовав от австрийцев ее оставления. В случае же отказа последних Массена должен был их немедленно атаковать. В то же время Директория обратилась по поводу дальнейшего продвижения русских вглубь Австрии с двумя нотами: с одной – к Раштаттскому конгрессу, а с другой – к императору. Она объявляла германскому сейму и императору, что если в течение восьми дней не будет послано приказание, предписывающее обратное движение русских войск, то Франция будет считать войну объявленной. Журдан получил приказание по истечении этого срока немедленно перейти Рейн. Раштаттский конгресс между тем значительно продвинулся. Вопросы о границе по Рейну, разделе островов и постройке мостов были решены; оставался лишь вопрос о долгах. Большая часть германских владетелей, за исключением духовных князей, ничего так не желали, как достигнуть соглашения и избежать войны; но, находясь большей частью под влиянием Австрии, они не осмеливались высказаться. Члены депутации один за другим оставляли конгресс, и вскоре уже невозможно было вести переговоры. Конгресс объявил, что не может ответить на ноту Директории, и предоставил это право Регенсбургскому сейму. Нота, предназначенная императору, была отправлена в Вену и осталась без ответа. Итак, фактически объявили войну. Журдан получил приказание перейти Рейн и идти к истокам Дуная через Шварцвальд. Он перешел Рейн 1 марта (11 вантоза). Эрцгерцог Карл перешел Лех 3 марта. Таким образом, границы, поставленные двумя державами, были преодолены, и державы должны были вновь сойтись с оружием в руках. Тем не менее, хотя Журдану и приказали начать наступление, но первых выстрелов он должен был ждать от неприятеля. В то же время Массена действовал в Граубюндене. Шестого марта (16 вантоза) он послал австрийцам требование очистить местность. Граубюнден заключает в себе долины Верхнего Рейна и Инна, или Энгадин. Массена решил перейти Рейн недалеко от места его впадения в озеро Констанц и справиться со всеми отрядами, рассеянными в верхних долинах. Правое его крыло, крыло Лекурба, который благодаря своей энергичности и необыкновенной смелости являлся самым лучшим генералом для ведения войны в горах, должно было выступить из окрестностей Сен-Готарда, перейти Рейн у истоков и двинуться в долину Инна. Генерал Дессоль с дивизией Итальянской армии должен был содействовать Лекурбу, направляясь из Вальтеллины в долину Альто-Адидже. Эти искусные распоряжения были исполнены с большим мужеством. Шестого марта переправа через Рейн совершилась на всех назначенных для того пунктах. Солдаты опустили в реку телеги и перешли по ним, как по мосту. В два дня Массена завладел всем течением Рейна в Граубюндене, захватил пятнадцать пушек и пять тысяч пленных. Со своей стороны, Лекурб исполнял приказания главнокомандующего не менее успешно: он перешел Верхний Рейн, прошел от Дисентиса до Тусиса по долине Альбула и через высочайшие горы в Европе, покрытые зимним снегом, перешел в долину Инна. Вынужденная остановка помешала Дессолю выйти из Вальтеллины к верхнему течению Адидже, и Лекурбу угрожал натиск всех австрийских сил, расположенных в Тироле. Лаудон бросился с отрядом в тыл славному генералу, но неустрашимый Лекурб развернул войска, напал на Лаудона, нанес ему поражение, захватил множество пленных и возобновил свое наступление вдоль долины Инна. Эти первые блестящие подвиги, казалось, заставляли думать, что и в Альпах, так же как и в Неаполе, французы могут не опасаться превосходства неприятельских сил. Они утвердили Директорию в мысли, что следует настаивать на наступательном образе действий и смелостью вознаграждать малочисленность. Директория послала генералу Журдану объявление войны, которое она получила от советов вместе с приказанием немедленно атаковать неприятеля. Журдан дебушировал из шварцвальдских дефиле между Дунаем и озером Констанц. Угол, образуемый этой рекой и озером, расширяется по мере дальнейшего продвижения в Германию. Журдан, который хотел упереть свое левое крыло в Дунай, а правое – в озеро Констанц, был вынужден растягиваться всё более и более, а следовательно, ослаблять свое расположение. Сначала он дошел до Менгена и Маркдорфа, но, получив известие о том, что Рейнская армия не будет организована ранее 30 марта (10 жерминаля), и опасаясь вследствие того быть обойденным по долине Неккара, счел своим долгом отступить. Приказания правительства и успехи Массена принудили его опять двинуться вперед, и Журдан выбрал хорошую позицию между озером и Дунаем. Два горных потока, Острах и Аах, вытекая фактически из одного места, впадают один в Дунай, другой в озеро Констанц и образуют как бы прямую линию, позади которой и расположился Журдан. Сен-Сир с левым крылом находился в Менгене; Суам с центром в Фулендорфе; Ферино с правым крылом в Барендорфе; д’Опуль был оставлен в резерве; Лефевр с авангардной дивизией расположился в Острахе. Последний пункт был доступнее прочих: находясь у истока обоих потоков, он представлял собой болота, которые можно было пересечь по длинной дороге. На это-то место эрцгерцог Карл, не желая быть обойденным, обратил свои главные усилия. Он направил две колонны на правое и левое крыло французских войск, на Сен-Сира и Ферино; но главные его силы, до пятидесяти тысяч человек, были двинуты на Острах, где находилось не более девяти тысяч французов. Бой начался 22 марта утром и стал одним из самых ожесточенных за кампанию. Французы выказали храбрость и упорство, возбудившие удивление самого эрцгерцога. Журдан лично прибыл в Острах, но протяжение линии и свойство местности не позволяли быстрым движением флангов подкрепить центр. Переправа была форсирована, и после достойной обороны Журдан был вынужден отступить на Зинген и Тутлинген. Неудача при открытии кампании была весьма неприятна; она уничтожала то обаяние смелости и непобедимости, в котором нуждались французы взамен своей численной слабости; тем не менее эта слабость сил делала их неудачу почти неизбежной. Журдан не отказался, однако, от наступательного образа действий. Уведомленный, что Массена наступает за Рейн, и полагаясь на содействие Дунайской армии, он считал себя обязанным совершить последнее усилие для поддержки своего товарища и подкрепить его движением к озеру Констанц. Кроме того, у Журдана имелась и другая причина для наступления – желание занять Штоках, пункт, где скрещиваются дороги из Швейцарии и Швабии: он оставил этот пункт по ошибке, отступив к Зингену. Наступление назначили на 25 марта (5 жерминаля). Эрцгерцог Карл не решил еще, куда направить дальнейшее движение своей армии – на Швейцарию ли, с целью отрезать Журдана от Массена, или к истокам Дуная, чтобы отрезать первого от его базы, Рейна. Отступление на Швейцарию казалось эрцгерцогу более выгодным для неприятельских армий, так как французы имели такой же интерес соединиться с Гельветической армией, как австрийцы – их от нее отрезать. Но эрцгерцогу Карлу не было ничего известно о движении французов, и он желал сделать рекогносцировку с целью получить сведения об их расположении. Рекогносцировка была назначена на 25 марта, на тот самый день, который Журдан выбрал для атаки. Свойства местности делали расположение обеих армий крайне затруднительным. Стратегическим пунктом был Штоках. Небольшая извилистая речка Штоках течет перед городом с тем же именем и впадает в озеро Констанц. Эрцгерцог занял позицию на этой речке. Левое крыло его находилось на высотах между Ненцингеном и Вальвисом, позади одной из извилин Штокаха; центр – перед Штокахом на возвышенном плато Нелленберг; правое крыло – на продолжении этого плато, вдоль большой дороги из Штокаха в Липтинген; оно так же, как и центр, находилось перед Штокахом. Оконечность последнего крыла была прикрыта густым лесом, простиравшимся вдоль дороги в Липтинген. Эта позиция имела важные недостатки. Если левое крыло было прикрыто Штокахом, то центр и правое крыло имели его у себя в тылу и могли быть в него опрокинуты усилиями неприятеля. Кроме того, эта позиция имела лишь единственный путь отступления на город Штоках, и в случае неудачи вся армия должна была тесниться по одной дороге и могла прийти в гибельное расстройство. Но эрцгерцог, желая прикрыть Штоках, не мог выбрать другой позиции, его извиняла необходимость. Эрцгерцога можно упрекнуть лишь в двух ошибках: в том, что он не произвел никаких работ для прикрытия своего центра и правого крыла и что слишком усилил левое крыло, и без того достаточно защищенное рекой. Журдану не были известны расположения эрцгерцога, так как нет ничего затруднительнее рекогносцировок, особенно в такой пересеченной местности. Он по-прежнему занимал открытый угол между Дунаем и озером Констанц от Тутлингена до Штейслингена. Протяженность его войск была весьма велика, а свойства местности, не допускавшей быстрого их сосредоточения, делали этот недостаток еще более существенным. Журдан приказал генералу Ферино идти с правым крылом от Штейслингена к Вальвису, а Суаму с центром – от Айгельтингена к Ненцингену; они должны были соединить свои усилия для овладения левым крылом и центром эрцгерцога, перейти Штоках и взобраться на Нелленберг. Затем Журдан предполагал с левым крылом, авангардом и резервом направиться на Липтинген через леса, прикрывавшие правое крыло эрцгерцога, и прорвать его расположения. Эти приказы имели ту выгоду, что направляли главные силы на правое крыло эрцгерцога, наиболее скомпрометированное. К несчастью, пункты отправления всех колонн армии были слишком удалены друг от друга. Эта разъединенность колонн была тем более опасна, что французская армия численностью около тридцати шести тысяч человек была по меньшей мере втрое слабее австрийской.
Двадцать пятого марта (5 жерминаля) утром армии встретились. Французская армия приготовилась к сражению, австрийцы же – к рекогносцировке; выступив раньше нас, они застали врасплох наши авангарды, но вскоре были отброшены на всех пунктах главными силами французских дивизий. Ферино справа, а Суам в центре дошли до Вальвиса и Орзинген-Ненцингена, на берегу Штокаха, у подножия Нелленберга, отбросили австрийцев на их утреннюю позицию и атаковали последнюю. Продолжительная канонада завязалась по всей линии. На нашем левом крыле успех был более быстр и более решителен. Авангард, после ранения генерала Лефевра управляемый Сультом, отбросил австрийцев, дошедших до Эммингена, вытеснил их из Липтингена, заставил в беспорядке отступать по равнине, преследовал с крайней настойчивостью и успел завладеть лесами, теми самыми, которые прикрывали правое крыло австрийцев. Продолжая движение, французы могли сбросить неприятеля в Штоках и нанести ему полное поражение, но, несомненно и то, что австрийцы подкрепили бы это крыло в ущерб центру и левому крылу, а потому на него следовало обратить более значительные силы. Как прежде и предполагалось, на одном этом пункте должны были сосредоточить авангард, резерв и левое крыло. К несчастью, генерал Журдан, рассчитывая на слишком легкий успех, вместо того чтобы притянуть к себе Сен-Сира, предписал этому генералу сделать длинный обход, окружить австрийцев и отрезать им путь к отступлению. Это значило собирать плоды победы, когда победа еще не одержана. На важном же пункте генерал Журдан оставил лишь дивизию авангарда и дивизию д’Опуля. Между тем правое крыло австрийцев, видя прикрывавшие его леса занятыми неприятелем, зашло фронтом назад и с крайним упорством защищало дорогу из Липтингена в Штоках, проходившую через эти леса. Эрцгерцог сам поспешно прибыл к правому крылу, на котором шел ожесточенный бой. Верным глазом измерив опасность, он взял гренадеров с центра и левого крыла и перевел их на правое. Не опасаясь движения Сен-Сира к себе в тыл, он понял, что если Журдан будет отбит, движение Сен-Сира ни к чему не поведет и только будет его компрометировать; на этом основании эрцгерцог решил обратить все усилия на пункт, которому французы угрожали в настоящий момент. Борьба за леса велась с чрезвычайным ожесточением. Значительно более слабые французы оборонялись с храбростью, которую эрцгерцог назвал удивительною; однако он лично с несколькими батальонами вел атаку по дороге из Липтингена и заставил французов отступить. Те потеряли леса и оказались отброшены на открытую равнину. Журдан просил у Сен-Сира подкрепления, но последний уже не мог поспеть. У Журдана оставался еще кавалерийский резерв, и он, чтобы вновь отбить потерянные пункты, решил исполнить кавалерийскую атаку. Он разом пустил четыре кавалерийских полка; но атака оказалась неудачной и прервалась контратакой, произведенной кирасирами эрцгерцога. Страшное смятение распространилось тогда по Липтингенской равнине; выказав чудеса храбрости, французы всё же разбежались. Напрасно генерал Журдан совершал героические усилия, чтобы остановить бегущих; поток увлек и его. Тем не менее австрийцы, истощенные долгим сражением, не осмелились нас преследовать. С этой минуты участь боя была решена. Ферино и Суам удержались, но не опрокинули ни центра, ни левого крыла австрийцев. Сен-Сир оставался у них в тылу. Нельзя было решительно сказать, что сражение проиграно: французы удержали за собой поле боя и выказали редкую храбрость; но при их малочисленности и разъединенности различных корпусов не одержать победы значило быть разбитыми. Нужно было немедленно отозвать Сен-Сира, собрать пострадавшие авангард и резерв, притянуть центр и правое крыло. Журдан тотчас же отдал нужные распоряжения и приказал Сен-Сиру отступать. Положение последнего сделалось весьма опасным, но он совершил отступление с обычным присутствием духа и без потерь достиг Дуная. Урон с обеих сторон убитыми, ранеными и пленными был почти одинаковым – от четырех до пяти тысяч человек. После этого несчастного дня французы не могли более продолжать кампанию и вынуждены были искать защиты за естественной оборонительной линией. Должны они были отступить в Швейцарию или на Рейн? Очевидно, что, отступив в Швейцарию и соединившись с армией Массена, они могли вновь обрести устойчивое положение. К несчастью, генерал Журдан не счел своим долгом поступить таким образом; он боялся за границу по Рейну, на которой Бернадотт собрал не более семи или восьми тысяч человек, и решил отступать в дефиле Шварцвальда. Там Журдан занял положение, которое считал удачным, и, сдав командование начальнику своего штаба, отправился в Париж – жаловаться на слабость, в которой оставляли его армию. Результаты говорили громче, нежели всякие жалобы, и для него лучше было бы остаться, чем ехать в Париж. К счастью, придворный совет вынудил эрцгерцога Карла совершить важную ошибку, частично загладившую наши просчеты. Если бы эрцгерцог, пользуясь приобретенными выгодами, продолжал безостановочно преследовать нашу побежденную армию, то он привел бы ее в полное расстройство и, может быть, совершенно уничтожил. Еще оставалось бы время повернуть в Швейцарию и напасть на Массена; можно было даже отрезать ему путь отступления во Францию. Но придворный совет запретил эрцгерцогу наступать до захвата Швейцарии: это было следствием общего подхода к горам как к ключу кампании. В то время как эти события происходили в Швабии, военные действия продолжались в Высоких Альпах. Массена на Верхнем Рейне, Лекурб в верхнем течении Инна, Дессоль на Адидже достигали переменных успехов. На другом берегу Рейна, недалеко от его впадения в озеро Констанц, находилась позиция, которую требовалось занять, – Фельдкирх. Массена применил для этого всю свою настойчивость, но потерял, не достигнув никакого результата, больше двух тысяч человек. Лекурб при Тауферсе, а Дессоль при Наудерсе одержали блестящие победы, захватили каждый от трех до четырех тысяч пленных и с избытком вознаградили неудачу при Фельдкирхе. Итак, быстрота и смелость французов сохранили им преимущество в Альпах.
В Италии военные действия начались на следующий же день после сражения при Штокахе. Прибыли около 30 тысяч конскриптов, что довело общие силы французов в Италии до 116 тысяч человек. Они были распределены следующим образом: 30 тысяч старых войск под командованием Макдональда охраняли Рим и Неаполь; 30 тысяч новобранцев находились в крепостях; под командованием Шерера оставалось 56 тысяч, но от него был отделен генерал Готье с пятью тысячами для занятия Тосканы, и генерал Дессоль – также с пятью тысячами – для действий в Вальтеллине. Итак, у Шерера для действий на Адидже – главном пункте, куда следовало устремить все наши силы, оставалось лишь 46 тысяч человек. Кроме этой проблемы, была и другая – не менее роковая для французов. Главнокомандующий не внушал никакого к себе доверия, как мы уже говорили; он одряхлел и лишился популярности еще в бытность свою министром. Это составляло весьма неблагоприятные обстоятельства в начале такой большой и тяжелой кампании. Австрийцами должны были командовать Мелас и Суворов. В ожидании их прибытия австрийцы подчинялись барону Краю, одному из лучших генералов императора. Еще до прибытия русских силы австрийцев составляли 85 тысяч человек в Верхней Италии, из них около 60 тысяч располагались на Адидже. Обе армии получили приказание начать наступление. Австрийцы должны были выйти из Вероны, следовать вдоль гор, наступать за Адидже, оставляя отряды перед всеми крепостями. Целью этого движения было поддержать наступление Тирольской армии в Альпах. Шереру приказали только перейти Адидже. Поручение было затруднительным, так как австрийцы имели все преимущества этой оборонительной линии: контролирующие линию Верона и Леньяго принадлежали австрийцам. Навести в каком-нибудь пункте Адидже мост было опасно, так как австрийцы могли выйти в тыл армии, пытавшейся переправиться. Самым верным было бы предоставить австрийцам дебушировать из Вероны, подождать их на заранее выбранной позиции, дать сражение и воспользоваться результатами победы, чтобы перейти Адидже. Вынужденный взять на себя инициативу, Шерер долго колебался и наконец решил атаковать со своего левого крыла. Нам уже известна горная позиция Риволи, при входе в Тироль, расположившаяся значительно выше Вероны. Австрийцы укрепили все подступы к ней и устроили лагерь в Пастренго. Шерер решил отнять у них этот лагерь и отбросить их за Адидже. Для этой цели были назначены три дивизии: Серюрье, Дельма и Гренье. Моро должен был с двумя дивизиями Атри и Виктора беспокоить Верону; генерал Монришар со своей дивизией – маневрировать перед Леньяго. Это распределение сил ясно показывало колебания главнокомандующего и его попытки действовать как бы на ощупь. Французы атаковали австрийцев 26 марта (6 жерминаля), на следующий день после сражения при Штокахе. Три дивизии, направленные на разные пункты лагеря при Пастренго, взяли их штурмом с доблестью, достойной прежней Итальянской армии, и завладели Риволи. Потеряв полторы тысячи пленными и много пушек, австрийцы поспешно отступили за Адидже по наведенному в Поло мосту, который, однако, успели уничтожить. В центре, под Вероной, сражались за деревни, расположенные перед городом. На защиту и овладение ими Кайм употребил совершенно бесплодное упорство: деревней Сан-Массимо та и другая сторона завладевали до семи раз. Моро, не менее упорный, чем его противник, не предоставил ему никакой выгоды и стеснил его в Вероне. Монришар, в свою очередь, подвергся большой опасности на Леньяго. Край, обманутый ложными сообщениями, вообразил, что французы направят свое главное усилие на нижнее течение Адидже и, стянув туда большую часть своих войск и дебушируя из Леньяго, поставил Монришара в весьма опасное положение. К счастью, тот удачно приноровился к местности и благоразумно отступил к Моро. Бой был кровопролитным, всё преимущество в центре и на левом крыле было на стороне французов; потери их ранеными, убитыми и пленными составили четыре тысячи, австрийцев же – по меньшей мере восемь тысяч. Тем не менее, несмотря на это преимущество, французы добились весьма незначительных результатов. В Вероне они только стеснили австрийцев; выше нее они, правда, отбросили их за Адидже и могли перейти реку, восстановив мост в Поло; но, к несчастью, переправа в этом месте не имела значения. Нужно помнить, что дорога, которая идет по левому берегу реки, упирается в Верону, а кроме нее на равнину нет другого выхода. Итак, перейдя Адидже в Поло, предстояло очутиться перед Вероной, в том же самом положении, как и Моро в центре, и затем завладеть крепостью. Если бы в тот же день воспользовались беспорядком, в который были приведены австрийцы по отступлении их из Пастренго, и поспешили бы восстановить мост в Поло, может быть, и удалось бы войти в крепость вслед за беглецами, особенно же благодаря упорному бою, который вели на другом берегу Адидже Моро с Каймом. К несчастью, ничего этого сделано не было. Однако можно было еще исправить ошибку, начав энергично действовать на следующий день, переведя главные силы к Вероне и выше нее, к мосту Поло; но Шерер три дня подряд оставался в нерешительности; он всё искал дорогу за Адидже, в обход Вероны. Армия негодовала из-за этих колебаний и громко жаловалась, что не воспользовались преимуществами, которые получили благодаря делу 26-го числа. Наконец 29 марта (9 жерминаля) собрали военный совет, и Шерер решился действовать. Он принял странный план – перевести дивизию Серюрье за Адидже через мост Поло, главные же силы армии направить между Вероной и Леньяго и попытаться совершить переправу там. Для исполнения плана две дивизии его левого крыла были переведены на правое; причем им пришлось пройти за центром и сделать утомительный переход по скверным дорогам, совершенно размытым дождем. К выполнению этого плана приступили 30 марта. Серюрье со своей дивизией в шесть тысяч человек один перешел Адидже в Поло, тогда как главные силы армии были перевезены ниже, между Вероной и Леньяго. После этого участь дивизии Серюрье легко было предвидеть: она подвергалась большому риску, перейдя Адидже и вступив, как в западню, на дорогу, запираемую Вероной. Оценив положение, Край направил на несчастную дивизию в три раза превосходящие силы и живо отбросил французов на мост в Поло; дивизия в беспорядке перешла реку. Отдельные отряды принуждены были пробиваться, а полторы тысячи человек оказались в плену. Узнав об этой непредвиденной неудаче, Шерер ограничился тем, что отвел разбитую дивизию ближе к нижнему течению Адидже, где и сосредоточил большую часть своих сил. В течение нескольких дней противники присматривались друг к другу. Наконец Край, пользуясь тем, что Шерер направился к Адидже, решил дебушировать с главными силами из Вероны, выйти Шереру во фланг и прижать его к низовьям Адидже и морю. Направление было дано удачно, но, к счастью, перехваченный приказ оповестил Моро о плане Края; генерал немедленно сообщил о нем главнокомандующему и настоял, чтобы тот повернул дивизии к той стороне Вероны, откуда должен был дебушировать неприятель. При исполнении этого движения армии встретились в окрестностях Маньяно 5 апреля (16 жерминаля). На правом крыле дивизии Виктора и Гренье двинулись к Вероне вверх по реке через Сан-Джованни и Томбу, опрокинули дивизию Меркантина и совершенно уничтожили полк Вартенслебена; подошли таким образом почти на высоту Вероны и были в состоянии отрезать от этого города все войска, которые вывел бы из него Край. Дивизия Дельма, направленная к центру, на Буттапьетру и Маньяно, отстала и дала возможность австрийской дивизии Кайма дойти до Буттапьетры и занять положение посреди нашей линии. Однако Моро с дивизиями Серюрье, Атри и Монришара победоносно двигался вперед слева. Он приказал дивизии Монришара повернуться к Буттапьетре, с двумя же прочими дивизиями продолжал наступление на Дазано. Дельма наконец прибыл к Буттапьетре и прикрыл наш центр; в эту минуту победа, казалось, была за нами, так как наше правое крыло готово было отрезать австрийцам со стороны Адидже путь отступления на Верону. Но Край, верно оценив, что главный пункт – это наше правое крыло, и посчитав, что следует отказаться от успеха на всех прочих пунктах, чтобы сначала одержать победу тут, направил сюда большую часть своих сил. Он имел преимущество перед Шерером – сосредоточенность своих дивизий, что доставляло ему возможность легче их передвигать, и внезапно ударил со всем своим резервом по дивизии Гренье. Виктор хотел подоспеть на помощь, но сам был атакован полками Надасти и Рейски. Край не удовольствовался этим первым успехом; он собрал дивизию Меркантина, разбитую утром, устремил ее вновь на дивизии Гренье и Виктора и тем решил их поражение. Обе эти дивизии, несмотря на энергичную оборону, были вынуждены очистить поле сражения. По отступлении правого крыла опасность стала грозить центру. Край не замедлил направиться и туда, но там был Моро, который и остановил успехи австрийского генерала. Сражение было очевидным образом проиграно, и следовало думать об отступлении. Урон с обеих сторон был велик: австрийцы потеряли три тысячи убитыми и ранеными и две тысячи пленными; французы – такое же число убитыми и ранеными, но пленными – четыре тысячи. Моро советовал ночевать на поле сражения, дабы избежать беспорядка при отступлении ночью, но Шерер желал отступить в тот же вечер. На следующий день он отошел за Молинеллу, а еще через день за Минчио. Опираясь на Пескьеру с одной и на Мантую с другой стороны, он мог дать отпор неприятелю, вызвать Макдональда с полуострова и таким сосредоточением сил возвратить себе прежний перевес, потерянный сражением при Маньяно. Но несчастный Шерерокончательно потерял голову. Настроение его солдат было хуже, чем когда-либо; уже три года владея Италией, они негодовали из-за ее потери и приписывали свои неудачи единственно неумелости главнокомандующего. Упреки армии смущали Шерера настолько же, насколько и само поражение. Не считая возможным держаться на Минчио, он отступил на Ольо и затем, к 12 апреля, на Адду. Нельзя было определить, где остановится это попятное движение. Прошло едва полтора месяца с открытия кампании, а мы уже отступили на всех пунктах. Начальник штаба Эрнуф, оставленный Журданом у дефиле Шварцвальда, испугался нескольких легких отрядов и в беспорядке отступил к Рейну. Таким образом, и в Германии, как и в Италии, наши армии, по-прежнему храбрые, теряли, однако, свои завоевания и отступали на границу. Только в Швейцарии перевес еще оставался на нашей стороне; Массена держался там со всем упорством своего характера и, за исключением неудачной попытки на Фельдкирхе, везде оставался победителем. Но, занимая Швейцарию, он оказался между двумя победоносными армиями и вынужден был отступать. Он дал приказ к отступлению Лекурбу, и тот тоже отошел вглубь Швейцарии.
Наше оружие было унижено, но этого мало – наши полномочные за границей стали жертвой самого гнусного и жестокого злодейства. С объявлением войны императору, но не Германской империи, Раштаттский конгресс не разошелся. Оставалось прийти к соглашению по последнему вопросу – касательно долгов на уступаемых землях: но две трети государств уже отозвали своих депутатов, что было следствием влияния Австрии, не желавшей мира. На конгрессе оставались лишь несколько германских депутатов, а по отступлении Дунайской армии совещаться приходилось посреди австрийских войск. Венский кабинет замыслил тогда гнусный план, надолго обесчестивший его политику. Он досадовал на высокомерие и настойчивость наших уполномоченных в Раштатте; кроме того, он приписывал им разоблачения, весьма компрометировавшие его в глазах германских держав: речь шла о тайных статьях, условленных с Бонапартом для занятия Майнца. Эти тайные статьи доказывали, что австрийцы сдали Майнц, чтобы получить Пальманову, и таким образом недостойно изменили интересам Империи. Кабинет был сильно раздражен и желал отомстить нашим послам, а кроме этого – захватить их бумаги, чтобы узнать, кто из германских князей в настоящее время ведет переговоры с Французской республикой. Итак, австрийцы замыслили остановить наших уполномоченных при возвращении во Францию – обобрать их, оскорбить и, быть может, даже умертвить. Однако и по настоящее время неизвестно, было ли отдано положительное приказание убить их. Наши посланники уже начинали остерегаться и если и не боялись посягательств на личности, то по крайней мере опасались за свою корреспонденцию. И в самом деле, она вскоре была прервана захватом понтонеров, ее доставлявших. Наши уполномоченные протестовали против этого, депутация Империи протестовала также и спрашивала, может ли конгресс рассчитывать на безопасность. Австрийский офицер, к которому обратились с этим вопросом, не дал никакого успокоительного ответа. Тогда наши уполномоченные объявили, что через три дня, то есть 28 апреля (9 флореаля), они отправятся в Страсбург и будут оставаться там в готовности возобновить переговоры, когда заметят, что этого желают. Двадцать шестого апреля курьер посольства был задержан. От конгресса последовал новый протест, требовали открыто объявить французским уполномоченным гарантии безопасности. Австрийский полковник, командовавший секлерскими[50] гусарами, расположенными около Раштатта, объявил, что французские уполномоченные должны выехать в двадцать четыре часа. У него попросили конвоя, но он отказал и уверил, что их личная неприкосновенность не подвергается никакой опасности. Три наших посланника, Жан Дебри, Бонье и Робержо, выехали 28 апреля (9 флореаля) в девять часов вечера. Они отправились со своими семействами в трех каретах, позади них ехали секретари и лигурийское посольство. Сначала встретились препятствия на выезде из Раштатта; по устранении их поехали дальше. Ночь была очень темной. В пятидесяти шагах от Раштатта отряд секлерских гусар бросился на них с обнаженными саблями и остановил кареты. Первой была карета Жана Дебри. Гусары отворили дверцу и спросили его на своем варварском наречии, он ли Жан Дебри. Получив утвердительный ответ, они схватили его за горло, вытащили из кареты и нанесли ему несколько сабельных ударов на глазах у жены и детей. Сочтя его мертвым, они перешли к другим каретам и убили Робержо и Бонье также на глазах их семейств. Члены лигурийского посольства и секретари успели спастись. Затем разбойники ограбили кареты и захватили все бумаги.
 Убийство французских посланников в Раштатте
Убийство французских посланников в Раштатте
Жан Дебри был ранен не смертельно. Ночная свежесть привела его в чувство, и, весь окровавленный, он дотащился до Раштатта. Когда это преступление стало известно, оно возбудило негодование всего населения и членов конгресса. Германская честность возмутилась таким неслыханным нарушением международного права. Остававшиеся на конгрессе члены германской депутации выказали к Жану Дебри и семействам убитых посланников самую внимательную заботливость, а затем собрались для составления декларации, в которой объявляли о совершенном преступлении и отклоняли от себя всякое подозрение в сообщничестве с Австрией. Эрцгерцог Карл написал Массена письмо, в котором объявлял, что приказал произвести следствие о преступлении полковника секлерских гусар, но холодный, сдержанный тон письма, доказывавший затруднения эрцгерцога, не был достоин ни его личности, ни его характера. Австрия не отвечала, да и не могла отвечать, на направленные против нее обвинения. Итак, между двумя системами, разделявшими Европу, началась непримиримая война. Сначала дурно принятые, потом оскорбляемые в течение года мира, республиканские посланники были наконец умерщвлены с такой жестокостью, какой можно ждать только от варварских наций. Международное право, соблюдаемое между самыми ожесточенными врагами, было нарушено. Столь мало ожидаемые неудачи, обозначившие начало кампании, и это раштаттское преступление произвели на французов гибельное для Директории впечатление. С самого объявления войны оппозиция стала выходить за пределы дозволенного, когда же она увидела наши армии разбитыми, а наших посланников умерщвленными, то и совсем разошлась. Патриоты, отвергнутые выбором правительства кандидатов в депутаты; военные, распущенность которых хотели сдержать; роялисты, прятавшиеся за спинами всякого рода недовольных, – все вооружились последними событиями, чтобы обвинить Директорию. К ней обращали самые несправедливые и разнообразные упреки. Наши армии совершенно покинуты, говорили обвинители, Директория допустила ослабление рядов дезертирством и не выказала никакого старания пополнить их новой конскрипцией. Она удержала внутри страны значительное число старых батальонов и, вместо того чтобы послать их на границу, воспользовалась ими для еще большего стеснения свободы выборов; армиям же, уже доведенным до такой численной несоразмерности, Директория не доставила ни складов, ни продовольствия, ни снаряжения, ни транспортных средств, ни ремонта. Она предоставила их хищным местным администрациям, бесполезно пожиравшим доходы в шестьсот миллионов. Наконец, Директория самым дурным образом выбрала главнокомандующих: Шампионне, победитель Неаполя, пребывал в оковах за то, что хотел сдержать хищничество правительственных агентов; Моро был унижен до роли простого дивизионного генерала; Жубер, победитель Тироля, и Ожеро, один из героев Италии, не имели командования; Шерер же, напротив, подготовивший все поражения своим управлением, командовал Итальянской армией только потому, что был земляком и другом Ревбеля. На этом не останавливались. Произносились другие имена, вспоминаемые с горечью. Знаменитый Бонапарт, его знаменитые генералы Клебер, Дезе, сорок тысяч их сотоварищей по оружию, победителей Австрии… Где они?.. В Египте, в отдаленной стране, где должны погибнуть вследствие неосторожности правительства и, может быть, его злобы. Про это предприятие, которому когда-то удивлялись, теперь начинали говорить, что Директория придумала его нарочно, чтобы отделаться от заслонявшего ее собою великого воина. Подымались еще выше: упрекали правительство в войне, говорили, что оно само ее вызвало неосторожным образом действий в отношении европейских держав. Оно вторглось в Швейцарию, свергло папу и неаполитанский двор, истощило всякое терпение Австрии, и всё это – не приготовившись к борьбе. Вторжением в Египет оно вынудило Порту к разрыву; заставив Порту решиться, освобождало Россию от всяких опасений за свой тыл и позволило ей послать шестьдесят тысяч человек в Германию. Наконец, ярость была так велика, что доходили до уверений в том, что сама Директория является тайным виновником раштаттского убийства; в нем видели средство, призванное возбудить общественное мнение против врагов и потребовать новых средств от законодательного корпуса. Упреки эти повторялись всюду – на трибуне, в газетах, в общественных собраниях. Журдан прибыл в Париж – жаловаться правительству и приписать ему все свои неудачи. Прочие генералы письменно излагали доводы к своим жалобам. Все напустились на правительство одновременно. Стоит лишь немного припомнить факты, чтобы найти ответы на все эти упреки. Не Директория допустила ослабление рядов армии, так как она предоставила лишь двенадцать тысяч отпусков; не в ее силах было воспрепятствовать дезертирству в мирное время, да и нет правительства, которому удалось бы этому воспрепятствовать. Директория даже навлекала на себя упреки в тиранстве тем, что принуждала многих солдат возвращаться под знамена; и в самом деле было довольно сурово заставлять служить тех, кто проливал свою кровь в течение уже шести лет. Лишь пять месяцев тому назад была декретирована конскрипция, и в такое короткое время невозможно было организовать эту систему набора, а главное – снарядить, обучить конскриптов, сформировать их в маршевые батальоны и отправить в Голландию, Германию, Швейцарию и Италию. Правительство удержало несколько старых батальонов, так как было необходимо обеспечить порядок во время выборов, эту же заботу нельзя было возложить на не вполне еще сформировавшихся молодых солдат, привязанность которых к Республике еще недостаточно определилась. Другое важное основание еще более оправдывало эту предосторожность: мы говорим о Вандее, в которой еще мутили воду иностранные эмиссары, и о Голландии, угрожаемой англо-русским флотом. Что касается беспорядка в администрации, то и в этом отношении вина Директории была не более реальной. Имелись, без сомнения, растраты, но почти все – к выгоде тех лиц, которые на них же и жаловались, и несмотря на величайшие усилия Директории помешать им. Эта расточительность была троякого рода: грабительство завоеванных стран; уплата правительством жалованья дезертировавшим военнослужащим; наконец, заключение невыгодных подрядов с компаниями. Но кто же делал все эти растраты и ими пользовался, как не генералы и их штабы? Они-то и грабили завоеванные страны, пользовались жалованьем дезертиров и делили прибыль с компаниями. К концу своего управления Шерер поссорился со всеми своими сотоварищами из-за того, что хотел обуздать все эти беспорядки. Чтобы положить им конец, Директория пыталась назначать комиссии, независимые от штабов; мы уже видели, как их принял в Неаполе Шампионне. Невыгодные подряды с компаниями имели другую причину – дурное состояние финансов. Подрядчикам давали только обещания, а они за сомнительность платежа вознаграждали себя в цене. Кредиты, открытые на этот год, простирались до 600 миллионов обыкновенных расходов и 125 миллионов чрезвычайных. Из этой суммы, по уже произведенным расходам, министр выдал ордеров на 400 миллионов, в казначейства же поступило лишь 210 миллионов, и излишек был выдан ассигновками на будущие поступления. Итак, Директорию нельзя было обвинить и в расточительности. Выбор главнокомандующих, за исключением одного, также нельзя было ставить ей в вину. Шампионне, после его поступка с комиссарами, не мог сохранять за собой командования. Макдональд по меньшей мере стоил его и был известен своей неподкупной честностью. Жубер и Бернадотт сами не желали командовать Итальянской армией и указали на Шерера. Именно Баррас отстранил Моро, лишь он один желал назначения Шерера. Что до Ожеро, его демагогическая пылкость была основной причиной отказа ему в командовании, и к тому же, несмотря на свои неоспоримые достоинства, он был недостаточно талантлив для главнокомандующего. Относительно экспедиции в Египет мы видели уже, была ли виновата в ней Директория и правда ли, что она хотела сослать Бонапарта, Клебера, Дезе и их сорок тысяч сотоварищей по оружию. Не более прочих несчастий был проступком Директории и призыв к войне: войну вызвала одна лишь несовместимость разнузданных страстей в Европе. В этом не следовало упрекать никого специально; но во всяком случае не патриотам и не военным было в ней упрекать Директорию. Что сказали бы патриоты, если бы не поддержали Ваадта, не наказали папское правительство, не свергли неаполитанского короля, не принудили к отречению короля Пьемонта? Не военные ли Итальянской армии всегда толкали правительство на захват новых стран? Весть о войне обрадовала их всех. Не Бернадотт ли в Вене, не брат ли Бонапарта в Риме совершили неосторожные поступки? Не решимость Порты увлекла в войну Россию, но если это была и правда, то упрек за это мог пасть лишь на виновника экспедиции в Египет. Итак, ничего не было нелепее обвинений, обрушившихся на Директорию. Правительство заслуживало упрека лишь в том, что слишком разделяло веру патриотов и военных в могущество Республики и увлеклось революционными страстями. Что касается планов, они были дурны, но не хуже плана Карно 1796 года или плана придворного совета, и к тому же они были частично скопированы с плана генерала Журдана. Только один человек мог составить лучшие планы, но, как мы уже сказали, не вина Директории, что его не было в Европе. В интересах справедливости история должна снять эти незаслуженные упреки; но тем хуже для правительства, когда ему вменяется в преступление всё; одно из необходимых его качеств – иметь такую хорошую репутацию, которая сама устраняет несправедливость. Когда оно ее потеряло и когда ему вменяют вины других, тогда оно не способно управлять, и это бессилие само осуждает его удалиться. Сколько уже правительств износилось с начала революции! Директория износилась, как износился Комитет общественного спасения, как должен был впоследствии износиться сам Наполеон. Все обвинения, предметом которых была Директория, доказывали не виновность ее, но дряхлость. Впрочем, неудивительно, что пять гражданских правителей, призванных к власти не вследствие наследованного величия или личной славы, а потому лишь, что приобрели несколько большее уважение своих сограждан, – что эти пять правителей, вооруженные лишь одною силою законов, казались ниже своего призвания среди вновь разгоревшейся страшной борьбы. Нужно было испытать поражение, чтоб выказать это бессилие. Попеременно поражаемые фракции, неоднократно сдерживаемые военные называли их с презрением адвокатами и говорили, что Франция не может управляться ими. Вследствие особенной странности, встречающейся иногда в революционных столкновениях, общественное мнение выказывало некоторую снисходительность к тому из пяти директоров, который менее всего этого заслуживал. Баррасу, неоспоримо, одному могло быть приписано всё, что говорили о Директории, но, несмотря на все его важные вины, он один оставался в стороне. Прежде всего, он не считался, как четыре его сотоварища, адвокатом: его леность, его распущенность, его солдатские манеры, его связи с якобинцами представлялись признаками человека, способного управлять более, чем остальные директора. Патриоты находили в Баррасе некоторое сходство с собой и думали, что он им предан; роялистам он сам подавал тайные надежды. Штабы, которым он льстил и покровительствовал против справедливой строгости своих сотоварищей, были к нему весьма благосклонны; подрядчики его расхваливали; и таким путем он спасался от общего нерасположения. Он был коварен со своими сотоварищами, так как искусно сваливал все упреки на них одних. Подобную роль нельзя разыгрывать долго, но она может удаться на время: и в этом случае она ему удавалась. Уже известна ненависть Барраса к Ревбелю. Последний, действительно способный администратор, шокировал, однако, своей суровостью и высокомерием всех, кому приходилось иметь с ним дело. Он был строг ко всем дельцам, протеже Барраса, а особенно к военным; вследствие чего и сделался предметом общей ненависти. Он был честен, хотя немного скуп. Баррас умел возбудить против него самые гнусные подозрения, а одно несчастное обстоятельство способствовало тому, что они могли считаться основательными. Агентом Директории в Швейцарии был Рапина, свояк Ревбеля. Он обложил Швейцарию сборами, как и все завоеванные страны, хотя там они были значительно меньше, чем повсюду; но чрезмерные жалобы этого скупого народа заставили говорить о них очень много. Рапина имел злосчастное поручение наложить печати на казначейства и сокровища Берна и свысока относился к гельветическому правительству. Все эти обстоятельства и даже его несчастная фамилия rapine заставили его прослыть виновником хищений, которые было вовсе не его делом, так как он покинул Швейцарию еще до того времени, когда она стала терпеть более всего. Баррас распускал в обществе каламбуры по поводу фамилии Рапина, и всё это падало на Ревбеля. Таким-то образом репутация Ревбеля подверглась всякого рода клеветам.
 Ревбель
Ревбель
Своей непоколебимой честностью и влиянием на политические дела Италии не менее ненавистен, чем Ревбель, сделался Ларевельер; жизнь его, однако, была еще более проста и скромна, и сомневаться в его честности было невозможно. Общество Барраса подымало его на смех, смеялись над его личностью и притязаниями на новое папство; рассказывали, что он желает основать культ теофилантропии, автором которой, однако, он вовсе не был. Мерлен и Трельяр, хотя и менее продолжительное время находились у кормила власти, были в равной степени непопулярны.
При таком настроении умов происходили выборы года VII. Разъяренные патриоты не желали в этом году, как в предшествовавшем, быть исключенными из законодательного корпуса. Они восстали против отдельной подачи голосов на выборах и старались заклеймить ее заранее, в чем и преуспели. Говорили, что Директория, как 18 фрюктидора, прибегнет к чрезвычайным мерам, на пять лет продолжит полномочия депутатов и приостановит на это время пользование избирательными правами. На основании того, что организовали гельветический контингент, распускали слух, что в Париже собирают швейцарцев. Роптали на циркуляр, распространенный правительственным комиссаром (префектом) департамента Сарта, хотя это был не такой циркуляр, какие мы видели впоследствии, а одно только увещание. Директорию принудили выразить неодобрение. Произведенные при таких настроениях выборы провели в законодательный корпус значительное число патриотов. В том году уже не думали об их исключении, и кандидатуры были утверждены. Генерал Журдан, который имел полное право приписывать свои неудачи малочисленности армии, но отступал от своей обычной рассудительности, обвиняя правительство в желании погубить его, был вновь отправлен в законодательный корпус, полный досады на правительство, так же как и Ожеро, причем у последнего прибавилось и досады, и пылкости. Предстояло выбрать нового директора. Случай на этот раз не услужил Республике, так как вместо Барраса жребий увольнения пал на Ревбеля, самого способного из пяти директоров. Это доставило всем противникам Директории большое удовольствие и новый случай клеветы. Однако так как Ревбель был выбран в Совет старейшин, он воспользовался случаем ответить своим обвинителям и сделал это весьма удачно. При выходе Ревбеля совершили единственное отступление от строгих законов честности, в котором можно упрекнуть Директорию. Пять первых директоров, назначенных при учреждении правительства, заключили между собою сделку, по которой из жалованья каждого должны были удерживаться десять тысяч франков в вознаграждение выбывающему члену. Целью этой благородной жертвы было облегчить переход от верховной власти к частной жизни для членов Директории, особенно же для людей несостоятельных. Поступать так предписывало достоинство, потому что уважение и почет, какими должно пользоваться правительство, могли пострадать при виде впавшего в нищенство человека, накануне пользовавшегося верховной властью. Самое это основание заставило директоров более удобным образом обеспечивать участь своих сотоварищей. Содержание их было уже так умеренно, что удержание десяти тысяч франков казалось неуместным. Решили назначить сумму в сто тысяч франков каждому увольнявшемуся директору, что увеличивало ежегодный расход государства на сто тысяч франков. Эта сумма должна была требоваться от министра финансов, который мог покрыть ее одним из тысячи способов экономии, какие легко можно сделать при бюджете в семьсот или восемьсот миллионов. Решили также, что каждый директор будет забирать с собой свою карету и лошадей; так как законодательный корпус ежегодно назначал известную сумму на ремонт движимого имущества, то эта издержка была признана и, следовательно, законна. Конечно, это было весьма малым ущербом общественному достоянию, если и было таковым; тогда как генералы и компании пользовались такими огромными прибылями, сто тысяч франков в год для обеспечения человека, бывшего главою правительства, не могло считаться воровством. Как основание, так и самая форма этой меры ее некоторым образом оправдывали. Ларевельер, которому о ней сообщили, не хотел на нее соглашаться и объявил своим сотоварищам, что ни в каком случае не примет свою часть. Ревбель свою взял. Сто тысяч франков, им полученных, были взяты из двух миллионов на тайные издержки, в которых от Директории не требовалось отчета. Вот единственная вина, в какой можно упрекнуть Директорию в полном ее составе. Из двенадцати лиц, последовательно бывших ее членами, лишь один обвинялся в пользовании своим положением для извлечения частных выгод. Где же такое правительство, о котором можно сказать то же самое? Предстояло назначить Ревбелю преемника. Чтобы придать Директории более веса, желали назначить человека с отличной репутацией и вспомнили о Сийесе, имя которого, после Бонапарта, было самым значительным в его время; посольство в Пруссии еще более увеличило его известность. Сийеса и прежде весьма основательно считали человеком глубокого ума, но после его поездки в Берлин ему приписывали сохранение нейтралитета Пруссией, чем, впрочем, были обязаны гораздо менее его вмешательству, чем самому положению последней державы. Таким образом, Сийеса считали столь же способным участвовать в правительстве, как и составить конституцию. Его избрали директором. Многие видели в этом выборе подтверждение повсеместно распространенного слуха о близком изменении конституции; говорили, что Сийес призван в Директорию лишь для того, чтобы содействовать этим изменениям. Так мало верили, что настоящий порядок вещей может удержаться, что во всем видели несомненные признаки перемен.
Глава LXI
Массена соединяет в своих руках командование Гельветической и Дунайской армиями – Прибытие Суворова в Италию – Шерер передает командование Моро – Сражение при Кассано – Сражение при Треббии – Переворот 30 прериаляВ то время как совершались только что описанные нами события, Директория не переставала прилагать величайшие усилия для исправления неудач, обозначивших начало кампании. После отставки Журдана от командования Дунайской армией командование всеми войсками, расположенными от Дюссельдорфа до Сен-Готарда, поручили Массена. Этот счастливый выбор должен был спасти Францию. Шерер, в нетерпении покинуть армию, доверие которой потерял, наконец получил разрешение сдать командование Моро. Макдональду было предписано поспешно оставить Неаполитанское королевство и Папскую область и идти на соединение с армией Верхней Италии. Все старые батальоны были направлены на границу; торопили со снаряжением и с организацией конскриптов, и подкрепления стали прибывать со всех сторон. Лишь только Массена получил командование над Рейнской и Швейцарской армиями, он немедля приступил к распределению вверенных ему сил. Нельзя было принять командования в более критическом положении. В Швейцарии, от долины Инна до Базеля, было разбросано самое большее 30 тысяч человек, против французов же выступали 30 тысяч Бельгарда в Тироле, 30 тысяч Готце в Форарльберге и 40 тысяч эрцгерцога между озером Констанц и Дунаем. Эти 100 тысяч человек могли легко окружить его и уничтожить. Если бы эрцгерцога не стеснял придворный совет и не удерживала болезнь и он перешел Рейн между озером и Ааром, то Массена был бы отрезан путь во Францию. К счастью, эрцгерцог не был вполне самостоятелен в своих передвижениях и ему не подчинялись непосредственно Бельгард и Готце. Между тремя генералами шли беспрерывные пререкания, что препятствовало соглашению для решительной операции. Эти обстоятельства благоприятствовали Массена, позволили ему занять более прочную позицию и распределить силы. Всё заставляло предполагать, что эрцгерцог не ограничится обсервационным положением Рейна со стороны Эльзаса, а собирается действовать в Швейцарии, между Шаффхаузеном и Ааром. Исходя из этих соображений, Массена отвел в Швейцарию большую часть Дунайской армии и указал позиции, которые она должна была занять с самого начала, то есть непосредственно после сражения при Штокахе; плохо только, что он слишком долго оставлял в опасном положении Лекурба. Тот вынужден был отступить после блестящих сражений, в которых выказал неустрашимость и удивительное присутствие духа. Граубюнден был очищен, и Массена расположил свою армию от Высоких Альп до впадения Аара в Рейн, избрав линию, которая казалась ему наиболее выгодной для обороны. По Швейцарии текут несколько рек, берущих свое начало в Высоких Альпах; затем они впадают в Рейн. Самая длинная и обширная – это линия самого Рейна, он берет свое начало недалеко от Сен-Готарда, течет сначала к северу, потом превращается в обширное озеро Констанц, выходит из него около Штейна, течет на запад к Базелю, оттуда поворачивает к северу и образует границу Эльзаса. Эта самая обширная линия обнимает собой всю Швейцарию. Вторая, около Цюриха, заключающаяся в предыдущей, линия Линты, которая берет начало в малых кантонах, образует Цюрихское озеро, выходит из него под названием Лиммат и впадает в Аар, неподалеку от слияния последнего с Рейном. Эта линия, обнимающая лишь часть Швейцарии, значительно меньше первой. Наконец, третья линия, Рейса, также заключается в предыдущей, идет по руслу Рейса, проходит Люцернское озеро и направляется к Аару, близ того места, где в него впадает Лиммат. Эти линии, начинающиеся у огромных гор и кончающиеся у больших рек, представляют серьезные выгоды для обороны. Массена не мог рассчитывать сохранить самую значительную – линию Рейна – и протянуть расположения от Сен-Готарда до устья Аара. Он был вынужден отойти на линию Лиммата, где мог расположиться основательнее. Правое свое крыло – дивизии Менара, Лекурба и Лоржа под командованием Ферино – Массена разместил от Альп до Цюрихского озера. Центр – дивизии Удино, Вандама, Тюро и Сульта – он поставил на Лиммате. Левое крыло французов охраняло Рейн в сторону Базеля и Страсбурга. Прежде чем расположить войска таким образом, Массена хотел воспрепятствовать соединению эрцгерцога с Готце, дав сражение. Эти генералы, находясь на Рейне, один у места впадения этой реки в Констанц, другой у места ее выхода, разделялись всем протяжением озера. Переходя линию Рейна, дабы стать перед линией Цюриха и Лиммата, которую занимал Массена, они должны были выйти с двух оконечностей озера и соединиться за ним. Массена мог улучить минуту, когда Готце еще недостаточно выдвинулся, устремиться на эрцгерцога, отбросить его за Рейн, затем обратиться на Готце и отбросить его в свою очередь. Уже рассчитали, что у французов хватило бы времени выполнить эту двойную операцию и поодиночке разбить австрийских генералов. К несчастью, Массена вздумал их атаковать лишь тогда, когда они были близки к соединению и могли друг друга поддерживать. Двадцать четвертого мая (5 прериаля) произошли стычки в Альденфингене и Фрауэн-фельде; и хотя благодаря своей обычной настойчивости Массена повсюду одержал верх, тем не менее французы не смогли воспрепятствовать соединению эрцгерцога Карла и Готце и вынуждены были отступить на линию Лиммата и Цюриха.
Менее удачны были события в Италии: там поражения не прекращались. Суворов присоединился к австрийской армии с 28–30 тысячами русских. Командование над австрийской армией принял Мелас. Суворов был главнокомандующим обеих союзных армий, численность которых простиралась по меньшей мере до 80 тысяч человек. Его звали непобедимым, свою репутацию он составил в войнах против турок и жестокостями в Польше. С большой силой характера Суворов соединял причуды и странности, доходящие порой почти до безумия; в нем не было, однако, никакого гения комбинации. Это был истинный варвар, к счастью, неспособный рассчитать свои силы, – не то Республика могла погибнуть тогда же. Армия Суворова являлась отражением своего полководца: при замечательной храбрости, граничащей с фанатизмом, в ней не было никакого военного образования. Артиллерия, кавалерия, инженеры были сокращены до полного ничтожества. Русские умели владеть только штыком, и владели им как французы во время революции. Суворов, весьма дерзкий в отношении своих союзников, назначил русских офицеров обучать австрийцев применению штыка. Речь его отличалась крайним высокомерием, он говорил, что женщины, петиметры[51] и ленивцы должны оставить армию; что с говорунами, которые занимаются лишь одной критикой, будет поступлено как с эгоистами и они потеряют свои звания; что все, наконец, должны жертвовать собою для освобождения Италии от французов и атеистов. К счастью, эта грубая энергия, наделав нам много зла, наконец встретила другую энергию и разбилась об нее. Окончательно потеряв голову, Шерер поспешно отступил за Адду среди негодующих криков своих солдат. Из 46-тысячной армии он потерял убитыми или пленными 10 тысяч человек; 8 тысяч он принужден был бросить в Пескьере и Мантуе, так что у него оставалось не более 28 тысяч солдат. И все-таки, если бы Шерер умел удачно маневрировать этой горстью людей, он мог бы дать время Макдональду соединиться с ним и тем избег многих поражений. Вместо того он расположился на Адде самым неудачным образом, разделив свою армию на три дивизии. Дивизия Серюрье была поставлена в Лекко, на выходе Адды из одноименного озера, дивизия Гренье – в Кассано, Виктора – в Лоди. Монришар с легкими отрядами поддерживал сообщения с Моденой и горами Генуэзского побережья и далее с Тосканой, откуда предстояло дебушировать Макдональду. Разбросанные таким образом на протяжении двадцати четырех лье, 28 тысяч Шерера нигде не могли оказать сильного сопротивления и были опрокинуты повсюду. Двадцать седьмого апреля (8 флореаля) вечером, в то самое время, когда линия Адды уже была прорвана, Шерер сдал Моро командование армией. Этот храбрый генерал имел некоторое право отказаться: ему вверяли командование, когда кампания уже была проиграна, а в будущем предстояли одни поражения. Тем не менее, с патриотическим самоотвержением, которое история никогда не прославляет в достаточной мере, Моро принял поражение, взяв на себя командование в тот самый вечер, когда Адду уже форсировали. Здесь начинается наименее хвалимая и наиболее прекрасная часть его жизни. Суворов подошел к Адде в нескольких пунктах. Когда первый русский полк показался в виду Лекко, храбрецы карабинеры легкой 18-й полубригады вышли из укреплений и бросились навстречу этим солдатам, о которых говорили как о каких-то страшных и непобедимых гигантах. Они скрестили с ними штыки и устроили в их рядах страшную резню. Русские были отброшены. В сердцах наших храбрецов разгорелось удивительное мужество; они хотели заставить дерзких варваров, вмешавшихся в чужую ссору, раскаяться в своем путешествии. Назначение Моро воодушевило всех и исполнило уверенностью всю армию. К несчастью, позицию невозможно было удержать. Отраженный при Лекко, Суворов перешел Адду в двух пунктах, выше и ниже дивизии Серюрье, образующей левое крыло, так что дивизия эта оказалась отрезанной от остальной армии. Моро с дивизией Гренье выдержал в Треццо ожесточенной бой, чтобы отбросить неприятеля за Адду и восстановить сообщение с дивизией Серюрье; он сражался с 8–9 тысячами человек против более чем 20-тысячного корпуса. Воодушевляемые присутствием любимого главнокомандующего, солдаты совершали чудеса храбрости, но не смогли отбросить неприятеля за Адду. Серюрье, к которому не доходили приказания, не пришло в голову самому направиться в Треццо. Приходилось уступить и предоставить дивизию Серюрье ее участи. Окруженная всей неприятельской армией, последняя сражалась упорно, но, отрезанная наконец отовсюду, была вынуждена сложить оружие; часть дивизии, благодаря смелости и присутствию духа одного офицера, ушла горами в Пьемонт. В продолжение этого страшного дела сумел удачно отступить с нетронутой дивизией только Виктор. Таким был роковой день 28 апреля (9 флореаля), названный сражением при Кассано; он сократил армию до двадцати тысяч человек. С этой горсткой храбрецов начал свое отступление Моро. Этот редкий человек ни на минуту не терял врожденного хладнокровия; в присутствии неприятельской армии, в невыгодном числе и положении – он не колебался ни минуты. Такое спокойствие было значительно большей заслугой, чем то самообладание, которое он проявил в Германии, во главе 60-тысячной победоносной армии, однако оно прославляемо гораздо меньше! Так-то случайности страстей влияют на суждения современников! Моро поставил своей целью сначала прикрыть Милан, дабы иметь возможность вывезти из него парки и обозы и дать время членам цизальпинского правительства и скомпрометированным жителям Милана удалиться в тыл. Нет ничего обременительнее и опаснее для армии, чем присутствие семейств изгнанников, которые она должна принимать в свои ряды: они затрудняют движение, замедляют его, а иногда могут составлять риск самой ее безопасности. Пробыв два дня в Милане, Моро продолжал отступление, чтобы расположиться за По. По образу действий Суворова он мог судить, что ему дадут время занять прочную позицию. Требовалось достичь двух целей – прикрыть свои сообщения с Францией и Тосканой, откуда приближалась неаполитанская армия, а для того – занять склоны Лигурийских Альп, самый благоприятный в виду этих целей пункт. Армия Моро шла двумя колоннами: одна, конвоируя парки и обозы, двинулась по большой дороге из Милана в Турин; другая направилась на Алессандрию, чтобы занять дороги Генуэзского побережья. Во время этого движения неприятель не слишком беспокоил Моро. Вместо того чтобы броситься со своими победоносными войсками на нашу слабую армию и окончательно ее уничтожить, Суворов заставлял себя воздавать в Милане триумфальные почести священникам, монахам, дворянам, всем креатурам Австрии, толпою возвратившимся вслед за армиями коалиции. Моро получил возможность прибыть в Турин, вооружить цитадель, пробудить энтузиазм сторонников Республики и соединиться с колонной, направленной на Алессандрию. Там он выбрал позицию, вполне доказывающую верность его глазомера. Танаро, стекая с Апеннин, впадает в По ниже Алессандрии; Моро расположился на месте слияния этих двух рек. Прикрываемый и той и другою, он не боялся атаки, в то же время охранял все дороги в Геную и мог спокойно ожидать прибытия Макдональда. Лучше позиции выбрать было нельзя. Суворов не торопился. Он попросил придворный совет о том, чтобы австрийский корпус Бельгарда, назначенный в Тироль, был отдан в его распоряжение; последний спускался в Италию и мог бы довести численность соединенной армии до ста тысяч человек. В ответ он лишь получил приказание осаждать Пескьеру, Мантую и Пичигетоне. Он желал защитить себя со стороны Швейцарии и не умел выгодно распределять массы войск; а потому у него под рукой оказалось не более сорока тысяч человек, впрочем, силы вполне достаточной, чтобы раздавить Моро, если только уметь ими искусно распорядиться. Суворов двинулся вдоль По и Танаро, чтобы стать перед Моро; заняв Тортону, он расположил в ней свою главную квартиру. После нескольких дней бездействия он наконец решил наступать на левое крыло Моро, то есть со стороны По. Немного выше слияния этих двух рек, напротив Мугароне, находятся лесистые острова, используя которые, русские и решились совершить переправу. Ночью на 12 мая (на 23 флореаля) в количестве около двух тысяч человек они переправились на один из этих лесистых островов. Перед ними находился малозначимый рукав, через который легко было переправиться и вплавь, что они и сделали, утвердившись затем на правом берегу По. Уведомленные об опасности французы поспешили к угрожаемому пункту. Моро, извещенный о других маневрах со стороны Танаро, выждал, пока станет ясно, в каком месте наиболее опасна атака русских, чтобы направить туда свои силы: лишь только последнее выяснилось, он двинулся и опрокинул русских в По; последние при этом потеряли две тысячи пятьсот человек убитыми, утопшими и пленными. Это удачное дело обеспечило устойчивое положение Моро в занимаемом им треугольнике. Но бездействие неприятеля его беспокоило, он боялся, что Суворов мог оставить перед Алессандрией только один отряд, а с главными силами либо подняться к Турину – стать в тылу французов, либо направиться навстречу Макдональду. Тогда Моро решил сам попробовать перейти в наступление. Он задумал выйти из Алессандрии и устроить рекогносцировку; в случае если бы неприятель оставил перед ним только один отряд, Моро собирался обратить эту рекогносцировку в серьезную атаку, раздавить отряд, отступить по большой Боскеттской дороге к Лигурийским Альпам и там ждать Макдональда; в случае же если бы он встретил главные силы, Моро думал немедленно отступить и всеми доступными дорогами направиться к побережью. Основанием, заставившим его принять этот решительный план, было восстание в Пьемонте: следовало как можно скорее приблизиться к своей базе. Тогда как Моро принял этот благоразумный план, Суворов составил другой, неудачный. Его позиция при Тортоне была лучшей из всех, какие только можно было избрать, так как она ставила его между французскими армиями – Цизальпинской и Неаполитанской. Он не должен был оставлять эту позицию ни в каком случае; тем не менее он решился отвести часть своих сил за По, подняться вверх до Турина, завладеть этой столицей, организовать пьемонтских роялистов и тем заставить Моро покинуть свою позицию. Расчет подобного маневра был крайне неудачен; чтобы принудить французов к отступлению, требовалась прямая и сильная атака, а главное – нельзя было оставлять промежуточного положения между армиями, старавшимися соединиться. Между тем как Суворов разделял свои силы, Моро исполнял задуманную рекогносцировку. Он направил на находившийся перед ним русский корпус дивизию Виктора, сам же с резервом остался немного сзади, готовый к атаке. После жаркого дела, в котором войска Виктора выказали редкую храбрость, Моро счел, что перед ним находится вся русская армия, и не осмелился ввести в дело все свои войска из опасения вступить в бой со слишком превосходящими силами. На этом основании из двух решений, им принятых, он предпочел второе – как более верное: он решил отступать к Лигурийским Альпам. Положение его было критическим: весь Пьемонт восстал в тылу французов; отряд инсургентов, завладев Чевой, запиравшей главную дорогу, доступную артиллерии, грозил отбить груз предметов искусства, собранных в Италии. В этих затруднительных обстоятельствах Моро предпочел избрать более близкие дороги, выходившие на Ривьера-ди-Поненте, чтобы не лишиться своих сообщений с Тосканой и не предоставлять неприятелю возможность захватить их. Он сделал следующие распоряжения: отделил от себя дивизию Виктора без артиллерии и обозов и отправил ее к Генуэзскому побережью по горным дорогам, доступным лишь для пехоты; сам же, с восемью тысячами солдат, всей артиллерией, кавалерией и со всем, что не могло быть отправлено горными тропами, направился на Ривьера-ди-Поненте по проселочной дороге. Решившись на такое эксцентрическое отступление, Моро руководствовался еще и тем соображением, что привлечет неприятельскую армию на себя и оттянет ее от преследования Виктора и Макдональда. Виктор в целости отступил через Акви, Спиньо и Дего и занял гребень Апеннин. Моро, в свою очередь, с необыкновенной быстротой отошел на Асти. Взятие Чевы, запиравшей его основные сообщения, ставило Моро в крайне затруднительное положение. Он направил большую часть своих парков на Фенестрелле, оставив при себе только необходимую полевую артиллерию, и решил проложить путь через Апеннины с помощью своих солдат. После четырехдневных невероятных усилий дорога стала доступна для артиллерии, и Моро вышел к побережью, не отступая до Коль-ди-Тенда, что слишком отдалило бы его от войск Виктора, направленных к Генуе. Узнав об отступлении Моро, Суворов поспешил начать преследование, но не мог ни разгадать, ни опередить соображений французского генерала. Таким образом, благодаря своему хладнокровию и военному искусству Моро отвел 20 тысяч человек, не испытав нигде неудачи, а, напротив, везде сдерживая русских. Он оставил 3-тысячный гарнизон в Алессандрии, а около 18 тысяч привел в окрестности Генуи и расположил их по гребню Апеннин в ожидании прибытия Макдональда. Дивизии Лапуапа и Виктора и легкий отряд Монришара он отправил к Треббии, на соединение с Макдональдом, сам же с остальными войсками расположился в окрестностях Нови. В это же время Директориясобрала в Средиземном море значительные морские силы. Брюи, морской министр, возглавляя брестскую эскадру, снял блокаду с испанского флота и крейсировал с пятьюдесятью кораблями в Средиземном море с целью очистить его от англичан и восстановить сообщение с Египетской армией. Это столь желанное соединение наконец совершилось и могло возвратить нам перевес на морях Востока. В эту минуту Брюи находился перед Генуей; его присутствие значительно подняло нравственный дух армии: говорили, что он привез продовольствие, снаряды, подкрепления. Ничего этого не было; но Моро воспользовался этим слухом и постарался его поддержать: он утверждал, что флот высадит 20 тысяч человек и обеспечит значительными продовольственными запасами. Это ободряло армию и уменьшало самоуверенность неприятеля.
Были первые числа июня (середина прериаля). В Швейцарии произошло новое событие. Мы видели, что Массена занял линию Лиммата, а эрцгерцог, дебушировавший с обеих оконечностей озера Констанц, подошел к этой линии на всем ее протяжении и решил атаковать Массена между Цюрихом и Бруггом, то есть между Цюрихским озером и Ааром. Массена занял позицию не по самому Лиммату, но перед ним, на высотах, прикрывающих и реку, и озеро; он укрепился на них и сделал их почти недоступными. Хотя эта часть нашего расположения и была самой сильной, но эрцгерцог решил атаковать ее, потому что весьма опасно было совершать длинный обход ради атаки выше озера, вдоль Линты: Массена мог воспользоваться этим и раздавить отряды, оставленные перед ним, что доставило бы ему решительный перевес. Атака была предпринята 4 июня (16 прериаля) на всем протяжении Лиммата и везде победоносно отбита, несмотря на упорство австрийцев. Дабы не терять людей напрасно, эрцгерцог и на следующий день счел необходимым продолжать свои попытки и возобновил атаку с прежней настойчивостью. Приняв во внимание, что линия его расположения может быть прорвана и отступление сделается затруднительным, что непосредственно позади оставляемой им позиции следует другая, сильнейшая – горная цепь Альбис, тянущаяся позади Лиммата и Цюрихского озера, – Массена решил отступить добровольно. При этом отступлении он терял лишь город Цюрих, а последнему не придавали большого значения. Горная цепь Альбис представляет собой крутые склоны, почти недоступные для атаки. Занимая ее, теряли лишь небольшую часть территории, так как отступали только на широту озера и реки Лиммат. На основании этого Массена отступил добровольно и без потерь и утвердился на хребте, отняв у эрцгерцога всякое желание его атаковать. Итак, наше положение в Швейцарии по-прежнему оставалось почти без изменений. Аар, Лиммат, Цюрихское озеро, Линта и Рейс, до Сен-Готарда, образовали нашу оборонительную линию против австрийцев.
В Италии Макдональд наконец приблизился к Тоскане. Согласно данным ему инструкциям, он оставил гарнизоны в форте Святого Эльма, в Капуе и в Гаэте. Это лишь бесполезно компрометировало войска, которые не были в состоянии поддерживать республиканскую партию, и уменьшало численность действующей армии. Отступая, наша армия оставила Неаполь роялисткой реакции, которая напоминала самые ужасные времена нашей революции. Макдональд собрал в Риме дивизию Гарнье и присоединил к ней в Тоскане дивизию Готье, а в Модене – легкий отряд Монришара. Таким образом, при нем составился корпус в 28 тысяч человек. Макдональд вступил во Флоренцию 25 мая (6 прериаля). Это движение было произведено с большой быстротой и в замечательном порядке. К несчастью, он потерял много времени в Тоскане и вышел за Апеннины, на равнины Пьяченцы, лишь к середине июня (к концу прериаля). Суворов находился в Турине; Бельгард наблюдал за генуэзскими проходами; Край осаждал Мантую, цитадель Милана и крепости. Нигде не составлялось 30 тысяч русских и австрийцев в совокупности, и Макдональд и Моро, выйдя с 50 тысячами человек, могли изменить судьбу кампании. Но Макдональд счел своим долгом потратить несколько дней на отдых армии и реорганизацию дивизий, которые последовательно к себе присоединил, и потерял драгоценное время, позволив Суворову исправить свои ошибки. Русский главнокомандующий, узнав о движении Макдональда, поспешил оставить Турин и идти с 20 тысячами подкрепления, дабы оказаться между французскими генералами и вновь занять позиции, которых он и не должен был оставлять. Он приказал обсервационному отряду Отта на Треббии, в окрестностях Пьяченцы, отступать, в случае если он будет атакован неприятелем; Краю предписал отправить из-под Мантуи все войска, которыми тот мог бы располагать; Бельгарду предоставил наблюдать за Нови, откуда мог дебушировать Моро; сам же предполагал направиться на равнины Пьяченцы, навстречу Макдональду. Эти распоряжения одни только в течение целой кампании заслужили одобрение военных. Оба французских генерала по-прежнему занимали указанные нами позиции. Расположенные на Апеннинах, они оба должны были спуститься с них, чтобы соединиться на равнинах Пьяченцы. Моро должен был дебушировать из Нови, Макдональд – из Понтремоли. Моро отправил для подкрепления Макдональда дивизию Виктора; с целью благоприятствовать соединению он поставил на склоне гор, в Боббио, генерала Лапуапа с несколькими батальонами, а сам намеревался улучить минуту, когда Суворов атакует Макдональда, чтобы ударить ему во фланг. Но для последнего требовалось, чтобы Макдональд придерживался гор и не принимал сражения на равнине. Макдональд опять начал движение к середине июня (концу прериаля). Отряд Гогенцоллерна охранял нижнее течение По в окрестностях Модены, был подавлен нашими превосходными силами, потерял полторы тысячи человек и чуть не был захвачен весь. Этот первый успех ободрил Макдональда и заставил его ускорить поход. Присоединенная к нему дивизия Виктора, доводившая численность армии почти до 32 тысяч человек, шла в авангарде; польская дивизия Домбровского шла слева от дивизии Виктора; их поддерживала дивизия Рюска. Хотя главные силы армии – дивизии Монришара, Оливье и Ватрена – были еще далеко, Макдональд, обольщенный недавним успехом, решил раздавить Отта на Треббии и приказал Виктору, Домбровскому и Рюска идти на него немедля. Три потока, параллельно текущие в По с Апеннин, образовали поле сражения: это были Нура, Треббия и Тидоне. Главные силы французской армии располагались еще на Нуре; дивизии Виктора, Домбровского и Рюска подходили к Треббии и получили приказ перейти ее, дабы раздавить Отта, которого Макдональд считал лишенным поддержки. Они двинулись 17 июня (29 прериаля), отбросили авангард генерала Отта с берегов Тидоне и принудили его занять позиции у небольшой деревни. Отт был близок к поражению, но в эту минуту к нему на помощь прибыл Суворов со всеми своими силами. Он послал генерала Багратиона против Виктора, двигавшегося вдоль По, передвинул Отта в центр против Домбровского, а Меласа направил вправо на дивизию Рюска. Сначала Багратиону не везло и пришлось отступать; но Суворов в центре атаковал дивизию Домбровского с помощью пехоты, бросил на фланг французов два полка кавалерии и смял дивизию. С этой минуты Виктор был обойден и поставлен в опасное положение. Багратион, подкрепленный гренадерами, перешел в наступление. Русская кавалерия, смявшая поляков и обошедшая Виктора, атаковала его фланг и заставила отступить. Тогда Рюска вынужден был уступить поле сражения Меласу. Три наши дивизии перешли Тидоне и отступили к Треббии. Этот первый день, когда небольшой части нашей армии пришлось иметь дело со всеми неприятельскими силами, не был для нас удачен. Не зная о прибытии Суворова, Макдональд слишком поспешил. Он решил стать за Треббией, собрать здесь все свои дивизии и отомстить за понесенную неудачу. К несчастью, дивизии Оливье, Монришара и Ватрена были еще на Нуре, и Макдональд решил ждать их и дать сражение послезавтра, то есть 19 июня (1 мессидора). Но Суворов не позволил Макдональду собрать силы и атаковал его на следующий же день, то есть 18 июня (30 прериаля). Обе армии сошлись вдоль Треббии, упираясь своими крыльями в По и Апеннины. Суворов, благоразумно предположив, что главный пункт – это горы, откуда обе французские армии могут сообщаться между собою, направил в эту сторону свою лучшую пехоту и лучшую кавалерию. Он передвинул дивизию Багратиона с левого крыла, с берегов По, на правое, к горам. И ее, и дивизию Швейковского он поручил генералу Розенбергу и приказал ему перейти с ними Треббию у Ривальты, в верхней части течения. Там стояли дивизии Домбровского, Рюска и Виктора, составляя левое крыло французов. Дивизии Оливье и Монришара стояли в центре, вдоль Треббии, а дивизия Ватрена должна была составлять первое крыло, у По и Пьяченцы. С утра 17 июня (29 прериаля) русские авангарды атаковали французов в Казалиджо и Гриньяно и отбросили их; Макдональд, не ожидавший атаки, бросил вперед дивизии центра. Виктор, командовавший нашим левым крылом, перевел всю пехоту за Треббию и ненадолго поставил Суворова в опасное положение; но Розенберг, прибывший с дивизией Швейковского, восстановил перевес русских и после ожесточенного боя, со страшными потерями с обеих сторон, принудил французов отступить за Треббию. Между тем дивизии Оливье и Монришара подходили к центру, а дивизия Ватрена на правое крыло, и канонада завязалась по всей линии. Обменявшись несколькими ядрами, стрельбу прекратили как с той, так и другой стороны Треббии. Таков был второй день. Теперь уже располагая всеми своими силами, Макдональд желал сделать решительным день третий. Он намеревался перейти Треббию на всех пунктах и обойти оба неприятельских крыла. Дивизия Домбровского должна была для этого подняться по реке до Ривальты и перейти реку выше позиции русских. Дивизии Ватрена приказали перейти ее почти у самого впадения в По и тем обойти крайнее левое крыло Суворова. Макдональд рассчитывал, что Моро, содействия которого он ожидал уже два дня, вступит в дело никак не позже следующего дня. Таков был план на 19 июня, но ночью завязалась страшная схватка. Французский отряд перешел Треббию, чтобы занять назначенное ему место, а русские подумали, что их атакуют, и взялись за оружие; то же сделали, в свою очередь, французы. После бесполезной резни генералам наконец удалось отвести своих солдат на биваки. Обе армии до такой степени устали от трехдневных сражений и ночного беспорядка, что на следующий день вступили в бой лишь к десяти часам утра. Сражение началось на нашем левом крыле, в верхнем течении Треббии. Несмотря на сопротивление русских, Домбровский переходит реку у Ривальты, куда Суворов отправил Багратиона. Движение Багратиона обнажает фланги Розенберга. Пользуясь этим, Виктор и Рюска переправляются за Треббию и наносят удар. Наступление удается, и они со всех сторон окружают дивизию Швейковского, при которой находится сам Суворов. Русская дивизия оказывается в критическом положении, но разворачивается фронтом во все стороны и доблестно защищается. Заметив опасность, Багратион быстро отступает к угрожаемому пункту и принуждает Виктора и Рюска выпустить Швейковского. Если бы, пользуясь возможностью, Домбровский, в свою очередь, пошел за Багратионом, то перевес на этом пункте остался бы за нами, а этот-то пункт и был самым важным, потому что примыкал к горам. К несчастью, Домбровский бездействовал, и Виктор и Рюска были вынуждены снова переправиться за Треббию. В центре Монришар переходит Треббию у Гриньяно, а Оливье – у Сан-Николо. Монришар наступает на отряд Форстера, и в это самое время австрийские резервы, которые Суворов потребовал у Меласа, двигаясь в тылу поля сражения, случайно попадают во фланг французской дивизии. Дивизия захвачена врасплох, и 5-я легкая полубригада, совершавшая чудеса на полях сотни сражений, бежит в беспорядке. Монришар также вынужден перейти Треббию. Оливье, с успехом наступавший на Сан-Николо и оттеснивший Отта и Меласа, открывается с отступлением Монришара. Тогда Мелас отменяет приказание австрийским резервам и направляет их на дивизию Оливье, которая, в свою очередь, также переходит реку обратно. Между тем дивизия Ватрена, бесполезно направленная на крайнее правое крыло, где ей нечего было делать, двигалась вдоль По, не оказывая армии никакой помощи. Она также перешла Треббию и приняла участие в общем отступлении. Суворов, по-прежнему опасаясь движения Моро с тыла, весь остаток дня старался перейти Треббию, но не преуспел в этом. Французы непоколебимо противостояли ему по всей линии, и этот поток, свидетель столь ожесточенной борьбы, в третий раз разделил две враждующие армии. Так завершился третий акт этого кровавого сражения. Обе армии были совершенно расстроены. Большая часть генералов была выведена из строя; целые полки уничтожены. Но положение было далеко не равным. Суворов каждый день получал подкрепления и только выигрывал от продолжения борьбы. Макдональд, напротив, истощил все свои средства и если бы продолжал упорствовать, то мог быть в беспорядке отброшен даже в Тоскану. Тогда неустрашимый генерал решил отступить на Нуру и добраться до Генуи. Он отступил от Треббии 20 июня (2 мессидора) утром. Депеша, в которой он обрисовывал Моро свое отчаянное положение, попала в руки Суворова; тот, обрадованный, поторопился последовать за Макдональдом. Тем не менее отступление произвели в порядке; к несчастью, дивизия Виктора, выдержавшая четыре дня беспрерывного боя, была смята и много потеряла пленными. Макдональд все-таки сумел собрать свою армию за Апеннинами, потеряв от четырнадцати до пятнадцати тысяч убитыми, ранеными и пленными. К большому счастью, Суворов, слыша позади себя пушки Моро, прекратил преследование Макдональда. Моро, которому непреодолимые препятствия помешали выступить ранее 18 июня, дебушировал наконец из Нови, бросился на Бельгарда, разбил его и захватил около трех тысяч пленных. Но этот поздний успех был бесполезен и не имел другого итога, кроме создания помехи Суворову. Итак, это соединение, от которого ждали таких больших результатов, привело лишь к кровавому поражению; оно вызвало между французскими главнокомандующими пререкания, которые недостаточно разъяснены и до сих пор. Военные упрекают Макдональда за его долгую остановку в Тоскане, за слишком растянутый марш его дивизий; за то, что в день сражения он стремился обойти оба неприятельских крыла, а не направил главное усилие на левое крыло; что он слишком удалился от гор, чем помешал Лапуапу прийти к нему на помощь из Боббио; наконец, что важнее всего, он слишком поторопился дать сражение, как будто хотел один присвоить себе честь победы. Одобряя искусно рассчитанный план Моро, военные упрекали его лишь в одном, что он из уважения к старому товарищу не взял на себя непосредственного командования обеими армиями, а главное, что не командовал лично на Треббии. Справедливы или нет эти упреки, несомненно, что план Моро, если бы был исполнен в точности, спас бы Италию. Она была окончательно потеряна сражением при Треббии. К счастью, Моро еще был там, чтобы собрать остатки и помешать Суворову воспользоваться своим громадным преимуществом. Кампания открылась лишь за три месяца перед тем, и везде, кроме Швейцарии, мы терпели поражения. Сражением при Штокахе мы теряли Германию; сражения при Маньяно и Треббии отняли у нас Италию. Только Массена, твердый как скала, еще занимал Швейцарию вдоль горной цепи Альбис. Не следует, однако, забывать о том, что среди этих жестоких поражений храбрость наших солдат была столь же непоколебима, как и в лучшие дни побед; что Моро оставался одновременно и великим гражданином, и великим полководцем, и помешал Суворову одним ударом уничтожить наши итальянские армии.
Эти последние несчастья дали новое оружие врагам Директории и возбудили против нее усиленные возражения и брань. Страх вторжения начинал овладевать умами. Южные и альпийские департаменты, первыми рискующие в случае вторжения австро-русских войск, волновались больше всех. Города Шамбери, Гренобль и Оранж послали в законодательный корпус адресы, произведшие самое сильное впечатление. Они заключали в себе несправедливые упреки, уже два месяца бывшие у всех на устах; по-прежнему упоминали о грабеже завоеванных стран, воровстве компаний, нищете армий, о министерстве Шерера и его командовании, о несправедливости, допущенной в отношении Моро, и аресте Шампионне и прочее, и прочее. «Зачем, – говорилось в адресах, – верные конскрипты были принуждены возвращаться к своим очагам вследствие нищеты, в которой их оставляли? Отчего все мошенничества оставались безнаказанными? Для чего неспособный Шерер, на которого Гош указывал как на изменника, так долго оставался в военном министерстве? Почему ему позволили довершить как главнокомандующему те несчастья, которые он подготовил в звании министра? Почему имена, любимые победою, были заменены неизвестными? За что обвиняют победителя Рима и Неаполя?..» Адресам этим выпала честь произвести впечатление, удостоиться почетного отзыва и отсылки в Директорию. Такой прием уже достаточно показывал расположение обоих советов: отношение не могло быть худшим. Конституционная оппозиция соединилась с оппозицией патриотов. Одна, составленная из честолюбцев, желавших нового правительства, и лиц, имеющих влияние и жаловавшихся, что их мнения и рекомендации недостаточно хорошо принимаются; и другая, составленная из патриотов, исключенных из законодательного корпуса или принужденных молчать вследствие закона 19 фрюктидора, – обе они равно желали гибели существующего правительства. Они говорили, что Директория в одно и то же время и дурно управляет Францией, и дурно защищает ее; что она насилует свободу слова, свободу печати и общественных собраний. Они объявляли Директорию одновременно и слабой, и агрессивной; готовы были даже дойти до 18 фрюктидора и сказать, что, не уважив законы в этот день, правительство уже не может призывать их на свою защиту. Назначение Сийеса в Директорию было одним из главных побуждений к подобным настроениям. Призвать в правительство человека, который не переставал считать неудовлетворительной конституцию и на этом уже основании отказывался быть директором, значило фактически возвещать, что желают революции. Самое согласие Сийеса, в котором сомневались вследствие его прежних отказов, еще более подтверждало это предположение. Вокруг Сийеса группировались всякого рода недовольные, желавшие перемен. Сийес не был искусным главой партии, у него не хватало для этого ни характера, уступчивого и смелого, ни даже честолюбия; вокруг него собирались вследствие его репутации. Знали, что он находил дурным всё в конституции и правительстве, и около него толпились, как бы приглашая всё переменить. Баррас, сумевший устроить так, что ему прощалось долгое пребывание в Директории, сблизился с Сийесом, подло предавая своих сотоварищей. Вокруг этих-то двух лиц и собирались все враги Директории. Эта партия искала поддержки в каком-нибудь молодом генерале, считавшемся, как и многие другие, жертвой правительства. Ее выбор пал на подававшего большие надежды Жубера, что к тому же оправдывало его положение, так как после отставки он оставался без назначения. Ему предстояло вступить в родство с Семонвилем вследствие брака с девицей Монтолон. Жубера познакомили с Сийесом поближе, назначили его командующим 17-м военным округом, то есть Парижем, и пытались сделать главою новой коалиции. Еще не думали ни о каких переменах; сначала хотели только завладеть правительством и спасти Францию от вторжения; конституционные же проекты откладывали до того времени, когда минуют все опасности. Первое, чего нужно было достичь, – удаления членов старой Директории. Сийес состоял в ней только две недели; как мы видели, Баррас спасся от бури; вся ненависть обрушилась на Ларевельера, Мерлена и Трельяра, нисколько не повинных в том, в чем упрекали правительство. У этих троих всё еще было большинство в Директории. Они решили оказывать самое большое внимание Сийесу, прощать ему даже его дурное расположение духа, чтобы не увеличивать затруднительности положения личными несогласиями, какие могли бы возникнуть в любой момент. Но Сийес был недоступен; он всё находил дурным и в этом не кривил душой, так как таково было его убеждение; при этом самый тон его заявлений доказывал, что он не желает вступать в соглашение с товарищами для искоренения зла. Пристрастившийся к тому, что видел в стране, откуда приехал, Сийес не переставал говорить: – В Пруссии это делается не так. – Так научите же нас, – отвечали ему товарищи, – как это делается в Пруссии; просветите нас вашим мнением, помогите нам поступать как следует. – Вы меня не поймете, – возражал Сийес, – бесполезно говорить, поступайте так, как привыкли. В то же время со стороны советов нападения следовали одно за другим. Уже началась открытая рознь во взглядах на финансы. Нищета, как было сказано, происходила от двух причин: медленности поступлений и дефицита в предполагаемых доходах. Из 400 миллионов, на которые были даны ордера на покрытие уже сделанных издержек, поступило едва 210 миллионов. Дефицит в смете доходов, по мнению Ревбеля, простирался до 67 и даже 75 миллионов. А поскольку цифры дефицита оспаривались, Ревбель дал депутату Женисьё формальное опровержение в «Мониторе» и цифрами доказал то, что утверждал прежде устно. Но в известные минуты доказательства не служат ничему. Министра и правительство не переставали осыпать бранью; не переставали повторять, что они разоряют государство и требуют новых сумм, только чтобы доставить случай к новым мошенничествам. Тем не менее сила очевидности вынуждала согласиться на увеличение доходов. Недостаточно было только утвердить налоги, нужно было обеспечить их поступление, а новые законы по этому поводу изданы не были. Министр торопил с обсуждением, но обсуждение беспрестанно откладывали, а на настояния отвечали криками об измене, воровстве и прочем. Кроме раздоров по вопросу о финансах, открылась еще и другая причина для недовольства. Уже поднимались возражения против некоторых статей закона 19 фрюктидора, позволявших Директории закрывать клубы и запрещать газеты путем простого постановления. Решили выработать проект закона касательно печати и общественных собраний, чтобы изменить закон 19 фрюктидора и отнять у Директории это произвольное право. Восставали также против права ссылать подозрительных священников и вычеркивать из списка эмигрантов. Казалось, сами патриоты хотели отнять у Директории диктатуру, гибельную лишь для их противников. Начали в середине июня (в последних числах прериаля) с обсуждения закона о печати и общественных собраниях. Сторонники Директории, из которых главными были Шенье, Бальель, Крезе-Латуш и Лекуантр-Пюираво, утверждали, что хотя права, присвоенные Директории законом 19 фрюктидора, и были опасны в обыкновенное время, но при настоящих обстоятельствах без них никак нельзя обойтись. Не в минуту крайней опасности, говорили они, следует ослаблять силу правительства; права, данные ему на следующий день после 18 фрюктидора, необходимы ему ныне не против роялистской фракции, но против фракции анархистов, не менее опасной, чем первая, и втайне с ней солидарной. Ученики Бабёфа, прибавляли они, появляются повсюду и грозят республике новыми покушениями на общественное спокойствие. Патриоты, которых в Совете пятисот было весьма много, отвечали на речи сторонников Директории с обычной пылкостью. Нужно, говорили они, вызвать во Франции сотрясение и возвратить ей энергию 1793 года, которую Директория окончательно удушила, подавив страну. Весь патриотизм погаснет, если не откроют клубы и не возвратят слово патриотическим газетам. «Напрасно, – прибавляли патриоты, – нас обвиняют, напрасно делают вид, что опасаются покушений с нашей стороны. Что же на самом деле совершили столь обвиняемые патриоты? Вот уже три года, как их убивают, изгоняют, лишают отечества, и всё это в республике, основанию которой они содействовали и которую защищали. В каких преступлениях можете вы упрекать их? Восстали ли они против реакционеров? Нет. Вы говорите, что они отличаются крайним образом мыслей и запальчивостью; пусть так. Но разве это преступления? Да, они говорят, даже кричат, если хотите, но не убивают ежедневно». Члены конституционной оппозиции выражались иначе. Естественно, они были умеренны, сохраняли тон сдержанный, но горький и наставительный. По их мнению, следовало обратиться к слишком уже пренебрегаемым принципам и возвратить свободу печати и общественных собраний. Фрюктидорская опасность могла на время оправдать диктатуру Директории, но как последняя воспользовалась этой диктатурой? Стоит только спросить об этом партии, и вы услышите ясный ответ. Люди с самыми различными взглядами, роялисты, патриоты, конституционалисты сходились в том, что Директория злоупотребляла своим могуществом. Такое согласие между людьми, столь несходными в своих чувствах и целях, не оставляло сомнения, и Директория была осуждена. Все объединились и заставили отменить статьи закона 19 фрюктидора, относящиеся к газетам и общественным собраниям; что было весьма важной победой, так как должно было повлечь за собой сплочение всех якобинцев и полный простор для нападок на правительство в печати. Волнение возросло к середине июня. Самые зловещие слухи распространялись повсюду. Новая коалиция решила прибегнуть к обычной тактике мелких придирок, которую в представительном правлении использует оппозиция, чтобы принудить правительство к отставке. Затруднительные и беспрестанно повторяемые вопросы, угрозы, обвинения – всё было пущено в дело. Средства эти столь естественны, что и без практики представительного правления сам инстинкт партий подсказывает их немедленно. Комиссия расходов, государственных средств и военных действий, учрежденная в Совете пятисот для исследования этих предметов, собралась и составила послание в адрес Директории. Буле де ла Мёрту поручили составить доклад, который он и представил 3 июня (15 прериаля). По его предложению Совет пятисот обратился к Директории с просьбой сообщить причины внутренних и внешних опасностей, угрожавших республике, а также средства для их отражения. Запросы подобного рода не имеют другого действия, кроме признания в бедствиях, и еще более компрометируют правительство. Мы повторим: правительство должно иметь успех; принудить его признаться в своей неудаче – значить принудить его к гибельному признанию. Получив вышеупомянутое послание, Директория решила дать на него обстоятельный ответ, в котором предполагала последовательно начертать весь ход событий и тех мер, к которым она прибегла и надеялась еще прибегнуть, чтобы избавить Францию от кризиса. Подобный ответ требовал содействия всех министров, дабы каждый мог представить свой доклад. Для составления его нужно было по меньшей мере несколько дней, что, однако, вовсе не входило в виды советов; их не интересовало состояние Франции, им нужны были лишь признания. По этой причине, выждав несколько дней, три комиссии, предложившие послания, подали новое предложение. Депутат Пулен де Гранпре 16 июня (28 прериаля) предложил Совету пятисот объявить свои заседания непрерывными до тех пор, пока Директория не ответит на послание от 3-го числа. Предложение было принято. Пятьсот сообщили старейшинам о своем решении и пригласили последовать их примеру, что и было сделано: старейшины объявили свои заседания непрерывными. Три комиссии, вследствие многочисленности членов, были заменены одною, из одиннадцати лиц; на нее было возложено внесение мер, какие требовались обстоятельствами. Директория, в свою очередь, отвечала, что объявляет свои заседания непрерывными с целью поторопить доклад, которого от нее требовали. Понятно, какое волнение должно было вызвать подобное решение. По обыкновению, распускали самые зловещие слухи: противники Директории говорили, что она замышляет новый государственный переворот и хочет распустить советы; сторонники, напротив, отвечали, что все партии составили коалицию с целью насильственного ниспровержения правительства. Ни о чем подобном не думала тогда ни та, ни другая сторона. Коалиция оппозиций желала единственно отставки трех старых директоров, и, кажется, наконец нашли средство достичь этой цели. Согласно конституции, директора можно было выбрать только по истечении по меньшей мере года со времени, когда он в качестве кандидата заседал в законодательном корпусе. Трельяр, уже тринадцать месяцев заседавший в Директории, вышел из законодательного корпуса 30 флореаля года V, а директором был назначен 26 флореаля года VI; так что для предписанного срока недоставало четырех дней. Это был не более чем повод, так как такое отступление покрывалось молчанием, сохраняемым в течение двух сессий, и, кроме того, назначение самого Сийеса подпадало под тот же случай. Однако комиссия одиннадцати немедленно предложила признать назначение Трельяра недействительным, что и состоялось того же 16 июня (28 прериаля). Трельяр был в чем-то жесток и горяч, но твердость его характера не равнялась суровости его манер; он был готов уступить. Совсем не таково было настроение Ларевельера; этот честный и бескорыстный человек, тяготившийся своими обязанностями, принявший их единственно из чувства долга, ежегодно искренне желавший, чтобы ему выпал жребий выйти из Директории, не желал уходить в отставку по принуждению партий. Он настаивал, что увольнения старых директоров желают лишь для уничтожения конституции; что Сийес, Баррас и семейство Бонапарт стремятся к той же цели, руководимые разными видами, одинаково пагубными для республики. В этом убеждении Ларевельер не желал, чтобы старые директоры оставляли свои места. Он побежал к Трельяру и просил его сопротивляться. «С Мерленом и мною, – сказал он, – вы образуете большинство, и мы откажемся исполнить это определение законодательного корпуса как незаконное, мятежное, вырванное влиянием партии». Трельяр не посмел последовать этому мнению и немедленно послал Совету пятисот свою отставку. Ларевельер, видя большинство потерянным, тем не менее упорствовал в отказе подавать в отставку. Вожаки Совета пятисот тотчас же решили назначить Трельяру преемника. Сийес хотел назначения преданного ему человека, но его влияние в этом случае было совершенно ничтожным. Назначили бывшего адвоката из города Ренна, президента кассационного суда, принадлежавшего скорее к оппозиции патриотов, чем к конституционной, – Гойе, гражданина честного и преданного Республике, но малоспособного и не слишком знакомого как с людьми, так и с делами. Он был назначен 17 июня (29 прериаля) и должен был вступить в должность на следующий же день. Недостаточно было исключить Трельяра, из Директории хотели удалить Ларевельера и Мерлена. Патриоты особенно бесновались по поводу Ларевельера; они вспомнили, что хоть он и цареубийца, но все-таки никогда не был монтаньяром, что он часто боролся с их партией после 9 термидора и в предыдущем году поощрял систему разделения выборов. Вследствие того они угрожали обвинить обоих, и его, и Мерлена, если оба не подадут в отставку. Сийесу поручили сделать им предложение и попросить их добровольно отступить перед бурей. Вечером 17 июня, в день выбытия Трельяра, Сийес предложил четырем директорам частным образом собраться у Мерлена, что и было сделано. Баррас, как бы в виду опасности, явился с саблей у пояса и вовсе не открывал рта. Сийес начал говорить довольно смущенно, сделал длинное вступление насчет ошибок правительства и долго бормотал, прежде чем начать объяснять цель собрания. Наконец Ларевельер потребовал у него выражаться яснее. «Ваши друзья и друзья Мерлена, – отвечал Сийес, – приглашают вас обоих подать в отставку». Ларевельер спросил, кто эти друзья. Сийес не мог назвать ни одного, кто заслуживал хоть какого-нибудь доверия. Тогда Ларевельер стал говорить с ним тоном человека, который с негодованием смотрит, как Директории изменяют сами ее члены и предают ее заговорам фракций. Он доказывал, что до сих пор его поведение и поведение его товарищей было безупречным, что ошибки, им приписываемые, есть не что иное, как клевета. Затем Ларевельер прямо напал на Сийеса за его тайные замыслы и привел его в большое замешательство своими запальчивыми обращениями. Всё это время Баррас хранил глубокое молчание. Положение его было затруднительным, так как он один заслуживал тех упреков, которыми осыпали его товарищей. Требовать от них отставки за вины, принадлежавшие не им, а ему одному, было бы слишком щекотливо. Итак, он молчал. Расстались, ни в чем не согласившись. Мерлен, не осмеливавшийся принять самостоятельного решения, объявил, что последует примеру Ларевельера. Дабы добиться отставки двух своих сотоварищей, Баррас решился прибегнуть к посредничеству третьего лица. Для этой цели он воспользовался бывшим жирондистом Бургоэном, которого привлекла к нему в свое время склонность к наслаждениям. Баррас поручил ему повидаться с Ларевельером и склонить его к отставке. В ночь на 18 июня (30 прериаля) Бургоэн явился к Ларевельеру, взывал к старой дружбе и применил все средства, чтобы поколебать его. Он уверял, что Баррас любит его, почитает, находит его удаление несправедливостью, но заклинает уступить, дабы не вызвать бури. Ларевельер остался непоколебим. Он отвечал, что Баррас обманут Сийесом, Сийес – Баррасом, а они оба – Бонапартами; что они желают погибели Республики, но он будет тому сопротивляться до последнего вздоха. На следующий день назначили было вступление в должность Гойе. Собрались четыре директора; присутствовали все министры. Едва церемония вступления в должность была окончена, произнесены речи президента и нового директора, как вернулись к вопросу, поставленному накануне. Баррас отвел в сторону Ларевельера, и они оба перешли в соседнюю залу. Баррас возобновил прежние настояния и встретил в своем сотоварище то же упорство. В замешательстве из-за того, что ничего не добился, он возвратился в залу, по-прежнему опасаясь обсуждения образа действий Директории. Не осмеливаясь напасть на Ларевельера, Баррас необдуманно напустился на Мерлена, выставляя его как какого-то хвастуна, замышлявшего в собрании забияк государственный переворот против своих сотоварищей и советов. Придя на помощь к Мерлену, Ларевельер стал защищать его и доказал всю нелепость подобных обвинений. В самом деле, в юрисконсульте Мерлене не было ничего похожего на только что нарисованный портрет. Баррас пребывал в страшном смущении; наконец он встал со словами: – Ну так кончено, сабли обнажены. – Презренный, – отвечал ему Ларевельер с твердостью, – что такое ты говоришь о саблях? Здесь разве только ножи, и они направлены против безупречных людей, которых вы хотите зарезать, не имея возможности склонить их к малодушию. Гойе желал стать примирителем, но не преуспел в том. В это время многие члены обоих советов пришли просить директоров уступить, обещая, что против них не будут направлять обвинительный акт. Ларевельер с гордостью отвечал им, что вовсе не ожидает милости, что его могут обвинять и он представит свои оправдания. Депутаты, взявшиеся за это поручение, возвратились обратно и вызвали в советах новое волнение рассказом обо всем происшедшем. Буле де ла Мёрт обличил Ларевельера, признал его честность неуместной в данное время, приписал ему планы введения новой религии и обвинил в упрямстве, которое, по его словам, погубит Республику. Патриоты высказались с большей пылкостью, чем когда-либо, и говорили, что так как директоры упорствуют, их не следует щадить. Волнение дошло до крайнего предела, борьба уже началась, и нельзя было определить, до чего она дойдет. Многие умеренные из обоих советов собрались и решили вновь идти заклинать Ларевельера уступить перед бурей – во избежание несчастий. Они явились к нему ночью и умоляли его, именем опасностей, грозивших отечеству, подать в отставку. Они сказали ему, что всем им грозит беда и что если он будет продолжать упорствовать, то они не знают, до чего может дойти ярость партий. «Но разве вы не видите, – отвечал им Ларевельер, – еще больших бедствий, которые грозят Республике? Не видите ли вы, что не нас с вами хотят тронуть, но Конституцию; что, уступив сегодня, придется уступить завтра и так далее, и что Республика погибнет через наше малодушие? Моя должность тяготит меня, и если я сегодня упорствую в удержании ее за собою, то лишь потому, что считаю своей обязанностью поставить непреодолимую преграду заговорам фракций. Однако если вы все считаете, что мое сопротивление подвергает вас опасности, то я уступаю; но вам я объявляю – Республика погибла. Один человек не может ее спасти; а поскольку я остаюсь один – я уступаю и передаю вам мою отставку». Он потребовал отставки ночью, в простом письме, с достоинством выражающем его побуждения. Мерлен попросил позволить ему списать это письмо, и обе отставки были отправлены одновременно. Так была распущена старая Директория. Все фракции, которые она пробовала сократить, объединились для ее ниспровержения, и общими усилиями им удалось достичь желаемого. Вина Директории одна: она была слабее вооружившихся против нее фракций; правда, это вина огромная, и она оправдывает падение любого правительства. Несмотря на общие нападки, Ларевельер унес с собой уважение всех просвещенных граждан. Выходя из состава Директории, он не желал получить сто тысяч франков, которые его товарищи условились выдавать убывающему члену; он не получил даже части; не взял и кареты, которая также предоставлялась по обычаю. Он удалился жить в Андильи, в маленьком принадлежавшем ему домике, и принимал там всех значительных людей, которые не боялись ярости партий. В частности, министр Талейран был из числа посещавших Ларевельера в его убежище.
Глава LXII
Образование новой Директории – Набор всех классов конскриптов – Принудительный заем в 100 миллионов – Новые планы военных действий – Возобновление операций в Италии – Высадка англо-русских войск в Голландии – Новые беспорядки внутри страныС годами партии теряют свою силу и склонность к крайностям, но для этого все-таки должно пройти много лет. Страсти угасают лишь с сердцами, в которых они возгорелись в свое время. Только по исчезновении целого поколения от притязаний партий остаются законные интересы, и время уже может привести к естественному и разумному соглашению между ними. Но до этих пор партии не могут подчиняться только силе разума: правительство, которое захотело бы говорить с ними языком справедливости и законности, сделалось бы вскоре невыносимым, и чем более оно было бы умеренно, тем более его презирали бы как слабое и бессильное; а пожелай оно, найдя сердца глухими к увещеваниям, применить силу, его объявят тираническим и скажут, что со слабостью оно соединяет злобу. В ожидании действия времени один только деспотизм может усмирить раздраженные партии. Директория была таким законным и умеренным правительством, желавшим подчинить законам партии, вызванные революцией и не истощившиеся в течение пяти лет борьбы и реакции. Партии вступили в коалицию и вызвали ее падение. Но по ниспровержении общего врага они очутились лицом друг к другу, без всякого постороннего сдерживающего влияния; далее увидим, как они повели себя в этом случае. Хотя конституция была не более чем призраком, она не была уничтожена; следовало заменить ниспровергнутую Директорию. Гойе занял место Трельяра; предстояло назначить преемников Ларевельеру и Мерлену; избрали Роже-Дюко и Мулена. Роже-Дюко был старым жирондистом, человеком честным, но мало способным и целиком преданным Сийесу. Мулен был малоизвестным генералом, некогда действовавшим в Вандее; он, как и Гойе, был назначен благодаря партии патриотов. Были предложены и другие, более известные лица, как гражданские, так и военные, но они были забаллотированы. Вследствие подобного выбора становилось ясно, что партия не желает себе господ; в Директорию были введены только посредственности, обычная роль которых сводилась к временной опоре в голосовании. Новая Директория, составленная, как и советы, из противоположных партий, была еще слабее и еще менее однородна, чем предыдущая. Сийес, единственный из пяти директоров человек с выдающимися способностями, мечтал, как мы видели, о новой политической организации. Он был главой партии, называвшейся умеренной и конституционной, и тем не менее все члены ее желали новой конституции. Преданным товарищем Сийеса был один лишь Роже-Дюко. Мулен и Гойе, оба горячие патриоты, неспособные представить себе ничего иного, кроме того, что уже существует, желали сохранить настоящую конституцию, но только исполнять и толковать ее в пользу патриотов. Что касается Барраса, призванного склонять большинство в ту или другую сторону, кто мог на него рассчитывать? Этот хаос пороков, страстей, интересов, противоположных идей, картину которых представляла умирающая Республика, служил как бы живым его воплощением. Итак, большинство, зависевшее от голоса Барраса, отдавалось случайности. Сийес достаточно ясно сообщил своим сотоварищам, что принимает на себя руководство правительством, которому угрожает близкое падение, но что следует по крайней мере спасти Республику, если уже нельзя спасти Конституцию. Слова эти не понравились Гойе и Мулену и были дурно приняты ими. Таким образом, с первого же дня между директорами осталось мало согласия. С такими же возражениями Сийес обратился к Жуберу, генералу, которого хотели привлечь в ряды партии реорганизации. Но Жубер, старый солдат Итальянской армии, разделял ее чувства; он был горячим патриотом, и виды Сийеса показались ему подозрительными. Он тайно сообщил о них Гойе и Мулену и, по-видимому, был вполне предан им. Впрочем, все эти вопросы могли возникнуть только впоследствии; делом же настоятельной необходимости было управление и защита угрожаемой республики. Распространившаяся повсюду весть о сражении при Треббии беспокоила всех. Нужно было прибегнуть к серьезным мерам общественной безопасности. Первой заботой правительства является необходимость поступать обратно своему предшественнику, хотя бы из повиновения страстям, давшим ему в руки власть. Шампионне, столь восхваляемый герой Неаполя, Жубер и Бернадотт должны были выйти из немилости и занять высшие должности. Шампионне немедленно возвратили свободу и назначили главнокомандующим новой армии, которую предполагали образовать вдоль хребта Альп. Бернадотту поручили управление военным министерством. Жубера назначили главнокомандующим Итальянской армией; его победы в Тироле, его молодость игеройский характер внушали самые великие надежды. Партия обновления также желала ему успехов и славы, чтобы он мог иметь возможность поддержать ее планы. Выбор Жубера был, без сомнения, хорош, но он стал новой несправедливостью в отношении Моро, столь великодушно принявшего командование над разбитой армией и так искусно ее спасшего. Но Моро не был приятен торжествовавшим в эту минуту горячим патриотам; его назначили главнокомандующим предполагаемой Рейнской армией, еще не существовавшей. Сделаны были, кроме того, назначения в правительстве. Министр финансов Рамель, оказывавший столь большие услуги с самого основания Директории, управлявший финансами в затруднительное переходное время от бумажных к наличным деньгам, вызывал ту же ненависть, с какой относились к старой Директории; на него набросились так неистово, что, несмотря на всё уважение к нему новых директоров, они были вынуждены принять его отставку. Преемником Рамеля назначили человека, дорогого патриотам и уважаемого всеми партиями, – Робера Ленде, бывшего члена Комитета общественного спасения, подвергнувшегося таким неприличным нападкам во время реакции. Он долго отказывался от предлагаемого портфеля: тот опыт, который он вынес относительно несправедливости партий, мало склонял его вновь принять участие в управлении; однако в конце концов он согласился из преданности Республике. Дипломатию Директории осуждали не менее ее управления финансами. Ее обвиняли в том, что она вовлекла Францию в войну со всей Европой, обвиняли совершенно неосновательно, если принять во внимание то, кем были обвинители: и в самом деле, это были патриоты, страсти которых и вызвали войну. Особенно Директорию упрекали за экспедицию в Египет, прежде столь восхваляемую, и утверждали, что именно эта экспедиция привела к разрыву с Портой и Россией. И без того неприятный патриотам как бывший эмигрант министр Талейран нес ответственность за эту дипломатию, а потому подвергся таким нападкам, что Директория была вынуждена поступить с ним как с Рамелем и принять его отставку. Преемником назначили уроженца Вюртемберга, которого Талейран рекомендовал как человека наиболее способного, – господина Рейнгардта, скрывавшего под оболочкой немецкого добродушия замечательный ум. Говорили, что назначение это лишь временное и Рейнгардт останется на своем месте лишь до той поры, когда можно будет вновь призвать Талейрана. Министерство юстиции было отнято у Ламбрехтса вследствие дурного состояния здоровья последнего и поручено Камбасересу. В полицию назначили Бургиньона, бывшего члена суда, патриота искреннего и честного. Фуше, этот пронырливый и вкрадчивый бывший якобинец, которому Баррас дал возможность участвовать в прибылях компаний, а затем предоставил посольство в Милане, – Фуше, смененный вследствие своего поведения в Италии, тоже считался жертвой прежней Директории и был отправлен в Гаагу. Таковы были главные изменения в личном составе правительства и армий. Но мало было переменить людей, нужно было доставить новые средства выполнить задачу, неудачное решение которой раздавило их предшественников. Патриоты, по своему обыкновению возвращаясь к революционным мерам, утверждали, что большие несчастья нужно исправлять великими же средствами. Они предлагали чрезвычайные меры 1793 года. Отказывая во всем прежней Директории, они желали дать всё новой, предоставить ей право прибегать к чрезвычайным мерам и даже принудить ее к этому. Комиссия одиннадцати, которой было поручено изыскать средства к спасению Республики, вступила в соглашение с членами Директории и постановила различные меры, ставшие отражением общих настроений. Вместо набора двухсот тысяч человек с пяти классов конскриптов Директория могла призвать под знамена все эти пять классов; вместо налогов, предложенных прежней Директорией и отвергнутых с таким ожесточением обеими оппозициями, придумали еще и принудительный заем. Шкалу, согласно системе патриотов, приняли прогрессивную, – то есть, вместо того чтобы заставить каждого доплатить известную часть сверх прямых налогов, что облегчило бы расчеты, так как основанием их могли бы тогда служить списки поземельного и личного налога, принуждали платить соответственно своему состоянию. В таком случае приходилось прибегать к присяжным оценщикам, то есть облагать богатых с помощью комиссии. Умеренная партия оспаривала этот проект и говорила, что он означает возобновление террора, что затруднительность раскладки сделает эту меру бесполезной, как и предыдущие принудительные займы. Патриоты отвечали, что военные издержки должны падать не на все классы, но только на богатых. Можно видеть, что те же страсти всегда прибегают к тем же доводам. Принудительный заем был декретирован; его определили в сто миллионов и объявили обеспеченным национальными имуществами. Кроме этих мер приходилось принять также полицейские меры против возобновления шуанства на юге и в западных департаментах – театре бывшей междоусобной войны. Там снова начинался разбой: убивали скупщиков национальных имуществ, людей, считавшихся патриотами, государственных чиновников, а главным образом останавливали и грабили дилижансы. Между виновниками этих разбоев было много прежних вандейцев и шуанов, много членов известных обществ, а также много непокорных конскриптов. Хотя эти разбойники, присутствие которых служит признаком общественного распада, имели единственною целью грабежи, тем не менее по выбору их жертв становилось понятно, что происхождение их является политическим. Была назначена комиссия, чтобы придумать наказание; комиссия предложила закон, названный законом о заложниках, который и стал знаменит под этим названием. Поскольку большая часть этих грабежей приписывалась родственникам эмигрантов или бывших дворян, то их вынуждали отдавать заложников. Всякий раз, как становилось известно, что в общине начинаются беспорядки, родственники эмигрантов и бывших дворян, потомки лиц, участие которых в волнениях было доказано, становились заложниками и как лично, так и своим имуществом отвечали за совершенные преступления. Администрации департаментов предоставлялось определять, кто должен служить заложником, и заключать их в отводимые специально для этой цели помещения. Они должны были жить там за свой счет и оставаться в заключении во всё время беспорядков. Когда беспорядки доходили до убийств, за каждое убийство должны были быть отправлены в ссылку четверо заложников. Ясно всё, что можно сказать как за, так и против этого закона. Сторонники его говорили, что это единственное средство для наказания виновных в беспорядках и что в то же время это средство мягкое и человечное. Противники отвечали, что это тот же закон о подозрительных, революционный закон, который, будучи бессилен открыть истинных виновников, поражает всех и совершает обычную для всех законов такого рода несправедливость. Имелось и другое возражение, более существенное. Эти разбойники стали результатом общественного распада, единственным способом излечения которого была реорганизация государственной власти, а не потерявшие всякую репутацию меры, нисколько не способные возвратить энергию пружинам правительства. После довольно горячего обсуждения закон этот был принят, что вызвало явный и открытый разрыв между партиями, вступившими было между собой в соглашение для ниспровержения прежней Директории. К этим важным мерам, целью которых было вооружить правительство революционными средствами, добавили другие, которые, напротив, в известном отношении ограничивали могущество правительства; средства эти стали следствием упреков, сделанных прежней Директории. Во избежание разделения выборов в будущем решили, что пожелания какой бы то ни было избирательной фракции будут лишены силы; за влияние на выборы правительственные чиновники будут наказываться как за покушение на самодержавие народа; Директория не может использовать регулярные войска для подавления беспорядков внутри страны без специального на то разрешения; ни один военный не может лишиться своего чина без определения военного суда; присвоенное Директории право арестовывать не может передаваться ее агентам; ни один из служащих или чиновников не может быть подрядчиком или даже принимать какое-либо участие в подрядах и поставках; наконец, клубы могут быть закрыты только по решению центральных и муниципальных управлений. По поводу закона о печати не смогли прийти ни к какому соглашению; тем не менее статья закона 19 фрюктидора, предоставлявшая Директории право запрещать газеты, оставалась удаленной, и в ожидании нового закона печать была совершенно свободна. Таковы были меры, принятые вслед за 30 прериаля, как для устранения предполагаемых злоупотреблений, так и чтобы придать правительству силы, которой ему пока недоставало. Эти меры, к коим прибегают в минуты кризисов для спасения государства, редко успевают спасти его; часто всё решается прежде, чем их приводят в исполнение. По большей части они доставляют лишь средства для будущего. Принудительный заем в сто миллионов и новые сборы не могли быть исполнены ранее, чем через несколько месяцев. Тем не менее действие кризиса заключается в том, что он дает толчок всем пружинам и возвращает им известную энергию. Бернадотт поспешил написать несколько настойчивых циркуляров, и ему удалось ускорить уже начатую организацию батальонов конскриптов. Робер Ленде, которому заем в сто миллионов не доставлял никаких средств для настоящей минуты, собрал главных банкиров и значительнейших лиц торгового сословия столицы и пригласил их ссудить государству кредит. Они согласились позволить министерству финансов воспользоваться их подписью. Был образован синдикат, и в ожидании поступления налогов начали подписывать билеты, уплата по которым должна была производиться по мере получения казначействами доходов; так образовали как бы временный банк для потребностей минуты. Хотели также составить новые планы военных действий; потребовали соответствующий проект у Бернадотта, который поспешил представить весьма странный план, к счастью, не приведенный в исполнение. Столь обширный театр военных действий, естественно, был способен вызывать в высшей степени разнообразные комбинации; при взгляде на него каждый имел различное мнение, и если бы только каждый мог предлагать свое мнение и заставить его принять, то пришлось бы менять план ежеминутно. Если при обсуждении разнообразие мнений полезно, то оно в высшей степени пагубно при исполнении плана. Вначале думали, что следует действовать одновременно и на Дунае, и в Швейцарии. После сражения при Штокахе решили действовать только в Швейцарии и сократили Дунайскую армию. Теперь же Бернадотт думал иначе: он утверждал, что причина успеха союзников заключается в легкости сообщения их между Германией и Италией через Альпы. Чтоб прервать эти сообщения, он желал отнять у них Сен-Готард и Граубюнден с помощью правого крыла Швейцарской армии, и вместе с тем – образовать новую Дунайскую армию, которая перенесла бы войну в Германию; для последней цели Бернадотт предполагал поторопить организацию Рейнской армии и усилить ее двадцатью тысячами, взятыми у Массена, то есть поставить того перед опасностью быть раздавленным всеми силами эрцгерцога. Правда, недурно было бы перенести войну на Дунай, но для этой цели достаточно было дать Массена средства перейти в наступление, и тогда его армия сама сделалась бы Дунайской: надлежало соединить всё в его руках, но не ослаблять его. По плану Бернадотта вдоль альпийского хребта должна была быть сформирована армия для прикрытия границы против австро-русских войск со стороны Пьемонта, а Жубер, с остатками итальянских армий и войсками, присланными изнутри страны, должен был дебушировать из Апеннин и атаковать Суворова. Этот план, одобренный Муленом, был отправлен главнокомандующим. Массена, уставший от нелепых планов, просто подал в отставку. Ее не приняли, но и план не был приведен в исполнение. Массена удержал командование всеми войсками от Базеля до Сен-Готарда. Тем не менее упорствовали в стремлении собрать армию на Рейне для прикрытия этой границы. Образовали ядро армии в Альпах под командованием Шампионне. Все подкрепления, какими могли располагать, послали Жуберу, который должен был дебушировать из Апеннин. Дело было в середине лета, начинали подходить подкрепления. Часть старых батальонов, удержанных внутри страны, направлялась к границам. Конскрипты организовались и готовы были заменить старых солдат в гарнизонах. Поскольку кадров для значительного числа конскриптов недоставало, придумали увеличить число батальонов в полубригадах или полках, что позволяло зачислять новые наборы в старые части. Известно было, что тридцать тысяч русских под командованием генерала Корсакова идут в Германию. Генерала Массена торопили атаковать эрцгерцога, чтобы постараться разбить его до соединения с русскими. В этом правительство было совершенно право, так как следовало сделать попытку до соединения таких значительных сил. Однако Массена отказывался начать наступление – недоставало ли тут ему его обычной смелости, или он ожидал открытия наступательных военных действий в Италии. Военные осуждали его бездействие, которое, однако, впоследствии сделалось весьма счастливым и было заглажено бессмертными заслугами. Однако чтобы повиноваться настояниям правительства и исполнить часть плана Бернадотта, заключавшегося в том, чтобы препятствовать австро-русским войскам сообщаться с Италией, Массена приказал Лекурбу растянуть правое крыло до Сен-Готарда, завладеть этим важным пунктом и вновь занять Граубюнден. Посредством этой операции альпийские хребты переходили в руки французов и неприятельские армии, действовавшие в Германии, теряли возможность сообщаться с действовавшими в Италии. Лекурб выполнил это предприятие с неустрашимостью и смелостью, отличавшими его в горной войне, и стал обладателем Сен-Готарда.
Между тем новые события приготовлялись в Италии. Суворов, вынуждаемый венским двором завершить осаду всех крепостей, не воспользовался победой при Треббии. Даже вполне согласуясь с инструкциями, он мог обеспечить себе достаточную массу сил, чтобы окончательно рассеять остатки наших войск; но для действий такого рода ему недоставало гения военных комбинаций. Итак, он тратил время на осады. Пескьера, Пичигетоне, Миланская цитадель пали; Туринскую цитадель вскоре постигла та же участь. Две знаменитые крепости – Мантуя и Алессандрия – еще держались и заставляли предполагать долгое сопротивление. Край осаждал Мантую, а Бельгард – Алессандрию. К несчастью, все наши крепости были поручены комендантам или лишенным энергии, или без надлежащего образования. Артиллерия действовала дурно, так как в крепостях оставили совершенно расстроенные части; отступление наших армий за Апеннины значительно ослабляло мужество их защитников. Важнейшая из этих крепостей, Мантуя, не стоила той репутации, какую ей снискали кампании Бонапарта. Не собственная ее сила, но комбинация событий продолжила ее защиту. И в самом деле, Бонапарт с десятком тысяч солдат заставил умирать в крепости от лихорадок и голода сорок тысяч человек. Теперь комендантом ее был генерал Латур-Фу-ассак. Это был инженерный офицер, но он не имел необходимой энергии для такого рода обороны. Приведенный в уныние строением крепости и дурным состоянием ее оград, он не счел возможным заменить этот недостаток своей смелостью. К тому же гарнизон был недостаточно силен и уже после первых приступов склонялся к сдаче. В Алессандрии командовал генерал Гардан, он был решителен, но недостаточно образован. Он отразил первый приступ, но не сумел отыскать в крепости средства, какие могли бы ему помочь. Наступила середина июля (термидор), больше месяца уже протекло после революции 30 прериаля и назначения Жубера. Моро чувствовал всю важность наступления до падения крепостей и необходимость выйти против рассеянных австро-русских сил с подкрепленной и реорганизованной армией. К несчастью, он был связан приказаниями правительства, предписывавшими ему ждать Жубера. Таким образом, в продолжение этой несчастной кампании ряд несвоевременных приказаний повлек за собою все наши неудачи. Перемена намерений и планов, особенно на войне, гибельна всегда. Если бы Моро, которому должны были с самого начала поручить командование, получил бы его по крайней мере со дня сражения при Кассано, – всё было бы спасено; но он не имел возможности исправить наши несчастья и восстановить честь нашего оружия. Жубер, которого женитьбой и ласками хотели привязать к партии, замышлявшей реорганизацию правительства, потерял целый месяц на празднование свадьбы и таким образом упустил решительный случай. Он остался предан патриотам, его лишь заставили бесполезно потерять драгоценное время. Жубер отправился, сказав молодой супруге: «Ты увидишь меня мертвым или победителем». Он и в самом деле поехал с геройской решимостью победить или умереть. Прибыв в армию в первых числах августа (в середине термидора), этот благородный молодой человек выказал самую большую уступчивость в отношении испытанного учителя, преемником которого должен был стать. Он просил его остаться в роли советника. Моро, столь же великодушный, как и молодой главнокомандующий, охотно согласился присутствовать при его первом сражении и помогать ему своими советами: благородное и трогательное сотоварищество, которое делает честь добродетелям наших республиканских генералов; оно принадлежит тому времени, когда патриотическое рвение преобладало над честолюбием в сердцах наших воинов! Французская армия, составленная из остатков Итальянской и Неаполитанской армий и подкреплений, присланных из Франции, составляла до 40 тысяч человек, совершенно реорганизованных, и тем не менее горела желанием вновь помериться силами с неприятелем. Ничто не могло сравниться с патриотизмом этих солдат, которые, даже разбитые, не теряли бодрости и требовали, чтобы их вновь вели сражаться. Ни одна республиканская партия не заслужила большего, так как ни одна лучше не отвечала на несправедливый упрек французам в неумении переносить переменчивость военной удачи. Правда и то, что этой твердости она была частично обязана храброму и скромному генералу, пользовавшемуся ее полным доверием, но которого у нее постоянно отнимали в минуту, когда он должен был возвратить ее к победе. Сорок тысяч Жубера были независимы от 15 тысяч Шампионне, которые должны были стать ядром Альпийской армии. Они дебушировали из долины Бормиды на Акви и из Боскетты на Гави и расположились перед рекой Нови. Эти 40 тысяч человек, дебушировав вовремя, могли бы иметь решительный успех; но Алессандрия открыла свои ворота 22 июля (4 термидора); распространился слух, что то же сделала и Мантуя. Эта печальная весть скоро подтвердилась; капитуляцию подписали 30 июля (12 термидора). Край должен был присоединить свои 30 тысяч к Суворову, и общая масса австро-русских сил дошла до 60 с лишним тысяч человек. Итак, Жубер не мог иметь равных шансов на успех в борьбе с превосходящим его неприятелем. Он собрал военный совет; общее мнение было отступить за Апеннины и ограничиться обороной в ожидании новых подкреплений. Жубер был готов исполнить это решение, когда Суворов опередил его и принудил принять сражение. Французская армия расположилась полукругом на скатах Монтеротондо, над долиной Нови. Левое ее крыло, дивизии Груши и Лемуана, было протянуто к Пастуране; позади находилась лощина Риаско, которой неприятель мог воспользоваться, чтобы выйти французам в тыл. За крылом расположился кавалерийский резерв Ришпанса. В центре дивизия Лабуассьера занимала высоты у города Нови. Дивизия Ватрена, на правом крыле, защищала подступы к Монтеротондо из Тортоны. Дивизия Домбровского окружала Серравалле. Генерал Периньон командовал левым крылом, Сен-Сир – центром и правым крылом. Позиция была сильна, хорошо защищена на всех пунктах и труднодоступна; но необходимость сражаться с 40 тысячами против 60 делала положение французов крайне невыгодным. Суворов решился атаковать позицию с обычной своей пылкостью; он направил на наше левое крыло Края с дивизиями Отта и Бельгарда; русский корпус Дерфельдена с авангардом Багратиона должен был атаковать наш центр у Нови; а Мелас, поставленный сзади с оставшейся частью армии, – ударить в наше правое крыло. Вследствие этой странной комбинации предполагалось вести атаки последовательно, а не одновременно. Край начал атаку 15 августа (28 термидора) в пять часов утра. Бельгард атаковал дивизию Груши на крайнем левом крыле, а Отт – дивизию Лемуана. Эти дивизии, не успевшие еще выстроиться, чуть не были захвачены врасплох и смяты. Упорное сопротивление одной полубригады заставило Края кинуться на 20-ю легкую, которую он и раздавил, направив против нее свое основное усилие. Его войска уже утвердились на плато, когда Жубер прискакал на место действия. Не время было думать об отступлении, следовало решиться на всё, чтобы согнать неприятеля с плато. Выдвинувшись вперед и ободряя застрельщиков, Жубер был ранен в грудь и упал с лошади. Уже на последнем издыхании молодой герой кричал своим солдатам: «Вперед, мои друзья! Вперед!» Этот случай мог бы привести в расстройство всю армию, но, к счастью, Жубера сопровождал Моро. Он немедленно принял командование и повел пылавших жаждой мести солдат на австрийцев. Гренадеры 34-й полубригады прогнали их штыками и сбросили с холма. К несчастью, артиллерия французов еще не заняла своей позиции, австрийцы же, напротив, засыпали их ряды градом ядер и картечи. Между тем Бельгард старался обогнуть крайнее левое крыло через лощину Риаско, которая, как было сказано, выходила нам в тыл. Он уже выдвинулся вперед, когда Периньон противопоставил ему резерв под командованием генерала Клозеля, и тот остановил неприятеля. Периньон повел в атаку гренадеров Партоно и кавалерию Ришпанса и окончательно опрокинул его в равнину. Этот смелый удар освободил левое крыло. Наш центр еще не был атакован. Сен-Сир получил время сделать распоряжения и приблизить к Нови дивизию Ватрена, образовавшую крайнее правое крыло. По настоянию Края, который требовал, чтобы его поддержали атакой в центре, Багратион наконец решил ударить по французам авангардом. Дивизия Лабуассьера, слева от Нови, подпустила войска Багратиона почти на ружейный выстрел, а затем открыла страшный картечный и ружейный огонь. Багратион, нисколько не поколебавшись, направил несколько батальонов обойти Нови у нашего правого крыла; но, встреченные дивизией Ватрена, они были отброшены в долину. Была уже середина дня, а нашу линию еще нигде не сбили. Суворов прибыл с русским корпусом Дерфельдена и приказал вести новую общую атаку по всей линии. Край должен был вновь кинуться на наше левое крыло; Дерфельден и Багратион – на центр; Мел ас – поторопить свое движение и ударить в наше правое крыло. Заняв назначенные места, вся неприятельская линия двинулась вперед. Край, обходя наше левое крыло, старался ударить его с фронта дивизией Отта; но резерв Клозеля отразил удар Бельгарда, а дивизия Лемуана опрокинула Отта с холмов. Тогда в центре Суворов производит яростную атаку вправо и влево от Нови. Дивизия Ватрена, также как и утром, расстраивает новую попытку обойти этот город. К несчастью, наши солдаты, увлеченные своей пылкостью, слишком живо пускаются преследовать неприятеля и вынуждены возвратиться на свою позицию. К часу, вследствие общей усталости, огонь слабеет, но вновь загорается, и в течение еще четырех часов французы с замечательным хладнокровием выдерживают яростные атаки русских. Они еще мало пострадали; потери же австро-русских войск огромны. Равнина завалена мертвыми и ранеными. К несчастью, остальная часть австро-русской армии подходит под командованием Меласа из Ривальты. Этим новым силам предстоит атаковать наше правое крыло. Заметив это, Сен-Сир отводит дивизию Ватрена, которая слишком выдалась вперед, и направляет ее на плато вправо от Нови. Но в это время ее уже окружают со всех сторон многочисленные войска Меласа: это приводит дивизию в смятение, она расстраивается и в беспорядке собирается на плато. Между тем Суворов, удвоив усилия в центре у Нови, отбрасывает наконец французов в город и завладевает высотами справа и слева. С этой минуты Моро, считая отступление неизбежным, приказывает начать его, дабы новые успехи неприятеля не отрезали сообщения с Гави. Дивизия Ватрена принуждена пробиваться, чтобы выйти на дорогу в Гави, уже занятую. Дивизия Лабуассьера отступает из Нови; дивизии Лемуана и Груши отходят на Пастурану, выдерживая отчаянные атаки Края. К несчастью, неприятельскому батальону удается выйти в тыл Пастураны. Огонь его приводит в беспорядок наши колонны; артиллерия, кавалерия – всё приходит в расстройство. Теснимая неприятелем, дивизия Лемуана рассеивается и бросается в лощину. Периньон и Груши собирают несколько отважных солдат и пытаются остановить неприятеля, чтобы спасти артиллерию, но вот они изрублены и взяты в плен, причем Периньон получает семь сабельных ударов, а Груши шесть. Храбрый Колли, отличившийся против нас в первых кампаниях и затем перешедший на службу к французам, строит каре из нескольких батальонов, обороняется до тех пор, пока каре не оказывается проломлено, и весь изувеченный попадает в руки русских. По прошествии этого первого смятения армия собралась перед Гави. Австро-русские войска слишком устали, чтобы преследовать ее. Потери с обеих сторон были одинаковы: до 10 тысяч с каждой стороны; раненых и убитых было гораздо больше в австро-русской армии, французы же потеряли значительно больше пленными, а также своего главнокомандующего, четырех дивизионных генералов, тридцать семь орудий и четыре знамени. Никогда еще они не проявляли столько холодного и упорного мужества. Русские выказали фанатичную храбрость, но обязаны были своим успехом превосходству сил, а не комбинациям своего генерала. Это гибельное сражение окончательно лишило нас Италии и не позволяло более вести боевые действия; нам приходилось запереться в Апеннинах и еще считать себя удачливыми, если возможно будет в них удержаться. Поражение вменялось в вину не Моро, но злосчастному соединению Края с Суворовым, а также промедлению Жубера.
Наши несчастья не ограничились сражением при Нови. Возвещаемая прежде экспедиция в Голландию наконец началась совместно англичанами и русскими. Павел I заключил с Питтом договор, по которому обязывался выставить для действий в Голландии 17-тысячный корпус, а Англия обязывалась содержать его за свой счет. За устранением многих препятствий экспедиция была наконец приготовлена к концу августа (начало фрюктидора). С 17 тысячами русских должны были соединиться 30 тысяч англичан, и в случае удачной высадки можно было рассчитывать отнять Голландию у французов. В этом заключался важнейший интерес Англии, и если бы удалось только захватить голландский флот и разорить арсеналы Голландии, то Англия уже могла бы считать свои издержки покрытыми. За русскими в Балтийское море отправилась значительная эскадра. Первое отделение экспедиции вышло в море под командованием генерала Аберкромби и должно было попробовать высадиться первым. По соединении всех экспедиционных войск общее командование должно было перейти к герцогу Йоркскому. Самым удобным пунктом для высадки в Голландии было устье Мааса; в этом случае угрожали линии отступления французов и выходили близко к Гааге, где штатгальтер имел больше всего сторонников. Удобство береговой линии заставило предпочесть Северную Голландию. Аберкромби направился к Гельдеру, куда прибыл к концу августа. Преодолев значительные препятствия, он высадился около Гельдера, в окрестностях Гроте-Кетена, 27 августа (10 фрюктидора). Обширные приготовления, которых требовала экспедиция, и присутствие у берегов английских эскадр заставили французов принять меры предосторожности. Брюн одновременно командовал и батавской, и французской армиями; в его распоряжении находилось не более 7 тысяч французов и 10 тысяч батавских войск под командованием Дендельса. Брюн направил батавскую дивизию в окрестности Гельдера, а французскую расположил около Харлема. Аберкромби, высадившись, встретил голландцев в Гроте-Кетене, оттеснил их и успел обеспечить высадку своих войск. Голландцы при этом не выказали недостатка в храбрости, но не были достаточно искусно управляемы, и им пришлось отступить. Брюн присоединил их к себе и отдал приказ скорейшей атаки. Население Голландии выказывало в отношении французов всяческое расположение. Национальные гвардейцы сами предложили охранять крепости, что позволяло Брюну мобилизовать новые войска. Он притянул к себе дивизию Дюмонсо в 6 тысяч человек и решил атаковать лагерь англичан в первых же числах сентября. Лагерь этот представлял грозную позицию: это был Зип, бывшее болото, высушенное голландской предприимчивостью и представляющее собой обширную местность, пересеченную каналами и покрытую изгородями и жилищами; ее заняли 17 тысяч англичан, очень хорошо на ней укрепившись. Брюн мог их атаковать всего лишь с 20 тысячами человек, чего явно было недостаточно. Он пошел в наступление 8 сентября (22 фрюктидора) и после упорного сражения был вынужден отступить и отойти к Амстердаму. Теперь он уже не мог воспрепятствовать соединению всех англо-русских сил и, чтобы вступить в новое сражение, должен был ждать образования новой французской армии. Утверждение англичан в Северной Голландии повлекло за собою событие, которого следовало опасаться всего более, – потерю голландского флота. Тексел не был заперт, и английский адмирал Митчелл мог пройти через него со всеми своими парусами. Весь голландский флот перешел в руки англичан, что стало для них огромной победой.
Эти вести одна за другой пришли в Париж и произвели там впечатление, какого и следовало ожидать: они увеличили брожение партий и, главное, разнузданность патриотов, которые с большим жаром, чем когда-либо, требовали применения революционных мер. Свобода, возвращенная газетам и клубам, значительно увеличила число последних. Остатки якобинской партии собрались в бывшей зале Манежа, где заседали первые собрания; хотя закон воспрещал народным обществам проводить собрания, тем не менее общество Манежа назначило себе под другими названиями президента, секретаря и пр. В него входили экс-министр Бушотт, Друэ, Феликс Лепелетье, Арена, то есть все ученики или сообщники Бабёфа. Они взывали к праху Гужона, Субрани и к жертвам Гренельского лагеря; требовали наказания палачей народа, обезоружения роялистов, поголовного ополчения, устройства на публичных площадях оружейных мастерских, возвращения пушек и пик национальным гвардейцам, а также обвинения прежних директоров, которым и приписывали все последние поражения. Когда пришла весть о сражении при Нови и голландских событиях, бешенство не знало пределов: на генералов обрушились оскорбления; Моро называли слепым; самого Жубера, несмотря на его геройскую смерть, обвиняли в потере армии; его молодая супруга, а также Семонвиль и Талейран, которым приписывали этот брак, были осыпаны оскорблениями. Голландское правительство также обвиняли в измене; говорили, что оно составлено из аристократов, приверженцев штатгальтера, врагов Франции и свободы. «Газета свободных людей», печатный орган той же партии, которая собиралась в зале Манежа, повторяла все эти декламации. Такая разнузданность наводила на некоторых ужас; боялись повторения сцен 93 года. Так называемые умеренные, те, кто вслед за Сийесом имели похвальное намерение спасти Францию от ярости партий, дав ей вторую конституцию, негодовали против разнузданности новых якобинцев. Особенно же боялся их Сийес и высказывался против них со всей живостью своего характера. Новые якобинцы и в самом деле могли казаться грозными, потому что, независимо от крикунов и крамольников, расточавших всю энергию в клубах и газетах, имели более храбрых, более могущественных и, следовательно, более опасных сторонников в самом правительстве. Все патриоты в советах, не допущенные в советы в прошлый раз, в более умеренных выражениях повторяли почти то же, что говорилось в обществе Манежа. Они не желали подвергаться риску новой конституции, с недоверием смотрели на людей, желавших взяться за это дело, и опасались, что последние будут искать в генералах поддержки своим планам; сверх того, они хотели, с целью избавить Францию от опасности, прибегнуть к мерам, подобным мерам Комитета общественного спасения. Старейшины, более умеренные вследствие своего положения, мало разделяли эти мнения; но их горячо поддерживали двести членов Совета пятисот; в числе последних были не только такие горячие головы, как Ожеро, но и благоразумные и просвещенные люди, например Журдан. Оба эти генерала придавали значительный вес в Совете пятисот партии патриотов. В Директории партия эта имела два голоса: Гойе и Мулена. Баррас оставался в нерешительности; с одной стороны, он остерегался Сийеса, который оказывал ему весьма мало внимания и считал его окончательно испорченным; с другой – боялся патриотов и их излишеств. Патриоты нашли поддержку в правительстве в лице Бернадотта. Этот генерал высказывался значительно реже, чем большая часть генералов Итальянской армии; нужно вспомнить, что его дивизия по прибытии к Тальямен-то поссорилась с дивизией Ожеро по поводу обращения «господин», которое она заменила словом «гражданин». Но честолюбие делало Бернадотта подозрительным; ему неприятно было видеть доверие, оказываемое Жуберу партией реорганизации; он предполагал, что после смерти этого генерала вспомнят о Моро, и это-то обстоятельство вооружало его против планов реорганизации и заставляло присоединиться к патриотам. Те же расположения выказывал и генерал Марбо, комендант Парижа, горячий республиканец. Таким образом, мы видим двести депутатов, во главе которых стояли два знаменитых генерала; газеты и клубы; значительное число скомпрометированных людей, способных на что угодно, – всё это могло вызывать опасения; и хотя партия монтаньяров не могла возродиться вновь, но понятно, какого рода опасения она могла внушать людям, полным воспоминаний 1793 года. Были не слишком довольны министром Бургиньоном в отношении его руководства полицией; он был хоть и честным гражданином, но мало проницательным и находчивым. Баррас предложил Сийесу свою креатуру, пронырливого и коварного Фуше. Бывший якобинец, вполне посвященный в их тайны, но нисколько не преданный их делу, искавший среди гибели партий только возможности спасти свое положение и состояние, – Фуше более чем кто-нибудь другой был способен шпионить за своими прежними друзьями и защитить Директорию от их планов. Сийес и Роже-Дюко приняли его и назначили министром полиции; при настоящих обстоятельствах это было драгоценное приобретение. Фуше утвердил Барраса в мысли объединиться с партией реорганизации, а не с патриотами, так как последние не имели будущего и в то же время могли увлечь слишком далеко. По принятии этой меры началась война против патриотов. Сийес, имевший большое влияние в Совете старейшин, так как этот совет был составлен из умеренных и политиков, воспользовался своим влиянием, чтобы закрыть общество якобинцев. Зала Манежа входила в число зал дворца старейшин, а так как у каждого совета была своя полиция в черте своего помещения, то старейшины имели право закрыть залу Манежа. Постановлением комиссии инспекторов всякое собрание в этой зале запрещалось. Единственного часового у двери оказалось достаточно, чтобы помешать собранию новых якобинцев; только одно это уже служило доказательством того, что если декламации и были те же, то силы были далеко не те. Изгнанные из залы Манежа, патриоты удалились в обширное помещение на улице Бак и вновь возобновили свои обычные заседания. Исполнительная власть в силу конституции могла распустить это общество. По внушению Фуше Сийес, Роже-Дюко и Баррас решили закрыть его; но Гойе и Мулен возражали, что следует оживлять общественный дух клубами, а общество новых якобинцев, хотя и имеет вздорные головы, но состоит не из опасных мятежников. Мнение их, однако, не было выслушано, и решение приняли; исполнение его было назначено после празднества 10 августа. Сийес был президентом Директории и по этому праву должен был говорить на торжестве. Он произнес замечательную речь, в которой постарался показать опасность, какой угрожают республике новые анархисты, и указал на них как на вредных заговорщиков, мечтающих о новой революционной диктатуре. Присутствующие на церемонии патриоты враждебно встретили эту речь. Сийесу и Баррасу показалось, что мимо их ушей просвистели пули. Они вернулись в Директорию крайне раздраженными; не доверяя властям Парижа, они решили отнять командование у Марбо, которого обвиняли как горячего патриота и участника предполагаемого заговора якобинцев. На его место Фуше предложил Лефевра, храброго генерала, совершенно равнодушного к интригам партий. Марбо был сменен, а на следующий день подписали постановление о закрытии общества на улице Бак. Патриоты и тут не оказали сопротивления, они удалились и окончательно разошлись. Однако им еще оставались газеты. «Газета свободных людей» с крайней запальчивостью выступала против всех членов Директории, одобривших решение о якобинцах. О Сийесе отзывались крайне жестко. Этот вероломный священник, говорили патриотические газеты, продал Французскую республику Пруссии и договорился восстановить во Франции монархию, а королем сделать Брауншвейга. Эти обвинения не имели иного основания, кроме хорошо известного мнения Сийеса о конституции. Он и в самом деле ежедневно повторял, что крамольники и болтуны делают невозможным существование правительства, что власть следует укрепить; что свобода может быть совместима и с монархией и примером тому может служить Англия; но она никак не совместима с последовательным господством всех партий. Ему даже приписывали следующие слова: «На севере Европы много умеренных и благоразумных принцев, которые при сильной конституции могли бы составить счастие Франции». Принадлежало ли на самом деле это выражение Сийесу, неизвестно, но этого было достаточно, чтобы приписать ему заговор, существовавший лишь в воображении его врагов. К Баррасу относились не лучше; уступчивость, которую выказывали к нему патриоты, исчезла; теперь они объявляли его изменником, совершенно испорченным человеком, непригодным ни для одной партии. Его советника Фуше, такого же отступника, преследовали теми же упреками. Роже-Дюко, по их мнению, был не более чем дурак, слепо принимавший мнения двух изменников. Свобода печати оставалась по-прежнему безусловной. Против журналистов можно было воспользоваться разве что законом Конвента: этому закону подлежали все, кто либо поступками, либо сочинениями способствовал ниспровержению Республики. Для применения закона требовалось, чтобы намерение было доказано, и только в таком случае закон определял смертную казнь. Итак, прибегнуть к нему было невозможно. У законодательного корпуса потребовали нового закона и решили немедленно приступить к его обсуждению. Между тем нападки в печати продолжались с прежней пылкостью, и три директора, составлявшие большинство, объявили, что при таких условиях управлять страной невозможно. Они решили применить к этому случаю 144-ю статью Конституции, предоставлявшую Директории право давать предписания об аресте виновников или их соучастников в заговоре против Республики. Применять эту статью к журналистам значило истолковывать ее превратно. Однако так как секвестром печатных станков и личными арестами можно было ослабить вред, причиняемый этими сочинениями, большинство Директории дало предписание об аресте издателей одиннадцати газет и о наложении печатей на их станки. Постановление было подписано 3 сентября (17 фрюктидора) в зале законодательного корпуса и произвело взрыв неудовольствия среди патриотов. Кричали о государственном перевороте, диктатуре и прочем. Таково было положение вещей. В Директории, в советах – повсюду умеренные и политики боролись с патриотами. Первые имели большинство как в Директории, так и в советах. Патриоты составляли меньшинство, но были горячи и создавали достаточно шума, чтобы напугать своих противников. К счастью, средства одряхлели так же, как и партии, и противники могли вызвать друг у друга гораздо более страха, чем причинить реального зла. Директория два раза закрывала новое общество якобинцев и запрещала их газеты; патриоты кричали, но не имели ни достаточно смелости, ни достаточно сторонников для нападения на правительство. В этом положении, длившемся уже в течение трех месяцев, пришли было к мысли о примирении. Многие депутаты предложили встречу с членами Директории, чтобы объясниться и прекратить взаимные пререкания. «Мы все любим свободу, – говорили они, – мы все желаем спасти ее от опасностей, перед которыми ее ставят поражения наших армий; так постараемся же согласиться в выборе мер, так как этот выбор есть единственная причина нашего несогласия». Свидание происходило у Барраса. Нет и не может быть примирения между партиями, для этого они должны были бы отказаться от своих целей, что не может быть достигнуто одним разговором. Депутаты-патриоты жаловались, что каждый день говорят о заговорах, что сам президент Директории ежедневно указывает на опасных людей, замышляющих гибель Республики. Они просили указать, что это за люди, чтобы их нельзя было смешать с патриотами. Сийес, к которому обратились с этим вопросом, напомнил о поведении народных собраний и указал на опасности новой анархии. Его вновь просили назвать имена анархистов, чтобы объединиться для борьбы с ними. – Как же мы объединимся против них, – сказал Сийес, – когда ежедневно члены законодательного корпуса с трибуны поддерживают их? – Так, значит, вы на нас нападаете?! – немедленно возразили депутаты. – Когда мы хотим объясниться с вами, вы нас оскорбляете и отталкиваете! С возникновением раздражения немедленно расстались – скорее с угрожающими, нежели с примирительными словами. Непосредственно вслед за этим свиданием Журдан составил проект важного предложения – объявить отечество в опасности. Это объявление влекло за собою поголовное вооружение и многие революционные меры. Оно было представлено Совету пятисот 13 сентября (27 фрюктидора). Умеренная партия горячо восстала против него, утверждая,что эта мера уменьшит власть правительства, возбуждая преувеличенные опасения и волнения. Патриоты утверждали, что нужно устроить сотрясение, чтобы пробудить общественный дух и спасти революцию. Люсьен Бонапарт, Буле де ла Мёрт и Шенье горячо ее оспаривали и добились того, что ее отложили до следующего дня. Патриоты клубов в смятении окружили дворец пятисот и оскорбляли депутатов. Распространился слух, что подстрекаемый патриотами Бернадотт готов сесть на лошадь и немедленно устроить переворот. Несомненно, многие из крамольников партии склоняли его к этому; можно было опасаться, что он даст себя увлечь. Баррас и Фуше отправились к Бернадотту для объяснений и нашли его в крайнем раздражении против планов, которые, по его словам, были составлены при участии Жубера; они уверили его, что ничего такого не происходило, и уговорили оставаться спокойным. Затем Баррас и Фуше возвратились к Сийесу и условились как-нибудь заставить Бернадотта подать в отставку, а не просто его уволить. Сийес, однажды разговаривая с Бернадоттом, навел его на мысль опять перейти в действующую армию, если его назначат главнокомандующим какой-нибудь из армий. Истолковав этот ответ как просьбу об отставке, Сийес, Баррас и Роже-Дюко, воспользовавшись временем, когда Гойе и Мулен отсутствовали, решили написать Бернадотту, что отставка его принята. На следующий же день это письмо было составлено. Бернадотт был крайне удивлен и отвечал Директории горьким письмом; в нем он говорил, что приняли отставку, которой он не подавал, и требовал себе содержания как отставленному. Известие об этом завуалированном увольнении возвестили Совету пятисот в ту минуту, когда депутаты готовились вотировать отечество в опасности. Сообщение это вызвало большой ропот. – Готовят государственный переворот! – кричали патриоты. – Поклянемся, – заявил Журдан, – умереть на наших местах! – Я лишусь своей головы прежде, – сказал Ожеро, – чем будет совершено покушение на народное представительство. Наконец, после большой сумятицы, перешли к голосованию. Большинством в двести сорок пять голосов против ста семидесяти одного предложение Журдана было отклонено. Когда Гойе и Мулен узнали об отставке Бернадотта, решенной без их участия, они пожаловались своим сотоварищам, что подобная мера не может быть принята без участия всех пяти директоров. «Мы составляем большинство, – возразил Сийес, – и мы имели право сделать то, что сделали». Гойе и Мулен немедленно отправились нанести Бернадотту официальный визит, причем позаботились придать этому визиту как можно более огласки. Дюбуа-Крансе заменил Бернадотта в военном министерстве. Итак, дезорганизация царила полнейшая: вне – разбитая коалицией, внутри – потрясаемая партиями, Республика, по-видимому, была близка к падению. Требовалось возникновение новой силы для укрощения партий и сопротивления чужеземцам. Этой силы нельзя было ждать от победившей партии, так как все они одряхлели одинаково и лишились своей репутации; она могла возникнуть лишь из среды армии, вместилища силы молчаливой и славной, как и приличествует нации, уставшей от диспутов и беспорядочной борьбы противоположных желаний. Среди великого разложения устремляли взгляды на людей, прославившихся во время революции, и, казалось, искали новых вождей. «Не нужно больше болтунов, – говорил Сийес, – нужны голова и шпага». Голова нашлась: она имелась в самой Директории; теперь искали шпагу. Гош умер; Жубер, молодость которого, добрые намерения и героизм рекомендовали всем друзьям Республики, пал при Нови. Моро, считавшийся величайшим военным гением из генералов, остававшихся в Европе, производил впечатление человека холодного, нерешительного, малопредприимчивого и мало склонного принять на себя великую ответственность. Массена, один из лучших наших генералов, не приобрел еще славы стать нашим спасителем; в нем видели тогда лишь солдата. Журдан был побежден. Ожеро был слишком буен, а Бернадотт – подозрителен, притом никто из них не имел достаточно известности. Была, правда, могущественная личность, соединявшая славу сотни побед со славой прекрасного мира; генерал, возвысивший Францию в Кампо-Формио, который, удаляясь, казалось, унес с собою и ее счастье, – это был Бонапарт; но он был далеко, и имя его повторялось лишь эхом Востока. Только он один оставался победителем и заставлял раскаты грома, которыми он некогда пугал Европу на Адидже, раздаваться на берегах Нила и Иордана. Его считали покорным гражданином, платившим победами за наложенное на него изгнание. Говорили: «Где же Бонапарт? И без того уже истощенная его жизнь чахнет под знойным небом!.. Ах, если бы он был среди нас, Республике не угрожала бы близкая гибель. И Европа, и фракции уважали бы ее одинаково». О Бонапарте ходили смутные слухи. Рассказывали, что победа, изменившая всем французским генералам, оставила и его в отдаленной экспедиции. Но подобным слухам не верили; надеялись, что он непобедим; далекий от того, чтобы испытывать поражения, напротив, он идет на завоевание всего Востока. Ему приписывали гигантские планы. Одни говорили, что он прошел Сирию, перешел Евфрат и Инд; другие – что он двинулся на Константинополь и, по уничтожении Оттоманской империи, нападет на Европу с тыла. Газеты были полны таких предположений, что доказывает, чего ждали умы от этого молодого человека. Директория послала Бонапарту приказ возвратиться и собрала в Средиземном море огромный флот для возращения его армии. Остававшиеся в Париже братья главнокомандующего, которым было поручено уведомлять его о положении дел, посылали ему депешу за депешей с целью поторопить его с возвращением. Но эти сообщения должны были миновать моря и английские эскадры, и неизвестно было, будет ли герой предупрежден и вернется ли ранее гибели Республики.
Глава LXIII
Экспедиция в Сирию; взятие форта Эль-Ариш и Яффы; осада Акко – Возвращение в Египет; сражение при Абукире – Отплытие Бонапарта во Францию – Франция спасена – События в Голландии – Конец кампании 1799 годаСражение при Пирамидах сделало Бонапарта властелином Египта. Прежде всего он озаботился тем, чтобы прочно в нем утвердиться, и распределил провинции между своими генералами, дабы завершить завоевание. Дезе, поставленному у входа в Верхний Египет с дивизией числом около трех тысяч человек, поручалось отнять эту провинцию у Мурад-бея. Французский генерал начал свою экспедицию в октябре прошлого года, по окончании разлива. Неприятель отступил перед ним и встретил его лишь при Седимане; там 7 октября (16 вандемьера) Дезе выдержал ожесточенное сражение с отчаянными остатками полчищ Мурад-бея. Ни одно сражение французов в Египте не было столь кровавым. Двум тысячам наших солдат пришлось биться с четырьмя тысячами мамелюков и восемью тысячами феллахов, укрепившихся в селении Седиман. Это сражение походило на сражение при Пирамидах и на все, данные в Египте. Феллахи скрывались за стенами деревни, всадники оставались на равнине. Дезе выстроил два каре и на их крыльях поместил два других – меньших – каре, чтобы ослабить удар неприятельской кавалерии. В первый раз наша пехота была сломлена и одно из наших малых каре прорвано. Но, руководствуясь внезапным и удивительным инстинктом, наши храбрецы сейчас же бросились на землю, дабы большие каре могли открыть огонь. Проскакав по ним, мамелюки в течение нескольких часов яростно атаковали каре и отчаянно умирали на штыках французов. Затем каре сами двинулись в атаку на укрепления и завладели ими. Между тем мамелюки, обогнув французов полукругом, бросились добивать наших раненных в тылу, но их вскоре прогнали, основательно перебив. Французы потеряли при этом триста человек. Дезе в течение всей зимы продолжал движение и, сделавшись после целого ряда сражений властелином всего Верхнего Египта, заставил так же бояться своей храбрости, как и уважать свое милосердие. В Каире Бонапарта называли султаном Кебиром, Огненным султаном; Дезе в Верхнем Египте начали называть Справедливым султаном. Бонапарт между тем дошел до Бельбея с целью отбросить Ибрагим-бея в Сирию; по дороге он собрал остатки каравана в Мекку, разграбленного арабами. Возвратившись в Каир, Бонапарт продолжал укреплять французскую администрацию. Бунт, вызванный в Каире тайными агентами Мурад-бея, был сурово подавлен и заставил пасть духом всех врагов Франции. Зима 1798–1799 года прошла в ожидании последующих событий. В этот промежуток времени Бонапарт узнал об объявлении войны Портой и о тех приготовлениях, которые она вела против него при помощи англичан. Порта формировала две армии: одну на Родосе, другую в Сирии; обе эти армии должны были начать совместные военные действия весной 1799 года, одна – высадиться при Абукире около Александрии, другая – пройти пустыню, отделяющую Сирию от Египта. Бонапарт немедленно оценил положение и, по своему обыкновению, решил опередить неприятеля внезапной атакой. Он не имел возможности в жаркое время года пройти пустыню, отделяющую Сирию от Египта, и предпочел воспользоваться зимой, чтобы уничтожить войска, скопившиеся в Акко, Дамаске и главнейших городах Сирии. Знаменитый паша Акко Джеззар был назначен сераскиром[52] объединенной сирийской армии. Абдулла, паша Дамаска, командовал его авангардом и продвинулся до форта Эль-Ариш, открывавшего Египет со стороны Сирии. Бонапарт решил действовать немедленно и начал переговоры с племенами Ливана. Друзы, христиане, мутуалисы, мусульмане-раскольники предлагали ему свою помощь и призывали к себе. Штурмом завладев Яффой, Акко и несколькими другими дурно укрепленными крепостями, он мог скоро стать обладателем всей Сирии, добавив это прекрасное завоевание к завоеванию Египта; завладеть Евфратом, как он уже завладел Нилом, и получить доступ к Индии. Горячее воображение увлекало Бонапарта дальше и составляло планы, похожие на те, что приписывались ему почитателями в Европе. Ничего не было невозможного в том, чтобы, подняв ливанские племена, собрать 60 или 80 тысяч вспомогательных войск и при помощи этих союзников, поддержанных 25 тысячами храбрейших в мире солдат, идти на Константинополь и завладеть им. Был ли осуществим этот гигантский план, неизвестно, но он, несомненно, занимал ум Бонапарта; и если вспомнить, что ему удавалось совершить при помощи своей фортуны, не осмеливаешься признать безумным ни один из его планов. Бонапарт выступил в первых числах февраля (плювиоза) во главе дивизий Клебера, Ренье, Ланна, Бона и Мюрата, численностью всего до 13 тысяч человек. Дивизия Мюрата состояла из одной кавалерии. Бонапарт составил полк, используя новый вид оружия – дромадеров. На горбе дромадера, спиною друг к другу, помещались два человека, которые благодаря силе и быстроте этих животных могли делать двадцать пять или тридцать лье безостановочно. Бонапарт сформировал этот полк для преследования арабов, кишевших на границах Египта, и он следовал за экспедиционной армией. Кроме того, Бонапарт приказал контр-адмиралу Перре выйти из Александрии с тремя фрегатами и прибыть к берегам Сирии с осадной артиллерией и снарядами.
Французы подошли к форту Эль-Ариш 17 февраля (29 плювиоза). После незначительного сопротивления гарнизон в количестве тысячи трехсот человек сдался, а в форте нашли значительные припасы. Ибрагим-бей хотел оказать форту помощь, но был обращен в бегство; лагерь его попал в руки французов и доставил им огромную добычу. Солдатам приходилось переносить во время перехода через пустыню много лишений, но они видели идущего рядом с ними главнокомандующего, который, обладая слабым здоровьем, переносил те же трудности и те же лишения; видя это, они не осмеливались жаловаться. Вскоре подошли к Газе, взяли эту крепость в виду Джеззара-паши, и нашли в ней, как и в Эль-Арише, значительные запасы и много продовольствия. Из Газы армия направилась к Яффе, куда прибыла 3 марта (13 вантоза).
 Бонапарт в Яффе
Бонапарт в Яффе
Эта крепость была окружена толстой стеной, фланкируемой башнями, и гарнизон ее составлял четыре тысячи человек. Бонапарт приказал устроить брешь и потребовал у коменданта сдаться; тот вместо ответа велел отрубить парламентеру голову. Решили немедленно идти на штурм, взяли крепость с обычной отвагой и отдали ее на грабеж и уничтожение в течение тридцати часов. В этой крепости также нашли значительное число артиллерии и продовольствие всякого рода. Осталось несколько тысяч пленных, которых нельзя было отправить в Египет, так как не было возможности их конвоировать и отослать к неприятелю, что позволило бы ему усилить свои ряды. Бонапарт решился на страшную меру, единственный акт жестокости в его жизни. Перенесенный в варварскую страну, он невольно перенял ее нравы: он велел перебить остававшихся пленных. Армия послушно, но с некоторым ужасом исполнила данное ей приказание. Затем Бонапарт двинулся на Акко, древнюю Птолемаиду, расположенную у подошвы горы Кармель; это была единственная крепость, которая могла его остановить. С взятием Акко вся Сирия принадлежала бы Франции. Но Джеззар укрылся в крепости со всеми своими богатствами и значительным гарнизоном; он рассчитывал на поддержку сэра Сиднея Смита, крейсировавшего у берегов и доставившего ему инженеров, канониров и снаряды. Кроме того, на помощь к нему должна была подойти турецкая армия, собравшаяся в Сирии и приближавшаяся к Дамаску, дабы перейти Иордан. Бонапарт поспешил с атакой, чтобы завладеть Акко, как и Яффой, до прибытия новых войск и до того, как англичане успеют улучшить оборону крепости. Тотчас открыли траншеи. К несчастью, осадная артиллерия, которая должна была прибыть морем из Александрии, была захвачена сэром Сиднеем Смитом. Из всей осадной и полевой артиллерии имелись 32-фунтовая каронада[53], четыре 12-фунтовые пушки, восемь гаубиц и около тридцати 4-фунтовых пушек. Недоставало ядер, но придумали средство найти их. На берег высылали по нескольку всадников; при виде них сэр Сидней Смит открывал несмолкаемый огонь со всех своих батарей, а солдаты, которым давали по пяти су за ядро, подбирали их среди канонады и всеобщего смеха. Траншеи были открыты 20 марта (30 вантоза). Инженерный генерал Сансон, считая после ночной рекогносцировки, что дошел до самых стен бастиона, объявил, что крепость не имеет ни контрэскарпа, ни рва. Вследствие этого сочли достаточным проделать простую брешь и затем идти на приступ. И то и другое было сделано 25 марта (5 жерминаля), но французов остановили контрэскарп и ров. Немедленно приступили к минным работам, которые приходилось вести под убийственным огнем артиллерии со всех валов. Сэр Сидней Смит дал Джеззару отличных английских наводчиков и старого эмигранта Филиппо, опытнейшего инженерного офицера. Мина была взорвана 28 марта (8 жерминаля), но обвалила лишь часть контрэскарпа. Двадцать пять гренадеров пошли на брешь вслед за молодым Майи. Видя, как этот храбрый офицер ставит лестницу, турки ужаснулись, но Майи был убит. Гренадеры пали духом, и турки воодушевились вновь; два батальона, следовавшие за передовыми, были встречены страшным ружейным огнем; начальник их, Ложье, также был убит, и приступ опять не удался. К несчастью, крепость получила несколько тысяч человек подкрепления, значительное число канониров и огромное количество снарядов. Предстояло вести большую осаду всего с тринадцатью тысячами человек и почти без артиллерии. Нужно было открыть новый минный колодезь, чтобы взорвать весь контрэскарп, и начать новые подступы. Было 1 апреля (12 жерминаля); перед крепостью стояли уже десять дней; получили известие о приближении большой турецкой армии; следовало продолжать работы и прикрывать осаду, и всё это с одной экспедиционной армией. Главнокомандующий приказал работать у мин безостановочно и отправил дивизию Клебера к Иордану – оспаривать переправу армии, подходившей со стороны Дамаска. Главную силу этой армии в 25 тысяч солдат из Наплуза составляли более 12 тысяч всадников; за нею следовал огромный обоз. Главнокомандующим ее был дамасский паша Абдулла. Армия перешла Иордан 4 апреля. Жюно с авангардом Клебера числом не больше пятисот человек встретил турецкие авангарды по дороге из Назарета 8 апреля. Далекий от мысли об отступлении, он смело ожидал неприятеля и, составив каре, покрыл поле сражения мертвыми и захватил пять знамен; однако принужденный уступить численности, отошел затем к дивизии Клебера. Та подходила для соединения с Жюно. Бонапарт, в свою очередь уведомленный о многочисленности неприятеля, отвел от Акко дивизию Бона и пошел с ней поддержать Клебера и дать решительное сражение. Джеззар, сносившийся с армией, которая хотела освободить его от осады, стремился совершить вылазку, но, обстрелянный картечью, вынужден был оставить территорию наших инженерных работ покрытой мертвецами. Клебер со своей дивизией направился на равнину, простирающуюся у подножия горы Фавор, недалеко от небольшой деревни. Он хотел захватить турецкий лагерь врасплох ночью, но позднее прибытие помешало ему. Утром 16 апреля (27 жерминаля) он встретил турецкую армию, выстроившуюся для сражения. Деревню занимали 15 тысяч пехотинцев, более 12 тысяч кавалеристов развернулись на равнине. В каре Клебера набиралось едва три тысячи человек. Вся неприятельская кавалерия бросилась на наши каре. Французы сохраняли свое обычное хладнокровие и, встречая турецких кавалеристов страшным огнем, с каждым залпом валили значительное их число. Вскоре они окружили себя горами из трупов людей и лошадей и, прикрываемые этой страшной оградой, смогли шесть часов кряду выдерживать страшный натиск неприятеля. В это время Бонапарт с дивизией Бона дебушировал с горы Фавор. Перед ним открылась покрытая дымом и огнем равнина и оборонявшаяся за линией трупов храбрая дивизия Клебера. Бонапарт немедленно разделил свою дивизию на два каре, чтобы составить с дивизией Клебера углы равностороннего треугольника и таким образом окружить неприятеля. Французы шли, не подавая сигнала о своем приближении; затем Бонапарт велел сделать пушечный выстрел и показался на поле сражения. Страшный огонь из трех оконечностей треугольника начал поражать мамелюков, оказавшихся в центре, заставил их бросаться то в одну, то в другую сторону и бежать в беспорядке по всем направлениям. При виде своих дивизия Клебера удвоила усилия, бросилась на деревню, захватила ее и перебила значительное число неприятельских солдат. В одно мгновение вся масса врагов рассеялась, и на равнине остались лишь мертвецы. Турецкий лагерь, три бунчука паши[54], четыреста верблюдов и огромное количество припасов попали в руки французов. Мюрат, оставленный на берегах Иордана, также перебил значительное число беглецов, а Бонапарт сжег все деревни у Наплуза. Шесть тысяч французов уничтожили армию, которую жители называли такой необъятной, как звезды на небе и песок в море. Между тем не переставали минировать и разминировать в ответ стены Акко, оспаривали друг у друга каждый шаг местности. Перед крепостью провели уже полтора месяца, совершили несколько попыток штурма, отразили множество вылазок, перебили значительное число неприятеля, но, несмотря на постоянный перевес, все-таки несли непоправимые потери в людях и во времени. Седьмого мая (18 флореаля) в порт Акко прибыло подкрепление в 12 тысяч человек. Бонапарт, рассчитав, что войска не высадятся ранее шести часов, немедленно направляет 24-фунтовое орудие на часть стены справа от моста, где уже продолжительное время сосредоточивались усилия осаждающих. С наступлением ночи лезут на брешь, завладевают неприятельскими работами, уничтожают их, заклепывают пушки и, наконец, захватывают крепость в тот момент, когда навстречу им выходит огромная масса высадившихся войск. Рамбо, командовавший первыми шедшими на штурм гренадерами, убит, а Ланн ранен. В то же время неприятель совершает вылазку, берет брешь с тыла и отрезает отступление храбрецам, проникнувшим в крепость. Кому-то удается выйти из крепости; другие в отчаянии решаются запереться в мечетях, укрепляются там и готовятся дорого продать свою жизнь; но, тронутый такой храбростью, сэр Сидней Смит соглашается на капитуляцию. Между тем войска осадного корпуса идут на неприятеля, после страшной резни отбрасывают его в крепость и забирают у него восемьсот пленных. Бонапарт, упорный до остервенения, дает своим войскам два дня отдыха и 10 мая (21 флореаля) приказывает начать новый приступ. Французы устремляются вперед с той же храбростью, влезают на брешь, но дальше двинуться не могут: целая армия охраняет крепость и защищает все улицы. От мысли завладеть городом пришлось отказаться. Было бы крайней неосторожностью продолжать нести дальнейшие потери. В Акко открылась чума, а армия заразилась ею еще в Яффе; кроме того, наступало время, когда в устьях Нила могла высадиться турецкая армия. Продолжая упорствовать, Бонапарт мог ослабить себя до такой степени, что не в состоянии был бы отразить новые нападения, между тем как главная цель его была достигнута: он уничтожил большие скопления неприятеля, образовавшиеся в Сирии, и с этой стороны довел неприятеля до бессилия. Что же касается более блестящей части его планов, смутных и чудесных надежд о завоеваниях на Востоке, приходилось от них отказаться. Бонапарт решился снять осаду. Сожаление его об этом было так велико, что, несмотря на свою неслыханную судьбу, он часто повторял, говоря о сэре Сиднее Смите: «Этот человек заставил меня упустить мою фортуну». Друзы, продовольствовавшие французскую армию во время осады, и все племена, враждебные Порте, с отчаянием узнали о нашем отступлении. Бонапарт начал осаду 20 марта (30 вантоза), а снял ее 20 мая (1 прериаля). Прежде чем покинуть Акко, он хотел оставить страшную память о своей стоянке: город начали обстреливать из всех орудий и почти весь его обратили в пепел. Затем Бонапарт свернул в пустыню. Французы потеряли от огня, лишений и болезней почти треть своей экспедиционной армии, то есть около четырех тысяч человек; кроме того, они везли с собой тысячу двести раненных. По прибытии в Яффу Бонапарт взорвал ее укрепления. В городе находился лазарет с французскими солдатами, заразившимися чумой. Увезти их с собой было невозможно; оставив же, их предавали неизбежной смерти от болезни, голода и жестокости врагов. Бонапарт сказал медику Деженетту, что гораздо гуманнее дать им опиума, нежели оставлять в живых; на что этот медик будто бы дал столь восхваляемый ответ: «Мое ремесло их лечить, а не убивать». Опиума несчастным не дали, а этот факт способствовал распространению недостойной клеветы, в настоящее время совершенно опровергнутой. После экспедиции, длившейся почти три месяца, Бонапарт вступил в Египет. Прибытие его было как нельзя более кстати: дух возмущения распространился по всей Дельте. Обманщик, называвший себя Эль-Мохди, представлявшийся Неуязвимым и уверявший, что от французов останется лишь пыль, поднимаемая копытами их лошадей, собрал несколько тысяч мятежников. Ему помогали агенты мамелюков; он быстро завладел крепостью Даманхур и перерезал ее гарнизон. Но Бонапарт отправил отряд, рассеявший мятежников, а Неуязвимый был убит. Беспорядок сообщился было другим провинциям Дельты; но прибытие французов повсюду возвратило покорность и спокойствие. В Каире устроили в честь побед в Сирии великолепные празднества. Бонапарт не объявлял о неудавшейся части своих планов, но справедливо гордился многими битвами и прекрасным сражением при горе Фавор, страшной местью Джеззару. Вместе с тем он распространил новые прокламации к населению, в которых говорил, что ему известны все их тайные мысли и доступны их замыслы в самую минуту возникновения. Жители и в самом деле верили странным словам султана Кебира, считали, что он обладает даром разгадывать их мысли. Бонапарту приходилось сдерживать не только население, но и генералов и самую армию. В ней царило глухое недовольство, происходившее не от трудов, опасностей или лишений, потому что армия не терпела ни в чем недостатка; его вызывала тоска по родине, которая повсюду преследует французов. Вот уже год, как они были в Египте, и шесть месяцев, как не получали никаких известий из Франции; ни один корабль не мог достичь Египта, и мрачная печаль овладела всеми. Ежедневно офицеры и генералы просили отпуска в Европу. Бонапарт разрешал отпуска нечасто или в таких выражениях, что опасались бесчестия. Сам Бертье, верный Бертье, пожираемый страстью, попросил отпуска в Италию; он был пристыжен за свою слабость во второй раз и отказался ехать. Генералы, подававшие пример ропота, молчали в присутствии Бонапарта и смирялись перед его превосходством. Лишь с Клебером у него происходили столкновения; раздражение Клебера проистекало не от упадка духа, но от обычного непослушания. Потом они всегда мирились, потому что Бонапарт любил великую душу Клебера, а Клебера неизменно очаровывал гений Бонапарта.
По-прежнему находились в неведении относительно европейских событий и поражений Франции. Знали только, что на континенте беспорядок и неизбежна новая война. Бонапарт с нетерпением ждал новых известий, чтобы принять какое-нибудь решение и возвратиться, если это будет необходимо, к первому театру своих подвигов. Но прежде он желал уничтожить собравшуюся на Родосе турецкую армию, чьей близкой высадки ожидали. Эта армия на многочисленных транспортных судах, конвоируемых морской дивизией сэра Сиднея Смита, 11 июля (23 мессидора) показалась в виду Александрии и стала на якорь при Абукире, на том же рейде, где была уничтожена наша эскадра. Пунктом высадки, выбранным англичанами, являлся полуостров того же имени. Этот полуостров тянется между морем и озером Мадиех и на оконечности его расположен форт. Бонапарт приказал Мармону, коменданту Александрии, усовершенствовать оборону форта и уничтожить расположенную около него деревню Абукир. Но, вместо того чтобы уничтожить деревню, ее, напротив, хотели сохранить для расквартирования и просто прикрыли для защиты редутом. Редут, однако, не примыкая своими оконечностями к морю, не представлял сомкнутого укрепления, и выходило так, что участь форта зависела от полевого укрепления. И в самом деле, турки высадились с большой смелостью, полезли с ятаганами на укрепления и завладели деревней Абукир, гарнизон которой перерезали. Со взятием деревни форт не мог более держаться и вынужден был сдаться. Мармон вышел из Александрии на помощь войскам, занимавшим Абукир, с 1200 человек; но узнав, что турки уже высадились, он не решился смелой атакой сбросить их в море, отступил в Александрию и предоставил им спокойно занять полуостров Абукир. Высадившиеся войска состояли исключительно из пехоты, численность их простиралась до 18 тысяч. Это были не несчастные феллахи, составлявшие пехоту мамелюков, но храбрые янычары, с ружьями без штыков, отбрасывавшие их после выстрела на перевязи за спину и бросавшиеся на врага с пистолетом и саблей в руке. Они имели многочисленную и хорошо обученную артиллерию, командуемую английскими офицерами. У турок не было кавалерии (с собой взяли едва триста лошадей), но они ожидали прибытия Мурад-бея, который должен был идти краем пустыни, пройти оазисы и броситься на Абукир с двумя или тремя тысячами мамелюков. Получив сведения о высадке, Бонапарт немедленно вышел из Каира и сделал до Александрии один из тех необыкновенных переходов, которых столько совершил в Италии. Он взял с собой дивизии Данна, Бона и Мюрата; Дезе было приказано очистить Верхний Египет; Клеберу и Ренье, расположенным в Дельте, – подойти к Абукиру. Пунктом сосредоточения всех сил, из которого Бонапарт предполагал действовать уже сообразно обстоятельствам, он избрал Биркет, располагавшийся между Александрией и Абукиром. Согласно плану, условленному с Мустафа-пашой, Мурад-бей пытался пройти в Нижний Египет, но был встречен и разбит Мюратом, а потому ушел в пустыню. Оставалось сразиться лишь с турецкой армией, лишенной кавалерии, но стоявшей позади укреплений и готовой обороняться с обычным упорством. Взглянув на Александрию и на прекрасные работы, проведенные для ее укрепления, пожурив Мармона за то, что он не осмелился атаковать турок в минуту их высадки, Бонапарт оставил Александрию 24 июля (6 термидора) и уже назавтра был у полуострова. Он намеревался сначала запереть турецкую армию и для атаки на нее дождаться прибытия всех своих дивизий. Однако рассмотрев расположения турок, он переменил свое мнение и решил атаковать их немедленно, надеясь запереть в Абукире и раздавить гранатами и бомбами. Турки расположились по длине весьма узкого полуострова и были прикрыты двумя линиями укреплений. В полулье перед Абукиром, где был расположен их лагерь, они занимали два песчаных холма, упиравшихся один в море, а другой в озеро Мадиех, образуя правое и левое крыло; деревня между этими холмами также была занята турками. Тысяча человек занимали правый холм, две тысячи – левый, от трех до четырех тысяч находились в деревне. Такова была их первая линия. Вторую составляла самая деревня Абукир. Она состояла из редута, построенного французами и соединенного с морем двумя траншеями; здесь они расположили свой главный лагерь и значительнейшие силы. Бонапарт отдал распоряжения с обычной своей быстротой и точностью. Он приказал генералу Дестену с несколькими батальонами идти на левый холм, где находилась тысяча турок; Ланну – идти на правый, где были две другие тысячи, Мюрату же в центре – зайти со своей кавалерией в тыл обоим холмам. Эти распоряжения были исполнены с большой точностью: Дестен идет на левый холм и смело на него взбирается, тогда как Мюрат заходит ему в тыл с эскадроном. Видя французов впереди и позади себя, турки оставляют свой пост, наталкиваются на кавалерию, которая их рубит и сбрасывает в море, куда они предпочитают лучше броситься самим, чем сдаться. На правом крыле исполняется тот же маневр: Ланн атакует две тысячи турок, Мюрат их обходит, они также изрублены и сброшены в море. Затем Дестен и Ланн направляются к деревне в центре и атакуют ее с фронта. Турки храбро обороняются, рассчитывая на поддержку второй линии. И в самом деле, одна колонна отделяется от Абукирского лагеря; но Мюрат, уже обошедший с тыла деревню, бросается на колонну, рубит ее и прогоняет в Абукир. Пехота Дестена и Ланна с боем врывается в центр деревни и выгоняет турок; те, упорствуя в своем намерении не сдаваться, не имеют другого пути отступления, кроме моря, где и тонут почти все. Погибло от четырех до пяти тысяч неприятелей; первая линия была взята; Бонапарт выполнил свою цель и мог, стеснив турок в Абукире, бомбардировать их в ожидании прибытия Клебера и Ренье; но он хотел воспользоваться своим успехом и одержать победу тотчас же. Дав своим войскам перевести дух, он передвигает их на вторую линию. Дивизия Ланюса остается в резерве и поддерживает Ланна и Дестена. Редутом, прикрывавшим Абукир, нелегко было завладеть; в нем находилось 9-10 тысяч турок; траншея справа соединяла его с морем, траншея слева заканчивалась, не доходя до озера Мадиех, остававшийся промежуток был занят неприятелем и обстреливался с канонирских лодок. Бонапарт, привыкший водить своих солдат на самые грозные преграды, направляет их на неприятельскую позицию. Пехотные дивизии идут прямо во фронт и направо от редута; кавалерийская же дивизия, спрятанная в лесу, должна атаковать слева и под огнем канонерок проскакать свободное пространство между траншеей и озером. Атака начинается; Ланн и Дестен ведут свою храбрую пехоту вперед; 32-я идет на укрепления в штыки, 18-я обходит их справа. Неприятель, не дожидаясь их, идет им навстречу. Начинается рукопашный бой. Турецкие солдаты, разрядив свои ружья и выпустив по два выстрела из своих пистолетов, выхватывают сабли. Они хватают французские штыки руками, но прежде, чем это им удается, те пронзают им грудь. Сражаются прямо на укреплениях; 18-я полубригада уже готова ворваться в редут, но страшный артиллерийский огонь сбрасывает ее к подошве укрепления. Храбрый Летюрк падает мертвым только потому, что желает отступить последним; Фюжьер лишается руки. Мюрат со своей стороны начинает движение с кавалерией, чтобы проникнуть через проход между редутом и озером. Несколько раз он бросается вперед и отбрасывает неприятеля, но перекрестный огонь редута и канонерок вынуждает его каждый раз отходить назад. Некоторые из кавалеристов продвигаются даже до валов редута; но усилия стольких храбрецов, по-видимому, бесполезны. Бонапарт смотрит на эту резню, ожидая благоприятной для наступления минуты. По счастью, турки имеют обыкновение выходить из укреплений, чтобы отрезать головы мертвым. Бонапарт использует этот обычай и устремляет на укрепления два батальона, которые ими и завладевают. Справа врывается в редут 18-я полубригада. Мюрат возобновляет кавалерийскую атаку; один из его эскадронов наконец преодолевает пространство между укреплениями и озером и проникает в деревню Абукир. Тогда испуганные турки бегут во все стороны, и огромное их число гибнет от оружия французов. Мюрат во главе своих кавалеристов проникает в лагерь Мустафа-паши. Тот в отчаянии стреляет в Мюрата из пистолета и легко ранит его. Мюрат отрубает ему одним сабельным ударом два пальца и отправляет плененного турка к Бонапарту. Турки, успевшие спастись от французского оружия и утопления, укрываются в форте Абукир. Более 12 тысяч трупов плавало у берегов Абукира, в том самом море, которое не так давно было покрыто телами наших моряков; две или три тысячи пали от огня и меча. Прочим, запершимся в форте, не оставалось ничего, кроме как рассчитывать на милосердие победителя. Таким было это необыкновенное сражение, где – быть может, в первый раз в военной истории – была окончательно уничтожена целая армия. По этому-то случаю Клебер, прибывший к концу дня, обнял Бонапарта и вскричал: «Генерал, вы велики, как мир!» Таким образом, с помощью сирийской экспедиции и сражения при Абукире Египет был освобожден от Порты. Положение французской армии можно было считать достаточно устойчивым. После всех понесенных потерь в ее рядах считалось еще около 25 тысяч храбрейших и командуемых лучшим в мире военачальником солдат. С каждым днем она всё более сживалась с населением и упрочивала свое положение в стране. Вот уже год, как Бонапарт находился в Египте; время было использовано наилучшим образом; и тогда как в Европе победа покидала знамена французов, она оставалась верна им в Африке и Азии. Трехцветное знамя развевалось на берегах Нила и Иордана, в тех местах, где получила свое начало христианская религия. Бонапарту не было ничего известно о происходившем во Франции, до него не дошла ни одна депеша Директории или его братьев, и он крайне беспокоился. Чтобы получить какие-нибудь известия, он велел нескольким бригам крейсировать у берегов с целью захвата торговых кораблей. Он послал на турецкую эскадру парламентера, который под предлогом переговоров об обмене пленных должен был постараться получить хоть какие-нибудь известия. Сэр Сидней Смит остановил парламентера, хорошо его принял и, видя, что Бонапарт ничего не знает о поражениях французов, не упустил случая злорадно передать ему пакет со всеми газетами. Парламентер возвратился и передал газеты Бонапарту. Тот целую ночь напролет знакомился с тем, что происходило в его отечестве, а потом сразу принял решение: тайно отплыть в Европу и достигнуть ее, рискуя быть схваченным по дороге английскими кораблями. Он потребовал к себе контр-адмирала Гантома и поручил ему привести в готовность фрегаты «Мюирон» и «Каррер». Никому ничего не сообщив о своем плане, Бонапарт прибыл в Каир, сделал все распоряжения, составил длинную инструкцию Клеберу, которому хотел оставить командование армией, а затем возвратился в Александрию. Двадцать второго августа (5 фрюктидора), взяв с собой Бертье, Ланна, Мюрата, Андреосси, Мармона, Бертолле и Монжа, Бонапарт отправился к дальнему берегу. Там его ожидали несколько лодок, на которых они добрались до «Мюирона» и «Каррера». Им сопутствовали шебеки[55] «Реванш» и «Фортуна». В ту же минуту подняли паруса, чтобы не оставаться в виду английских крейсеров. К несчастью, наступило затишье; боялись быть захваченными и решили возвращаться в Александрию; но Бонапарт не согласился на это. «Будьте спокойны, – сказал он, – мы переплывем». Подобно Цезарю, он рассчитывал на свое везение. Это не было, как говорили позже, трусливым бегством, так как Бонапарт оставлял победоносную армию и вверялся своему счастью, презирая опасности всякого рода. Это было одно из тех смелых решений, которыми великие честолюбцы бросают вызов небесам и которым впоследствии бывают обязаны безграничной уверенностью, сначала возводящей их на вершины величия, а затем низвергающей их оттуда.
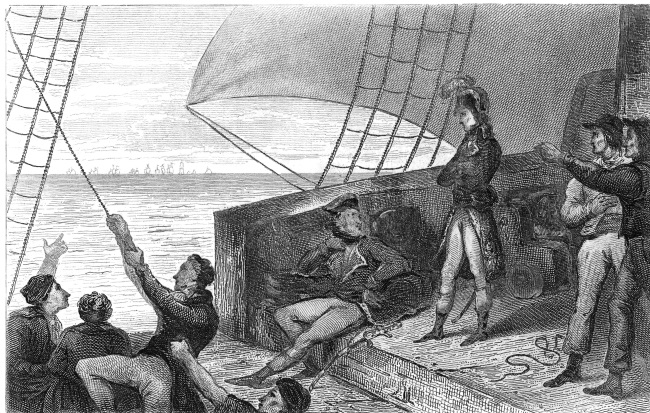 Бонапарт покидает Египет
Бонапарт покидает Египет
В то время как этот великий человек предоставлял себя риску ветров и встречи с неприятельскими кораблями, победа возвращалась к нашим знаменам в Европе и Республика великим усилием освобождалась от опасностей, которым, как мы видели, она подвергалась ранее. Массена по-прежнему занимал линию Лиммата, откладывая наступление. Итальянская армия после сражения при Нови рассеялась по Апеннинам. К счастью, Суворов не воспользовался победой при Нови, как и победой при Треббии, и терял в Пьемонте драгоценное время, которое Франция тратила на приготовления. В это время придворный совет, столь же мало последовательный в своих планах, как и Директория, придумал план, который не замедлил изменить весь ход событий. Австрийцы ревновали к власти, какую Суворов проявлял в Италии; им было неприятно, что этот генерал написал сардинскому королю, приглашая его вернуться в свои владения. Придворный совет имел виды на Пьемонт и хотел отстранить старого фельдмаршала. К тому же между русскими и австрийцами было мало согласия. Все эти основания склонили придворный совет совершенно изменить распределение войск на театре военных действий. Русские были смешаны с австрийцами в двух странах: в Швейцарии Корсаков действовал с эрцгерцогом Карлом, а в Италии Суворов объединился с Мел асом. Придворный совет придумал перевести эрцгерцога Карла на Рейн, а Суворова в Швейцарию. Таким образом обе русские армии должны были действовать в Швейцарии совместно; австрийцы же – одни действовать на Рейне, так же как и в Италии, куда должна была прибыть новая армия. Доводом в основание такой перемены придворный совет представлял соображение о том, что лучше, если войска каждой нации будут находиться отдельно; что русские найдут в Швейцарии более подходящий климат, движение же эрцгерцога на Рейн будет содействовать операциям десантного корпуса в Голландии. Англия не могла не одобрить этого плана, так как рассчитывала, что присутствие эрцгерцога Карла на Рейне значительно поможет экспедиции в Голландии, притом ей подходило и то, что русские, вступившие в Корфу и имевшие намерение завладеть Мальтой, отдаляются таким образом от Генуи. Это передвижение, исполненное в присутствии Массена, было крайне опасно и к тому же переносило русских на театр войны, совсем им не подходивший. Эти солдаты, привыкшие атаковать на равнине и в штыки, решительно не умели стрелять; в горах же прежде всего нужны искусные стрелки. Придворный совет, по обычаю всех кабинетов ставя политические расчеты выше военных, приказал своим генералам строго выполнить этот план непременно к последним числам августа (к середине фрюктидора), воспрещая им выставлять какие бы то ни было возражения. Мы уже описывали театр войны и расположение на нем враждующих армий[56]. Воды Высоких Альп, то стекая в виде рек, то образуя озера, представляют несколько заключающихся одна в другой оборонительных линий; они начинаются справа у большего хребта, кончаются слева у большой реки, отделяющей Германию от Франции. Две главнейшие из них – линии Рейна и Лиммата. Массена, вынужденный оставить линию Рейна, отступил на линию Лиммата. Ему пришлось даже отойти немного назад от последней и опереться на Альбис; но линия Лиммата по-прежнему разделяла обе армии. Эту линию составляли: Линта, стекающая с Высоких Альп и впадающая в Цюрихское озеро; само Цюрихское озеро; Лиммат, вытекающий из того же Цюрихского озера и затем впадающий в Аар около Бругга. Эрцгерцог Карл стоял позади Лиммата, от Бругга до Цюриха. Корсаков располагался позади Цюрихского озера в ожидании, когда ему укажут место атаки. Готце охранял Линту. Согласно принятому плану, эрцгерцог назначался на Рейн, и его место позади Лиммата должен был занять Корсаков. Готце со своим корпусом должен был остаться на Линте и поддержать Суворова, двигавшегося из Италии. Вопрос состоял в том, какой дорогой следует направить Суворова. Ему предстояло перейти горы, а затем следовать по той или другой линии, пересекающей Швейцарию. Если б он предпочел войти в Швейцарию долиной Рейна, то мог бы вступить в Кур на Верхнем Рейне и там соединиться с Готце. Рассчитали, что он мог прибыть туда к 25 сентября (3 вандемьера). Это движение имело ту выгоду, что производилось вдали от французов и не могло зависеть ни от какой случайности. Суворов мог также следовать другой дорогой – через Сен-Готард, в долину Рейса и затем через Швиц выйти в тыл реки Линты, занимаемой французами. Это движение направляло его в тыл неприятельского расположения; но нужно было перейти Сен-Готард, занимаемый Лекурбом; подготовить движение Готце за Линту, дабы он мог подать помощь армии, следующей с Сен-Готарда; и еще для поддержки такого движения требовалась атака на Лиммате; словом, нужны были общие действия по всей линии и своевременность и точность в движениях, весьма трудно достижимые, когда речь идет о таких больших расстояниях и таких значительных отрядах.

Тем не менее этот план, авторство которого русские сейчас сваливают на австрийцев, а австрийцы на русских, был предпочтен первому. На основании этого на последние числа сентября была назначена общая атака по всей линии. В то время как Суворов дебушировал с Сен-Готарда в долину Рейса, Корсаков должен был атаковать ниже Цюрихского озера, то есть вдоль Лиммата, а Готце – выше озера, вдоль Линты. Генералы Готце, Линкен и Елашич должны были проникнуть в кантон Гларус до Швица и подать помощь Суворову. Если бы это соединение было исполнено, войска, собранные в Швейцарии, насчитывали бы до 80 тысяч человек. Суворов шел с 18 тысячами, у Готце было 25, а у Корсакова 36 тысяч человек;кроме того, у последнего находился в резерве корпус Конде и несколько тысяч баварцев. Но до соединения войска Корсакова и Готце, то есть 55 тысяч человек, были открыты ударам армии Массена. И в самом деле, минута, когда эрцгерцог Карл оставил Лиммат, а Суворов еще не перешел Альпы, была слишком благоприятна, чтобы Массена ею не воспользовался и не вышел наконец из бездействия, за которое его так упрекали. Его армия была доведена почти до 75 тысяч человек, но ей предстояло прикрывать огромную линию от Сен-Готарда до Базеля. На правом крыле Лекурб, под командованием которого находились Гюден и Монитор, охранял Сен-Готард, долину Рейса и верхнее течение Линты с 12–13 тысячами человек. Сульт с 10 тысячами занимал Линту до ее впадения в Цюрихское озеро. Массена с дивизиями Мортье, Клейна, Лоржа и Менара, всего 37 тысяч человек, стоял перед Лимматом, от Цюриха до Бругга. Дивизия Тюро в количестве 9 тысяч человек и 8 тысяч дивизии Шабрана охраняли Вальтеллину и окрестности Базеля. Массена, хотя и слабее силами, имел то преимущество, что мог объединить главную массу войск на важнейшем пункте: то есть перед Лимматом у него стояли 37 тысяч человек, которых он мог двинуть на Корсакова. Последний ослабил себя отделением четырех тысяч в подкрепление Готце, что сокращало его силы до 26 тысяч. Корпус Конде и баварцы, которые должны были служить ему резервом, были далеко, в Шаффхаузене. Итак, Массена мог с 37 тысячами броситься на 26 тысяч человек; разбив Корсакова, он мог затем обратиться на Готце и, нанеся поражение обоим, раздавить потом Суворова, двигавшегося в Швейцарию в надежде найти там уже разбитого врага. Уведомленный о планах неприятеля, Массена ускорил общую атаку и назначил ее на 25 сентября (3 вандемьера). После того как он отступил на Альбис, течение Лиммата оказалось в руках неприятеля. Предстояло переправиться через реку в виду его, что Массена и решил исполнить. Он поручил Сульту действовать выше Цюрихского озера и перейти Линту, в то время как он сам начал бы маневры ниже озера. Военные упрекали генерала Массена лишь в одном: Суворова следовало скорее завлекать в Швейцарию, чем удалять из нее. Лиммат вытекает из Цюрихского озера в самом Цюрихе и разделяет этот город на две части. Согласно плану, условленному с Готце и Суворовым, Корсаков предполагал атаковать Массена и для этой цели перевел главную часть своих сил в Цюрихе на левую сторону Лиммата. Он только оставил три батальона в Клостер-Фа-ре, где переправа через Лиммат была доступна более всего; дивизию Дурасова он направил к месту впадения Лиммата в Аар для наблюдения; главные же силы Корсакова, по меньшей мере 18 тысяч человек, стояли перед рекой в готовности перейти в наступление. Массена основал свой план на этом положении вещей. Он решил скорее маскировать, а не атаковать Цюрих, где Корсаков собрал свои главные силы; с наиболее значительной же частью своих сил Массена хотел попытаться переправиться в слабообороняемый Клостер-Фаре. Он хотел, чтобы эта дивизия по совершении переправы поднялась по Лиммату противоположным берегом и стала в тылу Цюриха. Лишь только тогда он предполагал атаковать Корсакова на обоих берегах и запереть его в городе. Результатом такого распоряжения могли быть самые обширные последствия. Мортье со своей дивизией в 8 тысяч человек занимал правую часть поля сражения и был направлен к Цюриху; ему следовало сначала удерживать, а потом атаковать главные русские силы. Клейн с дивизией в 10 тысяч человек должен был стать в Альтштеттене, между Цюрихом и Клостер-Фаром, где хотели совершить переправу; таким образом он мог направиться или к Цюриху и поддержать Мортье против русских сил, или к переправе, если бы там оказалась надобность в его помощи. Его дивизия состояла из четырех тысяч гренадеров и резерва превосходной кавалерии. Дивизия Лоржа с частью дивизии Менара должны были совершить переправу у Клостер-Фара. Численность этих войск простиралась до 15 тысяч человек. Часть дивизии Менара должна была совершать демонстративные маневры в нижнем течении Лиммата с целью обмануть и удержать Дурасова. Эти распоряжения, составлявшие предмет удивления всех военных писателей, были приведены в исполнение 25 сентября 1799 года (3 вандемьера года VIII) в 5 часов утра. Приготовления к переправе у селения Дитикон были сделаны с необыкновенной тщательностью и в полной тайне. Суда тащили вручную и спрятали в лесу. С утра они были уже спущены на воду, и войска без шума выстроились на берегу. Прославившийся впоследствии как оратор генерал Фуа командовал в этом бессмертном сражении артиллерией; именно он расположил несколько батарей для охраны переправы. Шестьсот человек смело сели на суда, подплыли к противоположному берегу, бросились на неприятельских стрелков и рассеяли их. Корсаков поставил на плато Клостер-Фара три батальона с пушками. Наша артиллерия, превосходно руководимая, заставила русскую артиллерию замолчать и поддержала последовательную переправу нашего авангарда. Когда к генералу Газану, кроме шестисот человек, высадившихся вначале, подошло уже достаточно подкреплений, он двинулся на три русских батальона, занимавших Клостер-Фар. Те заняли лес и храбро оборонялись. Газан окружил их и, чтобы выбить из леса, перебил почти до последнего человека. По уничтожении этих трех батальонов был наведен мост. Остальная часть дивизии Лоржа и часть дивизии Менара перешли Лиммат, и таким образом за рекой находились уже 15 тысяч человек. Бригада Бонтама была оставлена в Регенсдорфе против Дурасова, на случай если бы тот вздумал подняться вверх по Лиммату. Главные силы под руководством начальника штаба Удино поднялись по реке, направляясь в тыл Цюриху. По окончании этой операции Массена сам двинулся на левый берег Лиммата наблюдать за движением своих крыльев. В нижнем течении реки генерал Менар так искусно обманул Дурасова ложными маневрами, что тот направил к берегу все свои войска и выставил всю артиллерию. Мортье дошел до Цюриха через Воллисхофен, но встретил там основные силы Корсакова и был вынужден отступить. Массена, прибывший в это же время, оттеснил дивизию Клейна из Альтштеттена. Юмбер во главе четырех тысяч гренадеров двинулся к Цюриху и поддержал Мортье. Тот возобновил свои атаки и все-таки сумел запереть русских в Цюрихе. Между тем Корсаков, встревоженный тем, что слышит пушечные выстрелы в своем тылу, перевел несколько батальонов за Лиммат; но эта слабая поддержка оказалась бесполезной: Удино со своими 15 тысячами продолжал подниматься вверх по Лиммату. Он захватил небольшой лагерь и высоты позади Цюриха и завладел большой дорогой на Винтертур, ведущей в Германию, – единственным путем отступления русских.
День близился к концу, и от следующего дня можно было ждать огромных результатов. Русские были заперты в Цюрихе: Массена перевел им в тыл у Клостер-Фара 15 тысяч человек и 18 тысяч поставил перед Цюрихом. Корсаков убедился, наконец, в опасности своего положения и перевел свои войска в другую часть Цюриха, за Лиммат. Дурасов, узнав о переправе французов, двинулся с места и, избежав встречи с бригадой Бонтама, окольным путем вышел на дорогу в Винтертур. На следующий день должен был начаться ожесточенный бой, потому что русские желали пробиться, а французы – добиться победы и больших трофеев. Сражение началось с раннего утра. Несчастный Цюрих, загроможденный артиллерией, повозками всякого рода, ранеными, атакованный со всех сторон, был охвачен огнем. С этой стороны Лиммата на город наступали и готовы были в него проникнуть Мортье и Клейн. Позади Цюрих теснил Удино, желая запереть дорогу Корсакову. Винтертурская дорога, место ожесточенного боя, несколько раз переходила из рук в руки. Решившись, наконец, отступить, Корсаков поставил в авангарде пехоту, в центре кавалерию, а артиллерию и обозы убрал в хвост и двинулся вперед длинной колонной. Его храбрая пехота, яростно атакуя, опрокидывала всё перед собою и мужественно прокладывала себе дорогу, но когда ей удалось пройти с частью кавалерии, французы возобновили атаку, напали на остальную часть кавалерии и обозов и отбросили их до самых ворот Цюриха. В то же время туда ворвались Клейн и Мортье. Начались стычки на улицах. Знаменитый Лафатер[57] был ранен у дверей своего дома пулей пьяного солдата, который приставил к его груди ружье с требованием денег; несчастный упал, пораженный опасной раной, от которой через несколько месяцев умер. Наконец Цюрих вынужден был сложить оружие. Сто пушек, все обозы, казначейство армии и 5 тысяч пленных стали добычей французов. Кроме того, в этом ожесточенном сражении у Корсакова выбыло из строя 8 тысяч человек, так что потери его простирались до 13 тысяч, то есть до половины всей его армии. Даже знаменитые сражения в Италии не представляли более необыкновенных результатов. Психологические последствия победы были не менее важны, чем материальные. Корсаков поспешил отступить к Рейну. Между тем Сульт, которому было поручено перейти Линту выше Цюрихского озера, исполнил этот переход не менее удачно. Он переправился между Бильтеном и Райхенбургом. Полтораста храбрецов с ружьями над головами переплыли реку, вышли на другой берег, очистили его от неприятельских застрельщиков и защитили высадку авангарда. Готце, немедленно прибывший на место, был смертельно ранен, что привело австрийские войска в полное расстройство. Петраш, принявший командование после Готце, тщетно пытался сбросить в Линту перешедшие через нее отряды; он был вынужден поспешно отступить на Сен-Галлен и Рейн, оставив в руках французов три тысячи пленных и несколько пушек. Генералы Елашич и Линкен, которым было поручено войти в кантон Гларус и поддержать Суворова при дебушировании его из Сен-Готарда, также отступили, узнав об этих поражениях. Таким образом, около 60 тысяч человек были отброшены от линии Лиммата за линию Рейна, и отброшены с огромными потерями. Теперь Суворову приходилось передвигаться между победоносными армиями, вместо того чтобы, как предполагалось сначала, выйти во фланг неприятелю, атакованному со всех сторон, и тем решить его поражение. Выйдя из Италии с 18 тысячами человек, он прибыл к подошве Сен-Готарда в пятый дополнительный день года VII (21 сентября). Он вынужден был спешить своих казаков, чтобы навьючить на их лошадей артиллерию. В то же время Розенбергу с его 6 тысячами было поручено обойти Сен-Готард через Дисентис. Прибыв 23 сентября (1 вандемьера) в Айроло, на входе в Сен-Готард, Суворов встретил там Гюдена с бригадой дивизии Лекурба и дал упорный бой, но его солдаты, плохие стрелки, целыми взводами падали под пулями и камнями. Тогда Суворов решил зайти Гюдену во фланг и заставил его очистить ущелье до госпиталя. Оборона Гюдена дала Лекурбу время собрать свои войска. Тот, имея под рукой всего 6 тысяч человек, не мог сопротивляться Суворову, у которого было 12 тысяч, и Розенбергу, который со своими 6 тысячами был уже у него в тылу, в Урзерне. Лекурб бросил свою артиллерию в Рейс, вышел по недоступным скалам на противоположный берег и углубился в долину. Дойдя до Урзерна и уже не имея Розенберга у себя в тылу, он взорвал Чёртов мост и заставил русских понести громадные потери прежде, чем им удалось перейти на противоположный берег. Таким образом, Лекурб отступал шаг за шагом, пользуясь любыми препятствиями, чтобы утомить Суворова и заставить его понести возможно большие потери. Наконец, русская армия прибыла в Альтдорф, расположенный на краю долины Рейса, – измученная, терпя недостаток в продовольствии и ослабленная понесенными потерями. В Альтдорфе Рейс впадает в Люцернское озеро; если бы Готце, согласно условленному плану, удалось перевести Елашича и Линкена за Линту до Швица, то он послал бы Суворову барки. Но вследствие происшедших событий Суворов не нашел судов и оказался запертым в страшной долине. Это было 26 сентября (4 вандемьера), день общего поражения союзников по всей линии. Суворову не оставалось другого выхода, как броситься в Шахенталь и через опасные горы, безо всяких дорог, проникнуть в Мутентальскую долину. На следующий день он выступил. Его люди могли пробираться по тропинке лишь поодиночке, и пришлось потратить два дня на переход в несколько лье. Первый человек был уже в Муттене, а последний еще не вышел из Альтдорфа. Склоны были покрыты повозками, лошадьми и солдатами, умиравшими от голода и усталости. Прибыв в Мутентальскую долину, Суворов мог дебушировать на Швиц или спуститься к Линте. Но со стороны Швица прибыл Массена с дивизией Мортье, с другой же стороны, у горы Брагель, находился Молитор, занимавший дефиле Клёнталь, у берегов Линты. Дав своим войскам два дня отдыха, Суворов решил отступать на Брагель. Он выступил 30 сентября (8 вандемьера); Массена атаковал его с тыла, тогда как с другой стороны Брагеля против него стоял Молитор. Розенберг храбро отражал все атаки Массена, но Багратион тщетно старался пробиться сквозь войска Монитора. Он открыл себе дорогу на Гларус, но не смог дойти до Везена. После кровавых и смертоносных сражений, отрезанный от всех дорог, отброшенный на Гларус, – Суворов не имел другого выхода, как подняться к коммуне Энги и затем спуститься к Рейну; но эта дорога была еще хуже тех, по которым он шел прежде. Однако Суворов решился на это и после четырехдневных неслыханных усилий достиг Рейна. Из 18 тысяч солдат он спас едва 10. За пятнадцать дней пало более 20 тысяч русских и 5–6 тысяч австрийцев. Армии, готовившиеся вторгнуться во Францию, были изгнаны из Швейцарии и отброшены в Германию. Коалиция рушилась, потому что Суворов, раздраженный против австрийцев, не желал более служить с ними. Можно было с уверенностью утверждать, что Франция спасена. Вечная слава генералу Массена, исполнившему одну из лучших операций, о каких только упоминает военная история, и спасшему нас в более опасную минуту, чем при Вальми и Флёрюсе! Следует удивляться победам, великим по своим замыслам и политическим результатам; но особенно нужно прославлять те, которые буквально спасают от гибели страну. Одним мы обязаны удивлением, другим – признательностью. Цюрих – лучшее украшение Массена, и лучшего не существует ни в одном военном венке.
В то время как эти счастливые события происходили в Швейцарии, победа возвращалась к нам также в Голландии. Брюн, слабо теснимый неприятелем, разбил англо-русских при Кастриюоме, запер их в Зипе и принудил капитулировать. Условием капитуляции стало очищение Голландии, возвращение всего взятого в Гельдере и освобождение без обмена 8 тысяч пленных. Желали возвращения голландского флота, но англичане в том отказывали, и тогда капитуляцию приняли просто из опасения дальнейших бедствий. Но нужно сказать, если эти великие подвиги и поддержали близкую к падению республику, если они возвратили ей некоторую славу, то не возвратили ни величия, ни могущества. Франция была спасена, но только спасена; она не заняла вновь своего политического положения и даже подвергалась опасности на Варе.
Глава LXIV
Возвращение Бонапарта – Бонапарт вступает в союз с Сийесом для низвержения директориальной конституции – Приготовления ко дню 18 брюмера – Уничтожение Конституции года III – Учреждение временного консульстваИзвестия о сражении под Цюрихом и капитуляции англо-русских войск последовали непосредственно друг за другом и успокоили умы. Столь ненавидимые русские были наконец разбиты и притом понесли такое полное поражение, что народное чувство было вполне удовлетворено. Но Италию все-таки потеряли, Вару и южной границе грозила опасность. Величие Кампо-Формио не было нам возвращено. Впрочем, самые серьезные опасности были не вне, а внутри страны. Дезорганизованное правительство, партии, не желавшие подчиняться власти и не настолько сильные, чтобы захватить ее; повсюду общественное разложение и, как признак его, разбои по большим дорогам, особенно же в провинциях, раздираемых прежде междоусобной войной; таково было положение дел. Отсрочка на несколько месяцев была обеспечена победой под Цюрихом; в настоящую минуту нуждались не столько в защитнике, сколько в человеке, который взял бы в свои руки бразды правления. Вся нация во что бы то ни стало желала спокойствия, порядка, прекращения споров, общего согласия. Французов равно пугали якобинцы, эмигранты, шуаны и все партии. Минута была весьма благоприятной для того, кто захотел бы рассеять весь этот страх. Депеши, повествующие о Сирийской экспедиции, о сражениях у горы Фавор и при Абукире, произвели необыкновенное впечатление и утвердили в обществе убеждение, что герой Кастильоне и Риволи останется победителем повсюду, где только ни покажется. Его имя было у всех на устах, и вопрос «Что он делает и когда прибудет?» раздавался со всех сторон. Невольным инстинктом как бы предугадывали его прибытие; уже два или три раза проходил слух, что Бонапарт высадился во Франции. Братья писали ему, так же как и его жена; не знали, однако, дошли ли эти письма. Мы уже видели, что они не смогли миновать английские крейсеры. Между тем этот человек, предмет столь странных желаний, плыл по морям среди английских эскадр. Плавание не было удачным, и противные ветры его замедляли. Неоднократно видели англичан и боялись сделаться их жертвой. Только Бонапарт один прогуливался по палубе со спокойным и ясным видом, вверяясь своей звезде, научаясь ей верить и не волноваться из-за неизбежных опасностей. Опасаясь, получив последние известия, чтобы неприятель не вторгся в Южную Францию, он велел направить паруса к берегам не Прованса, но Лангедока и хотел высадиться в Кольюре или Пор-Вандре. Ветер отогнал Бонапарта к Корсике, и весь остров сбежался посмотреть на своего знаменитого соотечественника. Затем паруса направили к Тулону. Были уже недалеко от последнего, когда при лучах заходящего солнца с левого борта корабля увидели тридцать неприятельских парусов. Предложили спустить в море лодку, чтобы тайком пробраться на берег. По-прежнему веря в свою звезду, Бонапарт сказал, что следует ждать. И в самом деле, неприятель исчез, и 9 октября (17 вандемьера), на восходе дня, фрегаты «Мюирон» и «Каррер» и шебеки «Реванш» и «Фортуна» стали на якоре в заливе Фрежюс. Население Прованса уже три года опасалось вторжения неприятеля. Бонапарт освободил людей от страха в 1796 году, но страх этот сделался сильнее после сражения при Нови. Узнав, что Бонапарт стоит у берега на якоре, они сочли это прибытие своим спасением. Сбежалось всё население Фрежюса, и море в одно мгновение покрылось судами. Толпа, опьяненная энтузиазмом и любопытством, осадила корабли и, вопреки всем санитарным мерам предосторожности, немедленно стала общаться с прибывшими. Все спрашивали, где Бонапарт, все желали его видеть. Не время было соблюдать санитарные правила. Санитарное управление освободило генерала от карантина, так как тогда пришлось бы применить эту меру предосторожности и ко всему населению. Бонапарт высадился немедленно и хотел в тот же день ехать в Париж. Быстрый как ветер телеграф уже распространил новости по дороге из Фрежюса в Париж, и везде они вызывали всеобщую радость. Возвещение новостей пробуждало необыкновенные порывы в театрах. Патриотические песни заменили в них обычные представления. Депутат Боден, один из авторов Конституции года III, умеренный и искренний республиканец, страстно привязанный к Республике и считавший ее погибшей, если только ее не поддержит могущественная рука, – Боден умер от радости, узнав об этом событии. Бонапарт в тот же день 9 октября отправился в Париж. Он проехал Экс, Авиньон, Баланс, Лион, и во всех этих городах его встречали с восторгом. При проезде через селения звонили колокола, ночью по дорогам зажигали костры. В Лионе чувства были сильнее, чем где-либо. Отсюда Бонапарт, желавший прибыть инкогнито, поехал по дороге, какую указали его курьеры. Его братья и жена, обманутые этим, выехали ему навстречу, между тем как Бонапарт был в Париже уже 16 октября (24 вандемьера). Он прибыл в свой дом на улице Шантерен, о чем никто и не подозревал, а через два часа отправился в Директорию. Стража узнала его и приветствовала восклицаниями «Да здравствует Бонапарт!». Он отправился к президенту Директории, тогда им был Гойе; а на следующий день представился всему составу Директории. Бонапарт открыто заявил, что, упрочив положение своей армии в Египте победами при Фаворе и Абукире и вверив командование ею генералу, способному обеспечить ее благоденствие, он лично отправился на помощь Республике, которую считал погибшей; он нашел ее уже спасенной подвигами своих собратьев по оружию, чему искренно радуется. «Никогда, – прибавил Бонапарт, положа руку на эфес своей шпаги, – никогда я не извлеку ее иначе, чем для защиты Республики!» Президент обратился к Бонапарту с комплиментами по поводу его побед и возвращения и крепко обнял его. Прием, казалось бы, был весьма лестным, но на самом деле опасения были слишком основательны и слишком оправдывались обстоятельствами, чтобы это возвращение могло быть приятно пяти республиканским правителям. Если люди пробуждаются после долгой апатии и привязываются к чему-нибудь, то привязываются страстно. В том ничтожестве, в какое впали мнения, партии и власти, некоторое время все оставались без привязанности к чему-нибудь: и люди, и вещи – всё и всем опостылело. Но при появлении необыкновенной личности, которую Восток так неожиданно возвращал Европе, всё отвращение и все колебания прекратились. К Бонапарту немедленно обратились взгляды, желания и надежды. Все генералы, занимавшие должности или уже нет, были они патриотами или умеренными, все окружили Бонапарта; это было естественно, так как он был главой этого честолюбивого и недовольного класса людей: в нем они, казалось, находили мстителя. Все министры, все чиновники, последовательно впадавшие в немилость в соответствии с колебаниями Директории, также сбегались к новоприбывшему. Казалось, их целью было только посетить знаменитого воина, на самом же деле они стремились наблюдать и льстить могущественному человеку, которому, по-видимому, принадлежала будущность. Бонапарт привез с собой не покидавших его Ланна, Мюрата и Бертье. Вскоре у него стали показываться, несмотря на разницу во мнениях, Журдан, Ожеро, Макдональд, Бернонвиль, Леклерк, Лефевр и Марбо. А затем в эту свиту вошел и сам Моро. Бонапарт встретил его у Гойе; сознавая, что личное превосходство позволяет сделать первый шаг, он обратился к Моро, выразил ему свое нетерпение в желании познакомиться с ним поближе и уважение, глубоко тронувшее последнего. Затем Бонапарт подарил генералу сабельный клинок, осыпанный камнями, и успел полностью его очаровать. К этим знаменитым воинам присоединялись люди, подвизавшиеся во всех отраслях государственной деятельности: у Бонапарта видели Брюи, бывшего морского министра, человека ума тонкого и быстрого, столь же искусно умевшего руководить переговорами, как и управлять эскадрой; и Талейрана, опасавшегося недовольства Бонапарта за то, что он не отправился с ним в Египет. Но Талейран рассчитывал, что его ум, имя и влияние заставят его принять хорошо, что и произошло на самом деле. Как Бонапарт, так и Талейран имели слишком много взаимной склонности и слишком нуждались друг в друге, чтобы длить неудовольствие. Кроме того, на улице Шантерен можно было встретить Редерера, бывшего прокурора коммуны, человека открытого и умного, и Реньо де Сен-Жан д’Анжели, бывшего члена Учредительного собрания, к которому Бонапарт привязался в Италии, а потом оставил гражданским комиссаром на Мальте, оратора блестящего и плодовитого. Но у Бонапарта собирались не только впавшие в немилость или недовольные; там показывались и главы действующего правительства. Все директоры и министры устраивали в его честь приемы, как и по возвращении из Италии. Большая часть депутатов представилась ему. Министры и директоры оказывали ему честь, приходя к нему за советами. Военный министр Дюбуа-Крансе как бы перенес свой портфель в дом Бонапарта; Мулен, тот из директоров, кто занимался военными делами, ежедневно проводил с ним часть утра; к нему ходили Гойе с Роже-Дюко, а также Камбасерес, министр юстиции, искусный юрисконсульт, чувствовавший к Бонапарту склонность; Фуше, министр полиции, желавший сменить своего терявшего влияние покровителя Барраса на покровителя нового и могущественного; Реаль, комиссар департамента Сены, горячий и великодушный патриот и вместе с тем один из умнейших людей своего времени; все они одинаково часто навещали Бонапарта и беседовали с ним о делах государства. Прошло едва восемь дней, как Бонапарт приехал в Париж, а управление делами почти невольно перешло к нему; у него просили если не распоряжений, то по крайней мере мнения. Со своей обычной сдержанностью он делал вид, что избегает внимания, предметом которого являлся; он многим отказывал, мало показывался и выходил только тайком. Лицо его сделалось худощавее и смуглее. Он носил серый сюртук и турецкую саблю на шелковой перевязи. Для тех, кто имел счастье видеть его тогда, Бонапарт стал как бы символом, напоминавшим Восток, Пирамиды, Фавор, Абукир. Офицеры гарнизона, четыре адъютанта Национальной гвардии, штаб войск, расположенных в городе, также просили о возможности быть ему представленными. Он со дня на день откладывал прием и, казалось, нехотя принимал эти знаки почтения. Он слушал, не был откровенен, ни с кем не говорил и только наблюдал. Это было политикой: когда чувствуешь себя необходимым, можно заставлять ждать себя; этим вы раздражаете любопытство людей, они сбегаются к вам, и вам остается только выбирать. Что будет делать Бонапарт? Вот вопрос, который был у всех на устах. Он доказывал, что что-то неизбежно предстоит сделать. Ему предлагали свои услуги две партии и третья, подразделение двух прочих, на условии согласования с их видами: это были патриоты, умеренные (или политики), и, наконец, порочные, pourries, как их называли, – осадок, оставшийся от прежних фракций. Патриоты остерегались Бонапарта и его честолюбия; но с их склонностью к разрушению и недостатком предусмотрительности они воспользовались бы им для ниспровержения всего, чтобы потом подумать о будущем. Впрочем, такого мнения были лишь безумцы, всегда недовольные любым порядком и считающие самой настоятельной необходимостью заботу о разрушении. Те же патриоты, которых можно было бы назвать республиканцами, опасались слишком возросшего влияния генерала и самое большое, на что соглашались, – это дать ему место в Директории; а более всего они желали бы, чтобы он отправился на границу возрождать славу нашего оружия и возвращать Республике блеск ее первых побед. Умеренные и политики, люди, боявшиеся ярости партий и особенно якобинцев, не надеявшиеся ничего получить от уже одряхлевшей конституции, желали перемен, и перемен при могущественном человеке. «Возьмите власть, дайте нам умеренную и благоразумную конституцию и обеспечьте безопасность» – таковы были желания, которые они безмолвно обращали к Бонапарту. Они составляли самую многочисленную партию. К ним же примыкали многие скомпрометированные патриоты, которые, боясь за Революцию, желали вверить ее спасение могущественному человеку. Они составляли большинство в Совете старейшин и довольно значительное меньшинство в Совете пятисот. До тех пор они следовали за великой репутацией Сийеса и тем более к нему привязывались, чем больше его третировали в Манеже. Теперь же они должны были изъявить большую готовность обратиться к Бонапарту, ибо искали силы, а последней было, конечно, больше в победоносном генерале, чем в публицисте, как бы знаменит он ни был. К порочным, наконец, принадлежали все мошенники и интриганы, желавшие сделать карьеру и составить состояние, уже обесчестившие себя таким путем или желавшие того же во что бы то ни стало. Они следовали за Баррасом и министром полиции Фуше. В их числе были люди всех партий, якобинцы, умеренные, даже роялисты. Это была не партия, но многочисленная группа. За этим перечислением нет надобности упоминать о сторонниках королевской власти. Они были приведены в полное ничтожество после 18 фрюктидора, и Бонапарт не внушал им никаких надежд. Такой человек мог думать только о себе одном и не мог взять власть с тем, чтобы передать ее другим. Они удовольствовались тем, что примкнули к врагам Директории и обвиняли ее в обычных выражениях всех партий. Бонапарт не мог колебаться в выборе между партиями. Патриоты совсем не подходили его планам: одни, привязанные к существующему порядку, остерегались его честолюбия; другие желали насильственного переворота и нескончаемых волнений. С ними нельзя было создать ничего прочного, к тому же они шли против течения времени и, так сказать, выдыхались. Порочные сами по себе ничего не значили, они могли лишь играть какую-то роль в правительстве, куда, естественно, втерлись бы, так как это всегда составляло исключительный предмет их желаний. Впрочем, на них не стоило обращать внимания, потому что они сами обратились бы к тому, кто имел больше шансов достичь верховной власти, а сами лишь желали получить выгодные места и деньги. Бонапарт мог опереться только на партию, выражавшую потребности всего населения, желавшую защитить Республику от покушений фракций и устроить ее наиболее прочным образом. В выборе нельзя было сомневаться: самый инстинкт подсказывал народу кандидатуру. Бонапарт с ужасом смотрел на людей необузданных и с отвращением – на порочных. Ему могли нравиться лишь умеренные, желавшие, чтобы управляли за них. Эти же люди составляли большинство нации. Но следовало ждать предложений партий, наблюдать за их предводителями и решать, с кем из них можно вступить в союз.
Все партии имели своих представителей в Директории: патриоты – Мулена и Гойе, порочные – Барраса, политики и умеренные – Сийеса и Роже-Дюко. Гойе и Мулен, искренние и честные патриоты, более умеренные, чем их партия, вследствие того, что находились у кормила власти, удивлялись Бонапарту; но они желали воспользоваться его шпагой лишь для славы Конституции года III и хотели послать его в армию. Бонапарт обращался с ними весьма почтительно; уважал их честность, так как всегда ценил последнюю у людей (естественная и не бескорыстная склонность у человека, рожденного для правления). К тому же эти знаки внимания были средством показать, что он чтит истинных республиканцев. Его жена близко сошлась с женой Гойе. Она тоже вела свою политику и говорила госпоже Гойе: «Моя дружба с вами будет отвечать на все клеветы». Баррас, чувствовавший приближение конца своего политического поприща и видевший в Бонапарте неизбежного преемника, глубоко его ненавидел. Он согласился бы по-прежнему льстить ему, но чувствовал, что тот презирает его более чем когда-либо и держит себя отстраненно. Бонапарт же с каждым днем испытывал всё большее отвращение к этому невежественному, пресыщенному и порочному эпикурейцу. Название порочные, данное им Баррасу и окружавшим его людям, достаточно показывает его отвращение и презрение. Итак, Бонапарта нелегко было бы склонить к союзу с Баррасом. Оставалась действительно важная личность – Сийес, который увлекал за собой и Роже-Дюко. Призвав его в Директорию, этим, казалось, отдавали власть в его руки. Бонапарт даже досадовал на то, что тот занял первое место в его отсутствие, на минуту остановил на себе умы, заставил испытывать надежды; он чувствовал против Сийеса раздражение, которое нельзя было объяснить. Хоть и разные в свойствах ума и привычках, они имели достаточно умственного превосходства, чтобы понять и простить друг другу несходство характеров, но вместе с тем – слишком много гордости, чтобы делать взаимные уступки. К несчастью, они еще не говорили между собой, а два великих ума, не льстящие друг другу, естественным образом являются врагами. Они наблюдали друг за другом, каждый ожидал, чтобы другой сделал первый шаг. Они встретились на обеде у Гойе. Бонапарт чувствовал себя значительно выше генерала Моро, чтобы первому искать с ним сближения; но он не считал возможным делать то же в отношении Сийеса и потому не заговаривал с ним. Сийес также хранил молчание. Они расстались в бешенстве: «Видели ли вы этого маленького наглеца, – сказал Сийес, – он даже не раскланялся с членом правительства, которое должно было бы его расстрелять». «Что за мысль, – говорил Бонапарт, – ввести этого святошу в Директорию?! Он предан Пруссии и, если не остерегутся, предаст ей и вас». Итак, человек, которого Бонапарту более всех хотелось склонить на свою сторону, был тем, с которым он чувствовал близость менее всего. Но их интересы были до такой степени тождественны, что они должны были, вопреки самим себе, стать сторонниками. В процессе этого выжидания визиты людей к Бонапарту всё учащались; он, колеблясь в своем решении, хотел выпытать у Гойе и Дюко, согласятся ли они на назначение его директором, несмотря на то, что он не достиг нужного возраста. Бонапарт хотел войти в правительство на место Сийеса. Без сомнения, это был бы весьма неполный успех, но в то же время средство достичь власти, не прибегая к революции; а раз ее достигнув, дальше уже можно было ждать. Был Бонапарт искренен или хотел обмануть своих сотоварищей, что весьма возможно, и убедить их, что его честолюбие не идет дальше места в Директории, – но он старался их разговорить и нашел несговорчивыми в отношении возраста. Они считали, что даже согласие на это советов было бы нарушением конституции. Следовало отказаться от этой мысли. Оба директора, Гойе и Мулен, начинавшие беспокоиться из-за стремления Бонапарта к политическим должностям, решили удалить его, предоставив ему командование армией. Сийес был другого мнения, он сказал с признаком досады, что, вместо того чтобы доставить Бонапарту случай приобрести новую славу, следовало, напротив, забыть его и заставить других забыть его. Когда зашла речь об отправлении Бонапарта в Италию, Баррас заявил, что он уже достаточно хорошо устроил там свои дела, чтобы желать вновь там показываться. Наконец решили пригласить Бонапарта принять командование армией, предоставляя самому сделать выбор. По требованию Директории Бонапарт явился на заседание. Он уже слышал об отзыве Барраса. Прежде чем ему объяснили цель вызова, он сам начал говорить громким и грозным тоном, напомнил выражения, на которые мог жаловаться, и, глядя на Барраса, прямо сказал, что если и приобрел состояние в Италии, то по крайней мере не в ущерб Республике. Баррас молчал. Президент Гойе отвечал Бонапарту, что правительство вполне убеждено в том, что его лавры – единственное состояние, какое Бонапарт вынес из Италии. Затем он сказал ему, что Директория приглашает его принять командование и предоставляет к тому же выбор армии. Бонапарт холодно отвечал, что еще недостаточно отдохнул от трудов, что на него сильно подействовал переход от сухого климата к сырому и ему еще нужно некоторое время, чтобы поправить свое здоровье. Он не дал дальнейших объяснений и быстро удалился. Подобный факт должен был предупредить директоров о его видах и предостеречь его самого насчет их подозрений. Этот визит стал поводом поторопиться с развязкой: братья Бонапарта и его советники Редерер, Реаль, Реньо де Сен-Жан д’Анжели, Брюи и Талейран ежедневно приводили к нему членов умеренной и политической партий обоих советов. Это были в Совете пятисот – Буле де ла Мёрт, Годен, Газаль, Кабанис, Шенье; а в Совете старейшин – Корнюде, Лемерсье, Фарт и Дону. По их мнению, следовало объединиться с партией, стремящейся к изменениям, с партией реформаторов и Сийесом, имевшим наготове и конституцию, и большинство в Совете старейшин. Бонапарт вполне разделял их мнения и сознавал, что другого выбора нет; но для этого ему следовало сблизиться с Сийесом, что оставалось затруднительным. Однако общие цели были столь важны и имелись столь тонкие и искусные посредники, что сближение не могло не последовать. Талейран сумел бы примирить и не такие гордыни. Вскоре завязались переговоры, которые и привели к желаемому соглашению. Условились, что Франции, при участии Сийеса и Бонапарта, будет дана прочная конституция; не касаясь формы и сущности этой конституции, подразумевалось, что она будет республиканской, освободит Францию от болтунов и обеспечит двум объединившимся могущественным умам значительное влияние. Итак, Бонапарт решил действовать вместе с Сийесом и Роже-Дюко. Он по-прежнему держался отстраненно по отношению к Баррасу, уважительно относился к Гойе и Мулену, и сдержанно – ко всем трем. Но Фуше с большим сожалением наблюдал отдаление Бонапарта от Барраса и был весьма опечален, что Баррас ничего не делает, чтобы помешать этому отдалению. Фуше уже совсем было решил перейти в лагерь нового Цезаря, но, руководимый последними остатками стыдливости, колебался покинуть своего покровителя и хотел увлечь его за собою. Довольно хорошо принятый у Бонапарта как министр полиции, он старался преодолеть его отвращение к Баррасу; в этом ему помогали Реаль, Брюи и другие советники генерала. Думая, что преуспел в этом, Фуше склонил Барраса пригласить Бонапарта к себе на обед. Баррас послал приглашение на 8 брюмера. Бонапарт приехал. После обеда они начали разговаривать о делах, но ни тот ни другой не хотели высказаться откровенно. Баррас первым начал разговор о предмете свидания. Надеясь, без сомнения, что Бонапарт будет утверждать противное, он заявил, что болен, одряхлел и принужден отказаться от дел. Видя, что Бонапарт продолжает хранить молчание, Баррас прибавил, что Республика дезорганизована, для чувствовали к нему лишь презрение и недоверие; реформаторы видели в нем лишь человека, потерявшего значение. Ему оставались интриги с роялистами, с помощью эмигрантов, которых он прятал у себя. Интриги эти велись уже давно, с 18 фрюктидора. Баррас сообщил о них Директории и получил разрешение их продолжать, дабы держать в своих руках нити контрреволюции. Таким образом он подыскал себе средство изменить или Республике, или претенденту. В настоящую минуту с последним шли переговоры об уплате нескольких миллионов в качестве вознаграждения за содействие его реставрации. Весьма возможно, впрочем, что Баррас и не был искренен с претендентом, так как все его склонности были на стороне Республики; но знать положительно предпочтения этого старого развратника было весьма затруднительно, может быть, и сам он их не знал точно. Фуше, в отчаянии считая своего патрона погибшим и не желая сам быть скомпрометированным его падением, удвоил свои заискивания перед Бонапартом. Тот, остерегаясь подобного человека, скрывал от него все свои тайны, но Фуше не охладевал, так как считал победу Бонапарта вполне упроченной, и решил смягчить его суровость своими услугами. В его руках была полиция, и, управляя ею искусно, он знал, что повсюду плетут заговоры, но остерегся предупреждать о том Директорию, большинство которой из Гойе, Мулена и Барраса могло заставить эти открытия пагубно отозваться на заговорщиках.
Прошло лишь пятнадцать дней с тех пор, как Бонапарт прибыл в Париж, а почти всё уже было готово. Бертье, Данн и Мюрат ежедневно вербовали офицеров и генералов. Бернадотт из зависти, Журдан из преданности Республике, а Ожеро из якобинства отступились от них и сообщили свои опасения патриотам в Совете пятисот; но большинство военных было завербовано. Моро, искренний республиканец, но подозрительный для господствовавших патриотов, недовольный Директорией, так дурно вознаградившей его таланты, – имел прибежище лишь в Бонапарте; привлекаемый, ласкаемый, без неудовольствия переносивший над собою начальство, он объявил, что станет помогать всем его планам. Он не желал быть посвященным в тайну, так как имел отвращение к политическим интригам, но просил лишь, чтобы его призвали участвовать в минуту исполнения.
 Люсьен Бонапарт
Люсьен Бонапарт
В Париже находились 8-й и 9-й драгунские полки, служившие прежде под командованием Бонапарта в Италии и вполне ему преданные. Двадцать первый полк конных егерей, организованный им, когда он командовал Внутренней армией, и в рядах которого прежде служил Мюрат, также принадлежал Бонапарту. Эти полки просили права пройти мимо него церемониальным маршем. Офицеры гарнизона и штаб-офицеры Национальной гвардии просили представления и до сих пор его не добились. Бонапарт всё откладывал, рассчитывая, что этот прием поспособствует его замыслам. Оба его брата, Луи и Жозеф, так же как и депутаты его партии, с каждым днем приобретали всё новых сторонников в советах. На 6 ноября (15 брюмера) было назначено свидание Бонапарта с Сийесом: они должны были окончательно условиться о плане и о средствах к его выполнению. В тот же день советы должны были дать в честь Бонапарта обед, как это было при возвращении его из Италии, с той лишь разницей, что теперь его не давали официально. Но Совет пятисот, в первую минуту назначивший Люсьена президентом, чтобы выказать этим почтение генералу, выражал теперь недоверие и отказывался дать обед. Тогда решили, что обед будет дан по подписке, подписавшихся собралось от шести до семи сотен человек; обед дали в церкви Святого Сюльпиция; он получился холодным и молчаливым: все наблюдали друг за другом и хранили глубокое молчание. Было очевидно, что все ждут важного события, в которое вовлечены многие присутствовавшие. Бонапарт был мрачен и озабочен, что было весьма естественно, так как ему предстояло назначить час и место заговора. Едва обед кончился, Бонапарт встал, обошел с Бертье столы по кругу, обратился с несколькими словами к депутатам и затем поспешно удалился. Он отправился к Сийесу договариваться о последних распоряжениях. Сначала условились о том, какое правительство заменит существующее; решили на три месяца распустить советы, заменить пять директоров тремя временными консулами, которые на три месяца облекались бы родом диктатуры и занялись бы составлением конституции. Бонапарт, Сийес и Роже-Дюко должны были стать этими консулами. Затем требовалось изыскать средства привести этот план в исполнение. Сийес имел большинство в Совете старейшин; и поскольку ежедневно говорили о мятежных планах якобинцев, то придумали представить, будто с их стороны на национальное представительство готовится покушение. Комиссия инспекторов старейшин, также находившаяся в распоряжении Сийеса, должна была предложить перенести законодательный корпус в Сен-Клу. И в самом деле, конституция давала это право Совету старейшин. К последней мере совет должен был добавить другую, уже не разрешаемую ему конституцией, – вверить по своему выбору какому-нибудь генералу, то есть Бонапарту, заботу оперенесении законодательного корпуса и в то же время командование 17-м военным округом и всеми войсками, расположенными в Париже. Бонапарт со своими войсками должен был сопровождать законодательный корпус в Сен-Клу; там надеялись обуздать Совет пятьсот и вырвать у депутатов декрет о временном консульстве; в этот же самый день Сийес и Роже-Дюко должны были подать в отставку. То же самое предполагали заставить сделать Барраса, Гойе и Мулена. Совету пятисот сказали бы тогда, что правительства больше нет, и принудили бы назначить трех консулов. Этот план был составлен образцово: всегда, когда хотят совершить революцию, следует, насколько возможно, скрывать незаконный образ действий, для уничтожения конституции пользоваться ее же выражениями, а для ниспровержения правительства – призывать его же членов. Днем, когда предполагали добиться перенесения советов, назначили 18 брюмера (9 ноября), а на 19-е назначили решительное заседание в Сен-Клу. Сийес и Бонапарт разделили между собой эту задачу: меры, которыми следовало добиться перенесения, были вверены Сийесу и его друзьям; Бонапарт же брал на себя организацию вооруженной силы и ввод войск в Тюильри. Условившись обо всем, они разошлись. Везде распространялись слухи, что готовится что-то необычайное. Так всегда и бывает; из революций удаются только те, о которых узнают заблаговременно. К тому же Фуше остерегался предупреждать трех директоров, остававшихся вне заговора. Дюбуа-Крансе, несмотря на свое глубокое уважение к просвещенному взгляду и знаниям Бонапарта в военном деле, был горячим патриотом; до него дошел слух о замысле, он поспешил донести о нем Гойе и Мулену, но ему не поверили. Хотя они и подозревали великое честолюбие, но только не готовый уже к взрыву заговор. Баррас видел движение, но чувствовал себя окончательно погибшим и трусливо предоставлял событиям идти своим чередом. Комиссии Совета старейшин под председательством депутата Корне поручили подготовить всё для декрета перенесения. Закрыли ставни и спустили шторы, чтобы освещение не подало публике знака о ночной работе, производившейся в бюро комиссии. Совет старейшин решили созвать к семи часам, а Совет пятисот – к одиннадцати. Таким путем декрет о перенесении должен был быть издан прежде, чем пятьсот собрались бы на заседание; а поскольку всякие обсуждения после декретирования перенесения воспрещались конституцией, то изданием такого декрета закрывали трибуну Совета пятисот и освобождали себя от затруднительных объяснений. Кроме того, приняли другую меру предосторожности – умышленно запоздали с отправлением некоторым депутатам повестки о созыве, вследствие чего были уверены, что те, кого опасались, явятся лишь тогда, когда решение будет принято. Бонапарт, со своей стороны, принял все необходимые предосторожности. Он потребовал к себе командовавшего 9-м драгунским полком полковника Себастиани с целью осведомиться у него о настроении полка. Полк этот состоял из четырехсот пеших и шестисот всадников; в нем много было молодых солдат, но старые солдаты Арколе и Риволи задавали в нем настроение. Полковник отвечал за полк перед Бонапартом. Было условлено, что под предлогом смотра он в пять часов выведет полк из казарм и распределит своих людей частично на площади Революции, а частично в саду Тюильри, сам же с двумястами всадниками займет улицы Монблан и Шантерен. Бонапарт объявил полковникам других кавалерийских полков, что устроит смотр 18-го. Офицеров, так долго желавших быть ему представленными, известили, что они будут приняты утром того же дня. Моро и прочие генералы были приглашены собраться на улице Шантерен к тому же часу. В полночь Бонапарт послал своего адъютанта к Лефевру, приглашая его к себе к шести часам утра. Лефевр был вполне предан Директории, но Бонапарт рассчитывал, что он не устоит перед его обаянием. Ни Бернадотт, ни Ожеро предупреждены не были. Чтобы обмануть Гойе, Бонапарт сумел заставить его пригласить себя на обед, и в то же время, чтобы склонить его подать в отставку, через жену пригласил его к себе утром следующего дня на завтрак. Восемнадцатого утром началось движение, неожиданное даже для тех, кто ему содействовал. Многочисленная кавалерия разъезжала по бульварам; все генералы и офицеры, бывшие в Париже, отправлялись в парадной форме на улицу Шантерен, не подозревая о стечении военных, какое должны были там встретить. Депутаты Совета старейшин спешили к своему посту, изумленные неожиданным созывом. Члены Совета пятисот большей частью и не подозревали о готовившемся. Гойе, Мулен и Баррас находились в полнейшем неведении; но Сийес, с некоторого времени бравший уроки верховой езды, и Роже-Дюко были уже на лошадях и направлялись в Тюильри. Как только старейшины собрались, президент комиссии инспекторов начал говорить. «Комиссия, на которую было возложено охранение безопасности собрания, – сказал он, – узнала, что строятся зловещие заговоры, что заговорщики толпами стекаются в Париж и готовят покушения против свободы национального представительства». Депутат Корне добавил, что в руках старейшин имеется средство спасти республику, которым они и должны воспользоваться. Следует перенести законодательный корпус в Сен-Клу, вне покушений заговорщиков, а между тем поручить охрану общественного спокойствия генералу, способному ее обеспечить, то есть Бонапарту. Едва чтение этого предложения и содержавшего его декрета было окончено, как в совете обнаружилось некоторое беспокойство. Кто-то пожелал воспротивиться предложению; Корнюде, Лебрен, Фарт и Ренье его поддержали. Имя Бонапарта и поддержка, которой от него ждали, склонила большинство на его сторону. В восемь часов декрет был принят. Он переносил советы в Сен-Клу и созывал их на заседание завтра в двенадцать часов дня. Бонапарт назначался главнокомандующим 17-го военного округа, стражи законодательного корпуса, стражи Директории, Парижской национальной гвардии и окрестностей. Нынешний командующий 17-м военным округом Лефевр подчинялся Бонапарту. Последний получил приказ явиться к решетке совета за получением декрета и принесением присяги президенту. Назначили вестника, который должен был немедленно отправиться к генералу с декретом. Посланцем стал тот же депутат Корне; он нашел все бульвары запруженными многочисленной кавалерией, а улицы Монблан и Шантерен наполненными генералами и офицерами в парадной форме; все спешили представиться генералу Бонапарту. Так как салоны последнего были слишком малы, чтобы вместить такое значительное число посетителей, он велел открыть двери и, выйдя на крыльцо, обратился к офицерам с речью. Он сказал им, что Франция в опасности и что он рассчитывает на их помощь для ее спасения. Депутат Корне представил декрет. Бонапарт схватил документ, прочитал его вслух и спросил, может ли рассчитывать на поддержку присутствующих. Все отвечали, положа руки на свои шпаги, что готовы помогать ему. Он обратился также к Лефевру, который к тому времени, обнаружив движение войск без его приказания, спросил полковника Себастиани, что это означает; полковник, не отвечая ему, пригласил войти к Бонапарту. Лефевр вошел с досадой. – Ну, Лефевр! – сказал Бонапарт. – Вы, одна из опор Республики, хотите ли вы оставить ее в руках этих адвокатов? Объединитесь со мною, чтоб помочь мне ее спасти. Вот, – прибавил Бонапарт, беря саблю, – вот сабля, которая была со мной при Пирамидах; я отдаю ее вам как залог моего уважения и доверенности. – Да, – ответил растроганный Лефевр, – бросим адвокатов в воду! Жозеф привел с собой Бернадотта; но тот, поняв, в чем дело, удалился, чтобы предупредить патриотов. Фуше, уведомленный о событии, приказал запереть заставы и приостановить отправления курьеров и общественных карет. Он поспешил предупредить о том Бонапарта и принести ему изъявления своей преданности. Бонапарт, оставлявший его до тех пор в стороне, не оттолкнул его, но сказал, что эти предосторожности напрасны, что нет надобности ни закрывать заставы, ни приостанавливать обычного сообщения и что он действует заодно с нацией и рассчитывает на нее.
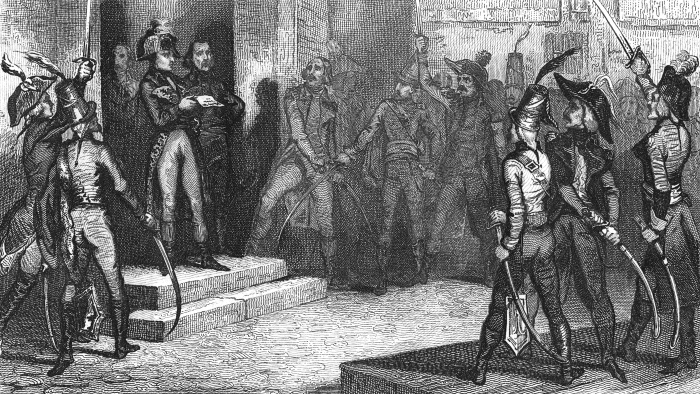 В Совете старейшин
В Совете старейшин
В то же время Бонапарт узнал, что Гойе не пожелал воспользоваться его приглашением; он был этим несколько раздосадован и велел сообщить Гойе через посредника, что тот лишь губит себя напрасным сопротивлением. Затем Бонапарт сел на лошадь и отправился в Тюильри – принести присягу Совету старейшин. Почти все генералы собрались вокруг него и составляли его свиту. Моро, Макдональд, Бертье, Лани, Мюрат, Леклерк ехали позади его, как подчиненные. Бонапарт нашел в Тюильри отряд 9-го полка, обратился к нему с речью и, воодушевив солдат, вошел во дворец. Он представился старейшинам, окруженный своим блистательным Главным штабом. Его присутствие произвело живое впечатление и доказало старейшинам, что они объединились с могущественным человеком, у которого есть все необходимые средства привести к удачному исходу государственный переворот. Бонапарт подошел к решетке со словами: – Граждане представители, Республика была близка к гибели, ваш декрет ее спасает! Горе тем, кто вздумает противиться его исполнению; с помощью моих товарищей по оружию, собравшихся здесь вокруг меня, я сумею предупредить их усилия. Тщетно ищут в прошедшем примеры, чтобы обеспокоить вас; в истории нет ничего похожего на XVIII век, а в этом веке нет ничего, что походило бы на его конец… Мы хотим республики… Мы хотим ее, основанной на истинной свободе, на представительном правлении… И мы будем ее иметь, я клянусь в том моим именем и именем моих товарищей по оружию… – Мы все клянемся! – повторили генералы и офицеры, стоявшие у решетки. Выражения, в которых Бонапарт принес присягу, были весьма ловки, так как он избежал с их помощью присяги собственно конституции. Один из депутатов, попросил слова, чтобы отметить этот факт: президент отказал ему на том основании, что декрет о перенесении воспрещает всякие обсуждения. Разошлись тотчас же. Бонапарт отправился в сад, сел на лошадь и в сопровождении всех генералов устроил смотр полкам гарнизона, подходившим последовательно. Он обратился к солдатам с краткой и энергичной речью и сказал, что им предстоит совершить революцию, которая возвратит им изобилие и славу. Крики: «Да здравствует Бонапарт!» раздались в рядах. Погода была прекрасная, стечение толпы – необыкновенное: всё, казалось, помогало затее, вследствие которой беспорядок должен был смениться абсолютной властью. В это время Совет пятисот, предупрежденный о готовившейся революции, в смятении собирался в зале заседаний. Едва успев сойтись, депутаты получили послание старейшин, заключавшее декрет о перенесении. При этом чтении раздалось множество голосов, но президент Люсьен Бонапарт заставил их умолкнуть в силу конституции, воспрещавшей дальнейшие обсуждения; самые горячие из пятисот, бегая от одного депутата к другому, образовали сходки, чтобы иметь возможность разделить с кем-нибудь негодование и придумать средства к сопротивлению. Патриоты предместий волновались и бушевали вокруг Сантерра. Между тем Бонапарт, окончив смотр войскам, прибыл в Тюильри и явился в комиссию инспекторов старейшин. Комиссия инспекторов пятисот уже примкнула к новой революции и готова была содействовать происходящему. В комиссии инспекторов и должны были быть отданы все распоряжения для исполнения перенесения. Бонапарт не оставлял ее. Туда же явился министр юстиции Камбасерес, то же со своей стороны сделал Фуше. Сийес и Роже-Дюко прислали туда свои отставки. Нужна была отставка еще третьего директора, так как тогда, за выбытием большинства, не стало бы больше исполнительной власти и можно было не опасаться последнего энергичного акта с ее стороны. Не надеялись на то, чтобы в отставку подали Гойе и Мулен; к Баррасу послали Талейрана и адмирала Брюи. Затем Бонапарт распределил командование войсками. Мюрату с многочисленной кавалерией и отрядом гренадеров было поручено занять Сен-Клу. Серюрье с резервом был оставлен в Пале-Рояле. Командование войсками, охранявшими Тюильри, было возложено на Ланна. Бонапарт дал Моро поручение – странное и менее всех почетное в этом важном событии: он приказал ему с пятьюстами человек отправиться охранять Люксембург. Моро получил инструкцию стеречь директоров под предлогом охранения их безопасности и воспретить им всякое постороннее сообщение. Бонапарт дал также предписание командиру стражи Директории повиноваться ему, оставить со своими войсками Люксембург и идти в Тюильри. Наконец, с помощью Фуше приняли последнюю и важную предосторожность. Директория имела право приостанавливать работу муниципалитетов; министр полиции Фуше, как бы уполномоченный на то Директорией, лишил всякой власти все двенадцать муниципалитетов Парижа. Вследствие такой меры патриоты лишались сборного пункта как в Директории, так и в двенадцати коммунах. Фуше велел вывесить объявления, приглашая граждан к порядку и спокойствию и заверяя их в том, что сделано всё возможное для спасения Республики. Эти меры удались вполне. Власть Бонапарта была признана повсюду, хотя Совет старейшин и поступил неконституционно, вручив ее ему: и в самом деле, депутаты имели право издать постановление о перенесении, но не могли назначить начальника над войсками. Моро отправился в Люксембург и оцепил его со своими пятьюстами солдатами. Командир директориальной стражи Жюбе, немедленно повинуясь полученным приказаниям, велел своим людям сесть на лошадей и выступил из Люксембурга в Тюильри.
Между тем три директора, Мулен, Гойе и Баррас, находились в страшном беспокойстве, обнаружив наконец заговор, которого раньше не замечали. Гойе и Мулен отправились на квартиру к Баррасу – спросить, желает ли он твердо держаться с ними и образовать большинство. Баррас был в ванне и только узнал, чем Бонапарт занимается в Париже. «Этот человек, – воскликнул он гневно, – обманул нас!» Баррас пообещал своим товарищам объединиться с ними – он всегда и всем всё обещал – и одновременно послал своего секретаря Ботто в Тюильри разузнать, в чем дело. Едва его оставили Гойе и Мулен, как Баррас попал в руки Талейрана и Брюи. Его нетрудно было заставить оценить безвыходное положение, в котором он находился, и можно было не опасаться, что он предпочтет славную гибель, защищая Директорию. Баррасу пообещали спокойствие и богатство, и он согласился подать в отставку. Составили письмо, которое он подписал, а Талейран и Брюи поспешили представить его Бонапарту. С этой минуты Гойе и Мулен напрасно пытались проникнуть к Баррасу и узнали, что он уже подал в отставку. Оставшись одни, не имея более права совещаться, они не знали, что предпринять, но хотели честно выполнить свои обязанности в отношении Конституции года III. Они решили отправиться в комиссию инспекторов, чтобы спросить у своих двух сотоварищей, Сийеса и Дюко, желают ли они объединиться с ними, чтобы вновь образовать большинство и по крайней мере обнародовать декрет о перенесении. Это было печальное средство: не оставалось иной возможности собрать вооруженную силу и поднять знамя, чем с помощью Бонапарта; к тому же бесполезно было идти в Тюильри и вызывать Бонапарта среди его лагеря и всех его сил. Тем не менее директоры прибыли туда, в чем им не препятствовали. Они нашли Бонапарта окруженным Сийесом, Дюко, толпой депутатов и многочисленным штабом. Ботто, секретарь Барраса, был только что весьма дурно принят. Бонапарт, возвысив голос, сказал ему: «Что сделали из Франции, которую я оставил в таком блестящем положении? Я оставил мир – нашел войну; я оставил победы – нашел поражения; оставил миллионы Италии – и нашел грабительские законы и нищету. Что стало с сотней тысяч французов, моих товарищей по оружию? Они мертвы!» Но в эту минуту пришло известие об отставке Барраса, которое успокоило генерала. Он сказал Гойе и Мулену, что весьма рад их видеть, что рассчитывает на их отставку, так как считает их слишком добрыми гражданами, чтобы противиться неизбежной и спасительной революции. Гойе отвечал, что пришел со своим товарищем Муленом лишь для того, чтобы трудиться для спасения Республики. – Да, – прервал его Бонапарт. – Спасти, а как? С помощью конституции, которая рушится со всех сторон? – Кто вам сказал это? – возразил Гойе. – Люди, у которых нет ни мужества, ни воли действовать согласно с ней. В это время Бонапарту принесли записку, в которой сообщалось о волнениях в Сент-Антуанском предместье. – Генерал Мулен, – сказал Бонапарт, – вы не родственник Сантерра? – Нет, – отвечал Мулен, – я не родственник его, но друг. – Мне сообщают, что его люди волнуются в предместьях; скажите ему, что при первом движении с его стороны я его расстреляю. Опять начались пререкания с Гойе. В конце концов Бонапарт сказал ему: – Республика в опасности, ее следует спасти… Я того хочу. Сийес и Дюко подали в отставку; Баррас только что сделал то же. Вы остаетесь вдвоем, бессильные, не в состоянии ничего сделать; я приглашаю вас не сопротивляться. Гойе и Мулен отвечали, что не оставят своих постов. Они возвратились в Люксембург и, по приказанию Бонапарта, отданному Моро, находились с того времени под арестом, отделенные один от другого и не имея ни с кем сообщения. Баррас отправился в свое поместье Гросбуа, конвоируемый отрядом драгун. Итак, исполнительной власти более не существовало! Вся сила находилась в руках одного Бонапарта. Все министры собрались около него в комиссии инспекторов. Все приказания исходили оттуда, как из единственного пункта, где существовала организованная власть. День кончился довольно спокойно. Патриоты составляли многочисленные сходки, предлагали отчаянные решения, но сами не верили в возможность их исполнения, до такой степени они опасались влияния Бонапарта на войска! Вечером в комиссии инспекторов держали совет. Предметом совещаний с главнейшими членами Совета старейшин были завтрашние действия в Сен-Клу. По плану, обговоренному с Сийесом, предложили отсрочку заседаний советов и назначение временного консульства. Многие старейшины, содействовавшие постановлению декрета о перенесении, теперь начинали пугаться господства военной партии. Они желали бы только иного состава Директории и, несмотря на возраст Бонапарта, согласились бы сделать его директором. Но Бонапарт решительным тоном отвечал, что конституция уже не может действовать, что требуется более сосредоточенная власть, а главное – отсрочка всех политических споров, волновавших общество. Итак, были предложены и после довольно продолжительного обсуждения приняты: назначение трех консулов и приостановка заседаний советов до 20 февраля (1 вантоза). Консулами предполагалось выбрать Бонапарта, Сийеса и Роже-Дюко. Проект собирались предложить на следующий день утром в Сен-Клу. Сийес, отлично знакомый с революционными настроениями, хотел было арестовать сорок вожаков Совета пятисот, но Бонапарт не захотел этого, в чем потом раскаялся.
Ночь прошла спокойно. На следующий день утром, 10 ноября (19 брюмера), дорогу в Сен-Клу покрывали войска, кареты и любопытные. В замке приготовили три залы: одну для Совета старейшин, другую для Совета пятисот, третью для комиссии инспекторов и Бонапарта. Приготовления должны были быть окончены к полудню, но продлились до двух часов пополудни. Это промедление чуть не стало гибельным для организаторов новой революции. Депутаты советов прогуливались по садам Сен-Клу и с жаром спорили друг с другом. Депутаты Совета пятисот, раздраженные тем, что были фактически сосланы старейшинами прежде, чем им дали возможность что-нибудь сказать, спрашивали, что же старейшины предполагают делать сегодня? «Правительство удалено, – говорили они, – пусть так, и мы согласны, что необходимо организовать его вновь. Желаете ли вы вместо людей малоспособных и имеющих подмоченные репутации ввести в него людей значительных? Хотите вы ввести в него Бонапарта?.. Хоть он и не достиг необходимого возраста, мы согласны на это». Эти настойчивые вопросы вызвали затруднение у членов Совета старейшин. Следовало признаться, что желали другого и составили проект ниспровержения конституции. Некоторые намекали на эти решения, но были дурно приняты. С этой минуты настроения законодательного корпуса изменились и проект революции был весьма скомпрометирован. Бонапарт был верхом во главе своих войск; Сийес и Дюко держали наготове дилижанс, запряженный шестеркой и ожидавший их у решетки Сен-Клу. То же сделали и многие другие на случай неудачи. Сийес, впрочем, выказал редкое хладнокровие и присутствие духа. Боялись, что Журдан, Ожеро и Бернадотт обратятся с речью к солдатам, и отдали приказ заставить замолчать всякого, кто вздумал бы говорить с войсками, будь то народный представитель или генерал. Заседание обоих советов открылось в два часа. В Совете старейшин занялись составлением оповещения для Совета пятисот о готовности приступить к обсуждению. В Совете пятисот совещания начались иначе. Депутат Годен, которому Сийес и Бонапарт поручили открыть заседание, сначала стал говорить об опасностях, грозивших Республике, а затем представил два предложения: первое – поблагодарить старейшин за перенесение законодательного корпуса в Сен-Клу, и второе – образовать комиссию для составления доклада об опасностях, грозивших Республике, и о мерах, какими бы их следовало предотвратить. Если б эти предложения приняли, доклад был бы уже готов и предложили бы временное консульство и приостановление заседаний. Но едва Годен замолкает, как разражается страшная буря. Раздаются оглушительные крики; повсюду слышится: «Долой диктаторов, не нужно диктатуры, да здравствует конституция!» – Конституция или смерть! – восклицает Дельбрель. – Штыки не испугают нас, мы свободны. Эти слова сопровождаются новыми криками. Некоторые депутаты повторяют, прямо глядя президенту Люсьену Бонапарту в глаза: – Не нужно диктатуры, долой диктаторов! На эти оскорбительные крики Люсьен отвечает: – Я слишком сознаю достоинство президента, чтобы долее переносить дерзкие угрозы некоторых ораторов; я призываю их к порядку. Это напоминание, однако, не останавливает депутатов и делает нападки еще яростнее. Наконец Гранмезон предлагает присягнуть Конституции года III. Предложение принимается. Требуют поименной переклички; принимают и это. Депутаты поочередно всходят на трибуну и приносят присягу при криках и аплодисментах всех присутствующих. Люсьен сам вынужден сойти с кресла и дать присягу, которая направлена против всех планов его брата. События принимают опасный оборот. Вместо назначения комиссии для проведения реформ Совет пятисот дает присягу существующему порядку, а поколебленные старейшины уже готовы отступить. Революции грозит полная неудача. Ожеро, Журдан и влиятельные патриоты ожидают в Сен-Клу благоприятного случая склонить на свою сторону войска. Бонапарт и Сийес немедленно решают, что следует действовать и вернуть колеблющихся. Бонапарт идет представиться советам во главе своего штаба. Он встречает Ожеро, и тот насмешливо говорит ему: – Вы теперь в изящном положении! – При Арколе дела шли значительно хуже! – возражает Бонапарт и отправляется к решетке. Он не привык выступать в собраниях. Говорить публично в первый раз затруднительно даже для самых твердых людей и при обыкновенных обстоятельствах; при подобных же событиях это должно было быть еще затруднительнее. Взволнованный, Бонапарт просит слова и говорит прерывистым, но твердым голосом: – Граждане представители, вы находитесь не в обыкновенных обстоятельствах, вы стоите на вулкане. Вы обнаружили Республику в опасности и перенесли законодательный корпус в Сен-Клу; вы призвали меня обеспечить исполнение ваших декретов. Повинуясь вам, я покинул свое жилище, и вот нас уже осыпают клеветами, меня и моих товарищей: говорят о новом Кромвеле и новом Цезаре. Граждане, если бы я хотел такой роли, мне было бы легко принять ее при моем возвращении из Италии, в минуту триумфа. Я этого не хотел тогда, не хочу и теперь. Только опасность, в которой находится отечество, побуждает меня к действию! Затем Бонапарт по-прежнему взволнованным голосом обрисовывает сложное положение республики, раздираемой партиями, угрожаемой новой междоусобной войной на западе и вторжением на юге. – Предупредим, – прибавляет он, – столько бедствий. Спасем две вещи, которые стоили нам уже стольких жертв, – свободу и равенство! – Говорите и о конституции! – восклицает депутат Дингле. Этот выкрик на минуту смущает генерала, но он приходит в себя и прерывистым голосом начинает говорить снова: – О конституции? Вы не имеете ее более. Вы же сами ее и уничтожили, 18 фрюктидора покусившись на национальное представительство, 22 флореаля на народные выборы и 30 прериаля на независимость правительства. Эту конституцию хотят уничтожить все партии. Все они поверяли мне свои планы и предлагали помощь. Я этого не хотел; но если будет нужно, я назову и партии, и людей. – Так назовите их! – кричат его противники. – Назовите их, потребуйте тайного совещания. Следует волнение, но Бонапарт опять берет слово и приглашает депутатов принять меры, которые могли бы спасти отечество. – Окруженный моими братьями по оружию, – говорит он, – я сумею помочь вам. Я надеюсь на храбрых гренадеров, штыки которых я вижу теперь и которых я прежде так часто водил на неприятеля; я надеюсь на их мужество; мы поможем вам спасти отечество. И если какой-нибудь оратор, – продолжает Бонапарт угрожающим голосом, – если какой-нибудь оратор, подкупленный чужеземцем, станем предлагать поставить меня вне закона, я обращусь к моим собратьям по оружию. Вспомните, что меня сопровождают богиня удачи и бог войны! Эти смелые слова стали предостережением для членов Совета пятисот. Старейшины приняли выступление Бонапарта благоприятно и, по-видимому, были ободрены его присутствием. Поддержав старейшин, Бонапарт решает отправиться с речью к Совету пятисот. Он идет туда в сопровождении нескольких гренадеров и входит в залу, оставляя их у дверей. Едва он, подходя к решетке, проходит середину залы, яростные крики раздаются со всех сторон. – Как! – кричат множество голосов. – Солдаты! Оружие! Чего от нас хотят?! Долой диктатора! Долой тирана! Значительное число депутатов бросаются на середину залы, окружают генерала, обращаются к нему с прямыми вопросами. – Как, – говорят ему, – вы для этого побеждали?! Все ваши лавры запачканы… Ваша слава обратилась в позор. Уважайте храм законов. Уходите! Уходите! Бонапарта теснит толпа. Гренадеры, оставленные им у дверей, прибегают, расталкивают депутатов и буквально выносят своего генерала из залы. Говорят, что в свалке некоторые гренадеры были ранены кинжалами, направленными на генерала. Как бы то ни было, Бонапарту удается спастись. Говорят, он был довольно сильно смущен, что неудивительно, если вспомнить о кинжалах. Бонапарт садится на коня, отправляется к войскам и говорит им, что жизнь его была в опасности; его повсюду встречают криком «Да здравствует Бонапарт!». В это время буря в собрании разражается, сильнее чем когда-либо, и направляется против Люсьена. Тот выказывает редкую твердость и мужество. – Ваш брат – тиран! – говорят ему. – В течение одного дня он растерял всю свою славу! Тщетно Люсьен пытается оправдать старшего брата: – Вы не желали его выслушать. Он объяснил бы вам свое поведение, сообщил бы о своем поручении, ответил бы на вопросы, которые вы не перестаете задавать. Его заслуги давали ему по крайней мере право иметь возможность объясниться! – Нет, нет, долой тирана! – кричат патриоты в ярости. – Объявить его вне закона! Это страшное слово в свое время погубило Робеспьера; высказанное против Бонапарта, оно, быть может, поколебало бы войска и заставило бы их от него отречься. Люсьен мужественно противится предложению и требует, чтобы прежде его выслушали. В конце концов он сбрасывает с себя тогу и шляпу. – Несчастные! – восклицает он. – Вы хотите, чтобы я объявил вне закона своего собственного брата! Я отказываюсь от председательства и сам иду к решетке защищать обвиняемого! Бонапарт становится невидимым свидетелем этой сцены. Он опасается за жизнь брата и посылает десять гренадеров вывести из залы и его. Гренадеры входят, видят Люсьена среди группы депутатов, хватают за руку и, говоря, что делают это по приказанию его брата, вытаскивают его из залы. Теперь следовало принять решительные меры. Всё было бы потеряно в случае колебания. Ораторские средства склонить на свою сторону собрание стали невозможны, приходилось прибегнуть к силе; нужно было рискнуть совершить один из тех смелых поступков, перед которыми всегда колеблются узурпаторы. Цезарь колебался при переходе через Рубикон, Кромвель – закрывая парламент. Бонапарт решает направить на собрание гренадеров. Он вместе с Люсьеном садится на коня и объезжает войска по фронту. Люсьен обращается к ним с речью. – Совет пятисот распущен, – говорит он, – я объявляю вам об этом. В зале заседаний находятся злодеи, которые учиняют насилие над большинством; я призываю вас идти и освободить представителей.
 В Совете пятисот
В Совете пятисот
Затем Люсьен клянется, что он и его брат всегда будут верными защитниками свободы. Тогда Мюрат и Леклерк ведут батальон гренадеров к входу в залу. При виде штыков депутаты испускают яростные крики, но барабанный бой заглушает их. «Гренадеры, вперед!» – кричат офицеры. Гренадеры входят и разгоняют депутатов: одни выбегают коридорами, другие выпрыгивают в окна. В одно мгновение зала очищена, и Бонапарт остается победителем на этом печальном поле сражения. Известие о происшедшем доходит до старейшин, которые полны беспокойства и сожаления: они не желали подобного покушения. Люсьен появляется у их решетки, чтобы объяснить свое поведение, и его доводами довольствуются. Совет старейшин не мог в одиночку декретировать отсрочку заседаний законодательного корпуса и учреждение консульства. Совет пятисот был распущен; но оставалось около пятидесяти депутатов, сторонников государственного переворота. Их собрали и заставили издать декрет, цель только что совершенной революции; затем этот декрет отправили старейшинам, принявшим его в середине ночи. Бонапарт, Роже-Дюко и Сийес назначались временными консулами и облекались исполнительной властью. Советы отсрочивались до ближайшего февраля. Они заменялись двумя комиссиями, каждая в двадцать пять членов, одобрению которых подлежали необходимые законодательные меры. На консулов и комиссии возлагалась также обязанность составить новую конституцию.
Такова была революция 18 брюмера, столь разно судимая людьми: одни считают ее покушением, уничтожившим первую пробу нашей свободы, другие – смелым, но необходимым поступком, покончившим с анархией. Вот что можно сказать с уверенностью: революция, последовательно монархическая, республиканская и демократическая, превратилась наконец в военную, потому что среди беспрерывной войны с Европой ей необходимо было устроиться прочным образом. Ныне республиканцы сожалеют о бесплодных усилиях и бесполезно пролитой крови для основания свободы во Франции; они оплакивают ее заклание одним из героев, ею же взращенных; и в этом случае благородное чувство их обманывает: революция, которая должна была дать нам свободу и всё приготовила, чтобы когда-нибудь мы ею воспользовались, не была и не должна быть самою свободой. Ее предназначением была борьба против старого порядка; победив во Франции, она должна была победить и в Европе; но такая напряженная борьба не допускает ни форм, ни духа свободы. А значит, 18 и 19 брюмера были необходимы. Можно сказать только, что 20-е достойно осуждения и что герой злоупотребил услугой, которую сам же оказал. Но на это ответят, что он решал возложенную на него судьбою таинственную задачу, о которой и сам не подозревал. Ему предстояло продолжить Революцию под монархическими формами; и он продолжил ее, воцарившись на троне, будучи плебеем; заставив прибыть в Париж первосвященника, чтобы миропомазать его чело; создав новую аристократию из плебеев же и принудив старую аристократию вступить в союз с его новой аристократией; приняв наконец на свое ложе дочь цезарей и смешав свою плебейскую кровь с древнейшей кровью Европы; смешав затем все народы, распространив французские законы в Германии, Италии и Испании; не обращая внимания на веками освященные учреждения.
 18 брюмера
18 брюмера
Вот какую глубокую задачу ему предстояло выполнить; и между тем новое общество упрочивалось под защитой его шпаги, и свобода должна была когда-нибудь появиться. Она еще не пришла, так придет. Я описал первый кризис, подготовивший ее появление в Европе; я сделал это без ненависти, сожалея о заблуждении, уважая добродетель, удивляясь величию и стараясь открыть глубокий промысел Провидения в этих великих событиях.


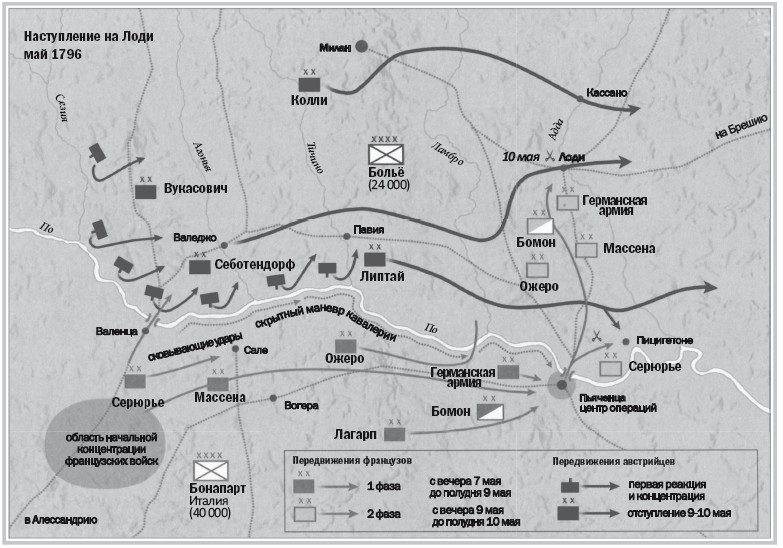
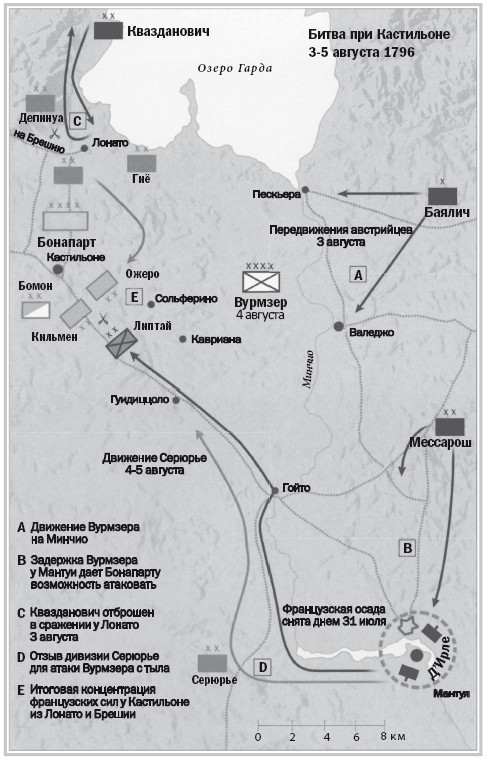
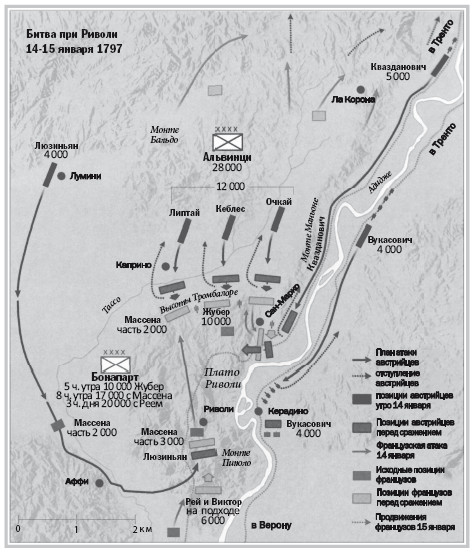
Последние комментарии
1 день 13 часов назад
1 день 17 часов назад
1 день 19 часов назад
1 день 20 часов назад
1 день 21 часов назад
1 день 22 часов назад