


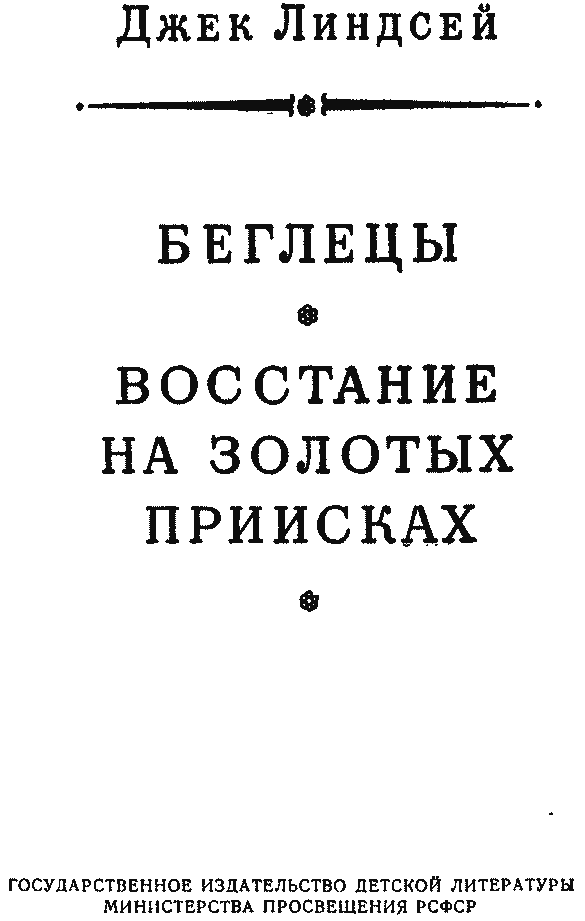
Джек Линдсей БЕГЛЕЦЫ ВОСТАНИЕ НА ЗОЛОТЫХ ПРИИСКАХ
БЕГЛЕЦЫ
Глава I Побег
Старик сторож, сидевший у ворот, что-то бормотал себе под нос. Он боялся привидений. Потому-то ему и поручили это дело: раз он не может уснуть от страха, пусть себе сидит у входа с маленьким светильником, который гаснет от малейшего дуновенья. Управитель отказался дать ему фонарь, и старик коротал время в беседе со свирепого вида псом, нарисованным на стене прямо против ворот. Чуть выше была надпись «Берегись собаки», которая не давала старику окончательно увериться, что перед ним живое существо. Впрочем, он рассчитывал на то, что привидения вообще подслеповаты и могут принять намалеванного пса за настоящего. Раз их так трудно увидеть, может быть, и они сами плохо видят. Он часто делился этими соображениями с двумя молодыми рабами, недавно купленными и приведенными в дом его господином. Один из этих мальчиков, по имени Бренн, был похищен в Британии батавскими купцами. Батавы, застигнутые бурей, вынуждены были выбросить часть своего, груза за борт и потому решили возместить убыток, торгуя невольниками. Другого мальчика звали Марон, и родом он был из Фракии. Старику сторожу велено было как можно старательнее учить по вечерам обоих мальчиков латинскому языку. Прошло года два, и его ученики сделали за это время немалые успехи. Старик считал, что они славные ребята, но, пожалуй, немножко дикие. Между мальчиками завязалась тесная дружба, хотя сначала они так отчаянно дрались, что их можно было разнять, только вылив на них целое ведро воды. Сейчас они уже ушли спать и сразу крепко заснули. А он проводил у ворот вторую половину ночи, худшую половину, после того, как его, зевая, разбудил чернокожий раб, стороживший с вечера. Счастливые эти ребята — так крепко спят! Старик вел свою обычную беседу с изображением пса, который страшно скалил покрытые пеной челюсти. Вдруг он услышал шаги и удивленно поднял глаза, по крытому проходу к нему шел Бренн. Старик безмятежно потянулся — он даже рад был знакомому лицу. Может быть, Бренну тоже не спится, и он не прочь будет потолковать. — Марон заболел, — сказал Бренн. В его тихом голосе слышалась тревога. Это был высокий и стройный, белокурый и голубоглазый паренек. Речь у него была неторопливая. — А чем я ему помогу? — ответил старик, поднимаясь с места. — Жалко его, конечно; но с чего это он вздумал болеть? Я в его годы никогда не болел. И что только творится на белом свете! Он не собирался покидать свой пост, но все же двинулся в сени, досадуя, что ничего не может сделать. — Скажи ему, чтобы до утра подождал, — продолжал он. — До света не помрет. И дай ему на завтрак капустного отвара. Это от всего помогает, только что голову к плечам не приставит, раз уже она срублена. Да перед тем, как ему пить, ты не забудь прочитать заклинание. В то же мгновение Бренн внезапно подошел к нему вплотную, крепко охватил его туловище, заведя ему руки за спину, и приподнял. А кто-то другой вынырнул сзади, из темноты, зажал ему рот Сперва он пробовал отбиваться, но очень скоро перестал.

Не бойся, — сказал Бренн. — Мы тебе ничего не сделаем. Мы только пойдем прогуляться. Тут заговорил второй из нападавших, и старик узнал голос Марона. — Надолго пойдем. Так что, пожалуй, заблудимся и не сможем вернуться. Пойти ночью гулять — самый верный способ сбиться с пути. Бренн схватил несколько скрученных простынь, которые Марон держал наготове, и принялся связывать старика. Узлы он делал крепкие, но не настолько тугие, чтобы они причиняли боль. Потом он тряпками заткнул старику рот и еще обвязал, чтобы старик не смог вытолкнуть кляп изо рта. — Ты уж прости, — сказал он. — Но если мы не сделаем все как следует, подумают, что ты с нами стакнулся, а мы вовсе не хотим, чтоб тебе попало. А лучше всего — послушайся нашего совета- бежим вместе. Старик только в отчаянье таращил глаза, стараясь внушить им, что бежать совершенно бесполезно. Рабов всегда ловили или же находили мертвыми где-нибудь в болоте. И куда они могут убежать? От воинских отрядов, которые охотились за беглыми рабами, в Италии не спасали никакие уловки, а за пределами Италии повсюду хозяйничали те же римляне. Лучше уж покориться и знать, что хоть с голоду не помрешь. Мальчики кончили свое дело и осторожно положили сторожа на циновку. Затем они отодвинули затворы ворот и, стараясь не наделать шума, подняли засов. Ворота широко раскрылись, в лицо им пахнул свежий ветерок. Откуда-то донесся жалобный крик птицы. Несмотря на кляп, старик делал попытку заговорить. Он хотел попросить мальчиков, чтобы они закрыли за собой ворота. А то еще с холмов прокрадется волк и разорвет его. И не такое бывало. На лбу его выступили капли пота. Вот он лежит, связанный, на полу, — а что, если появится призрак? Но мальчики сами заперли за собой ворота и пошли по тропинке. Звезды светили очень слабо, но беглецы хорошо знали дорогу Не оглядываясь на виллу, из которой бежали, мальчики торопливо шли вперед. Их хватятся только на рассвете, а до него оставалось еще несколько часов. Они нарочно решили бежать ночью. Хотя пришлось повозиться со стариком, но зато они выигрывали время, пока обнаружится их побег, и не было опасности, что кто-нибудь увидит, по какому направлению они ушли. Мальчики шагали по мощеной аллее, обсаженной с обеих сторон кипарисами. Потом свернули вправо на проселочную дорогу, мимо большого четырехугольного строения, скотного двора, посредине которого был утиный пруд. Единственный выход со двора находился у помещения, где жил управитель. Но тот уже давно заперся, и все рабы спали в своих бараках. Мальчики миновали скотный двор, тонувший в ночном мраке, и свернули на воловью тропу Потом прошли полями, перешли речку по дощатой кладке и тихонько засмеялись, потому что Бренн едва не оступился и не угодил в воду. Речка журчала в темноте. Они стали подниматься на холм. Теперь и идти и находить дорогу стало труднее. Они обогнули небольшую темную лощину и вышли на гребень холма. Положение несколько улучшилось, но тут им пришлось пробираться через колючий кустарник, а они не помнили, чтобы днем он здесь рос. Зато стало немного светлее, и они смогли держаться ближе к козьей тропе. Теперь мальчики находились высоко на холмах, и домов уже не было видно, — они скрывались внизу, за выступом скалы. Дул прохладный ветерок, и мальчики поплотнее закутались в шерстяные плащи.

Они были вполне счастливы, и от радости им хотелось немного побороться друг с другом, даже рискуя скатиться с холма. Светало, и они чувствовали себя сильными, способными противостоять всему и всем. Наконец-то они свободны, наконец-то они смогут присоединиться к Спартаку, который там, на юге, поднял восстание. Начался небольшой спуск; они скользнули вдоль другого гребня, взобрались по каменистому склону и очутились в узкой ложбине. Здесь, под сенью невысоких деревьев, среди папоротников и колокольчиков, протекал ручеек. Они остановились напиться. День уже занимался, можно было даже разглядеть свое отражение в небольшом водоеме с усеянным мелкими камешками дном. Они пробрались сквозь зеленую заросль и, приподняв покрытые густыми листьями ветви, очутились в неглубокой пещере, которую Марон обнаружил однажды, когда ему пришлось пасти на холмах коз; тогда пастух лежал в лихорадке, а все другие работники фермы находились на полевых работах. Едва переводя дух, они уселись на сухом каменном краю пещеры и достали еду, которую им удалось с собой захватить: пять хлебцев, порядочный кусок сыра и добрую горсть маслин. Они разделили пополам один хлебец и съели его, прибавив немного сыра, а затем улеглись, намереваясь провести день в пещере. Безопаснее было переждать и идти только ночью, особенно, если ночи ясные и звезды светят достаточно ярко, чтобы указывать им путь на юг. Правда, при ночных переходах случается оступаться и падать, но уж тем хуже для их ног. Мальчики твердо решили не попасться. В конце долины находилась хижина, откуда их легко могли увидеть, если бы они сейчас пошли дальше. Солнце уже поднялось, но в ложбину его лучи еще не проникали. — Пойдем попьем еще, — сказал Марон, потягиваясь всем своим смуглым крепким телом и тряхнув курчавой головой. — До вечера нам еще захочется пить, а выходить потом нельзя будет. Они выползли из-под куста и стали пить большими глотками холодную кристально-чистую воду, стараясь не оставлять следов на земле около источника. Почва повсюду была сухая и твердая, как камень. Чтобы освежиться, они вымыли лица и руки по самые плечи, а затем уползли обратно в пещеру, намереваясь спокойно пролежать там весь день. Нелегко было лежать неподвижно, руки и ноги требовали движения; трудно было не разговаривать и не обсуждать планов и надежд на будущее. Но оба мальчика были дети и внуки охотников, людей, привыкших к одиночеству, молчанию и терпению. Они лежали на спине, заложив руки за голову. Их молодые сильные тела не так-то скоро застынут и заноют на каменном полу пещеры. Ими овладело то чувство радостного успокоения, которое бывает у охотника, когда он лежит в глубокой лесной чаще, забыв о том, что где-то шумит человеческая жизнь, уверенный в своих силах и почти слившийся с природой. Время текло. Хотя Бренн испытывал чувство полного покоя, словно жил мирной жизнью этих холмов, в его сознании было еще много других образов и представлений. В мозгу у него возникали целые картины — воспоминанье о его прежней жизни в Британии, о том, как его захватили в плен и продали, как он существовал здесь, на самнитской вилле, откуда сейчас убежал. Его господин был не злой человек: он обещал научить мальчиков разным вещам и освободить их лет через десять-двенадцать, если они будут хорошо учиться. Но какой от этого толк? Им все равно пришлось бы жить в Италии на положении рабов. Потому у них и была одна мысль — бежать. И каждый раз, как до них доходили вести о подвигах великого вождя восставших рабов, Спартака, который сражался с римскими легионами, им страстно хотелось присоединиться к нему. Они молили судьбу, чтобы его войско приблизилось к местам, где они жили. Но оно никогда не вступало в холмистый Самниум, хотя однажды прошло уже через всю Италию. А сейчас Спартак воевал где-то на юге. Но Бренн не только стремился попасть к Спартаку и биться под его знаменами, — он жаждал большего. После войны он хотел возвратиться на родину. Снова увидеть Британию — вот о чем он мечтал. Однажды он услышал, как его господин случайно упомянул о том, что из Гадеса в Испании отплывали в западную Британию корабли за оловом и серебром. И Гадес стал тем местом, куда он рвался, хотя и понятия не имел, где оно находится. Но моряки, они-то, наверно, знают — это ведь где-то на море.
Глава II На вершине холма
Мальчики насторожились и совсем притихли, почти не дыша: они услышали чьи-то шаги. Бренн повернулся медленно, бесшумно, так, чтобы видеть сквозь листву куста, которая настолько хорошо скрывала отверстие пещеры, что казалось, будто за нею не дыра, а гладкая поверхность камня. По склону холма к ним приближался человек, за ним шел другой. Они были вооружены. При виде прозрачного водоема у них вырвался радостный крик. Напившись из горсти, они оглядели ложбину и обследовали кусты вблизи небольшой рощицы. Бренн и Марон могли слышать, как они переговаривались между собой. Мальчики знали их — это были работники с виллы, которых, вероятно, выслали за ними в погоню, пообещав награду, если поймают беглецов. — Здесь негде спрятаться. — Да, они вернее всего пошли на восток, к побережью. Надеются доплыть домой, к матке. — Устал я от этой охоты. Давай отдохнем. Они сели, развязали свои котомки и принялись торопливо и жадно есть. Затем поудобнее разлеглись на земле, вяло перебрасываясь словами. Бренн следил за ними сквозь густую листву, не спуская глаз, и внезапно ему показалось, что один из этих людей, рыжеволосый парень, подмигнул другому. Подмигнувший тотчас же заговорил как-то особенно громко. — А что, если и нам с тобой пойти да пристать к Спартаку? Опостылело мне тянуть эту лямку на вилле. Другой подскочил, словно изумившись, но сразу же опять улегся и ответил: — Ладно. Бежим отсюда, как те мальчишки. Только у них одних и хватило ума. — Хотел бы я знать, где они, чтобы можно было двинуться вместе. Марон резким движением перевернулся. Он тоже слышал этот разговор и теперь вопросительно смотрел на Бренна. Выйти им из пещеры и показаться? Хорошо было бы, если бы к ним присоединились двое взрослых мужчин, которые лучше их знают местность и повадки жителей. Марон поднял было руку и дотронулся до куста, но еще не решительно, сам не зная, поднять ли ветку, позвать ли тех двоих. Но Бренну в их разговоре почуялось что-то деланное, и он был уверен, что заметил, как один из них подмигнул. И почему это, подумал он, они теперь замолчали, словно чего-то ожидая? Бренн схватил Марона за руку и покачал головой. Марон был смущен, но не стал спорить с Бренном. Он опять откатился в свой угол и с некоторым сомнением смотрел на Бренна. Тот прижал палец к губам. Наконец один из мужчин прервал молчание. — Зачем ты это сделал? Рыжий засмеялся. — Сам не знаю. Я что-то почуял. Знаешь, как бывает, когда тебе кажется, что сзади на тебя смотрят. По спине словно дрожь пробегает. Говорят, это значит, что кто-то прошел по тому месту, где тебя зароют, когда помрешь. На этот счет я ничего не скажу, но только я почуял, что на меня смотрят. Я подумал: если мальчишки спрятались поблизости, — они мигом объявятся, когда услышат, что мы тоже решили присоединиться к мятежникам. Другой плюнул в водоем. — Хочешь, так иди к этим болванам. Дело их — дрянь, и скоро им конец. Легионеры только играют с ними в прятки. А потом, как затрубят в трубы, сразу бросятся и затопчут их; сапоги-то у легионеров гвоздями подбиты. Нет, я за порядок и закон. Оба были явно раздражены и говорили с оттенком озлобления. — Да, да, так, чтобы тебе никто не мешал воровать? — А ты помалкивай. — Ну, я-то знаю, как ты взвешиваешь мешки с зерном. Ты в каждый мешок переложишь немножко, а купец тебе за это ладошку посеребрит; ведь правда, а? — Врешь ты все, — закричал другой, весь багровея. Бренн и Марон переглянулись, радуясь, что не попались на удочку. Что они могли бы сделать против двух дюжих парней с ножами за поясом? Но те двое продолжали ссориться и больше не возвращались к случайно возникшему у них подозрению. Слушая их перебранку, мальчики поняли, что это два старых врага, которые по многим причинам завидуют друг другу. Спор разгорался, и теперь оба смотрели друг другу в лицо с яростью, часто и коротко дыша. — Кто подвел меня под плети из-за того, что коза сломала ногу? — Нечего чушь молоть! Я знаю, почему бесишься. Но я разве виноват, что Флавия тебе не улыбается? Говоривший поднялся с ядовитой усмешкой. — Ну, я пойду обратно. Рыжий побагровел. Когда другой повернулся, чтобы идти, он выхватил из-за пояса нож и, громко выругавшись, всадил ему в спину. Тот глухо застонал и упал ничком. В то же мгновение Марон, не в силах сдержать возмущения при виде этого подлого удара, издал негромкий негодующий возглас. Рыжий огляделся по сторонам, сам пораженный силою нахлынувшей на него ярости и не уверенный в том, что действительно слышал чей-то крик. Он отер пот с лица и, никого не видя вокруг, старался убедить себя, что слышал только эхо того крика, который вырвался у убитого. — Я не хотел этого делать, — пробормотал он, не то про себя, не то призывая в свидетели рощицу. — Он сам меня вынудил. Он целыми неделями днем и ночью меня преследовал. Незачем ему было поворачиваться спиной. Убийца снова огляделся, как затравленный зверь. — Кто это звал? Он хрипло крикнул: — Ну, выходи! Я тебя не боюсь. Это не я его убил. Но теперь эхо не отвечало. Почему же на тот крик оно отозвалось? Охваченный ужасом, убийца пустился бежать, спотыкаясь на подъеме, скользя на голом камне. Ему чудилось, что его преследует разгневанный и мстительный дух источника. Все знают, что самое худое дело — это осквернить источник. Даже просто замутить его — и то преступление. Так как же назвать то, что он сейчас содеял у священного места, где родник вытекает из недр земли? Марон уже не в силах был сдерживаться. Он разразился глумливым хохотом, да так громко, что ложбина действительно огласилась отзвуками его смеха. Убийца и без того был насмерть перепуган, а сейчас он от страха потерял равновесие и скатился назад в ложбину. С отчаянными усилиями взобрался он на большой валун, одно мгновение маячил на фоне неба и затем исчез. — Глупая это выходка, — сказал Бренн. — Не мог я сдержаться, — ответил Марон. — Надо же было как-нибудь напугать этого скота. Они выползли из пещеры и подошли к тому, кто получил удар ножом. Но совершенно ясно было, что он мертв. — Это нам очень напортит, —мрачно произнес Бренн. — А почему? Мы же решили не возвращаться, что бы ни случилось. — Тот парень наверняка скажет, что это мы сделали, что мы набросились на них обоих. А это значит, что за нами устроят настоящую охоту. Или ты не понимаешь? Ведь теперь все работники на вилле перестанут быть за нас. Марон свистнул и нахмурился. — Надо поскорее убираться. Он взобрался наверх по склону холма и осторожно посмотрел с его гребня в ту сторону, куда убежал убийца. — Их там, на пастбище, человек шесть, а тот им что-то лопочет и указывает сюда. — Я же тебе говорил! Он не уверен, что мы здесь. Он, верно, думает, что кричал какой-нибудь злой дух, но ему придется сказать, что он нас здесь видел, чтобы объяснить, кто убил его товарища. Мальчики быстро собрали остатки своей еды и объедки, оставленные преследователями, и по другому склону выбрались из ложбины. Они хотели достичь долины по ту сторону холмов, откуда через узкое ущелье можно было выйти на южную равнину. Только бы пробраться через этот проход — и опасность сразу уменьшится: ведь тогда они будут уже за пределами владений своего господина, в лесистой и холмистой местности. Беда заключалась в том, что на верную тропу они могли выйти только через широкое поле, где их сразу увидел бы всякий поднимающийся по холму к ложбине. Но тут уж ничего нельзя придумать. По другую сторону холма было открытое место, где их тоже сразу увидят те, кто окажется над ложбиной. Придется бежать через поле. Сердца их и без того полны были решимости вырваться на свободу. Но теперь добавилось еще новое побуждение. Господин их не был жесток. Если бы их поймали тогда, когда могли обвинить только в попытке к бегству, он, возможно, ограничился бы тем, что разбранил мальчиков за неблагодарность да велел бы запирать их на ночь, да на некоторое время посадил на хлеб и воду. Но теперь, когда возникает обвинение в убийстве, а они не будут иметь никакой возможности оправдаться, и вся видимость — все явные улики окажутся против них, так легко им уж наверняка не отделаться.
Глава III Через ущелье
День клонился к вечеру, но было еще достаточно светло, чтобы их предприятие оказалось опасным. Припав к земле за кустами, мальчики решили немного обождать, перевести дух и удостовериться в том, что они не потеряли своих припасов, спрятанных под одеждой. Потом они крепко пожали друг другу руки, рванулись вперед и побежали через поле. Они уже почти достигли изгороди, огораживавшей поле, как вдруг позади раздался громкий крик, и они поняли, что обнаружены. Не оглядываясь, они выпрямились, помчались во всю прыть, перепрыгивая через кусты, и очутились на тропе. Еще два-три рывка вперед, и вот они обогнули холм и скрылись из глаз тех, кто поднимался к ложбине. Но они хорошо понимали, что преследователи не отстанут. Раньше рабы с виллы не стали бы искать их особенно тщательно и не очень соблазнились бы даже наградой. Но теперь, охотясь за убийцами своего товарища, они все сделают, чтобы поймать беглецов. Однако ноги у мальчиков были быстрые и к тому же от преследователей их отделяло порядочное расстояние. Они были уверены, что смогут добраться до конца долины гораздо раньше их и найти верное убежище по ту сторону, где местности никто хорошо не знал. Поэтому они бежали хотя и быстро, но легко и ровно, то рядышком, если тропа достаточно расширялась, то следуя друг за другом. Но, когда, обогнув выступ холма, они оказались на другой его стороне, у Марона вырвался возглас отчаяния, и он указал вниз. По нижней тропе бежали два человека. Ясно было, что их выслали вперед преследователи, которые разгадали замысел мальчиков. Они бежали уже давно, а путь по нижней тропе был ровный, и мальчики не имели никакой надежды опередить их. Не останавливаясь, они внимательно осмотрели расстилавшуюся внизу местность и поняли, что единственное спасение для них — укрыться в леске, который темнел слева в узкой части долины. Между холмами уже сгущались вечерние тени, а захватить беглецов ночью у преследователей не будет никакой возможности. Там слишком много деревьев, на которые мальчики могут взобраться, чтобы спрятаться среди ветвей, там есть стволы с широкими дуплами и бесчисленные расщелины на склонах холмов. Теперь тропа шла под гору и мальчики бежали со всех ног, не спотыкаясь и потому не боясь упасть. Они достигли первых деревьев, которые росли внизу, вошли в сгущавшуюся под ними мглу и затем, остановившись, стали наблюдать за своими преследователями, которые как раз появились из-за выступа противоположного холма. Только одно ничтожное мгновение стояли они и смотрели, а затем опять пустились бежать, уходя все глубже и глубже в лес. До них доносились голоса преследователей. Те явно остановились, чтобы обсудить, стоит ли сейчас обшаривать всю лесную чащу, и, быстро договорившись, снова вышли на дорогу. Они решили сосредоточить свои силы у выхода из долины и в то же время держать под непрерывным наблюдением все пространство до самого леса, чтобы мальчики не имели никакой возможности ускользнуть в темноте. В роще стало уже совсем темно. Бренн и Марон понятия не имели, куда они направляются, но ни на минуту не замедляли шага. Они не рассчитывали спастись от погони тем путем, которым сейчас шли, так как хорошо знали, что здесь долину замыкают обрывистые склоны. Попытавшись взлезть на них, они только сломают себе шею или заблудятся на голых вершинах, где с восходом солнца их сразу обнаружат преследователи. Наконец они остановились. — Давай поедим, — предложил Бренн подавленным голосом. — Надо подкрепиться: нам понадобятся все наши силы. Они уселись на выступавших из земли корявых корнях дуба и пожевали немного хлеба и сыра с маслинами. После еды им стало легче. Найдут же они какой-нибудь выход! Внезапно Марон вскочил и крадучись подбежал к старому дуплистому дереву, покрытому желтыми грибными наростами. В руках он держал развернутый плащ. Послышался шум птичьих крыльев, какая-то возня. Марон замотал край плаща и, быстро выбросив его вперед, как сеть, поймал что-то и сейчас же прижал плащ к земле, несмотря на все усилия, которые делала его добыча, чтобы вырваться. — Что это там у тебя? — прошептал Бренн. — Сова. Я увидел, как она глазела на меня из темноты и, понимаешь, сперва даже испугался. А потом захотелось проверить, смогу ли я ее поймать. Она сидела на дереве. — Сова! — с раздражением сказал Бренн. — А на что нам сова? — Да просто так. Мне хотелось проверить, хватит ли у меня ловкости, как бывало прежде. Вот я поймал ее, и мне вроде легче стало, — будто я снова дома, на воле, в лесу. Но похлебки из совы не сваришь, даже если бы у нас был огонь и горшок. Отпущу ее на свободу. — Нет, не надо, — сказал Бренн и призадумался. — Знаешь, мне как будто пришла в голову одна мысль. Обожди-ка. Давай поглядим на нее. Марон осторожно пошарил под плащом, нащупал лапы совы, быстрым движением откинул плащ и приподнял сову. Длинные крылья распростерлись и забили; сова попыталась ударить клювом Марона, который, хохоча, крепко держал ее в вытянутой руке. — Да, у меня как-то от души отлегло, — говорил он с радостным смехом. — Хорошо это — чем-нибудь завладеть, хотя бы совой. Ах, скорей бы домой, во Фракию. Сова испускала резкие, неприятные крики и отчаянно отбивалась, но Марон держал ее крепко. Отступив на несколько шагов, Бренн внимательно смотрел на Марона и его добычу. Над деревьями распростерлась ночь. И, когда сова, не в силах вырваться, успокоилась на руке у Марона, Бренн увидел, как ее большие круглые глаза сверкают во мраке ярким и жестким огнем животного страха. — Видишь, она тебя сперва напугала, — сказал он Марону, — и мне самому не очень-то приятно на нее смотреть, хотя ты держишь ее в руке и я знаю, что это такое. А как ты думаешь, обрадуются ли те парни, если увидят ее в полночь? — Испугаются, конечно, да потом сразу же распознают, в чем дело. — Не распознают, если мы об этом позаботимся. Бренн разъяснил Марону свой замысел, и тот от удовольствия даже присвистнул. Потом Бренн оторвал от своей туники несколько полосок материи и — правда, не без труда — обвязал ими сову так, чтобы она не могла распускать крылья; затем он связал ей лапы. Марон попытался приручить сову, подсовывая ей кусочки хлеба. Но она едва не клюнула его в пальцы, после чего он оставил свои попытки и осторожно положил ее на ровное место среди дубовых корней, сплошь заросшее фиалками. Мальчики уселись и стали спокойно ждать, когда станет совсем темно. Луны все еще не было, только слабо светили звезды, и это их очень устраивало. Почувствовав, что наступило время, когда люди, преследовавшие их, несколько поостыли и немного приуныли от одинокого бдения в долине, от холода и мрака ночи, мальчики взяли сову, которая сопротивлялась и кричала, и двинулись из леса по направлению к дороге. Пошли по краю тропы, пока не оказались довольно близко от узкого прохода, где наверняка устроена была засада. Тут они остановились и приступили к делу. Бренн вскарабкался на плечи Марона и завернулся в плащ таким образом, чтобы в смутном полусвете казалось, будто оба они покрыты одним плащом. Так возникла гигантская фигура в восемь футов ростом; а в капюшоне, пришитом к плащу на случай непогоды, Бренн держал над своей головой отбивавшуюся сову. Спереди, между краями плаща, была щелка, сквозь которую Марон мог видеть, куда ему двигаться. Великан с птичьей головой и круглыми, как блюдца, глазами медленно шествовал по тропе. Марону было не особенно тяжело нести на себе Бренна, но он боялся споткнуться. Мальчики дошли до места, где тропа слегка изгибалась, и все мысли у них невольно напряглись: тут как раз, наверно, и находится засада. Как все обернется? Только бы иметь уверенность, что глаза у совы горят с той же пламенной яростью, которую они ощущали в себе. Но совы они не могли видеть и только заклинали судьбу, чтобы ее глаза действовали так, как им было положено. Откуда-то спереди донесся вопль, и мальчики ощутили прилив бодрости. Марон слегка покачнулся, стараясь крепче охватить руками ноги Бренна, потом он решительно двинулся вперед. К ужасу своему, работники с виллы, воспитанные в страхе перед духами, населяющими всю природу, увидели исполинскую фигуру, высотою с дерево, как им показалось, колыхавшуюся под самым небом, а над этой фигурой — пламенеющие глаза злого духа.

Сова крикнула, и в то же мгновение сквозь ущелье, между суживающимися холмами, налетел порыв ветра с протяжным и жалобным воем, какой можно услышать только в подобном месте. Эти люди часто слышали вой ветра, но в сочетании со страшной фигурой он звучал, как вопль, полный нечеловеческой муки и вместе с тем угрозы. Охваченные ужасом, они обратились в бегство, карабкаясь на крутые склоны, ныряя под кусты, прячась за камни, — злой дух неуклонно двигался вперед. Бренн выждал, пока они с Мароном миновали самое опасное место, откинул капюшон и повернул сову так, что теперь она смотрела назад, в сторону засады, оставшейся у них за спиной. Это не даст преследователям опомниться и обдумать, что за странное явление предстало перед ними. Осмелившись снова взглянуть на призрак, они решили бы, что у злого духа имеется вторая пара глаз на затылке. Так мальчики и шли, пока тропа снова не завернула вправо. Тогда Бренн соскользнул на землю, и они с Мароном от радости расцеловались. — Подожди, — молвил Марон. Он заботливо поднял сову, развязал путы и подбросил ее в воздух. — Ты заслужила свободу. И мы тоже. Сова расправила затекшие крылья, неловко перекувырнулась в воздухе и пришла в себя. С хриплым криком она исчезла во мраке. Мальчики во всю прыть побежали по тропе. Было достаточно светло, чтобы не заблудиться в незнакомой местности. Они — на воле! К утру они уйдут далеко на юг!
Глава IV Голод
К тому времени, когда небо побледнело от первых тусклых лучей зари и все предметы стали видны отчетливей, мальчики уже пробежали такое расстояние, что устали, как собаки, но зато оказались в совершенно новой для них местности. Они ощущали себя в безопасности, но понимали, что это ощущение скоро исчезнет, если им не удастся сразу найти какое-нибудь убежище. Оглядевшись, они заметили рощицу в расселине на склоне холма и тотчас же направились туда. Там они разлеглись на сухой земле, усыпанной сосновыми иглами, съели остатки своих припасов и стали обдумывать положение. Мальчики действительно продвинулись к югу. Им обоим легко было убедиться в этом по солнцу и по звездам, но они не имели ни малейшего представления о том, как далеко придется идти и какие препятствия лежат между ними и войском восставших рабов. Однако они пришли к заключению, что восставшие не могут быть очень близко, иначе на вилле было бы гораздо больше разговоров и слухов, встречались бы легионеры, идущие походным маршем или останавливающиеся на отдых, доносился бы шум отдаленной битвы среди холмов. Мальчики лежали в благоуханной тени сосен и спорили, в скольких днях пути на юг находится Спартак и его войско. Марон сказал, — в десяти, а Бренн тотчас же возразил, что десять — это уж слишком много. «Дней через пять, — утверждал он, — мы наверняка окажемся в самой гуще событий». И вот оба мальчика ссорились из-за расстояния; ведь в трудных обстоятельствах между людьми часто возникают раздоры по поводу вещей, о которых никто из спорящих ровно ничего не знает. Возможно, расстояние измерялось всего двумя днями пути, а возможно, и пятьюдесятью, — по-настоящему ни один из них и не мог ничего знать. Но когда они очень разгорячились от спора, Марон вдруг засмеялся и сказал, что он, пожалуй, ошибается. — Да и я тоже, — признался Бренн, в свою очередь, рассмеявшись. — У меня это только одни догадки. Они лежали и смотрели вниз на дорогу. Мимо них прошло несколько путников. Проехал человек в повозке в сопровождении вооруженных всадников-рабов и пеших слуг; появилась кучка работников, мальчик со стадом овец и весьма ретивыми овчарками. Заметив, что у пастуха через плечо перекинута котомка с припасами, мальчики ощутили приступ голода. Пока они смотрели, он открыл котомку и достал из нее что-то похожее на яблоко. — Спустимся и спросим, может быть, он присоединится к нам, — предложил Марон. — Нет, он, чего доброго, испугается и позовет на помощь, — возразил Бренн, борясь с искушением, хотя у него слюнки потекли. — Да еще услышит кто-нибудь. И, вдобавок, как только его господин обнаружит, что он сбежал, будет новая погоня. Они продолжали наблюдать за мальчиком и увидели, что он гонит овец дальше, к ложбине, где виднелись зеленые деревья и кусты; они поняли, что там должен быть источник, скрытый за выступом горы. Все же им было досадно, что они не прошли немного дальше и не обнаружили источника прежде, чем выбрали себе убежище; им ужасно хотелось пить, а под соснами днем стало очень жарко. Но как медленно ни катилось по небу солнце, сумерки, наконец, наступили. Тени удлинились и поползли на склоны, где лежали мальчики, потом солнце спустилось к гребню противоположных холмов и скрылось за ними. С неба все еще струился некоторое время его отраженный свет, и мальчикам пришлось ждать, хотя в горле у них совсем пересохло. Однажды, когда они уже потеряли терпение и намеревались выйти из своего укрытия, с дороги донесся стук лошадиных копыт и они увидели гонца в развевающемся по ветру военном плаще, галопом мчавшегося с юга. Какие он вез известия? Им очень хотелось знать, но пришлось снова укрыться в тени сосен на сухих хвойных иглах, которые уныло шуршали под ногами. Они ждали, пока вечер не спустился окончательно на потемневшую дорогу. Тогда мальчики соскользнули вниз по откосу и побежали к ложбине, где, должно быть, журчали прозрачные струи ручья. Они нашли источник. Земля вокруг была утоптана копытами овец. Мальчики с наслаждением напились, потом они смыли со своих тел сухую пыль этого бесконечно долгого дня. Однако через несколько мгновений они перестали ощущать радость утоленной жажды и ими завладело мучительное чувство голода. Но где-нибудь должна же находиться какая-нибудь пища; отыщут же они поле с ранними овощами или амбар, в котором можно будет чем-нибудь поживиться. Они так радовались своей свободе, что не хотели беспокоиться ни о чем, даже о такой важной вещи, как еда, и бодро двинулись дальше. Да, им понадобился весь их запас бодрости. В эту ночь они ничего не нашли, кроме недозрелых яблок, от которых у них разболелись животы, и весь следующий день они пролежали в камышах у небольшой речки. Здесь они хоть от жажды не страдали; а под вечер Марон, ползком среди камышей, отправился искать гнезда диких уток и возвратился с шестью яйцами. Мальчики осторожно разбили яйца и с радостью убедились, что они только что снесены. Они проглотили яйца сырыми, запили водой, журчащей среди чисто вымытой гальки, а потом нашли какие-то ягоды, которые Марон объявил съедобными; на ягодах были следы птичьих клювов, а то, что клевали птицы, наверняка не ядовито. Этой ночью идти им было труднее: они заблудились, свернув на тропинку, показавшуюся им кратчайшим путем, потом опять вышли на дорогу, но попали к деревне, где их едва не поймали. Залаяла одна собака, потом залились лаем остальные. Мальчики услышали, как открываются двери, бросились бежать назад и спрятались под плетнем, цепенея от страха, что рассвет застанет их у всех на виду. Но в предутренних сумерках им удалось обойти деревню и двинуться дальше, прежде чем люди вышли из домов. Теперь их нестерпимо мучил голод, и они, уже не остерегаясь, шли по дороге, несмотря на то, что стало совсем светло. Промчался какой-то всадник; беглецам показалось, что он подозрительно посмотрел на них, но это их не смутило: на случай, если их начнут расспрашивать, мальчики решили сказать, что они подпаски, но заблудились и разыскивают стадо. Они видели работающих в поле людей, строения большого поместья, но не осмелились подойти ближе. Проникнуть в какую-нибудь ферму и при этом не попасться было невозможно, потому что каждая ферма имела всегда только один вход, находившийся под постоянным наблюдением управителя или его жены, а за ним — внутренний двор, куда выходили все жилые и хозяйственные помещения. Наконец, к великой своей радости, мальчики нашли немного еды на перекрестке двух дорог; это было приношение, которое поселяне оставили местному божеству, идя на работу. Перед четырехугольным деревянным чурбаном, грубо обтесанным в виде человеческого туловища с плечами и головой, стояло глиняное блюдо, а на нем — яблоко, маслины, хлебные корки. Мальчики пробормотали несколько слов, прося этого деревянного бога простить им грех, который они совершают по жестокой необходимости, и набросились на еду, спугнув воробьев, дравшихся из-за хлеба. Они были рады, что птицы первыми начали хозяйничать здесь: им казалось, что это уменьшало их собственную вину. Они разделили добычу и, с трудом сдерживая голодное нетерпение, шмыгнули за куст. Потом уселись под деревом на сухую землю и съели свои доли, стараясь не обронить ни крошки. Им хотелось извлечь из еды все, что возможно, и казалось, что, если они будут есть медленно, она принесет им больше пользы и лучше усвоится. Они жевали медленно и осторожно, чтобы не обременить изголодавшийся и ослабевший желудок. И правда, от долгого голодания нутро у них так обессилело, что мальчики не могли наслаждаться пищей, как рассчитывали. Они не находили в ней настоящего вкуса. Им было трудно есть; во рту пересохло, и казалось, что пища камнем ложится на желудок. Но все же она была съедена слишком скоро; они полулежали, опершись спиною о ствол дерева, пока им не стало легче. Пища переваривалась, кровь быстрее струилась по жилам, и снова захотелось есть. Теперь голод мучил их больше, но зато силы прибавилось, а это было важнее всего. Мальчики поднялись и побежали по дороге. Местность стала более пустынной, они уже никого не встретили, кроме весьма угрюмого человека с коровой, который даже не ответил на их робкое приветствие. Они перестали бежать и пошли быстрым шагом, становясь все уверенней, по мере того, как на полях, окаймлявших дорогу, виднелось все меньше и меньше следов человеческого труда. С наступлением сумерек мальчики заметили одинокую виллу, приютившуюся за небольшой рощицей. Набравшись храбрости, они решили, как только мгла совсем сгустится, подойти к ней поближе в надежде обнаружить огород или фруктовый сад, где можно будет найти что-нибудь съедобное. Они залегли под кустом, удивляясь, почему кругом не заметно никаких признаков жизни. Не слышались голоса людей, возвращавшихся с работы, не мелькал свет факелов или фонарей. Молчание немного пугало мальчиков, и они уже хотели было идти дальше, но все усиливавшиеся муки голода побудили их приблизиться к этому жилью. Они стали ползти к дому. Но там по-прежнему царила мертвая тишина. Вдруг Марон схватил Бренна за руку. — Смотри, — прошептал он. — Ворота выломаны. Они вгляделись в сумрак и убедились в том, что створы ворот, ведущих во двор, разбиты и повисли на петлях. — Как ты думаешь, что здесь произошло? — снова начал Марон. — Дело ясное, — промолвил Бренн, дрожа от возбуждения: — либо здесь побывали повстанцы, либо рабы вырвались на волю, чтобы примкнуть к ним. Мальчики вылезли из кустарника, в котором прятались, и пошли по направлению к брошенной вилле.
Глава V На вилле
Они были уверены, что в доме никого нет, и все же дрожали всем телом, проходя через разбитые ворота во двор. Какие-то живые существа метнулись от них в разные стороны, и они сперва испугались, но потом сообразили, что сами же спугнули уток и гусей, которые бросились к пруду посредине двора, отчаянным шипением, гоготом и кряканьем выражая пришельцам свое негодование. Весь этот шум отдавался эхом по строениям виллы, но грубого голоса управителя не было слышно. Управитель либо скрылся вместе с рабами, либо его убили. Наконец-то мальчики действительно ощутили, что восстание не выдумка, что оно — правда. Это вдохнуло в них новые силы, хоть они и не могли всецело отдаться радостному чувству здесь, на заброшенной вилле, темной, как гробница. Вскоре голод заставил их подумать о самом насущном. Уж здесь-то где-нибудь наверняка имеется съестное. Сколько бы припасов ни забрали с собой рабы, что-нибудь да осталось, хотя бы зерно в закромах и объедки на кухне и в кладовой. Первым делом следовало раздобыть огня, а это было нелегко. В кухне должны находиться кремень с огнивом; но как их разыскать в темноте? Мальчиков дразнила и мучила мысль, что в этом пустом, оставленном без присмотра доме, наверно, имеются всякие припасы; но добраться до них без огня невозможно. А кто знает, что может случиться до утра? Могут появиться легионеры или какие-нибудь чиновники и понятые, посланные владельцем или его наследниками, если владельца убили бежавшие рабы. При этой мысли мальчики вздрогнули — не от жалости к этому владельцу, что бы там с ним ни случилось, а потому, что не очень-то приятно находиться темной ночью в доме, где, может быть, присутствует разгневанный дух — дух человека, который не получил подобающего погребения. Рабы, вероятно, бежали поспешно, — иначе они не оставили бы уток и гусей. Но что-то надо было предпринять. — Я мог бы раздобыть огня с помощью двух деревяшек, — сказал Бренн. — Но их у нас так же нет, как и кремня. Хотя в темноте голос его звучал глуховато, все же от одного этого звука мальчикам стало стыдно своего страха, и к ним вернулось мужество. — Давай держаться вместе, — сказал Марон, — и поищем чего-нибудь. — Да, только сперва хорошенько все обдумаем, — ответил Бренн. — Тут, у ворот, наверно, помещение управителя. А сейчас же за первой комнатой должна находиться кухня. Они заметили, что мрак несколько поредел, и вдруг увидели луч месяца. Это подбодрило их больше всего; теперь они уже не ощущали безнадежного одиночества. Они послали месяцу воздушный поцелуй, как благоговейное приветствие, и вошли в сторожку управителя. Дверь была открыта и, как ворота, сорвана с петель. Мальчики пробирались через опрокинутые столы и скамьи, уже не ощущая такого страха, как в первое мгновенье, когда они вступили в этот непроглядный мрак. Вдруг Бренн громко завопил и отпрянул назад, отчаянно стараясь освободиться от чего-то, в чем он запутался, — это оказалась дверная завеса. Встревоженный Марон бросился ему на помощь, однако, разобравшись, в чем дело, принялся смеяться. Бренн отбросил завесу и тоже рассмеялся. Но оба они ощутили, что смех у них совсем неестественный, и, когда услышали отзвуки его в пустом доме, ими опять овладело неприятное чувство. Они перестали смеяться и прислушались. Теперь ничего не было слышно, кроме заглушенного утиного кряканья да вздохов ветра. Отодвинув завесу, они проникли в другое помещение. Марон споткнулся о скамью, и по запаху они сообразили, что находятся в кухне: пахло гниющими овощами. Впомещении имелось окно, выходившее во двор, и сквозь него проникал тусклый лунный свет, достаточный, чтобы рассмотреть окружающие предметы, после того, как глаза привыкли к темноте. Бренн нашел сосуд, в котором когда-то было оливковое масло, и горшок с прогорклым жиром. Марон увидел ларь для муки и с надеждой открыл его, но тотчас убедился, что ларь давно опустел. Они уже начали бояться, что рабы унесли все, что стоило взять с собой, как вдруг Бренн стукнулся головой о большой кусок копченой грудинки, свисавший с крюка в потолке. Он не мог удержаться от торжествующего крика и потянул грудинку вниз; веревка порвалась, и на голову ему посыпались хлопья сажи и паутины. Но на такие пустяки нечего было обращать внимания. Он торопливо пробрался к окошку, обследовал свою находку и обнаружил, что она вполне пригодна для еды. — Ну, тяни, — сказал он Марону. Они не смогли разорвать грудинку пополам и только вымазали руки в сале. Не в силах дольше ждать, они стали по очереди отгрызать куски, каждый от своего конца. После этого им повезло. Наткнувшись на какой-то сосуд, Марон обнаружил разбавленное водой вино, и они смогли утолить жажду. Бренн нашел банку с маринованными маслинами, горшочек с рыбным соусом и — это была самая лучшая находка — несколько черствых пшеничных хлебцев и мед. То, что хлеб был черствый, не смутило мальчиков, — они привыкли к хлебу, который нарочно выдерживали, пока он не зачерствеет; свежевыпеченный хлеб предназначался только для господ: им делать нечего и они могут портить себе пищеварение. Все найденное мальчики разложили на полу у окна, куда падали бледные лучи месяца, и в перерывах между едой считали и пересчитывали свои запасы. Никогда в жизни они не видели такого количества пищи. Ее хватит на многие годы. И в то же время им жалко было есть ее: хотелось сохранить эти запасы, смотреть на них, любоваться и прикидывать, на сколько их хватит. И вот, когда Бренн случайно оперся о подоконник, он что-то смахнул с него локтем и, нагнувшись, чтобы поднять упавший предмет, обнаружил, что это кремень, которым пользовались для разжигания огня в очаге в тех редких случаях, когда он совсем угасал. Поискав немного, они нашли стальной нож и попытались выбить искру из кремня. Марон вытащил из кучи топлива за очагом несколько древесных стружек, оторвал полоску материи от шерстяной завесы и надергал из нее волокна. Стружки и волокна он держал в руке, пока их не подожгла искра. Он бросил горящие стружки в очаг и подложил щепок. — Найди мне светильник, да такой, чтоб в нем было масло. При свете дрожащего пламени Бренн заметил на полке светильник, но без масла. Другой светильник, стоявший на подставке в углу, оказался налитым до половины. Бренн принес его к очагу, где Марон и зажег его горящей лучиной.

— Теперь можно пойти и осмотреть дом, — сказал Марон. Бренн колебался. — Ты думаешь, так уж это нужно? — Сам не знаю. Они призадумались. Им не хотелось осматривать дом, но они не могли чувствовать себя в безопасности, пока не сделают этого. Правда, и после осмотра полной безопасности не будет, ведь кто угодно мог пробраться в виллу сквозь сломанные ворота. Им обоим хотелось вернуться под открытое небо на склоне холма, где они ничего не боялись ни днем, ни ночью. Другое дело — темный и пустой дом; мальчики не знали, на что решиться. Но сидеть в сторожке управителя было так же жутко, как идти осматривать дом. А им все же любопытно было, — не найдется ли там еще чего-нибудь подходящего. Может быть, опять какая-нибудь еда, ибо теперь еда заполняла все их мысли. Когда они убегали, им даже в голову не приходило, как трудно будет прокормиться в незнакомой местности. Больше всего они нуждались в пище, но совсем неплохо было бы раздобыть денег. Итак, Бренн взялся за ручку глиняного светильника. — Все-таки лучше посмотрим. Они пересекли двор и нашли главный вход в дом. Здесь дверь едва держалась на петлях. От легкого ветерка она раскачивалась. Бренн заслонил светильник закутанной в плащ рукой. Через сени прошли они в комнату для господ. Но в комнате все было разбросано в полном беспорядке, обстановка поломана, а на покрытых росписью стенах виднелись явные следы борьбы. Дальше помещалась контора поместья. На одном столе стоял светильник, а на полу валялись папирусы, выпавшие из взломанных ящиков и шкафов. Впрочем, некоторые из них, заботливо собранные, лежали в стороне. Подойдя к светильнику, Марон увидел, что он полон масла. Он поднял его, но тотчас же быстро опустил и с удивлением взглянул на Бренна. — Светильник еще теплый. Его только что погасили. Мальчики не двигались, словно оцепенев от охватившей их тревоги. Значит, кроме них, в доме еще кто-то находится. Кто же зажег, а потом погасил светильник?
Глава VI В подвале
Инстинктивно они стали оглядываться по сторонам, ища какого-нибудь оружия, чтобы защититься, если бы неизвестный враг бросился на них из темноты. Марон поднял с пола ножку сломанного стула, а Бренн схватил подставку светильника, представлявшую собой бронзовый столбик с ножкой в виде львиных лап: в перевернутом виде она отлично могла служить дубинкой. Вооружившись таким образом, они стали осматривать комнату. Один раз Бренн отпрянул назад и едва не опрокинул Марона. Ему почудилось, что он наткнулся на мертвое тело, но это оказалось всего-навсего сваленная на пол статуя; ноги у нее были отбиты, а голова съехала набок, словно этой статуе свернули шею. Потом в другой комнате их сперва испугала возня крыс; в жуткой тишине дома она походила на шорох, который может производить человек, прячущийся в тайнике. Но ни под кроватью, ни за занавесью никого — не было. Когда Бренн поднял одеяло на кровати, что-то с глухим стуком упало на красивый шерстяной ковер. Это был кошелек. Развязав его, он обнаружил довольно большое количество золотых и серебряных монет. Считая себя и Марона разведчиками на вражеской территории в военное время, он без малейшего колебания взял деньги и с радостью отдал Марону причитающуюся ему половину. — Ну, с этими деньгами у нас теперь все пойдет по-другому! Оба впились глазами в найденное сокровище, забыв на мгновенье мучительный страх, овладевший ими с тех пор, как они обнаружили еще теплый светильник. Но память об этом быстро вернулась к ним, и они продолжали розыски в мрачной общей спальне, где раньше ютились рабы, в кухне и в других помещениях для рабов, где на стенах нацарапаны были углем разные насмешливые надписи и рисунки. Потом они повернули обратно и направились в другую половину дома, где находились кладовые; засовы были сорваны и печати сломаны. В одной из комнат хранилось зерно, в другой шерсть. Однако мальчики нигде не обнаружили никакого врага и начали уже подумывать, — не произошло ли ошибки? — А ты уверен, что светильник был теплый? — с сомнением в голосе спросил Бренн. — Не понимаю, как я мог бы ошибиться, — ответил Марон, сам уже несколько поколебленный. Тут он указал на люк в полу. — Смотри-ка. Что там может быть такое? — Вероятно, подвал для вина или для масла. — Спустимся туда или, лучше, навалим на него что-нибудь тяжелое, чтобы тот, кто там прячется, не смог вылезть. Но под рукой не было ничего настолько тяжелого, чтобы люк нельзя было открыть снизу, и, кроме того, раз уж начав поиски, мальчики не хотели оказаться под конец трусами. Желание заставить неизвестного обнаружить себя было у них сильнее, чем страх перед возможной схваткой с ним. Бренн поднял люк, потянув за вделанное в него кольцо, и заглянул вниз. Тусклый огонек светильника озарил деревянные ступени и, еще ниже, в темноте, ряды амфор с вином. — Это винный погреб, — сказал он. — Я спущусь первый, а ты держи палку наготове. Пока Бренн спускался, Марон светил ему сверху. Когда же Бренн благополучно добрался до самого низа, он спустился вслед за ним. Оглядевшись, они ничего, кроме амфор и бочек, не увидели. Несколько разбитых сосудов валялось на цементном полу, и целая лужа вина еще стояла в одном углу, там, где оно вытекло из амфор, опрокинутых ворвавшимися в погреб рабами. — Ничего тут нет, — сказал Бренн; голос его слабо звучал в холоде и мраке между каменных стен погреба. Марон зашел в подвал и заглянул в бочки. — Да, ничего, — ответил он. — Верно, я ошибся насчет того светильника, хотя готов поклясться, что его только что погасили. Ну, ладно, пойдем обратно и поедим еще чего-нибудь. Они облегченно вздохнули и уже повернули назад, как вдруг раздался грохот и в погреб ворвался порыв ветра, едва не задувший их светильника. Марон, который еще раньше передал светильник Бренну, бросился к лесенке и быстро взбежал вверх по ступенькам. Но было уже поздно. Люк плотно захлопнулся, и снаружи доносился скрежет железа по железу. Когда Марон попытался плечом приподнять люк, тот не поддался его усилиям. — Кто опустил люк? — с тревогой спросил Бренн. — И почему он не открывается? Там ведь не было задвижки. — Но паз для нее был, — произнес Марон сквозь стиснутые зубы. — Кто-то вынул задвижку, а теперь засунул ее обратно. Бренн стал рядом с Мароном, и оба они старались плечами приподнять тяжелый люк и сорвать задвижку, но тщетно. В полном отчаянье они опять спустились в погреб и принялись осматриваться, ища выхода. — Кто это мог быть? — опять спросил Бренн. — Кто бы он ни был, хотел бы я, чтобы он попался мне в руки, — сердито пробормотал Марон. — И какие же мы были дурни! Так нам и надо. — Похоже, что это женщина, а если мужчина, то один, — подумав, сказал Бренн. — Будь там двое мужчин или больше, они бы сразу на нас накинулись. Они бы не стали красться за нами вслед, в надежде, что заманят в ловушку. — Ты прав, — произнес Марон, колотя кулаком о кулак. — О, если б нам только выбраться отсюда! Кто б это ни был, он боится нас еще больше, чем мы его. Хоть это утешительно. Верно, эта мысль могла придать им бодрости, но, по правде сказать, не много. Как бы ни был слаб их скрытый недруг, они ничего не могли против него предпринять, не выбравшись из погреба. Они шагали взад и вперед по твердому полу; было очень холодно. Они сделали руками несколько упражнений, выпили немного вина, чтобы согреться, и старались до чего-нибудь додуматься. Но ничего не приходило им в голову. Время от времени они поднимались по ступенькам и тщетно пытались поднять люк, сколоченный из тяжелых дубовых досок. — О, какие же мы были дурни! — стонал Марон. Он с яростью оглядывался по сторонам и вдруг заметил, что Бренн слишком приблизился к светильнику, стоявшему на полу. — Смотри, ты подожжешь свой плащ. Бренн отошел от светильника и внезапно воскликнул: — Слушай, ты надоумил меня. Нельзя ли нам выжечь огнем выход отсюда? Мысль эта вдохнула в них бодрость. Они подбежали к полкам, сбросили оставшиеся на них сосуды, разбили две пустые бочки и собрали таким образом большую кучу дров. Но растопку найти было не так-то легко. Пришлось взять самые тонкие доски и расколоть их на более мелкие куски, а затем они голыми руками принялись расщеплять их, так что вскоре кончики пальцев у них стали кровоточить. Тогда они попытались расщеплять кусочки дерева острыми краями разбитых амфор. Таким образом у них образовалась основательная груда щепок и мелких кусочков дерева, причем они выбирали самые сухие. Ведь если огонь не очень сильно разгорится, он не сможет выжечь прочный дубовый люк. Тут понадобится самое жаркое пламя. Под конец Бренн оторвал от своего плаща большой лоскут. — Вымочим его в масле из светильника и подожжем, тогда дерево наверняка разгорится. — Чудесно! — воскликнул Марон, потирая руки. — Ну и удивится же этот негодяй, поймавший нас в ловушку, когда увидит, что пламя уничтожает его проклятый люк и выпускает нас прямо на него! — Приготовь дрова, — сказал Бренн. Он направился к светильнику с лоскутом в руках, но не успел еще подойти, как фитиль угрожающе затрещал. — Ох, он затухает! — завопил Марон. — Скорее! Бренн бросился к светильнику и вынул фитиль со всей быстротой и осторожностью, на какие только был способен, попробовал наклонить светильник так, чтобы фитиль пропитался всем оставшимся маслом, но ему не удалось поддержать гаснущее пламя. Его пальцы только скорее загасили слабо мерцавший на почти выгоревшем фитиле огонек. В светильнике уже не оставалось ни капли масла. Погреб погрузился в непроглядный мрак, и мальчики были заперты в нем вместе с собранной ими кучей топлива, которой хватило бы на хороший костер, но не было ни огня, ни даже искорки, чтобы его запалить. И ничего больше они сделать не могли. — Если бы он стал медленно разгораться, — промолвил, наконец, Бренн, — мы бы, пожалуй, задохнулись от дыма. Может быть, так оно даже к лучшему. Но как это могло быть к лучшему, когда они обречены на голодную смерть в этом помещении, в полной темноте? Скоро же рухнула надежда на вольную жизнь!
Глава VII Несмотря на решетку
Так сидели они в темноте на деревянных ступеньках, потому что цементный пол был слишком холодный; время от времени они выпивали глоток вина, иначе бы их уже мучил кашель и била лихорадочная дрожь. Они не рассчитывали на то, что наступление дня чем-нибудь им поможет, так как не представляли себе, что солнечный свет сможет проникнуть в подземелье. Сейчас ими овладело уныние. Они уже оставили свои тщетные попытки открыть дубовый люк, безжалостно державший их в плену. Может быть, их так и оставят тут умирать с голоду; может быть, вызовут вооруженный отряд, охотников за беглыми рабами, которые доставят их обратно, в дом господина, где их, конечно, обвинят в убийстве того человека на холме. А тогда их ожидает смерть на кресте. Неизвестно, какой конец хуже. Но они были сильно утомлены и, несмотря на холод, от усталости и выпитого вина заснули беспокойным сном. Бренн проснулся оттого, что Марон тряс его за плечо. — Гляди! Бренн открыл глаза. Сквозь еле видимую щель справа, за полками, проникал слабый свет. А что особенного было в наступлении дня? Но тут он вспомнил, где находится, вспомнил, что, проснувшись, не мог ожидать ничего, кроме все того же ужасного мрака, который давил на глаза, как тяжелая повязка.

В погреб проникал свет! Мальчики вскочили, хотя все тело у них ныло и дрожало от холода, и бросились к отверстию, которое слабо освещало подвал. Вместе со светом к ним возвратилась надежда. Они поспешно сорвали полку и осмотрели отверстие. В стене проделано было нечто вроде наклонного хода наружу, слишком узкого для взрослого человека, но достаточно широкого для мальчика, который решился бы на попытку ползти в таком тесном пространстве. Но в конце этого прохода, сделанного для доступа света и свежего воздуха, имелась решетка — три железных прута. — Нам их никогда не выломать, — простонал Бренн. — Все равно надо попробовать, — ответил Марон. Он оглядел погреб и выбрал черепок с острым краем. — Ты разве не видишь, что они вделаны в дерево и закреплены только штукатуркой? Если дерево хоть немного подгнило, их нетрудно вынуть, а проход весь покрыт штукатуркой. Ее можно соскоблить, и он тогда расширится. Марон тотчас же принялся соскабливать штукатурку. Бренн усердно помогал ему. Вскоре они, дюйм за дюймом, расширили нижнюю часть прохода. Тогда Марон сбросил плащ и тунику, чтобы легче было ползти, и, подставив к стене под самое отверстие бочку, протиснулся в проход и стал продвигаться к решетке, извиваясь и вытягивая руки вперед. Желая помочь ему, Бренн сперва держал его за лодыжки, а потом уперся ладонями в его ступни, чтобы тот имел нечто вроде точки опоры. Марон кряхтел и хрипло дышал, но все-таки добрался до решетки. Снизу Бренн не мог видеть, как он работал. Да он и вообще почти ничего не видел, так как своим телом Марон закрыл доступ свету, и погреб снова погрузился во мрак. Но он слышал, как Марон выковыривал штукатурку и дерево, и молил судьбу, чтобы скрытый недруг, кто бы он ни был, не мог услышать, как стучит и скрежещет черепок в руках Марона. Под конец Марон совсем обессилел. Задыхаясь, он соскользнул вниз, лицо и волосы у него были покрыты пылью от штукатурки. Он потряс головой и, обтерев руки о брошенную на пол тунику, протер глаза, болезненно слезившиеся от пыли. — Ох, я почти ослеп. Работа не очень-то приятная. И в горло набилась пыль. Он набрал в рот вина и прополоскал горло. — Теперь моя очередь, — сказал Бренн. Он тоже разделся и пополз в проход. Да, работа была не из приятных. Рукам его, вытянутым над головой, едва хватало силы, необходимой для того, чтобы расшатать деревянную раму. Эта работа заняла бы многие часы, если бы дерево не было слегка подгнившим. Но он упорно трудился, едва не ослепнув от пыли, потеряв всякий счет времени и своим собственным усилиям, пока не пришел в себя и не заметил, что средний прут уже достаточно расшатан. Он повертел его и вырвал из гнезда. Прут выскользнул из онемевших пальцев, ударил его по плечу и содрал кожу. Но разве это могло иметь значение? Он радостно принялся за другие прутья, завершая работу Марона, и через несколько мгновений решетка была вырвана. Бренн соскользнул вниз по проходу, а за ним полетели железные прутья. Он не смог удержать их, и они со звоном и грохотом упали на цементный пол. Шум этот поверг мальчиков в ужас. Неужели его услышат наверху и враг поймет, в чем дело? Они задержали дыхание и прислушались. Но все было тихо. Тогда они шепотом обсудили дальнейший план действий. Марон первый полез обратно в проход, — ведь это он обнаружил его, и ему принадлежало право первому выбираться из погреба. Он пополз опять с помощью Бренна, который подталкивал его снизу, и, соскоблив еще немного штукатурки, высунул голову из отверстия. Потом, сделав еще несколько резких движений плечами и туловищем, выскочил наружу. Бренн протянул ему на конце длинной доски от разломанной бочки их туники и плащи, вместе с завернутыми в них железными прутьями. Марон, уже стоявший во дворе над отверстием, благополучно принял этот узел. А тогда и Бренн взобрался на бочку и пополз в проход, держа руки над головой; нагнувшись, Марон, схватил его за запястья и вытащил наружу. Мальчики шатались, их исцарапанные тела горели от ссадин, но они быстро оделись и взяли железные прутья, которые должны были служить оружием. Проход из погреба выходил в глубокую нишу, защищенную от дождя подпорками и сточными желобами. Поэтому мальчики решили, что, вернее всего, их никто не заметил. Во всяком случае, никто не пытался на них напасть. Они стояли выпрямившись, глубоко вдыхая воздух, щурясь на солнце. Снова на свободе! Они ощущали, как новые силы жарко разливаются по их жилам, и были готовы встретиться с кем угодно — здесь, в вольном солнечном свете на лоне природы. Мучительные часы, проведенные в мрачном погребе,, уже изглаживались из памяти. Они улыбались вновь обретенному миру, улыбались двору, омытым дождем стенам, утиному пруду, блестящей на солнце грязи — всем вещам, обычным и незначительным, но полным волшебной прелести для них, считавших себя заживо погребенными в холоде и мраке. Переживая подобные мгновения и словно сливаясь со всем миром, невольно осознаешь, как дорого тебе все окружающее, все те вещи, на которые ты и внимания не обращаешь, пока, охваченный страхом, не поймешь внезапно, что вот-вот потеряешь их. Синева неба казалась мальчикам нежной, как никогда. Ветерок был изумительно приятный, ласкающий, игривый. Даже самые обыкновенные утки с птичьего двора, предававшиеся блаженному ничегонеделанью в мокрой грязи, стали восхитительными созданиями, которых стоило созерцать часами. А воробьи, те были просто старые друзья. А где же враг? Внезапно Марон схватил Бренна за руку. Из дыры над очагом сторожки управителя шел дым.
Глава VIII Союзник
Крепко держа в руках железные прутья, мальчики стали красться к сторожке. При ярком дневном свете они не боялись врага. Они даже были злы на него, потому что, по всей вероятности, он сейчас поглощал ту пищу, которую они разложили на полу в кухне управителя, — их пищу! При этой мысли они сразу ощутили острый голод; но, прежде чем позавтракать, им еще придется разделаться с неизвестным. Они вползли в дверь сторожки и уловили в задней комнате шорох и движение. Подняв завесу, они ворвались туда с оружием наготове, ожидая неизбежной схватки. Сперва они никого не увидели. Потом, изумленно осматриваясь по сторонам, заметили скорчившегося в углу седого плешивого старика.

— Это ты запер нас в подвале? — спросил Бренн. Ему немного совестно было грозить оружием такому беспомощному существу, но он старался говорить сурово. — Что ты такое говоришь? — дрожащим голосом пробормотал старик. — Ночью пришли какие-то разбойники. Я их не очень хорошо разглядел… Они там, в погребе. — Ты один здесь остался? — спросил Марон. — Да, — ответил старик все тем же слабым голосом, печально покачав головой. — Я не хотел сделать ничего дурного. Только не выпускайте этих головорезов из погреба. — Да я же тебе говорю: это нас ты запер в подвале, — сказал Бренн. Ему стало совсем стыдно, и он спрятал железный прут за спину. — Но я понимаю, — ты хотел только защититься. Старик смотрел на мальчиков своими выцветшими глазами, отказываясь верить, что перед ним те разбойники, которые напугали его ночью. Но мальчики, утратив всякий интерес к тому, что он думал и чего не думал, набросились на еду и принялись уплетать за обе щеки. Видя, что они перестали им заниматься, старик встал, молча потянулся и пошел из комнаты. — Не уходи, — с трудом выговорил Бренн: рот у него был полон хлеба с сыром. — И не бойся нас, — добавил Марон, отрезая себе еще ломоть грудинки. — Мы такие же рабы, как и ты. — Я вас не боюсь, — ответил старик. — Вы не похожи на тех здоровенных головорезов, которые пробрались сюда ночью. Он помолчал, а потом вспомнил, что Марон упомянул про рабов. — Рабы уже не те, что были. Они превратились в головорезов. Наступает конец света. — Что здесь произошло? — спросил Бренн. Ему и любопытно было, и хотелось задобрить старика. — Они восстали и разгромили виллу. — Старик опять медленно покачал головой. — За всю свою жизнь я не видел такого разорения. Даже после страшного урагана в тот год, когда развелось великое множество злющих ос. Я им сказал, что для них это кончится плохо, но они только засмеялись в ответ. Потом они хотели, чтобы я с ними бежал. А я побоялся, я ведь старый и больной. И они убили господина. — Он подозрительно взглянул на мальчиков. — А вы кто такие? Что вам нужно? — Нас послали на юг с донесением, — ответил Бренн, но не добавил, что донесение-то было от них самих и предназначалось вождю восставших рабов. — Не знаю я, что делать с виллой, — печально жаловался старик, забывая свой страх от удовольствия, что есть с кем поговорить. — Как бы я ни старался, мне ее не привести в порядок. У меня и так несколько дней ушло на то, чтобы похоронить господина. Но похороны-то были не настоящие. — Он умоляюще взглянул на мальчиков. — Не знаю, откуда вы проведали, что у меня в погребе заперты разбойники, но обещайте, что вы их не выпустите. — Ладно, — ответил Бренн, считая за лучшее не раздражать старика. — Как тебя зовут? — Луципор, — ответил старик. После каждой произнесенной им фразы он покачивал головой. — Мир не тот, что был раньше. Зовут меня Луципор. Как мне, старику, справиться со всем этим беспорядком? Все это время я провозился с погребением. Все-таки надо же было его похоронить. Правда, за еду он заставлял целый день работать, а отдых давал только ночью, но ведь это повсюду так. Он сказал мне, что записал мое имя в завещании, чтобы меня освободили после его смерти, а теперь я уж никогда не буду на свободе. — Но раз он тебя освободил в завещании, — значит, теперь ты свободный, — убеждал старика Бренн. — Не говори так, — упрямо возразил Луципор. — Он не своей смертью умер. Убили его. Ты что, разницы не понимаешь? — Я понимаю только одно, — вмешался Марон, доедая маслины: — если тебя здесь застанут, так обязательно казнят. — Да ведь я ничего не сделал, — захныкал Луципор. — Закон знаешь? Все рабы в доме, где убили господина, подлежат казни. Для того и придумано это, чтобы мы друг за другом следили. Луципор старался уразуметь то, что ему втолковывали. По его щекам струились слезы. — А я всегда надеялся дожить свои дни в семье брата, в Фуриях. Он гораздо моложе меня и хорошо смыслит в делах. Он столько денег накопил, что смог выкупить себя пять лет тому назад и открыть пекарню. Теперь никогда уж мне его не увидеть. Старик с тревогой посмотрел на мальчиков. — Вы очень торопитесь? Может, останетесь и поможете мне убрать виллу? Нельзя же, чтоб так все и осталось, когда приедет его наследник! — Вздернет он тебя, если приедет, — сказал Марон; но Бренн молча махнул ему рукой и подмигнул. Со стариком можно было сладить только одним способом — во всем ему потакать. — Да пойми же, наконец, что ты теперь свободный человек. Мы сами прочитали это в завещании и пришли за тобой, чтобы нам вместе двинуться на юг, в Фурии. — Я свободный человек, правда? — боязливо спросил Луципор. — Ты в этом уверен? — Да, конечно, уверен. — Бренн решил, что самый верный способ помочь и Луципору и самим себе — это пустить в ход какую-нибудь безобидную выдумку. От всего другого полубезумный старик окончательно лишится рассудка. — Мы позаботимся о тебе и доставим к брату. Не забывай, что теперь ты свободный человек. — Свободный человек, — промолвил Луципор голосом, полным глубокого удивления. Он встал со скамьи и прошелся по комнате. — Свободный… Он выглянул в окно. — Но я что-то никакой разницы не чувствую. Все такое же, как было. Даже не верится. В молодости я часто думал обо всем, что я сделаю, когда освобожусь… Он обернулся к Бренну, в голосе и в глазах его была мольба. — Уйдем отсюда, пока те головорезы не выбрались из погреба. Вы же их, наверно, видели — такие здоровенные парни, а в руках у них мечи, топоры и копья. Ох, и страшные же люди! Но я-то догадался, что они полезут в погреб за вином. Я и вынул засов, а потом на цыпочках пробрался обратно… Он усмехнулся себе под нос. В его старческом мозгу почти не осталось рассудка, — столько страданий выпало в жизни ему на долю. Он продолжал ходить взад и вперед по комнате, бормоча: — Свободен!.. Бренн и Марон отошли в сторону и стали вполголоса совещаться. Двое подростков, блуждающих по дорогам, обязательно привлекут к себе внимание, и их станут все время расспрашивать. Но если они приоденут старого Луципора и отправятся вместе с ним в качестве слуг, никто на них и не посмотрит. Они смогут сопровождать Луципора, пока на окажутся уже близко от войска Спартака, а тогда научат его, как одному добраться до Фурий. Разыскав своего брата, он будет в безопасности, если же его застигнут в разграбленной вилле, то, разумеется, сразу же казнят. — Понял ты в конце концов, что ты теперь свободный человек? — сказал Бренн, снова подойдя к старику, который сидел теперь на табуретке, охватив руками колени и глядя вдаль. — Я уж начинаю понимать, — ответил Луципор. — Я знал, что это придет, если я смогу дождаться. Я только боялся, что помру прежде, чем это случится. Но кто приведет в порядок дом, если я уйду? — Ничего, приведут уж его в порядок, — успокаивал старика Бренн. — Тебе только надо хорошенько запомнить, что ты свободный человек и едешь на юг к брату. — Верно! — возбужденно вскричал Луципор, хрустнув суставами пальцев. — Верно. Вы ведь сами сказали, что так написано в завещании? Я, наконец, увижусь с братом! Он с важным видом поднял палец. — Слушайте, что я вам скажу. Видите, как награда приходит к тому, кто исполняет свой долг? Не часто доводилось вам видеть такого счастливца, как я… — Поешь теперь чего-нибудь, — ласково молвил Бренн, похлопывая старика по спине. — Скоро нам предстоит небольшая прогулка.
Глава IX Опять в дороге
Они основательно поели, набили припасами несколько сумок и приготовились двинуться в путь. Луципор все еще не вполне пришел в себя, но уже верил, что он взаправду свободный человек. Он дал согласие идти вместе с мальчиками, хотя продолжал колебаться и забрасывал, их бесконечными вопросами. Они порылись в сундуках с платьем, переоделись в более прочные туники. Луципора обрядили в одежду, принадлежавшую его господину. Это сразу придало ему вид почтенного горожанина, старика-купца, доживающего свой век на покое. Сперва он возражал, но привычный к тому, что им помыкают, быстро приучился повиноваться Бренну и смотрел на него почти как на нового господина. Он не мог быстро ходить, но мальчики дали ему дубовый посох, найденный Мароном среди вещей управителя. От Луципора мальчики узнали, что управителю удалось скрыться, и было даже удивительно, что из ближайшего города до сих пор никто не явился навести в вилле порядок и предпринять розыски бежавших рабов, виновных в убийстве своего господина. Объяснялось это страхом, который нагнали на рабовладельцев Спартак и его войско. Власти старались действовать как можно меньше, надеясь в скором времени получить известия о разгроме и уничтожении восставших. Мальчики со своим новым спутником двинулись в путь. Они сделали круг, чтобы обойти деревню, и, основательно подкрепившись пищей, захваченной с собой, провели ночь в кустарнике на склоне холма. Но на следующий день мальчики увидели, что равняться и впредь по Луципору — значило бы двигаться черепашьим шагом. Поэтому, если они решат по-прежнему делать вид, что они слуги Луципора, им необходимо будет раздобыть повозку с лошадью или хоть несколько мулов. Завидев неподалеку другую деревню, мальчики подбросили вверх одну монету из кошелька, найденного на вилле, сказав при этом «корабль или голова». Так обычно говорили, когда метали жребий, потому что древнеримская монета имела на одной стороне изображение двуликого бога, а на другой — корабельного носа. — Голова, — сказал Бренн. Монета упала вверх той стороной, на которой была голова, и это означало, что ему на долю выпадет небезопасное дело — пойти в деревню и раздобыть лошадей или мулов. Забрав кошель, он зашагал по дороге и первого же встречного спросил, есть ли в деревне постоялый двор. Человек смотрел на него, разинув рот, но, после того, как Бренн несколько раз повторил свой вопрос и жестами изобразил, как едят, пьют и укладываются спать, он указал на дом побольше других, и Бренн постучался в дверь. Открыл ему угрюмого вида человек, на ходу обтиравший руки о грязную скатерть. К вопросам Бренна он проявил полное равнодушие. — Нет повозок, — отрезал он, зевнув. — И лошадей. И мулов. И лягушек даже нет. — Но, — настаивал Бренн, пересказывая историю, которую они с Мароном состряпали, — на нашего господина нынче ночью напали разбойники, и ему надо раздобыть что-нибудь, на чем он мог бы ехать дальше. — А пусть идет пешком, — икнув, ответил хозяин постоялого двора. — Ноги у него украли разбойники, что ли? — Да он старик, — с негодованием возразил Бренн. — И к тому же не привык ходить. — Научиться никогда не поздно, — сказал хозяин, отгоняя невидимую муху. — Что он, не знает, для чего у него ноги? Ведь не только для того, чтобы их подагрой скрючило. Бренн вынул кошель и позвенел деньгами. — Да он заплатит. — А сколько? — спросил хозяин. И сейчас же добавил:- Только с лошадьми сейчас худо. Почему бы ему не зайти сюда и не пожить, пока кто-нибудь из проезжающих не возьмется его подвезти. Можешь сказать ему, что у меня очень удобно. Мое вино хвалят лучшие знатоки; а уж кто, как не они, понимают в этом деле? Если он не очень скаредный, будет получать у меня баранину. Терпеть не могу мелочных постояльцев, которым подавай пирог с павлином по цене тушеного воробья. Скажи своему господину, чтоб он остановился здесь. У меня такие кровати, что и люди получше его не ворчали, проведя на них ночь, а по их храпу я могу судить, что спалось им расчудесно. — Нам нужны лошади, — прервал его Бренн. — У нас срочное дело. — Срочных дел не бывает, — невозмутимо возразил хозяин. — Только сон, да еду, да еще кое-что в этом роде никак нельзя откладывать, и потому такой человек, как я, который может все это предоставить людям, и есть, можно сказать, всеобщий благодетель. Раз твой господин едет по срочному делу, ему как раз и подошло бы задержаться у меня на несколько дней. — Не может он задерживаться. — Ну, что ж, хорошо. Раз он из тех людей, которые только тогда и счастливы, когда никому житья не дают, я в нем не нуждаюсь. От таких я сам рад по возможности избавиться. Сколько он может заплатить? Бренну пришлось долго торговаться, пока удалось купить двух лошадей и осла. Лошади были довольно старые и изнуренные, а осел, хотя и помоложе, оказался косматый и неуклюжий. Все же это было лучше, чем ничего. А хозяин постоялого двора, как ни выпытывал Бренн, клялся, что во всей деревне других животных нет — одни только рабочие волы да собаки — и что он даже не знает, как выйти из положения, если теперь кто-нибудь захочет поехать в соседний город на рынок. — Они будут ругать меня за то, что я продал этих прекрасных коней по такой ничтожной цене. А ты не очень-то даже благодарен за это. Наконец Бренн расстался с хозяином и повел под уздцы обеих лошадей и осла. Вскоре он присоединился к Марону и Луципору, которые отдыхали под деревом у поворота дороги. Луципор был в восторге от покупки и пытался взобраться на осла; но мальчики заставили его сесть на ту лошадь, что выглядела получше, а сами бросили жребий — кому из них ехать на другой. Бренн проиграл, ему пришлось довольствоваться ослом. Но они уговорились каждый день меняться животными. Стоимость трех грубых седел из парусины и кожи включена была в цену, заплаченную за животных. И, во всяком случае, теперь мальчики могли считать, что они с Луципором всадники, если не очень блестящие, то вполне обычные на большой дороге, и что никаких подозрений ни у кого не возникнет. Однако Луципор продолжал добиваться, чтобы ему уступили осла; лошадь была для него слишком высока, у него все время кружилась голова, и он каждую минуту мог свалиться. Но в конце концов он научился держаться в такие моменты за гриву, и все обходилось благополучно.

Теперь они могли двигаться вперед вполне спокойно, хотя по-прежнему избегали более или менее значительных поселений, где могли начаться всевозможные расспросы, и останавливались на деревенских постоялых дворах или на уединенных фермах. Луципора они сразу водворяли в предназначенную ему комнату, говоря, что он больной человек и не желает, чтоб за ним ухаживал кто-либо, кроме них. Благодаря этому они ни разу не попались. Луципора, одетого в добротное господское платье, все действительно принимали за больного чудака, потому что он все еще был несколько не в себе. Старик слушался их, он свыкся с мыслью о своей свободе, которая даст ему возможность ездить куда угодно, хотя и предпочитал, чтобы им командовали. Когда мальчики его слушали, он говорил о своем брате в Фуриях и о том, какой приятный запах в пекарне, и все время спрашивал Бренна, есть ли у брата дети. Бренн сказал ему, что не знает, но старик на этом не успокоился, так как вбил себе в голову, что Бренну известно все на свете. Бренн и Марон чувствовали себя уверенно. Все шло так хорошо, что они позабыли об отчаянье, охватившем их, когда они голодали. Мальчики подолгу беседовали о том, куда направятся после войны. Марон хотел возвратиться во Фракию, в северной Греции. Бренна тянуло домой, в Британию. Каждый из мальчиков расхваливал свою родину, стараясь доказать, что она лучше. Им и расставаться не хотелось, и в то же время оба желали настоять на своем. Как-то вечером они сидели в комнате постоялого двора, после того как накормили Луципора. Старик все еще смущался тем, что ему прислуживают, и его силой приходилось не пускать в кухню. Сами они тоже поели и снова принялись обсуждать, что лучше, Фракия или Британия, пока не разгорячились от спора. — Давай кинем жребий, — сказал Бренн, нащупывая монету в кошельке, висевшем у него на поясе. — Ладно, — согласился Марон. — Разлучаться мы не хотим, так надо же как-нибудь договориться. Монету достал? — Да, — сказал Бренн. — Вот. Если выпадет голова, —держим путь в Британию, если оборотная сторона, — во Фракию. — Кидай, — промолвил Марон, — и да выпадет нам жребий ехать во Фракию. Увидишь, какие там горные долины и как славно можно в них поохотиться. — Подожди хвастаться, пока не убьешь оленя в наших лесах. — Ладно, кидай! — нетерпеливо крикнул Марон. — И спор наш раз и навсегда разрешится. Бренн положил монету на ноготь и подбросил ее в воздух. — Ну, что там? — крикнул Марон и кинулся за монетой. — Голова, — объявил Бренн и, выхватив монету из руки Марона, спрятал ее обратно в кошель. На мгновенье могло показаться, что Марон рассердился. Лицо его потемнело, брови сдвинулись, зрачки сузились. Потом он рассмеялся искренне и дружелюбно. — Так пусть и будет! Едем в Британию, и ты поведешь меня охотиться на оленя. — Ты не пожалеешь, — сказал Бренн несколько смущенно. Он уже готов был предложить Марону отправиться с ним во Фракию. Но тоска по родине была сильней всего. Чтобы вернуться на родину, он готов был пожертвовать всем, даже правдой, которую он скрыл от своего друга. Ведь он выбрал такую монету, на обеих сторонах которой, благодаря, видимо, простой случайности, были выбиты головы; этой монетой дал ему сдачу хозяин, когда он платил за еду и ночлег. Он стыдился, что сплутовал, и теперь был уверен, что если бы они опять кинули жребий, — он играл бы честно. — Хочешь, кинем еще раз? — Нет, — отвечал Марон и отвернулся. — Одного раза довольно. Мы же договорились, что этим все будет решено. Голос его звучал холодно и принужденно. Бренн еще острее почувствовал свою вину. Не должен он был обманывать друга, даже ради такой цели. Нехорошо это и не принесет ему счастья. Но ведь Марон сам отказался второй раз кидать жребий. И Британия выбрана правильно. Бренн поклялся в глубине души, что он все сделает, чтобы Марону в Британии было как можно лучше; он так сделает, что Марон сам будет рад этому исходу. Может быть, тогда он, Бренн, и найдет в себе силы признаться в своем обмане. Но сейчас — не может он этого сделать, как ни тяжело у него на душе. Как ему хотелось, чтобы выбор пал на Британию! Он страстно желал снова стоять на британской земле, разыскать деревню, где он родился и вырос, луга и рощи и реку, которые все были частицами его существа. Он не мог поверить, что Марон так же страстно стремился к себе во Фракию, а потому утешился и ничего не сказал. Но между друзьями словно возникла какая-то преграда. Они сидели в сгущающихся сумерках, молчаливые, погруженные в раздумье. На мгновенье оба почувствовали, как нелепо было ссориться из-за Фракии и Британии, когда столько еще оставалось сделать, прежде чем они найдут приют где-нибудь в свободной стране. Из соседней комнаты донесся какой-то шум, и они бросились туда. Старый Луципор свесился во сне со своей койки, перевернул светильник и поджег простыни. Они принялись затаптывать тлеющие лоскутья, и это опять сблизило их. Они снова зажгли светильник и поставили на полку, с которой Луципор уже не сможет его свалить. Потом, усмехнувшись друг другу за спиной старика, который с перепугу стучал зубами, оба они возвратились в переднюю комнату. — Ладно, — промолвил Бренн, — нам еще много чего придется пережить, пока мы доберемся куда-нибудь, — на востоке, на западе, на севере или на юге. Лучше всего для нас будет, если мы станем думать о настоящем. — Да, лучше, — протянул Марон. — Внизу я слышал, как один человек рассказывал, что Спартак отступает к Адриатическому побережью и что его войско хочет захватить корабли в Брундизийской гавани[1] и уплыть из Италии. Нам надо поторопиться, а то мы их не нагоним. — Придется сказать Луципору, чтобы остаток пути он продолжал один, — вымолвил Бренн, немного подумав. — Теперь ему уже недалеко. А нам надо пробираться прямиком через холмы и догонять Спартака. — Завтра же, — добавил он решительно.
Глава X Среди восставших
На следующее утро, как только деревня осталась позади, мальчики сказали Луципору, что остаток пути ему придется проделать одному. Он был этим крайне удручен и умолял не оставлять его, уверяя даже, что уж лучше пойдет вместе с ними через холмы, чем останется один-одинешенек на дороге в Фурии. Но Бренн научил его, как добраться до Фурий, и заставил несколько раз повторить свои указания. Заставил также заучить новое имя, которое они ему дали — Луций Флавиан Гальба, — потому что Луципор было имя, которое обычно давали рабам, и оно его сразу выдало бы. Они отдали ему осла, чем старик был очень обрадован, так как чувствовал себя на лошади плохо. Снабдили его также достаточным количеством денег, чтобы добраться до Фурий, а затем двинулись верхом по боковой дороге; Луципор на своем осле остался позади. Ему было очень грустно, хотя под конец он несколько примирился с их отъездом, приняв совет, который дал ему на прощанье Бренн: доехать до ближайшего постоялого двора и нанять какого-нибудь подростка, который будет служить ему провожатым до Фурий. Мальчики помахали Луципору с вершины холма, а затем поехали своей дорогой, торопясь присоединиться к Спартаку, полководцу, который всего два года тому назад был простым рабом-гладиатором. С тех пор он трижды разбил войска, посланные против него римским государством, и без всякого сопротивления прошел из одного конца Италии в другой, призывая в ряды своего войска всех рабов и угнетенных. Только победы Спартака могли вселить в мальчиков мужество, которое дало им возможность выработать план побега, и к Спартаку они устремились потому, что он боролся за их освобождение. Весь день мальчики ехали на восток со всей быстротой, на какую способны были их лошади, а вечером остановились в доме бедного поселянина. Там они услышали, что неподалеку было сражение, и на следующий день еще быстреепоехали по направлению, которое указал им крестьянин. Около полудня, уже совсем уставшие, они шагом ехали по узкой тропе, извивающейся под выступом холма. Нестерпимо жаркий солнечный свет бил им прямо в глаза с безоблачно-белесоватого неба, отражаясь от нависших утесов, от иссохшей земли, на которую ниоткуда не падала тень. Видно было, что лошадей давно мучит жажда, да и мальчикам самим хотелось пить: сумки у них были набиты припасами, но меха с водой они не захватили. — Похоже на то, что в той вон расщелине есть источник, — сказал Марон. — Смотри, там растет зеленая трава. Они повернули обессилевших лошадей и углубились в небольшую лощину, но не успели отъехать от тропы, как раздался какой-то гортанный окрик. Мальчики взглянули в ту сторону и увидели человека, который целился в них из лука. Они остановили лошадей и подняли руки для приветствия и доказательства того, что у них нет враждебных замыслов. Рядом с лучником показался другой человек, он тоже кричал и жестами указывал, чтобы они спешились. Они соскользнули с седел и, держа лошадей под уздцы, подошли к человеку, который им грозил. — Кто вы такие? — резко спросил человек. — Лазутчики, верно? — Мы не лазутчики, — с жаром ответил Марон. — А вы сами кто? — Да что с ними долго разговаривать, тащи их сюда, — сказал второй человек с окровавленной повязкой на голове. Оба они вынули из ножен мечи и коротко приказали мальчикам идти вперед. У тех не было выбора. Они пошли по указанному направлению и в той же расщелине за поворотом увидели лагерную стоянку. Палаток не было, но некоторые из находившихся там людей устроили навесы из забрызганных грязью плащей, растянув их на ветках невысоких деревьев. Другие лежали или сидели развалясь на открытом месте, пили вино, готовили пищу или натачивали оружие. Поодаль работало несколько женщин. Там и сям немногочисленные лошади и мулы щипали траву у ручейка. Люди были и в лохмотьях и в хорошей, но замызганной одежде. Среди них имелись раненые; их лица были покрыты дорожной пылью. — Мы привели двух лазутчиков, — крикнул человек с повязкой на голове. Все взглянули на подошедших. Некоторые со злобой, другие равнодушно. Раненые по-прежнему занимались своими ранами, накладывая на них примочки из трав. Женщины продолжали варить пищу и чинить одежду. Но вокруг мальчиков собралась довольно большая группа наиболее решительных людей; раздавались насмешки и угрозы. — Повесить их! — Распять на дереве! — Пусть они расплатятся за наших павших братьев! — Вырвать им глаза! — завопила одна из женщин. Истерический вопль ее перешел в рыдание. — Где мой муж? Пусть они возвратят мне его! Никто не обратил на нее внимания. Человек с повязкой вынул кинжал. — А ну-ка, идите сюда. Мы вас заставим говорить. Зачем господа заслали вас к нам? — Нас никто не засылал, — ответил Бренн. — Мы разыскиваем Спартака. Мы беглые рабы. — Слишком у вас упитанный вид, да и платье слишком чистое. Рабы не убегают, когда их так закармливают, как вас. Враки все это. — Где Спартак? — спросил Марон. Он чувствовал, что, будь здесь Спартак, их сразу поняли бы и они оказались бы в безопасности. — Спартак! — воскликнул все тот же человек. — Вы слышите, он назвал священное для нас имя! Произнеси его еще раз, и я вырву у тебя сердце из груди. Спартак! Густеющая толпа ответила криками ярости и скорби. Женщина, что закричала первая, подошла и стала на открытом месте прямо перед мальчиками. Она откинула назад растрепавшиеся волосы и принялась причитать: — Спартак мертв. О, любимый вождь! Он был наш лев, враги убили его своими стрелами. Он был голосом вольных людей, а теперь этот голос навеки умолк. Но ветер по-прежнему шумит в горах, и никто его не заставит умолкнуть. Спартак никогда не умрет. Он опять возвратится к нам! Она упала ничком на землю. Люди безмолвно стояли вокруг, полные благоговения перед существом, которым — так они думали — завладела, доведя его до священного безумия, некая неведомая сила. — Спартак умер, — скорбно и гневно промолвил человек с повязкой, снова обратившись к мальчикам. — Но мы еще живы, как мало нас ни осталось от его войска. Пусть мы только горстка! Так легко им нас не победить. А потому вам не удастся пробраться обратно к господам и донести им, где мы скрываемся. — Мы же пришли, чтобы присоединиться к вам, — в отчаянье вымолвил Бренн. — Мы не знали, что Спартака нет в живых. — Да замолчи ты! — крикнул какой-то человек. — О чем тут долго разговаривать? С ножом в руках он шагнул к мальчикам. Другие заворчали и тоже схватились за оружие. Мальчики приготовились к смерти и молили судьбу только об одном — чтобы конец пришел быстро. Но когда человек с ножом подошел совсем близко, среди зрителей возникло движение, и высокий силач, плечом расталкивая людей, протиснулся сквозь окружавшее мальчиков кольцо. — Что тут происходит? — крикнул он и выбил нож из руки у того, который готов был уже броситься к пленникам. Высокий поглядел на мальчиков. Они заметили, что он одноглазый и что на его лбу выжжены буквы FUG; это было клеймо, означавшее fugitivus[2], которое каленым железом выжигалось на лбу у каждого бежавшего и снова захваченного раба. Слепой глаз и клеймо уродовали лицо этого человека, и все же в нем было нечто, придавшее Бренну надежду. — Мы не лазутчики, — горячо повторил он. — Мы пришли присоединиться к Спартаку. Одноглазый силач испытующе посмотрел на него, подошел вплотную и схватил за плечо. Бренн не шелохнулся, хотя ему было больно. — Ты, значит, был рабом, — произнес он немного скрипучим голосом. — А где? — На севере Самниума, вблизи Ауфидены[3]. Внезапно человек словно что-то сообразил. Резким движением он обернулся к толпе. — Расходитесь по местам! — прогремел его голос, зазвучавший вдруг необычайно громко. — Кто вам разрешил самовольную расправу? С этими мальчишками все в порядке. Люди сразу же подчинились и рассеялись в разные стороны. Одноглазый снова повернулся к мальчикам. — Они озлоблены, — промолвил он, указывая на людей. — Но это понятно: только два дня назад всему пришел конец. Раньше они не были такими. Мы крепко надеялись. Спартак должен был взять Рим и вернуть отверженным их место в мире. Так он нам говорил, а если б ты когда-нибудь слышал его голос, то сразу понял бы, что он хочет сказать. Но теперь он мертв, и я ничего больше не знаю. Меня зовут Феликс. Надо вам поесть чего-нибудь. — Нам только сперва лошадей напоить, — сказал Бренн. — А потом мы бы с тобой поговорили. — Насчет еды у нас неважно, — ответил Феликс с каким-то резким смешком. — Лошади ваши в лагере долго не протянут. Вчера у нас пало несколько лошадей. Он пробормотал что-то про себя и подмигнул единственным глазом. Потом размашистым движением руки указал на лагерь. — Не думайте худого о наших людях. Там, откуда они пришли, их тонкому обращению не учили. Вы, видимо, неглупые парнишки, и я был бы рад, если бы вы стали мне помогать. Ребята у меня хорошие. И сам Спартак назначил меня начальником над ними. Он мне сказал: «У тебя только один глаз, но ты умеешь смотреть дальше, чем многие другие, и вразумлять тех, кто в этом нуждается». А теперь он мертв. Да, это был человек!

И Феликс продолжал упавшим голосом: — Мы думали, ничто не может его убить. И все же он погиб. Я видел, как он сражался один против сотни врагов, и они не могли с ним справиться. Он убил больше двадцати человек, пока ему не нанесли удар в спицу. Он взглянул на Бренна и Марона с кривой улыбкой. — Может быть, вы спросите, почему я не пал вместе с ним, как пали все другие храбрецы? Вам это не понятно. Да и мне самому тоже. Он был мертв, прежде чем я смог до него добраться. Я сражался и плакал. Но было уже поздно. Нас разбили. Да, мальчики, великое двухлетие пережили мы, мы — отверженные. Он снова сделал рукой размашистое движение. — Наши люди измучены, озлоблены. Но в них много хорошего… Ну, ступайте, поите лошадей. Он отошел, и мальчики взяли под уздцы лошадей, которые старались на ходу подщипнуть хоть немного редкой травы. Направляясь к источнику, они прошли сквозь ряды тех, кто уцелел из войска восставших рабов. Теперь, когда беглецы были приняты в их лагерь, рабы сразу позабыли о своей недавней враждебности. Они шутили, дружелюбно разговаривали, и мальчикам трудно было распознать в них тех людей, которые всего несколько мгновений назад кричали, угрожая им смертью. Теперь это были добрые парни, измученные усталостью от непрерывных боев и быстрых переходов среди пыльных, выжженных солнцем холмов. И как ни тяжело было мальчикам узнать о гибели Спартака и разгроме его войска, ими овладело радостное чувство оттого, что они, наконец, обрели товарищей по общей беде.
Глава XI Совещание
Они напоили лошадей, сами напились мутноватой воды из ручья и возвратились к Феликсу, который, нахмурившись, скрестив руки, сидел у скалы и смотрел на лагерь своих товарищей. С ним мальчики чувствовали себя легко, хотя иногда и терялись от быстрой перемены его настроения. Говоря о чем-нибудь очень важном, он вдруг отпускал шутку, а в голосе его резко скрипучие ноты внезапно сменялись громовыми раскатами. Вдобавок единственный глаз у него слегка косил, что придавало лицу несколько странное выражение. Но своим добродушием и остротой ума Феликс понравился мальчикам; кроме того, он спас им жизнь. Из начальников я один не погиб, — сказал он, когда мальчики к нему подошли. A я был далеко не самый лучший. Но фортуна дарит свою благосклонность людям не по их заслугам. В общем, дура она порядочная и видит гораздо хуже меня, хоть у меня всего один глаз: другой выклевали птицы в один прекрасный день, когда я шарил по их гнездам. Он рассмеялся и глуховатым голосом запел:
«Одноглазый я, друзья,
Только нет острее взгляда,
А чего не вижу я, —
Мне на то смотреть не надо»
Услышав его голос, лошади испуганно отпрянули в сторону, и это снова развеселило Феликса. Посмеявшись, он сказал: — Много чего я видел на белом свете. И добавил с горечью: — Видел мертвыми лучших на свете людей. — Он покачал головой и снова засмеялся: — Но вы, молодые, воображаете, что весь мир — ваш и что лучше вас никого нет. Ну, ну, не спорьте, а то я рассержусь. Как бы там ни было, назначаю вас моими помощниками, и если вы не будете мне подчиняться, я вас так хвачу, что с ног свалитесь. Но к советам я прислушиваюсь. Что, по-вашему, надо предпринять? — Нет ли какой-нибудь возможности выбраться из Италии? — спросил Бренн. — «Нельзя ли выбраться из клетки?» — сказала птичка, забилась о ее прутья и только поранила себя. — Он свистнул и снова помрачнел. — А куда мы денемся, если даже выберемся отсюда? — Повсюду будет лучше, чем здесь, — ответил Марон. — Скоро нас станут травить собаками. — А почему бы и нет? Мы сделали попытку и потерпели неудачу. Пощады нам не ждать, да мне ее и не нужно. Но бороться я буду до последнего издыхания. Он сжал челюсти и взглянул в небо, где кружил коршун. — Не могли бы мы напасть на какую-нибудь гавань и захватить корабль? — с надеждой в голосе спросил Бренн. Феликс покачал головой. — Слишком нас мало. Пока не погиб Спартак, мы еще могли бы это сделать. Они все так боялись его, что и полдюжины наших было бы достаточно, Но теперь весть о его смерти распространилась повсюду, и враги наши приободрились… В маленьком городишке, где одни только рыбаки, мы не достанем такого большого корабля, чтобы выйти на нем в море, а в гавани побольше нас живо закуют в цепи. Никакого выхода как будто действительно не было. Феликс и его новые помощники сидели и раздумывали. Все, что угодно, для них было бы лучше, чем так вот прятаться среди холмов, пока они не будут захвачены солдатами и казнены, как мятежники. Пощады ожидать нечего. Их даже не приговорят к погребению заживо в каких-нибудь свинцовых рудниках, а просто предадут самой мучительной смерти. Рабовладельцев перепугала сила восстания и полководческий дар, проявленный Спартаком, простым гладиатором. Хотя в последней битве пали десятки тысяч восставших и хотя каждый убитый раб представлял собой материальный ущерб для хозяев, они твердо решили казнить каждого захваченного повстанца. — Неужели ничего нельзя сделать? — со злостью спросил Марон. — Можно, — сказал Феликс. — Можно умереть. Что бы ни случилось, нас не должны захватить живыми. Но мальчикам вовсе не хотелось умирать. А похоже было на то, что их приключение идет к печальному концу. И все споры о прелестях Британии и Фракии показались им теперь ребяческими и суетными. Неужели их так и затравят до смерти среди этих бесплодных холмов, и они никогда не почувствуют себя свободными в стране, которую смогут назвать родиной? Может быть, им лучше было оставаться на вилле своего господина и примириться с той жизнью, которую они там вели? Такая мысль закрадывалась им в душу иногда, в минуты особенно горького отчаянья. Феликс сочувственно поглядел на них. — Не принимайте всего этого близко к сердцу. Я забыл, что вы молоды и не были эти два года вместе с нами. Мы изведали настоящую жизнь, а теперь все кончилось. Я даже хотел бы увидеть сейчас, как в расселину идут солдаты; стал бы я лицом к ним, прислонился к скале и разом со всеми покончил. Он свистнул. — Уж я бы позаботился, чтобы не погибнуть одному, — и тотчас же громко захохотал.

— Слушая, что я говорю, вы, пожалуй, не поверите, что на самом деле я миролюбивый человек. А ведь это так. Кто станет воевать ради удовольствия? Я вроде пчелы. Ей только одно нужно — мед собирать. Но начни ей мешать — и она живо ужалит тебя, хоть и умрет без своего жала. Бренн рассеянно смотрел на людей, которые сидели на корточках неподалеку от них. Они чистили оружие и латы землей с песком. — Смотри-ка, — сказал он вдруг с волнением, — схватив Феликса за руку, — ведь у этих людей латы римских легионеров. — Ну, ясное дело, — ответил Феликс. — А откуда, по-твоему, у нас оружие и доспехи? Большей частью мы забирали их у разбитых нами солдат. На деревьях иногда бывают шипы, но мечи на них, к сожалению, не растут. Феликс почесал щетинистый подбородок. — Пожалуй, некоторые смогли бы сойти за легионеров. Полное обмундирование имеется только у немногих, но, я думаю, сто с лишним человек можно было бы обрядить по-настоящему, если только хорошенько подобрать… Давай-ка обдумаем все как следует. А что будет с теми, кто останется без обмундирования, и с женщинами? — А разве их нельзя вести под конвоем, как будто они пленные? — вставил Марон. — Вот, вот, — сказал Бренн. — Те, что в форме, будут изображать конвой. Феликс помолчал, а потом озабоченно добавил: — Только все зависит от того, смогу ли я придать своим ребятам достаточно приличный вид. Да и себе самому, я ведь буду начальником. Мне надо подавать пример. Как насчет клейма у меня на лбу, которое я получил десять лет назад, когда в первый раз попытался бежать ночью? — Все будет в порядке, если ты не станешь снимать шлем. — Верно, — загремел Феликс. — Мы так и сделаем, мальчуганы. Это для нас единственный выход.
Глава XII К морю
Обстоятельно обдумав план предстоящих действий, Феликс принялся за работу. Он собрал всех людей и объяснил, что надо делать. Все доспехи и оружие велел сложить в кучу, осмотреть и подобрать возможно большее количество предметов, составляющих полное обмундирование. После этого те, кого нашли наиболее подходящими, должны были одеться римскими легионерами, а всем прочим предстояло изображать пленников. Восставшие рабы, даже не стараясь вникнуть в подробности плана, хорошо поняли, что предпринята попытка спастись от гибели, и это сразу подняло их дух. Неясным гулом они выразили свое согласие, боясь громко кричать, чтобы их не услышали болтливые пастухи или римские разведчики. И сразу же приступили к выполнению приказа. Феликс и мальчики с группой наиболее сообразительных людей заняты были сортировкой оружия, нагрудных знаков, шлемов, наплечников, поясов и щитов; работа эта потребовала больше труда и времени, чем они думали. Многие мечи и части доспехов оказались бесполезными, так как либо были в очень уж плохом состоянии, либо явно не имели никакого отношения к легионерской форме. И даже тогда, когда были отобраны и отложены наиболее подходящие предметы, оставалась забота; как составить из них полное легионерское обмундирование. На восставших невольниках были весьма пестрые и разнообразные одеяния: от ценных и богато украшенных доспехов до самой грубой крестьянской одежды. Под конец в наличии оказалось около ста полных комплектов. Не теряя времени, Феликс выбрал самых высоких воинов и приказал им привести себя в надлежащий солдатский вид. Остро отточенными кинжалами они остригли длинные косматые волосы, вымылись в водоеме и пытались даже побриться. Туники свои эти люди приспособили таким образом, чтобы они походили на уложенную в складки и подпоясанную нижнюю одежду легионеров. Затем им роздали оружие. Здесь некоторое нарушение формы не имело особого значения: многих в последнее время вербовали в солдаты столь поспешно, что полного единообразия в их снаряжении могло и не быть; к тому же, после тяжелой походной жизни нечего было ожидать, чтобы солдаты имели опрятный вид и полностью сохраняли свои доспехи и оружие. Остальные рабы, которым предстояло изображать пленников, забавлялись, глядя на выбранных Феликсом воинов. Они подшучивали над ними, уверяя, что предпочитают выступать в своей менее почетной роли, — так, по крайней мере, они смогут оставаться самими собой. И в лагере воцарилось бодрое настроение. Феликс продолжал разрабатывать свой план так, чтобы не оставалось ни одной неясной подробности. На представителей власти в гавани, куда они явятся, необходимо было произвести должное впечатление, не допустив ни малейшей ошибки. Было ясно, что от Феликса, как начальника отряда, потребуют, чтобы он подписал документ, свидетельствующий, что им для государственной надобности реквизирован корабль и что расходы возмещены будут владельцу римской казной. Но Феликс был неграмотный и потому Бренну пришлось научить его писать слова «Марк Юлий Фронтин» — имя, которое они ему придумали, а затем и остальное: «Трибун. Десятый легион». Феликс, насупившись, чертил концом кинжала на земле буквы, стирая написанное и начиная снова. Буквы эти для него не имели никакого смысла, и потому ему было очень трудно удержать их в памяти. Под конец он добился того, что у него получилось нечто похожее на слова, нацарапанные Бренном. Стараясь научиться писать их как можно быстрее и правильнее, он стал чертить свои каракули повсюду — и на скалах, и на коре немногочисленных деревьев. — Кто бы мог подумать, что на старости лет я получу такое красивое имя, — подсмеивался он, — Марк . Юлий Фронтин? Это я. Эй, ты там, узнаешь меня или нет? — крикнул он одному из смотревших на него товарищей. — За версту узнаю. Ты Феликс, который был в Велитрах рабом при банях, и единственное, в чем тебя можно упрекнуть, — в том, что ты за обедом съедал больше, чем было положено. — Врешь ты все, — закричал Феликс и в шутку свалил его с ног. — Я Марк Юлий Фронтин, трибун десятого легиона, во всяком случае на ближайшие несколько дней; запомни это, а то я только что забыл и опять могу забыть. Человек отошел, почесывая затылок и добродушно ухмыляясь. Самое лучшее снаряжение взял себе Феликс. Шлем с султаном плотно сидел у него на голове, закрывая клеймо. Мальчики в свою очередь вырядились так, чтобы их принимали за вестовых при трибуне — Феликсе. В ту ночь весь лагерь был охвачен надеждой. Люди собирались более упорядоченными группами и по-товарищески беседовали, разбирая свои пожитки, приготовляясь к завтрашнему походу, в который надо будет выступить дисциплинированно. Феликс сообщил мальчикам, что, по его расчетам, побережье должно находиться милях в пятидесяти к югу и что туда можно будет дойти в три, самое большее -в четыре дня. На следующее утро отряд выступил. Феликс потребовал, чтобы каждый и каждая продолжали играть свою роль даже при переходах через пустынную местность, где вряд ли можно было встретить кого-нибудь, кроме заблудившегося пастуха или разбойника. Каждому в отряде необходимо было привыкнуть к своей роли, чтобы произвести должное впечатление, когда отряд окажется в месте назначения. Ведь если бы кто-нибудь донес властям, что большая толпа людей, похожих на восставших рабов, движется на юг через холмы, весьма вероятно, что за ними в погоню выслали бы конный отряд. Главная опасность состояла именно в том, что они могли натолкнуться на один из таких отрядов, которым поручено было разыскивать рассеявшихся после сражения воинов Спартака. Поэтому они, насколько возможно было, старались держаться холмистой местности, выбирая наименее людные дороги, а так как эти дороги были узкие и неровные, приходилось двигаться медленнее. На третий день у них уже иссякли все припасы. Но мальчики в сопровождении нескольких повстанцев, более других походивших на римских легионеров, зашли в ближайшую деревню и реквизировали там все зерно, заплатив за него золотыми монетами из добычи, которая доставалась восставшим в былые дни. Жители деревни ничего не заподозрили, они даже удивились тому, что им вообще заплатили за зерно. От них мальчики узнали, что самая большая группа бежавших после сражения рабов в количестве пяти тысяч, устремившаяся на север, была окружена солдатами, и уже принято решение — всех, кто будет захвачен живым, распять на крестах вдоль Аппиевой дороги[4]. Печальное известие об участи, которая готовилась их собратьям, все же не могло заглушить в них чувства тревожной радости оттого, что внимание римских войск пока отвлечено от южного побережья. Самая лучшая лошадь была у Феликса. Он все время выезжал вперед на разведку. Однажды ему удалось уберечь свой отряд от встречи с испанскими всадниками под командой римлянина. Он подал своим знак, и отряд ушел и скрывался в пихтовой роще, пока не миновала опасность.

На пятый день они достигли побережья. Усталые люди стояли на высоком голом гребне горы и глядели вниз, на Тарентинский залив, сверкавший в лучах солнца, а свежий ветерок, насыщенный запахом моря, овевал их лица прохладой. Какой-то пастух сказал им, что на расстоянии всего нескольких миль находится Сирисская гавань. И они двинулись в этом направлении по береговой дороге. Примерно через час они добрались до предместий города. Расположив свой отряд у городских ворот, Феликс в сопровождении мальчиков и охраны из специально подобранных людей въехал в город и потребовал, чтобы его проводили к главному представителю городских властей. Приближающийся отряд сразу заметили со стен города, где уже собралась толпа зевак: весть о поражении восставших придала мужества рабовладельцам всех южных городов. Увидев отряд, который они приняли за утомленных переходом легионеров, конвоирующий взятых в плен рабов, горожане высыпали из ворот поглазеть на пленников и осыпать их оскорблениями. Им хотелось плевать на захваченных и бросать в них камнями, но они боялись попасть в воинов, одетых в форму римских легионеров. Так им и пришлось удовольствоваться ругательствами и оскорблениями. Сирис славился своей статуей богини Афины. Однажды, несколько столетий тому назад, когда напавшие на город греки захватили его у первых греческих колонистов, некоторые из осажденных бросились в храм, к ногам статуи, молить богиню о спасении. Победители начали оттаскивать их прочь, и тогда (так гласило предание) богиня закрыла свои каменные очи от ужаса и гнева перед совершающимся святотатством, а преступники в страхе бежали. И теперь жители города, чувствуя, что опасность, грозившая им от восставших рабов, миновала, славили свою богиню. — Это она спасла нас от грабителей и убийц. — Посмотрите-ка на их зверские рожи. Счастье, что у нас такие храбрые солдаты, которые их разгромили. — Мятежники все равно не завладели бы Сирисом. Горожане приносили мнимым солдатам вино и пироги, и рабы, изображавшие пленников, очень завидовали счастливцам. Феликс же пробрался сквозь гущу толпы и потребовал, чтобы его провели туда, где заседает совет города.
Глава XIII Удачная хитрость
Феликса с его охраной и обоими мальчиками ввели в просторное помещение, где навстречу им поднялся жирный лысый человек в одеянии с пурпурной каймой. Тут же находились ликторы[5] со связками прутьев, а в креслах, расположенных амфитеатром, сидели влиятельные граждане, члены совета.

— Чему мы обязаны такой честью? — отдуваясь, спросил председатель. — Как первый гражданин славного и древнего города Сириса, основанного выходцами из Трои, приветствую тебя в наших стенах и с радостью пользуюсь случаем, чтобы передать тебе петицию, где перечислены потери, которые сограждане наши понесли от грабительства злодеев, столько времени наводивших ужас на всю Италию и особенно на наш округ, хотя их замыслы и потерпели крушение. Мы будем счастливы, если ты, как лицо, несомненно влиятельное, представишь нашу петицию римскому сенату… — Я всего только воин, к государственным делам отношения не имею, — перебил Феликс эту речь, которую председатель, видимо, заучил наизусть. — Разве город не может оплатить расходы по доставке вашей петиции в Рим каким-нибудь рабом — гонцом государственной почты? Или вы не знаете, что задерживать военного, находящегося, как я в настоящее время, при исполнении служебных обязанностей, — преступление перед государством? А что такое излишние разговоры, как не задержка? Эти слова явно смутили председателя. — Но все же, может быть, ты будешь так благосклонен и употребишь все свое влияние… — Мы об этом потолкуем позже, — опять перебил его Феликс. — Прежде всего, да будет вам известно, что мне нужна ваша помощь, которую вы мне, разумеется, с радостью окажете. — Вне всякого сомнения, — промолвил председатель без всякого восторга. — Хорошо, — ответил Феликс и обернулся к Марону. — Пойди, скажи центуриону[6], чтобы он вел пленных к главной пристани. Он сам знает, что ему делать. Марон вышел из помещения. — Не будешь ли ты так добр объяснить нам, что все это означает, — начал председатель, от волнения надувая щеки и тревожно моргая глазами. — Мне приказано взять в вашей гавани самый большой корабль и плыть в Регий, — произнес Феликс, повторяя придуманное заранее заявление. — Пленные, которые находятся под нашей охраной, должны быть отправлены в Регий, где, как вы сами знаете, мятежники прошлой зимой наделали много бед. — А разве они не могут идти пешком? — В горах между вашим городом и Регием имеется крупная шайка еще не пойманных мятежников, и мне велено не рисковать. Среди моих пленников есть несколько главарей. Их личность должна быть установлена в Регии. Теперь ты все знаешь. — Но почему вы явились именно сюда? — спросил председатель, ища, что бы возразить. — Почему не в Метапонт или Тарент? — Уж, наверно, потому, что ваш город был ближе всего, — резко ответил Феликс. — Поэтому, если ты вручишь мне вашу петицию, я позабочусь о том, чтобы она рано или поздно попала куда следует. — Ты очень добр, — отдуваясь, сказал председатель. — Но, может быть… дай-ка я подумаю. У нас нет ни одного подходящего корабля. Ни одного, который был бы сейчас готов к выходу в море. — Об этом вы уж не тревожьтесь, — успокоительным, тоном произнес Феликс. — Мои люди живо все наладят. Председатель колебался. Ему хотелось отказать, но он недоумевал, как это сделать. Перед ним был грубый рубака — и вид у него был такой, и речи такие. Но солдаты часто бывают очень грубыми и ни с чем не считаются. Конечно, в чрезвычайных обстоятельствах все должны прийти на помощь государству, но ведь мятежники теперь разгромлены. Почему же военным дано право по их усмотрению распоряжаться частной собственностью граждан? — Похоже на то, что у нас нет ни одного свободного корабля, который мог бы выйти в море, — сказал он, напуская на себя важный вид. Члены совета поддержали его сочувственным гулом. Они не желали соглашаться на требование предоставить корабль. Несколько месяцев тому назад, когда ими еще владел страх перед восставшими, они бы сразу согласились. Но сейчас у них было совсем не то настроение. Феликс только отмахнулся от председателя и членов совета. — Не ваша это забота, — повторил он. — Все равно должно быть по-моему. Зовут меня Марк Юлий Фронтин. Я — трибун десятого легиона. Ему нравилось повторять свое выдуманное имя, и он даже причмокнул. — Я не привык, чтобы мне говорили «нет». Я делаю, что хочу, беру, что мне понравится, а по счету может платить кто угодно, кроме меня. Члены совета растерянно поежились в своих креслах. Что-то уж очень невежливо разговаривает этот военный трибун. Но они настолько привыкли к наглому высокомерию римских сенаторов, что им даже в голову не пришло заподозрить Феликса в обмане. Все же их несколько смутила его грубая речь. Римский аристократ вполне мог думать, как Феликс, однако не стал бы высказываться так откровенно, как он. Но, может быть, — думали они, — этот надменный трибун очень долго прослужил в чужих странах и приобрел грубые провинциальные замашки. Он словно не соображал, что разговаривает со свободными гражданами. Но каковы бы ни были причины подобного поведения, вел он себя весьма неприятно. И члены совета беспокойно ерзали на своих местах. Один из них, уловив взгляд председателя, встал и заговорил: — Благородные отцы города Сириса, вы хорошо знаете, что в гавани сейчас нет ни одного корабля с полной командой или заслуживающим доверия кормчим. Может быть, через месяц или два… Феликс потряс кулаком под самым носом говорившего: — Молчать! Тот, пораженный, опустился на свое место, а Феликс спокойно продолжал: — Не бойтесь. Я человек добродушный, только не надо мне перечить. В таких случаях я сперва действую, а уж потом думаю, но до сих пор именно я-то и оставался в живых. Только вот глаза не уберег. Он мне приказал долго жить. И он разразился громким хохотом, а затем опять оглядел собравшихся. — Может, кто еще что-нибудь скажет? Видно, никто. Давайте будем опять друзьями. Велите принести вина… Впрочем, сейчас не до того. Документы-то у вас готовы? Председатель снова поднялся со своего места, мрачно пыхтя. Но прежде чем он успел раскрыть рот, вошел Марон в сопровождении мнимого центуриона, одетого в посеребренные доспехи, с виноградной лозой[7] в руках. — Корабль мы нашли, — доложил он Феликсу. — Его только что разгрузили и собирались вновь нагружать тюками с шерстью. Большинство матросов еще не сошло на берег, так что мы велели им оставаться на корабле. — Отлично, — закричал Феликс, с веселой усмешкой обращаясь к собранию, — корабль мы достали. Сами видите, что я был прав, когда говорил, что вам беспокоиться нечего. Если вы дадите мне что-нибудь подписать, я подпишу. Если нет, мы отчалим и так. — Но корабль нам нужен, — протестовал председатель. — Не позднее, чем послезавтра, мы обязались отправить его из гавани с грузом шерсти и кож. Наши деньги пропадут. — А вы укажите это в своей петиции сенату, — ехидно возразил Феликс. — Матросов нет, — твердил свое председатель.. — Есть, есть, — ответил Феликс. — Мои люди об этом уже позаботились. Члены совета так и не знали, что им предпринять. Они молча уставились на Феликса. — Вы исполняете свой долг перед государством, — напыщенно заявил он, повторяя одну из фраз, которую сочинил вместе с Бренном. — Вы должны этому радоваться. А если вы не рады, я доложу сенату, что вы — шайка, сочувствующая мятежникам, и что на вас надо наложить основательную денежную пеню. — Этот корабль — мой, — сказал, поднимаясь с места, один из членов совета. — Я не хочу, чтобы его забирали… — Ты не хочешь? — многозначительно протянул Феликс. — Ладно. Попробуй нам помешать. Он взглянул на председателя: — А разве тебе не нужно, чтобы я подписал документ? — Да, да, — сказал председатель, стараясь хоть что-нибудь извлечь из этой неприятной истории. Он сделал знак своему помощнику, писцу, который ушел в боковое помещение и стал спешно составлять документ. — Ну, вот и хорошо, — произнес Феликс, снова заулыбавшись. — Я так и знал, что вы образумитесь, если вам дать время подумать… Я ведь никогда не сержусь, если только люди не начинают дурить. Город у вас славный. Как-нибудь я еще приеду и получше с ним ознакомлюсь. Тогда мы с вами выпьем. Не забудьте моего имени — Марк Юлий Фронтин. — Ты не в родстве с Фронтином, который управлял Сардинией? — спросил один из присутствующих. — Я знал его много лет, — ответил Феликс. — По правде сказать, это же мой брат. Хороший парень. Вроде меня. — Но ведь он уже умер. — Что поделаешь? — сказал Феликс, подмигнув единственным глазом. — Все мы когда-нибудь помрем. Он умер у меня на руках. Теперь Бренн стал опасаться, чтобы насмешки Феликса над членами совета не выдали его. — Я слышал, что он умер от какой-то внутренней болезни, — сказал собеседник Феликса с некоторым сомнением в голосе. — Правильно, — подхватил Феликс, который не мог отказать себе в удовольствии подурачить спесивых «отцов города». — У него был коклюш, осложненный расстройством желудка. Он всегда ужасно много ел, и врачи сказали, что доконала его спаржа. Члены совета удивленно глядели на него, чувствуя в его речах явную странность, но не отдавая себе отчета, в чем тут дело. Для них было ясно, что он из простонародья: ни один римлянин хорошего происхождения не стал бы разговаривать так, как он. С другой стороны, думали они, он мог быть и из хорошей семьи, но опустился, спутался с чернью и привык к грубому обращению. Несомненно, за последний год сенату и консулам пришлось назначить на командные посты много таких людей, которые в обычное время до них не допускались. Наконец вернулся писец со своими дощечками. Феликс посмотрел на написанное, делая вид, что читает, затем, взяв стиль, он нацарапал на воске свое мнимое имя, но от излишнего рвения перепутал порядок слов и у него получилось: «Десятого Марк легиона Юлий Трибун Фронтин». После этого он протянул таблички председателю. Тот нахмурился, увидев столь странную надпись. Однако ошибка, которая, казалось, могла подвести Феликса, в конце концов помогла ему. Ибо в ней советники нашли то объяснение его непонятного поведения, которого они искали. Прочитав перепутанные слова, председатель решил, что трибун, очевидно, пьян. Он шепнул это объяснение ближайшему к нему советнику, который передал его соседу, и в один миг оно обошло весь совет. Конечно, этот человек пьян. Они почувствовали некоторое удовлетворение: наконец им стало понятно, в чем дело, и потому совершенно отказались от мысли устроить Феликсу перекрестный допрос. Теперь самое лучшее было бы скорей от него избавиться. Печально, разумеется, что они не в силах помешать ему забрать корабль, но что же делать! — Ну, теперь вы все довольны? — вызывающе спросил Феликс. — Да, да, — запыхтел председатель. — Хорошо, — сказал Феликс. — Итак, счастливо оставаться. На прощанье дам вам один совет. Не пейте неразбавленного вина после того, как поедите устриц. Видите, что случилось с моим братом, а он управлял Сардинией. Я ухожу, а если вы хотите, чтобы я взял вашу петицию, пришлите мне ее на корабль, да в придачу к ней бочонок лучшего вина. Он повернулся к охране. — Идем! И они вышли из помещения. — Благодарение богам, что он ушел! — промолвил председатель, отирая со лба пот. — И что это творится на свете? Не знаешь, право, что хуже — когда рабы наши поднимают мятеж или когда такой вот неотесанный рубака распоряжается у нас, как хочет. — Сперва он сказал, что брат его умер от спаржи, а потом — от устриц, — негодовал собеседник Феликса. — Да он же совершенно пьян, — вставил другой. — Ну, уж кто-нибудь да заплатит мне за корабль, если он погибнет, — простонал судовладелец. Но члены совета уже стали расходиться, желая увидеть собственными глазами отплытие этого странного трибуна, его солдат и пленников.
Глава ХIV Море
Времени не теряли. Рабов, которые изображали пленных, разместили в трюме. Бо́льшая часть команды находилась на корабле, а немногих матросов, тех, что не хотели идти в плаванье, насильно вытащили из кабачков на набережной. На корабле имелось достаточное количество припасов и пресной воды. Раб, переодетый центурионом, запер кормчего и его помощника в одну из кают. Феликс велел привести их к себе. — Корабль находится сейчас в моем ведении, — сказал он. — По делу государственной важности. Отплываем немедленно. В Регий. Покажите мне лучшую каюту. Он удалился в каюту и велел принести вина. Ему до смерти хотелось снять тяжелый шлем. Кормчий был худощавый, светлоглазый, хитрый на вид человек с редкой, похожей на высохший мох бороденкой. Он залопотал что-то насчет распоряжений «хозяина», но, как только Бренн вызвал центуриона, тотчас же затих. Последние его колебания исчезли, когда он увидел председателя и членов совета, собравшихся на пристани и без всяких возражений наблюдавших за приготовлениями к отплытию. Он начал выкрикивать команду матросам. Канаты были отданы, трап и якорь подняты, матросы скинули одежду и полезли по веревочным лестницам на мачту, чтобы распустить паруса, свернутые на реях. Прежде чем лезть наверх, матросы всегда раздевались догола, так как свободные туники легко могли затруднить их работу и даже сделать ее опасной, запутавшись в канатах или же развеваясь на ветру. Когда корабль двинулся в открытое море, собравшаяся на берегу толпа радостно завопила — без особых причин, просто потому, что ей чудилось, будто отплытие этого корабля было чем-то связано с неудачей, постигшей восстание рабов. Члены совета наблюдали за отплытием, мрачно хмурясь и не проявляя никакого восторга. Чем больше думали они о беззастенчивом трибуне, тем более странным он им представлялся. Но сейчас уже было поздно принимать какие-либо меры. Как только корабль вышел из гавани, матросы на главной мачте отпустили снасть, и огромный парус развернулся до самой палубы. Корабль «Лебедь Сириса» устремился в море, и весь его корпус задрожал под напором волн.

Свобода! Наконец-то настоящая свобода! Теперь беглецы уже были вне Италии. И хотя власть Рима распространялась на все берега того моря, по которому они плыли, все же средоточие этой власти находилось в самой Италии. Уж, наверное, те, кому удалось вырваться оттуда, сумеют миновать и последние пределы Римского государства, сумеют найти дорогу в мир, существующий за этими пределами! Пусть мир этот — варварский по сравнению с цивилизованным миром, находящимся под римским владычеством, зато там — свобода. Корабль отошел уже достаточно далеко от гавани. Тогда Феликс без шлема вышел из каюты. Уцепившись за брус, так как началась легкая качка, он обратился к кормчему: — Поверни корабль и плыви на восток. — Что ты хочешь сказать? — спросил кормчий с несмелым вызовом в голосе. — Ты же направлялся в Регий. — Я передумал, — зарычал Феликс. — Поворачивай корабль. — Но к какой гавани держать курс? — Ни к какой. Поверни корабль и, не отклоняясь, уплыви на восток. Пока тебе больше ничего знать не нужно. Тут он увидел, что глаза кормчего с изумлением и отчаяньем уставились на его заклейменный лоб. Он поднял палец,и обвел буквы одну за другой. — Так, значит, ты умеешь читать? А знаешь ли, что Означают эти буквы? Я тебе сейчас скажу. Они означают, что я не такой человек, который любит дважды отдавать одно и то же приказание. Ну, за дело! Пока он говорил, повстанцы, переодетые легионерами, открыли двери и люки, и их товарищи, запертые в трюме, высыпали на палубу. У многих из них от спертого воздуха внизу начались приступы морской болезни. — Пленники вырвались, —задыхаясь от волненья проговорил кормчий. — Правильно, — ответил Феликс. — Пусть себе вырываются. Я вижу, ты соображаешь, когда хочешь. Все мы здесь пленники, в том числе и ты. А теперь делай, что я тебе приказал. Кормчий советовался со своим помощником, а Феликс крикнул матросам: — Не падайте духом, ребята. Все в порядке. Ведите себя прилично, и к вам будут хорошо относиться. Кормчий понял, что выход у него один — подчиниться. Корабль медленно повернул. Бренн подошел к Феликсу. — Надо ли нам плыть на восток? — Почему нет? — ответил Феликс. — Спартак хотел двигаться на восток, если бы мы прорвались сквозь войска Красса. Потому и я говорю — на восток. Спартак считал, что на востоке есть страны, где Рим пока еще не хозяйничает: Египет, Иудея, Парфия, а еще дальше — Индия, а на западе за Испанией — только океан. Бренну хотелось посоветовать, чтобы они поплыли вдоль испанских берегов в Британию. Но он хорошо понимал, что на такое долгое и опасное путешествие никто бы не согласился. Так ему и надо: он сплутовал, кидая с Мароном жребий. Много ему помогло это плутовство! — Да, видно, придется нам плыть на восток. Но моя-то, родина на западе, к северу от Испании. — А у меня никогда не было родины, — мягко ответил Феликс. — Сперва я рос на одной вилле, потом был кухонным рабом в Риме, потом метельщиком двора в школе гладиаторов, а потом работал при бане. А кто были мои отец и мать, я так и не знаю. Глаз мне выбили деревянным мечом в гладиаторской школе. Теперь ты все обо мне знаешь. Когда я услыхал о Спартаке и его войске, я вылез из кухонного окна, спрятался в фургоне среди пустых винных бочек и убежал на все четыре стороны. Они-то для меня родина — все четыре стороны. А где именно — мне безразлично. — Я хотел бы, чтобы и мне было все равно, — грустно вымолвил Бренн. — Но мне так хочется снова увидетьродную землю! Ему представились луга, где он ребенком играл на солнце, река, где он купался, деревья, на которые он лазил, людей, у которых в жилах текла та же кровь, что у него, которые думали и говорили так же, как он, и стремились в жизни к тому же, — вот что было родиной. — Мне нравится море, — заметил Феликс, которому чувство, волновавшее Бренна, было непонятно. Он глубоко вдохнул морской ветер. — Вот уж где все четыре стороны. Я на море не в первый раз. В прошлом году я уже видел его в Регии. Но здесь оно лучше. Здорово много воды; и кто это окрасил ее в такой чудесный цвет? Здесь приятнее, чем в цветущем саду, и пахнет куда лучше. Бренн понял, что всякий разговор о Британии будет бесполезным. Другие рабы сочтут его безумцем — предлагать полный опасностей путь в Британию, когда гораздо ближе есть много других стран, где они тоже будут вне досягаемости для Рима. К тому же большинство из них были родом с востока — из Греции, Фригии или Сирии — и предпочтут более теплые края. Бренн прошел на корму и, склонившись над бортом, стал смотреть на бурлящую и пенящуюся воду — след, который оставлял за собой корабль. С каждым мгновением он удалялся от Британии, даже если и приближался к свободной земле. Ему было и радостно и грустно, а сильнее всего овладело им чувство одиночества. И тут он понял, что пора поговорить с Мароном и сказать ему правду насчет плутовства с монетой. Он знал, что Марон радуется дороге на восток, и он хотел разделить его радость, р amp;з уж все равно не будет так, как мечтал он. Но разделять радость Марона, пока между ними лежит этот обман, он был не способен. Он спустился с кормы и разыскал Марона. Тот помогал готовить ужин. — Мне надо с тобой поговорить, — произнес он с каким-то жалким видом. Марон вытер руки, белые от муки, и вышел к Бренну. Мальчики подошли к борту. — А что случилось? — Марон заглянул Бренну в глаза. — Ты что-то не в себе. Бренн не в силах был говорить. Признаться в плутовстве было труднее, чем он предполагал. Но теперь, когда потребность в признании возникла в нем и овладела всем его существом, он уже не мог молчать. — Марон, — хрипло произнес он, — помнишь, как мы на постоялом дворе метали жребий монетой? — Да, — спокойно сказал Марон. — Помню. — Я тебе хочу сказать одну вещь насчет этого, — продолжал Бренн, не смея взглянуть другу в лицо. Он посмотрел за борт на пенящиеся гребни волн. — Я… я ведь сплутовал, — выпалил он и добавил уже спокойнее: — Голова была на обеих сторонах монеты. — Я это знал, — ответил Марон все тем же ровным голосом. — Я увидел, когда схватил монету. Но раз ты мне сам признался, теперь это все равно. Бренн поднял глаза от клокочущей пены и, наконец, взглянул на Марона. — Ты знал и ничего не сказал? — Ему было еще стыднее, чем раньше. — Сперва я рассердился и хотел выложить тебе все. А потом раздумал. Тогда бы мы с тобой по-настоящему рассорились, а я видел, как тебе хочется в Британию. Вот я и решил остаться с тобой. Ведь если бы я не сделал этого, нашей дружбе пришел бы конец. Вот и все. Конечно, мне было тяжело. Но теперь ты все загладил. Бренн почувствовал, что глаза у него наполняются слезами. Он крепко пожал руку Марона. — Ну, так я рад, что мы плывем на восток и рано или поздно попадем во Фракию. Я рад, что плутовство мне не помогло. — Не надо больше об этом думать, — сказал Марон. — Ты бы сделал так же, как я. — Не знаю, сделали бы, — ответил Бренн. — Но это не важно. Важно, что теперь мы друг друга поняли. Мы будем вместе, что бы ни случилось, и пусть наш путь кончится там, куда занесет нас судьба. — Пусть будет так. Они опять крепко пожали друг другу руки. Тут порыв ветра донес до них из кухни запах варева, и они засмеялись: от бодрящего морского воздуха им захотелось есть. Хорошо жить на свете, — они свободны здесь, на свежем морском просторе, и скоро будет готова вкусная еда.
Глава XV Морской разбой
Прошло три дня со времени отплытия из Сириса. Поздно вечером Бренн вышел на палубу. Прислонясь к мачте, он смотрел на озаренную звездами воду, струившуюся за кормой. Погода по-прежнему, стояла ясная. Феликс приказал не прерывать плаванья на ночь, тем более, что бросать якорь неподалеку от берега было бы рискованно, — приходилось опасаться внезапного нападения. Несомненно, за эти дни правители Сириса либо узнали правду, либо догадались о ней и разослали гонцов, чтобы предостеречь власти в других гаванях. Бренна подняло с койки безотчетное желание еще раз взглянуть на волны, с глухим шумом разбивавшиеся о борта судна; от волн он перевел глаза на звездное небо, местами подернутое легкими облаками. Он ни о чем не думал, но ощущал какую-то смутную тревогу. Морская пена отливала серебром, и каждый всплеск волн означал, что Британия — все дальше и дальше… Вдруг он заметил, — со звездами что-то неладно. С самого раннего детства он научился наблюдать движение небесных светил; теперь, снова внимательно взглянув на небо, он увидел, что «Лебедь» идет не в том направлении, куда следует. Нос корабля уже не был обращен к звездам, блиставшим на востоке. Мальчику стало ясно, — корабль повернул и поплыл обратно, на запад. Бренн проскользнул на корму, не постучав вошел в каюту Феликса и тихонько окликнул его: — Феликс! Тот сейчас же бесшумно приподнялся на койке. — Кто там? — Я, Бренн. Феликс высек огонь из кремня, и при тусклом свете восковой свечи Бренн увидел его настороженное лицо; единственный глаз сверкал из-под спутанной гривы. — Что случилось? — Кормчий повернул судно; я это заметил по звездам. Феликс протяжно свистнул. — Я должен был это предвидеть. Давай поговорим с ним по-свойски. Он торопливо надел башмаки и, не зашнуровав их, выбежал из каюты. Бренн пошел за ним следом. Они быстро нашли кормчего. Феликс гневно сказал ему: — Поди-ка сюда! Мне нужно спросить тебя кое о чем. Кормчий нехотя повиновался. Вид у него был смущенный. — Глянь-ка вверх! — продолжал Феликс и, схватив кормчего за подбородок, вздернул ему голову кверху: — Погляди-ка хорошенько: что случилось со звездами? — Ничего с ними не случилось, — мрачно ответил кормчий. — Они повернулись задом-наперед, — глумливо продолжал Феликс, — встали шиворот-навыворот, перекувырнулись, прошлись колесом — называй это, как хочешь. Но каким словом ни назовешь, а ты — подлая собака. — Я только выполняю приказания, — пробормотал кормчий. — Вот как! А чьи это приказания? Не мои! Брось финтить! Признайся! Либо с судном что-то неладное творится, либо со звездами. По-твоему, спятили звезды? — Отвяжись от меня, — дерзко выпалил кормчий. — Кто вы такие, ты и весь твой поганый сброд? — Кто бы мы ни были — тебе нас не предать! — рявкнул Феликс. Он крепко обхватил кормчего, приподнял его и с размаху швырнул за борт. Затем он легонько раз-другой взмахнул руками, словно стряхивая с них пыль. — Зачем ты это сделал? — спросил Бренн; он шагнул к Феликсу, чтобы остановить его, но было уже поздно. — Кто теперь будет вести судно для нас? Феликс почесал голову. — Верно, — сказал он, — я малость поторопился, но так ему и надо! Он на минуту призадумался и стал потихоньку напевать печальную песенку. Затем он сказал: — Давай поговорим с помощником. Тот, в смертельном испуге выглядывавший из рубки, попятился, когда Феликс подошел к нему. — Не бойся, — сказал Феликс. — Ты только повиновался его приказаниям, — значит, ты тут ни при чем. Ты умеешь распоряжаться на корабле? Несколько оправившись от испуга, моряк кивнул головой. — Значит, теперь за все отвечаешь ты, — сказал Феликс. — Только не вздумай сыграть с нами какую-нибудь штуку; ты видел — это добром не кончается. Поверни судно, поставь звезды на место и веди себя как полагается. Корабль снова поплыл на восток. За истекшие три дня матросы — сами рабы — успели подружиться с повстанцами и сочувственно относились к их попытке вырваться на свободу. Таким образом, после устранения кормчего, ничто уже не нарушало полного согласия на «Лебеде». Следующие два дня плаванья прошли спокойно, а на третий — наблюдатель заметил на расстоянии около пяти миль корабль, шедший прямо к «Лебедю». Среди повстанцев поднялся переполох; они решили, что это военный корабль, высланный, чтобы схватить их и вернуть в Италию. Феликс несколько успокоил людей, объяснив им, что корабль идет к Италии с востока и, значит, не мог быть послан за ними в погоню. Опасения рассеялись не вполне. Как-никак судно могло быть военное; что, если его начальнику вздумается обыскать «Лебедя»? Но наблюдатель донес, что корабль, тем временем подплывший довольно близко, судя по всему, торговый: обводы у него более закругленные, чем у военных судов, его двигали паруса и не видно было гребцов, размещаемых на военных судах тремя ярусами и являющихся непременной их принадлежностью. Повстанцы приободрились; некоторые из них даже взлезли на мачты, чтобы лучше разглядеть корабль, приближавшийся к ним. Новый кормчий подошел к Феликсу и сказал: — Начальник, я хочу кое-что предложить тебе. — Выкладывай, — отозвался Феликс, жевавший ячменную лепешку. — Я никогда не мешаю людям говорить, но мне случается уложить человека на месте, если он скажет не то, что надо. Кормчий облизнул пересохшие губы, огляделся по сторонам и начал: — Я рад, что ты швырнул его за борт. Он был изверг, тиранил нас. Он велел бросить моего брата в море за то, что брат кинулся на него. Теперь он получил по заслугам. Брат нечаянно чем-то рассердил кормчего, и тот жестоко избил его; брат рассвирепел — и кончилось тем, что его, беднягу, выбросили за борт. Феликс осклабился. — Матросам не годится сердить начальника. Ну, ладно! Меня очень радует, что я полностью расквитался с этим негодяем за его злодейства. Хотя, признаться, я малость поспешил. Что же ты надумал? — Мне осточертело быть рабом, и всем моим товарищам — тоже. Мы хотим присоединиться к вам. Но что вы намерены сделать, когда окажетесь на Востоке? — Продать корабль финикийцам, которые не будут нас донимать расспросами; выручку мы поделим, а затем — разбредемся по белу свету. — Тогда нас мигом всех переловят, — проворчал кормчий, — и нам будет не лучше, чем прежде — нет, хуже, если только это возможно. — Так чего же ты хочешь? — Давайте станем пиратами! Тогда нам незачем будет расходиться в разные стороны. Мы можем найти какую-нибудь бухту в Киликии или пристать к побережью Адриатики, где для жителей помогать пиратам — привычное дело. Там мы примкнем к другим пиратским судам. Мы и в накладе не останемся, и не пропадем зря! Повстанцы и матросы, толпившиеся вокруг Феликса и кормчего, радостно приветствовали это предложение. В те времена пиратство не являлось чем-то позорным. В нем видели разновидность войны, своего рода каперство[8], а не разбой. Иллирийские и киликийские пираты считали, что они ведут войну против Рима и имеют право захватить любое римское судно, которое им попадется. — Так и сделаем! — гаркнул Феликс, дружески хлопнув кормчего по спине. Бренн хотел было выступить вперед и возразить против этого решения. Мысль, что ему придется беспрерывно скитаться по морям, покуда какая-нибудь римская флотилия не захватит их судно, отнюдь не улыбалась мальчику. Но Марон, заметивший его движение, удержал Бренна за руку и шепнул ему: — Пускай себе плывут в Адриатику, а уж там-то мы сможем отстать от них. От побережья до Фракийских гор — рукой подать. Бренн снова преисполнился надежды. «Если судьба дает мне возможность добраться до Фракии, — подумал он, — значит, нужно без всяких колебаний отправиться вместе с ними; какое это счастье — попасть в страну, где я буду сам себе господин!» Он подошел к Феликсу. — Возьмем курс на Иллирию! Туда ближе, чем в Киликию! — Я тоже за Иллирию, — подхватил кормчий, внимательно слушавший Бренна. — Там столько бухт и остров-,ков, что мы отлично сможем прятаться, если нужно будет. А жители ненавидят римлян и всегда готовы помочь пиратам. — В Иллирию так в Иллирию, — заявил Феликс и тотчас зычно крикнул повстанцам и команде: — К оружию, ребята! Первая наша добыча сама дается нам в руки! Он размашистым жестом указал на торговое судно, находившееся теперь самое большее в полумиле от «Лебедя». Матросы и повстанцы ответили ему негромкими радостными кликами и принялись делить между собой оружие, раскиданное на палубе. Тут не обошлось без перебранки. Покончив с этим делом, моряки дружно направили «Лебедя» прямо к торговому судну, а наблюдатель замахал флагом. По указаниям Феликса и кормчего, команда собрала все якоря и крюки, какие только оказались на «Лебеде»; взяли даже тяжелые камни из балласта и привязали их к концам канатов, а крюки и якоря прикрепили к длинным шестам. Запасшись этими абордажными орудиями, моряки и повстанцы притаились на верхней палубе, под бортами. На торговом судне, очевидно, не подозревали опасности; оно подплывало все ближе. Неожиданным маневром «Лебедь» придвинулся к нему вплотную. Люди, размещенные под бортами «Лебедя», крепче сжали в руках шесты и канаты; с торгового судна крикнули: — Что вам нужно? Феликс свистнул. «Лебедь» сделал резкий поворот и протаранил среднюю часть торгового судна. Из-под бортов с гиканьем выскочили спрятавшиеся там люди и мгновенно взяли судно на абордаж[9]. Раздался оглушительный грохот. Это матросы «Лебедя» спустили брусья мачт на палубу атакованного судна, чтобы удержать его на месте, а вооруженные повстанцы с воинственным кличем перепрыгнули через борт и ворвались на палубу…
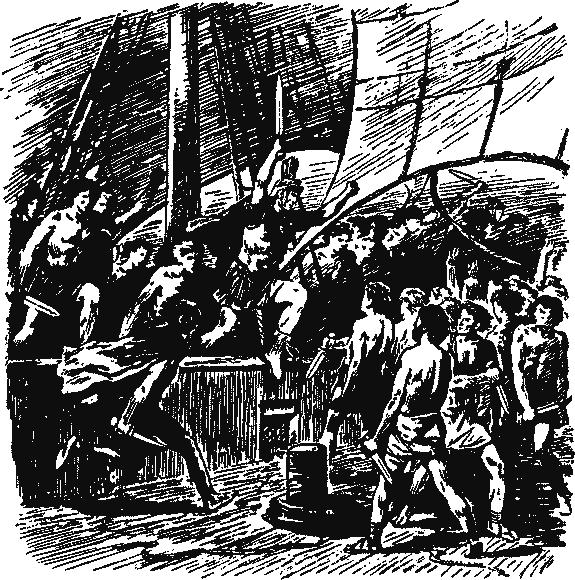
Команда торгового судна, захваченная врасплох, не оказала сопротивления. Феликс был в первых рядах нападавших. Он сразу приметил кормчего и стал наступать на него, но тот и не думал защищаться, а, видя, что все пропало, упал на колени, моля о пощаде. — Встань! — крикнул Феликс. — Мы никому из вас не сделаем зла, мы только заберем ваш груз. Мы — воины Спартака, и твой корабль — военная добыча! Корабль плыл из Александрии с богатым грузом; там были стеклянные изделия, свитки папируса, мебель с украшениями из слоновой кости и черного дерева, пестро раскрашенные статуэтки и другие безделушки. С веселыми прибаутками повстанцы и матросы доставали вещи из трюма и перебрасывали их на свой корабль. Из вспоротых тюков с безделушками сыпались зеркала из полированной бронзы, и резные шкатулки, изящные сосуды с притираниями и благовонными маслами. Когда весь груз был перенесен и трюм торгового судна опустел, Феликс, ухмыляясь, сказал кормчему: — Если хочешь, я письменно удостоверю, что ты не потопил груз на полпути в Средиземном море и не продал его в каком-нибудь Азиатском порту. Капитан исподлобья взглянул на него и ничего не ответил. — Меня зовут Марк Юлий Фронтин, — не унимался Феликс. — Скажи им это там, в Сирисе. Уж они-то знают мою подпись. Тут он захохотал во все горло и перелез обратно на палубу «Лебедя», крикнув своим людям, чтобы они поскорее следовали за ним, иначе он их оставит на борту чужого судна. Все немедленно вернулись на корабль, захватив с собой свои якоря и камни. Затем повстанцы и матросы убрали абордажные крюки, и суда поплыли в разные стороны.
Глава XVI Просчитались
В эту ночь на борту «Лебедя» царило веселье; казалось, впереди — занимательнейшие приключения, богатая пожива. После дележа добычи принялись обсуждать, что делать дальше; в конце концов решили, что «Лебедь» направится к берегам Иллирии и будет совершать рейсы вдоль побережья, пока не найдется подходящий зеленый островок, укрытый от ветра и, разумеется, необитаемый. На этом островке высадят женщин и детей и построят для них дома, и там, в тихой бухте, «Лебедь» будет стоять зимой, когда выход в море — верная смерть. А холостые найдут себе жен в иллирийских селеньях, разбросанных на взморье. Кое-что из добычи сложили внизу, но много громоздких вещей осталось на палубе, так как часть трюма теперь была отведена под жилье. Итак, все сошло как нельзя лучше. Теперь восставшим и в голову не приходило, что им может грозить опасность. Они воображали, что плаванье по морю всегда спокойно и приятно и что у них будет одна только забота — при каждом удобном случае останавливать купеческие суда и забирать груз. На другое утро наблюдатель снова увидел корабль; в этом не было ничего странного, так как «Лебедь» плыл теперь тем путем, каким обычно пользовались торговые суда. Все живо разобрали оружие. Сделанные накануне приготовления были в точности повторены, и вскоре корабли оказались так близко друг от друга, что можно было перекликаться. Один из матросов стал на борт и, держась за канат, крикнул; — Эй, вы! На этот раз не пришлось прибегать к искусным маневрам: корабль по собственному почину направился прямо к «Лебедю». Феликс с довольным видом потуже затянул пояс. В эту минуту к нему подошел кормчий. — Не нравится мне это судно, — сказал он. — Почему? Судно как судно, — резко ответил Феликс. — Не военное это судно и не торговое, — продолжал кормчий, пристально разглядывая корабль. Прежде чем он успел вымолвить еще хоть слово, таинственный корабль придвинулся к «Лебедю» вплотную и раздался трубный сигнал. «Лебедь» мгновенно взяли на абордаж; несколько повстанцев, размещенных под бортами, были тяжко изувечены крюками, и на палубу толпой ринулись люди зверского вида. Матросы и повстанцы, рассчитывавшие захватить экипаж корабля врасплох, теперь сами узнали, как страшен внезапный абордаж. Они пытались сопротивляться, в недолгой схватке вывели из строя несколько человек неприятельской команды, но потерпели полное поражение. Некоторые, растерявшись от неожиданности нападения, пытались взобраться на мачты или спрятаться за нагроможденной на палубах мебелью. Бренн и Марон находились на юте[10] и поэтому вначале не участвовали в борьбе. Увидев, что их товарищам угрожает опасность, они бросились к трапу, ведущему на корму, но бой закончился, прежде чем они попали на нижнюю палубу. Матросы и повстанцы разбегались во все стороны. Феликс, оглушенный ударом, лежал без чувств. Расталкивая всех, на середину палубы вышел человек в бронзовом панцире; с его плеч ниспадала львиная шкура. — Где кормчий? — властно спросил он. Матросы «Лебедя» вытолкнули злополучного кормчего вперед. — Кто вы такие, да поразит вас огненный Сандан! — заорал человек в бронзовом панцыре. — Я принял ваше судно за торговое, а оказывается — люди наряжены римскими легионерами! Скажи мне правду или я вырву тебе язык! — Мы… мы пираты… — пробормотал кормчий. — Пираты! — повторил человек в панцыре и, повернувшись к своим спутникам, спросил: — Вы слышали, что он сказал? Они называют себя пиратами! Раздался взрыв хохота. Бренн мгновенно сообразил, что произошло: «Лебедь» встретился с настоящим пиратским судном. Феликс, тем временем пришедший в себя, встал и, держась за канат, подошел к человеку в бронзовом панцире. Тот, ухмыляясь, смерил его взглядом и спросил: — Значит, ты здесь начальник? — Мы пираты, — ответил Феликс, — воины Спартака, плывем в Иллирию. — Знай я, кто вы такие, я не напал бы на вас, — сказал с усмешкой человек в бронзовом панцире. — Меня зовут Кудон. Но раз вы сами навлекли на себя такую беду, — значит, придется вам и расплачиваться. Повернувшись к своей команде, он добавил: — Разоружите всех и посмотрите, какой у них там груз. Берите только самое ценное, все прочее оставьте! Я не потерплю, чтобы мое судно загромождали хламом — лишнего места у нас нет! Слышите? Затем он опять обратился к Феликсу: — Это дело стоило мне троих парней, да и раньше мне не хватало рук. Вот я и заберу себе кое-кого из твоей команды. Он испытующе оглядел рослого, мускулистого Феликса и снова разразился смехом. Смеясь, Кудон растягивал рот до ушей; тогда ясно обозначался глубокий шрам, тянувшийся по всей щеке. — Пожалуй, я первым делом возьму тебя, — продолжал он. — А твои люди выберут себе другого начальника. Он приказал повстанцам и матросам выстроиться и прошелся вдоль рядов, отмечая тех, кого решил взять с собой. Отобрав человек шесть самых здоровых и сильных, он заметил Бренна и Марона и знаком приказал им подойти. — Вас, ребята, я тоже забираю. Вид у вас такой, что, я думаю, вы свой корм отработаете.

Люди Кудона тоже не теряли времени даром. Они переносили на свой корабль все самое ценное из груза, доставшегося «Лебедю» накануне. Ухмыляясь, Кудон заявил команде «Лебедя» и повстанцам: — Я оставлю вам судно. Лучше всего для вас будет при первой возможности пристать к берегу и скрыться в ближайших горах. Моряки вы плохие и в пираты никак не годитесь. Он слегка ударил Феликса плоской стороной меча. — А теперь — на борт! Бренн и Марон тоже перелезли на пиратское судно; их предупредили, что спать им придется на полу, так как все койки заняты. Один из матросов взял их на свое попечение и объяснил, в чем состоят их обязанности: им придется убирать каюту Кудона, прислуживать ему за столом, помогать на кухне и заниматься вместе с другими всякими поделками. Из нескольких отрывочных замечаний, оброненных матросом, Бренн заключил, что Кудон держит курс на запад, с целью ограбить золотые прииски в Испании. Сердце мальчика забилось сильнее; несмотря на то, что он попал в плен, в нем ожила надежда. Ведь корабль плывет на запад!
Глава ХVII Буря
Благодаря этой неугасимой надежде Бренну легче было переносить плен. Кудон был гневлив и не стеснялся с теми, кто имел несчастье не угодить ему; а так как Бренн и Марон находились при нем, то им и доставалось больше других. Феликсу жилось легче, чем мальчикам, и он несколько свыкся со своим положением; оставив прежние властные повадки, он управлялся с канатами, подтягивал матросам, когда они хором пели свои песни, и скоро стал общим любимцем. На досуге он подолгу рассказывал о тех днях, когда сражался бок о бок со Спартаком; вдобавок, моряки, всегда склонные к суеверию, считали, что его единственный слегка косивший глаз — подлинный «дурной» глаз, и Феликс убедил их, что он искуснейший заклинатель змей; ведь он отлично знал, что никто из матросов не сможет выудить из Средиземного моря змею и проверить, правда ли это. Бренн и Марон старались поменьше разговаривать друг с другом на людях; но они зачастую перебрасывались украдкой несколькими словами и решили смотреть в оба, когда судно причалит к берегам Испании. Кто знает, не представится ли там случай незаметно скрыться? Они поклялись, что один не уйдет без другого; либо они вместе вырвутся на свободу, либо вместе останутся в неволе. Однажды они сидели и чистили панцырь Кудона. Оба молча размышляли все о том же. Из задумчивости их вывел громкий возглас наблюдателя, рукой показывавшего на юг. Кудон, зевая во весь рот, вышел из своей каюты и сразу увидел, что грозит беда. На горизонте виднелись багровые облака, мертвенно тусклое небо отливало медью. — Почему ты не позвал меня раньше? — в бешенстве загремел Кудон, но спохватился, что сейчас не время распекать наблюдателя, а есть дела поважнее. Он кликнул старшего, тот побежал в кубрик; матросы, ворча и ругаясь, один за другим, вразвалку вышли оттуда. — Убрать паруса! — скомандовал Кудон. — Поднять весла! Живо, если вам дорога жизнь! Люди поняли, что они в смертельной опасности, и мигом взялись каждый за свое дело. Наскоро свернули паруса; с грохотом спустились брусья мачт; матроса, на минуту замешкавшегося, с головой накрыло одним из парусов, который второпях забыли свернуть. Матрос беспомощно барахтался, его вытащили из-под парусины. Брусья сложили в стороне, под бортами, предварительно привязав их к столбам, поставленным на этот случай. Тучи, мчавшиеся с юга, целиком заволокли небо; яркий дневной свет померк; послышалось завывание бури; с каждым порывом ветра волны вздымались все выше, бурлили все сильнее. Как ни страшил Бренна и Марона надвигавшийся шторм, гнев Кудона был для них еще страшнее. Бережно уложив панцирь в рундук, откуда они его вынули, они вернулись на ют, рассчитывая по мосткам пробраться оттуда на корму; но палубы уже были залиты водой. На верхней палубе они увидели трех матросов, уцепившихся за канат. Пенящийся вал перекатился через борта, и двух человек смыло. Третий все еще отчаянно цеплялся за канат. — Да это Феликс! — крикнул Марон. Он проворно спустился по трапу, ведущему с юта на верхнюю палубу, и подхватил Феликса, когда тот, обессилев, едва не выпустил канат из рук. Судно кренилось так сильно, что Марон еле удержался на ногах. С большим трудом он довел Феликса до трапа. Бренн помог Марону втащить Феликса. Они были на середине трапа, когда новый вал перекатился через борта и едва не сшиб мальчиков с ног. Крепко ухватившись за перила, они снова принялись тащить Феликса. Прежде чем нахлынула следующая огромная волна, они уже взобрались наверх.

— В самый раз! — прохрипел Бренн, с трудом переводя дух. Эта волна была еще страшнее; она хлынула на палубу и переломила трап. Бренн и Марон не стали дольше смотреть, а вбежали в ближайшую каюту и положили Феликса на койку. Он улыбнулся им и спустя немного времени приподнялся. Море бушевало вовсю, — слова нельзя было расслышать. Мальчики с минуты на минуту ждали, что могучие валы, непрерывно обрушивавшиеся на корабль, разобьют его. Неистовый шум не утихал. Вода, залившая пол каюты, доходила беглецам до колен; они коченели от холода. Каюта ходила ходуном. Феликса и обоих мальчиков швыряло во все стороны. Они пытались ухватиться за края коек и за рундуки, но волны хлестали в борта судна с такой бешеной силой, что удержаться на месте было невозможно, и все трое поминутно стукались друг о друга. Оказалось, что они вбежали в каюту, где незадолго до шторма в последний раз закусывал Кудон; на столике еще оставалась кой-какая еда. Марон схватил все, что там было — несколько мучных лепешек и кусок копченой свинины, — и не выпускал этих припасов из рук, как буря ни свирепствовала. Во время недолгого затишья он поделился ими с Феликсом и Бренном; все трое с жадностью набросились на пищу. Вскоре шторм возобновился с удвоенной силой, и они забыли все на свете, кроме необходимости крепиться и уцелеть среди ужасающего разгула стихий. Никогда в жизни они еще не слышали подобного грохота. Он был так чудовищен, что постепенно у них притупились все чувства и терзавший их страх несколько ослабел. Они уже не в состоянии были думать. Они помнили только одно: надо выжить. Затем гул понемногу стих. Весенний шторм налетел внезапно, с огромной силой, но длился недолго. Беглецам не верилось, что буря кончилась. Они молили богов, чтобы эта надежда не оказалась тщетной. Было бы слишком жестоко, если бы все началось сызнова, если бы затишье оказалось только злой шуткой, сыгранной с ними демоном бурь. Когда появилась надежда, они сразу обмякли и почувствовали, — второй раз им такого напряжения не перенести. Если после передышки, сулившей избавление, снова разразится буря, она застанет их измученными, отчаявшимися и они уже не смогут отстоять себя. Но буря действительно кончилась. Едва держась на ногах, Марон добрался до двери и несмело поднял щеколду. Но дверь наглухо захлопнуло ветром, и он не в силах был высадить ее. Марон, спотыкаясь, вернулся к койке, лег и стал выжидать, что будет дальше. Корабль все еще швыряло по волнам, но гул стих. Вначале мальчики и Феликс спрашивали себя, не обман ли это слуха; быть может, они в самом деле оглохли от неистового рева, и он продолжается все с той же силой? Эта мысль страшила их больше всего. Как ни ужасен был непрерывный шум — еще ужаснее быть замурованными в обезумевшем хаосе, не слыша его яростного воя. Немного погодя все трое налегли на дверь и общими усилиями сорвали ее с петель. Шатаясь от слабости, щурясь от дневного света, они вышли на палубу и увидели, что сомневаться не в чем: шторм прекратился. Над их головами неслись серые перистые облака, по морю бегали барашки, но буря умчалась к северу. Корабль оказался в ужасном состоянии. Обе мачты снесло, на носу зияли пробоины. Феликс крикнул: — Есть кто? — и сам поразился, какой у него слабый голос. Ответа не было. Неужели всех, кто был на корабле, смыло и уцелели они одни? Судно дало сильный крен, вода, хлеставшая в пробоины, быстро поднималась. Вокруг — безмолвие. Им стало ясно: Кудон погиб, погибла и вся команда. — Похоже, что посудина сейчас затонет, — сказал Бренн. — Верно, — подхватил Марон, — и нам надо поскорее решить, что делать, иначе нас засосет вместе с ней. Они огляделись вокруг, соображая, из чего бы сколотить плот. Но все те части, которые могли для этого пригодиться, снесло бурей; уцелел только остов. — Возьмем двери, — предложил Бренн. Они повернули назад и осмотрели каюты, расположенные ближе к корме. Две-три двери штормом разбило вдребезги, с петель свисали жалкие остатки. Другие уцелели. С помощью Феликса мальчики сняли их и снесли на середину верхней палубы. Затем Бренн и Феликс выбрали крепкие доски из рундуков и коек, а Марон собрал обрывки канатов и веревок. В одном из ящиков он нашел длинный канат, и все трое принялись за дело: связав бревна, они проворно соорудили плот, правда, неказистый, кривобокий, но устойчивый. Судно кренилось все сильнее; поэтому, справившись с работой, они немедленно спустили плот с палубы на воду и, ухватясь за веревки, прыгнули на него. Бренн догадался привязать к плоту несколько валявшихся на палубе кусков дерева, которые могли пригодиться для гребли; работая этими импровизированными веслами, они быстро отдалились от судна. — Куда нам плыть? На восток, на запад, на север или на юг? — спросил Феликс, широко улыбаясь. Он был счастлив, что спасся с корабля, на котором два-три часа назад им, казалось, угрожала верная смерть. — Только не на север! — воскликнул Бренн. — Так мы попадем обратно в Италию или куда-нибудь неподалеку от нее. — Значит, надо плыть на юг, — посоветовал Марон. — К югу берег должен быть всего ближе. Феликс перевел взгляд на запад, где солнце уже садилось, и пытался было определить направление, но передумал. — Мы лучше все сообразим, когда взойдут звезды, — сказал он. Им не оставалось ничего другого, как сидеть и ждать этой минуты. — Эх! Я охотно бы поел чего-нибудь, — пробурчал Феликс. Мальчикам тоже хотелось есть, но хотеньем ведь не насытишься. Солнце скрылось за грядой волнистых облаков. Ветер посвежел, замигали звезды посреди рассеянных там и сям туч, на море поднялась легкая зыбь. Но голод нечем было утолить. Вокруг — водная пустыня, вверху — пустынное небо, оживляемое только серебряной россыпью звезд. А между этими двумя бескрайними пустынями затерян убогий плот, где сбившись в кучку сидят трое истощенных голодом людей — одноглазый мужчина и два мальчика. Боясь, что кто-нибудь из них, задремав, свалится с плота, они продели руки в петли веревок. Все трое промокли до костей, продрогли, обессилели от голода и жажды. Они теснее прижимались друг к дружке, чтобы хоть немного согреться и не чувствовать себя такими заброшенными, и все же коченели и отчаивались. Они думали только об одном — о пронизывавшем их холоде, как во время бури не могли думать ни о чем, кроме ветра, сотрясавшего корабль. Казалось, холод сковал весь мир, сковал время, обрекая на смертную муку трех беглецов, скорчившихся на жалком плоту между необъятным морем и необъятным небом. Скоро, — с тоской думали они, — снова завоет ветер, волны разнесут плот в щепы и их скитания окончатся, но не так, как они надеялись. Да, они все еще надеялись, иначе зачем им обвязывать себе руки веревками и тесно жаться друг к дружке? Трое друзей — они все еще надеялись, и в мечтах, согревавших одеревенелые, окоченевшие тела, они видели перед собой родной дом, огонь, пылающий в очаге, веселую трапезу в кругу семьи, а перед домом — поля, ими возделанные и дающие им пропитание. Мечта казалась очень далекой, но она поддерживала в них жизнь.
Глава XVIII Земля!
— Земля! — крикнул Марон. Шатаясь от слабости, он стоял на плоту. Бренн крепко держал его за руку. Бренн и Феликс тотчас вскочили на ноги, забыв о том, что плот может перевернуться. После долгой, томительной ночи наступил день; уже много часов подряд они гребли своими самодельными веслами, благословляя солнечный свет, но все сильнее страдая от голода и жажды. — Земля, — словно эхо повторил Бренн. — Земля, — повторил и Феликс; его обычно громовый голос теперь напоминал хриплое карканье. Они снова опустились на доски и взялись за весла. Они гребли словно одержимые, стремясь как можно скорее причалить к твердой земле, которую завидели вдали. На этой земле, — говорили они себе, — наверно найдется пища, и вода, и тихий уголок, где они смогут лечь и крепко уснуть, не боясь скатиться в морскую пучину. Окрыленные заманчивой мечтой, они рассчитывали добраться до земли за несколько минут; но они гребли и гребли, а расстояние все не уменьшалось. Тогда их обуял страх; что, если земля каким-то образом исчезнет? Все трое еще сильнее налегли на весла, и в конце концов земля стала приближаться. После первого разочарования они заставили себя грести, не глядя вперед, — и вдруг земля оказалась гораздо ближе, чем они ожидали. Теперь они видели ее совершенно отчетливо: скалистый берег, ни жилья, ни растительности. Пустынный вид взморья не смутил их. То была твердая земля — все, что им требовалось. Но их мытарства еще не кончились. — Как же мы попадем на берег? — спросил Марон, снова вставший, чтобы поглядеть вперед. — У берега волны, видно, сердитые, — продолжал он. —Надо думать, это буруны. Я нигде не вижу местечка, где можно было бы причалить. — Придется прыгать с плота, — сказал Бренн, не допуская и мысли, что в последнюю минуту они могут встретиться с неожиданными препятствиями или же, уцелев во время шторма в открытом море, утонуть так близко от берега. — Да, прыгнем, — подхватил Феликс. — Такой будет прыжок, какого никогда не видали ни на земле, ни на небе; с ним сравнится разве что прыжок Тельца, когда тот с разбегу прыгает через Луну. Приближаясь к берегу, они услышали грозный шум прибоя, и тотчас обостренное опасностями чутье подсказало им, что попасть на сушу будет неимоверно трудно. Казалось, перед взморьем залегли дикие звери, неистовым ревом предупреждавшие, что никто не может уйти от их разверзтых пастей и достичь желанного пристанища — твердой земли. Мальчики и Феликс отложили весла в сторону, так как волны быстро несли их к покрытым белой пеной скалам, и нужно было беречь силы для последнего, огромного напряжения. Они видели, что волны слева от них разбиваются о рифы, и радовались, что избежали хоть этой опасности. Затем земля стала быстро приближаться, словно надвигаясь на них. Волны с пенистыми хребтами гнались за ними. Плот мчало прямо к скалистому берегу. Но им не пришлось раздумывать. Послышался скрип, глухой удар, громкий треск. У каждого из беглецов сотрясение болезненно отдалось во всем теле. Над их головами вскипала белая пена; им мерещилось, что они в тисках огромного удава, который, извиваясь в предсмертной судороге, сжимает их все крепче. Спустя минуту-другую они поняли, что случилось: плот разбился о прибрежный утес, их сбросило с досок, и, если они не уцепятся за что-нибудь устойчивое, их смоет прибоем. Они ухватились за выступы утеса, а волны, откатываясь в море, бушевали вокруг, подбрасывая несчастных, яростно трепля их среди камней. Подтянувшись на руках, Марон увидел, что Бренн, которому пена залепила глаза, в изнеможении подался назад. Став на колени у края выступа, Марон схватил друга за кисть левой руки и, понатужившись, рывком поднял его повыше. Феликс, уцепившийся пониже мальчиков, проворно карабкался вверх по утесу. — Скорее, покамест следующая волна еще не набежала! — крикнул он, помогая Марону и Бренну. Тяжело переводя дух, в кровь раздирая руки и ноги, они взобрались на верхушку утеса, где волны уже не могли их захлестнуть, и, обессиленные, упали на голые камни. Отдышавшись, они поднялись на один из скалистых холмов, длинной цепью тянувшихся позади утеса, и огляделись вокруг. Унылое зрелище! Сколько хватал глаз — пустынный берег да уходящая вдаль гряда белой пены поверх рифов. Взойдя повыше, они увидели на темнобурой земле редкие пучки чахлой травы, а неподалеку, в сухом русле, полоски бледной зелени. Томясь жаждой, они пошли по отлогому каменистому руслу и набрели на небольшую лужицу. Вода отзывала гнилью, но они жадно припали к ней, благословляя счастливый случай, — ведь она могла оказаться еще хуже. Для их воспаленных гортаней это был чудесный напиток. Но съедобного не находилось нигде. Ни плодов, ни ягод. Беглецы продолжали идти по руслу; этот путь не хуже любого другого мог привести их в обитаемые места. Они шли и шли, хотя ноги у них подкашивались и в голове мутилось. На землю спускались сумерки: мгла окутала долины, потом сгустилась на вершинах холмов. Выбившись из сил, беглецы свалились на землю, под деревом, и провели ночь в лихорадочном забытьи. Как только рассвело, они встали и, мокрые от росы, побрели дальше. Ландшафт стал менее унылым. Им снова попалась лужица, почище и поглубже. Они с наслаждением напились. На глинистой почве Марон заметил следы. — Козьи копытца! — воскликнул он. — Значит, где-то поблизости все же есть люди! У них отлегло от сердца. В страшные минуты, пережитые на скалистом берегу, они терзались мыслью, что попали в пустыню, где не найдут ни людей, ни пищи. Теперь, когда снова затеплилась надежда, все трое, несмотря на мучительный голод, ощутили прилив сил. Они ускорили шаг. Марон шел впереди, указывая путь по козьим следам, едва различимым на сухой, растрескавшейся земле. Ни Бренн, ни Феликс не могли их приметить. Они миновали заросли кустарника и раскидистое дерево с огромными листьями, названия которого не знали, и, пройдя крутой изгиб русла, увидели хижину. Несомненно, там жили люди: тростниковая крыша была в исправности, у порога в двух-трех местах виднелась пролитая вода. На полоске возделанной земли росли овощи. Но дверь хижины была наглухо закрыта, и, сколько они ни стучали, никто не вышел. — Наверно, пастух в поле, — предположил Феликс. — Но я не понимаю, почему это в таком глухом месте дверь на запоре. — Никакого запора нет, — возразил Марон, указывая на щеколду. — Там кто-то есть. Дверь заложили изнутри. — Впустите нас! — крикнул Марон. —Мы вам не сделаем ничего худого. Мы только хотим поесть! Никто не отозвался. Они втроем налегли на дверь, но у них не было сил отвалить или хотя бы сдвинуть с места тяжелую перекладину, на которую дверь была заложена изнутри. — Впустите нас, — жалобно протянул Бренн. — Пожалуйста, впустите! Откуда-то сверху их окликнул женский голос. — Кто вы такие? Вскинув глаза, они увидели голову женщины, высунувшуюся из слухового оконца, под самой крышей. — Нас выбросило на берег после крушения, — объяснил Бренн. — Впустите нас. Голова исчезла. Они услышали шаги. Женщина сошла вниз и отперла дверь. — Я очень перепугалась, — объяснила она. — Что же тебя так перепугало? — спросил Бренн, но тотчас отвлекся от ее страхов и спросил: — Ты можешь нас накормить? Мы уже несколько дней не ели. Он пытался припомнить, сколько дней они голодают, но не мог. Казалось, — бесконечно долго. Когда же они ели в последний раз? Не дожидаясь дальнейших объяснений, женщина подошла к нише в грубо оштукатуренной стене и принялась там хлопотать. Трое друзей стали осматриваться. В хижине, по-видимому, была всего одна комната. В ней находился очаг — несколько камней, положенных на утоптанный земляной пол. Дым выходил через отверстие в крыше. В одном углу виднелось убогое ложе — соломенная подстилка, накрытая тряпьем; на подушке спал младенец. Еще были две скамьи и низенький столик, сколоченный из неоструганных досок; над дверью устроен небольшой помост, служивший кладовой. С этого помоста и окликнула их женщина. Хозяйка, смуглолицая крестьянка, тем временем поставила на стол хлебцы, которые сама испекла, и горшки с козьим молоком. — Я перепугалась, — повторила она. — Здесь рыщут мавры! Бренн понятия не имел, кто такие мавры. Уплетая вовсю, он, однако, умудрился с набитым ртом спросить: — А что они тебе сделают? Женщина рухнула на колени возле убогого ложа. Обхватив ребенка руками, она запричитала: — О небо! Я боюсь… боюсь, не убили ли они его! Бренн, Марон и Феликс в изумлении переглянулись; кусок уже не шел им в горло. Все трое в один голос спросили: — Кого это? — Коракса, — ответила женщина; как ни было велико ее горе, она все же заметила, что пришельцам это имя ничего не говорит, и пояснила: — Моего мужа. Беглецы снова принялись за еду; но теперь их тревожила навязчивая мысль, что в оплату за пищу, которая вернула им силы, они должны что-то сделать для женщины. — Почему ты думаешь, что они его убили? — спросил, наконец, Бренн. — Сегодня утром он забежал домой — сказать, что видел мавров[11], и сразу же пошел в поместье, предупредить там. Только он ушел, как я сама увидела двух мавров, верхом на конях. Они спускались с холма. На беду, они заметили Коракса и погнались за ним. Я хотела выбежать из дому, предостеречь его, но мавры вклинились между ним и мною. А потом прискакали два других мавра и угнали всех коз. Вот я и сижу ни жива ни мертва. — А зачем маврам его убивать? — спросил Марон. Женщина изумленно взглянула на него. — Откуда вы взялись? Будто не знаете, что мавры делают? Они всегда все разоряют начисто и никого не щадят — ни господ, ни рабов. Злые они люди! Беглецы снова переглянулись. Первым заговорил Феликс. — Спасибо тебе за еду. Какие бы они ни были, эти мавры, но ты добрая женщина. Мы совсем уже отощали, а теперь опять набрались сил. Если только понадобится помощь, мы спасем твоегомужа. — Что вы можете сделать? У вас ведь даже оружия нет, — сердито спросила женщина. Несколько овладев собой, она прибавила: — Не слушайте меня! Я сама не своя. Я хотела было бежать за ним следом, но не могла же я бросить ребенка! Сжальтесь, спасите Коракса ради меня, и я благословлю тот час, когда ваши тени пали на мой порог, благословлю божество, которое спасло вас от ярости волн и привело сюда на помощь мне! Она побежала в другой конец хижины и схватила посох с железным наконечником, стоявший там между метлами из пальмовых листьев. — Вот единственное оружие, которое у меня есть. Возьмите его. С этими словами она вручила посох Феликсу. Тот взял его с улыбкой, стал вращать над головой и мигом сбил связку чеснока, висевшую на стропиле. Доев хлебцы, мальчики тоже встали и собрались в путь. На пороге Марон обернулся и сказал женщине: — Покажи нам, где вилла. Она указала на восток. — Вон там, за холмами. Как спуститесь с них, — пересечете дубовую рощу. Потом пойдете долиной до перекрестка. Там свернете налево, пройдете с пол мили и прямо перед собой увидите еще цепь холмов. Пойдете тропинкой, которая вьется по ним, и спуститесь к живой изгороди. Вдоль нее дойдете до скотного двора. А оттуда уже видна вилла. Всего ходьбы туда около семи миль. — А что будет с тобой? — спросил Бренн. — Со мной ничего не случится. Вряд ли они станут нападать на хижину пастуха, где грабить нечего. Коз они забрали, а теперь нападут на виллу.
Глава XIX По дороге в поместье
Жена Коракса дала трем друзьям еще несколько хлебцев и кусок вяленого мяса, и они отправились. Перейдя холмы, отстоявшие от хижины самое большее на полмили, они спустились к дубовой роще, как вдруг Марон вскрикнул. Что-то темнело в кустарнике. Они раздвинули молодые побеги и увидели человека, лежавшего ничком. На спине и на голове у него запеклась кровь. Они сразу догадались, что перед ними — злосчастный Коракс. — Да он жив! — сказал Марон. Повернув пастуха лицом вверх, они убедились, что он хоть слабо, но дышит. Спустя немного времени пастух заморгал, открыл глаза и изумленно уставился на своих спасителей.

— Кто вы такие? — Друзья, — ответил Марон. — Мы знаем, что произошло. — Они налетели на меня с копьями, — еле слышно заговорил Коракс, — ранили меня в шею и в лопатку; я думаю, кость перебита. Но я не умер и не хочу умирать, если только не случится что-нибудь еще похуже… — Он застонал от боли. — Бегите, дайте знать обитателям виллы, не то все там погибнут. — Сперва мы тебя доставим домой, — ответил Бренн. Они подняли тяжко стонавшего пастуха и понесли его к хижине. Пересиливая боль, он сообщил им разные сведения. По его словам, мавры, напавшие на него, были только разведчиками. Они угнали коз и расправились с ним, Кораксом. В этом и заключалась их задача: они должны были все подготовить для главных сил отряда. Наверно, они направились к долине, залягут в ней и дождутся остальных, — значит, с этой стороны вилла уже отрезана. Нападут они на нее в сумерки, когда люди утомлены, а ночная стража еще не расставлена. Так они всегда действуют. Он, Коракс, видел, как с гребня холмов спустился второй верховой разъезд. Эти разведчики помчались на юг. Там, в нескольких милях отсюда, они угонят другое стадо, а пастуха тоже изувечат, чтобы он не мог предупредить обитателей виллы. Мавры потому-то и расположились в долине, что им нужно совершенно отрезать виллу: ее обитатели ни о чем не будут подозревать, пока ночной набег не начнется. Пробраться к дому незаметно для мавров теперь можно только в обход, по козьей тропе, которая по ту сторону дубовой рощи ведет к холмам, вьется вдоль их гребня, сворачивает на восток и затем сходится с дорогой, ведущей к дому. Пока Коракс, задыхаясь, сдавленным голосом рассказывал им все это, они дошли до хижины. Оттуда с плачем выбежала его жена; но, увидев, что муж жив и нуждается в заботливом уходе, она мигом стихла. Коракса положили на соломенную подстилку. Она тотчас раздела его и согрела воду, чтобы обмыть раны. Попрощавшись с ними, трое друзей снова пустились в путь. Следуя указаниям Коракса, они легко нашли козью тропу за дубовой рощей, проворно взобрались на холм и быстро зашагали по гребню, из предосторожности пригибаясь к земле, чтобы их силуэты не выделялись на фоне прозрачного неба. Пройдя без отдыха несколько миль, беглецы увидели у подножья холма начало долины; они неслышно поднялись на самую верхушку гребня, притаились за валунами и стали внимательно наблюдать за долиной. Все было так, как предположил Коракс. Мавры расположились в долине. Слышалось блеянье козьего стада, скученного в одном месте. На подступах стояли дозорные, но человек десять темнолицых воинов, длинные черные волосы которых казались еще длиннее от украшений из конских хвостов, сидели подле своих поджарых лошадей, видимо дожидаясь чего-то. Несколько позднее беглецы, выглядывая из-за валунов, заметили второй отряд, выехавший из более отдаленной, боковой долины; эти всадники гнали перед собой другое стадо. Беглецы не стали ждать, что будет дальше; они поспешно отползли назад от валунов и пошли все той же едва приметной тропой, змеившейся по холмам. Вскоре тропа привела их вниз. Они прошли по высохшему руслу речки, обогнули невысокий бугор и свернули на широкую, изрытую колеями дорогу, пролегавшую среди прекрасно орошенных полей. Неподалеку от дороги крестьянин мотыжил землю; они окликнули его, и он рукой указал им виллу, скрытую от глаз огромными деревьями. Когда беглецы сказали крестьянину, что поблизости объявились мавры, он тотчас бросил мотыгу и, задавая им тревожные вопросы, повел их кратчайшим путем через поля. Спустя несколько минут они перешли мостик, увитый плющом и украшенный деревянными статуями, и очутились у самой виллы. Через сад, где грядки капусты чередовались с куртинами роз, крестьянин привел их к боковому входу и сообщил привратнику дурные вести, принесенные пришельцами. Весь побелев, привратник побежал за управителем. Перепуганный управитель тотчас явился и провел их в дом, не забыв, однако, при всем своем смятении, приказать им тщательно вытереть ноги. По широкому коридору он провел их в богато убранный покой, где владелец виллы Секст Флавий Барбат возлежал на устланном пурпурными подушками ложе. Барбат был низкорослый толстяк, с порядочной лысиной и черными, блестящими глазками. Он перекатился на другой бок и, тяжело пыхтя, приподнялся. — Кто вы такие? — сердито окликнул он вошедших и, не дожидаясь ответа, сказал управителю: — Уведи их и отстегай плетьми. Я запрещаю беспокоить меня. Теперь мое пищеварение нарушено самое малое на три дня. Управитель поднял руку и, запинаясь, пытался что-то сказать. Тогда Барбат напустился на него. — Это твоя вина! Ты что воображаешь? Слышать не хочу твоих извинений! Я и тебя велю отстегать плетьми. — Мавры… — пролепетал управитель. Барбат, покряхтывая, спустил ноги на пол и стал глазами искать свои домашние туфли. Управитель тотчас опустился на колени и, ползая по полу, старался найти запропастившиеся туфли. Барбат дал ему пинка. — Мавры! Что там еще такое с маврами? — Они чуть не убили Коракса, который пасет коз, — сказал Бренн, — и залегли в долине; они стягивают туда силы, чтобы напасть на виллу. — В самом деле? — протянул Барбат. — Но даже если так — это еще не причина, чтобы ты осмелился заговорить со мной без моего разрешения. Кто вы такие? Ведь вы еще не ответили мне на этот вопрос. — Мы матросы, — ответил Бренн. — Свободные люди. Нас выбросило на берег после крушения. Наш корабль назывался «Лебедь Сириса». — Что вы болтали насчет мавров? — не слушая Бренна, сердито спросил Барбат, еще полусонный. Но сообразив, в чем дело, он привскочил и заорал: — Где мои туфли? А что козы? Неужели мавры забрали моих коз? — Они чуть не убили пастуха… — снова начал Бренн. — Я не о пастухе тебя спрашиваю, — крикнул Барбат. — Я хочу знать, что с моими козами. — Они угнали всех коз, — ответил Марон, — два больших стада. — Всех, всех, до единой, — ехидно вставил Феликс. Барбат злобно покосился на Феликса, но, озабоченный опасными замыслами мавров, быстро отвлекся. — Значит, их можно ожидать с часу на час? — пробормотал он. — Что ж, позаботимся о приеме. Он опять дал пинка управителю, все еще разыскивавшему туфли. — Брось это, дурень! Берись за дело! Что значат туфли, когда эти разбойники из пустыни угнали всех коз и скоро нагрянут к нам? Собери людей! Раздай оружие! Весь багровый от ползанья, управитель вскочил и стрелой вылетел из комнаты, радуясь, что дешево отделался. Обратясь к Феликсу и мальчикам, Барбат сказал с хитрой усмешкой: — Вы не потребовали у меня награды. Смотрите же, не вздумайте потом врать на этот счет. У боковой двери послышался шелест, чья-то рука отдернула вышитую завесу, и в комнату вошла молодая женщина. Ее бледное удлиненное лицо с безупречно правильными чертами поражало своей красотой. На ней было ниспадавшее до полу одеяние шафранного цвета. — Им ничего не придется требовать, — молвила она, — раз они спасли нам жизнь. Я слышала то, что ты сейчас сказал, а еще раньше мне передали, что они известили нас о предстоящем нападении мавров. Барбат смутился, но ненадолго. — Рано еще толковать о спасении жизни, — проворчал он, — погоди, покуда кони мавров повернутся к нам хвостами. Больше мне нечего сказать. Иди в свои покои и созови служанок. Я не хочу, чтобы женщины своим визгом мешали мужчинам готовиться к бою. Пытливо и в то же время ласково взглянув на беглецов, женщина сдержанно, но приветливо кивнула им головой и вышла из комнаты. Барбат утер губы. Затем он толстым указательным пальцем поманил к себе Феликса и обоих мальчиков и сказал им: — Следуйте за мной. Вам тоже придется поработать, если вы не хотите, чтобы мавры перерезали вам глотки!
Глава XX Ночной набег
Барбат был не так глуп, как беглецам казалось вначале. Едва он вышел из спальни, быстро надев принесенные рабом башмаки, как в его распоряжениях сказались энергия и деловитость. Он тотчас произвел смотр людям, собранным во внутреннем дворе виллы, и проследил за раздачей оружия. Всего набралось около пятидесяти боеспособных мужчин; это были крестьяне, за которыми послали в хижины и на поля, и рабы, которых пригнали из бараков, находившихся по ту сторону сада; оружия было вполне достаточно. Рабы без устали бегали вверх и вниз, принося из подвалов и с чердаков связки мечей, луков и стрел. Бренн сразу почувствовал, что население поместья сможет дать отпор маврам. На всех четырех углах плоской крыши дома, построенного в виде прямоугольника, высились легкие сквозные башенки, где отлично могли разместиться стрелки. Во многих местах лежали кучи факелов, рядами стояли заправленные фонари. На камнях крыши рабы расположили метательные снаряды и увесистые деревянные бруски. Во дворе пылали костры, на которых в больших котлах кипело сало; тут же наготове стояли ковши. Надвигались сумерки. Маленькому гарнизону роздали изрядные порции тушеного мяса, вина тоже было вволю. Бренн слышал, как люди вполголоса отпускали шуточки. — Жаль, — говорили они, — что мавры не нападают каждый вечер, раз Барбат из страха перед ними так расщедрился; ведь ему нужно, чтобы у защитников его жизни и имущества было как можно больше сил. Мавры появились внезапно. Издавая воинственные клики, они мчались по широкой аллее к вилле, в полной уверенности, что ночная стража еще не расставлена, рабы уже спят в своих жалких лачугах и можно будет беспрепятственно проникнуть в дом. Барбат запретил своему гарнизону действовать прежде, чем он подаст знак, и ответом на шумный наскок мавров была гробовая тишина. Горяча лошадей, потрясая пиками, мавры скакали взад и вперед перед виллой; их предводитель спешился и подошел вплотную к украшенному стройными колоннами главному входу. Барбат подал знак: тотчас раздался трубный сигнал. В ту же минуту рабы, притаившиеся на крыше и в обращенных к фасаду башенках, забросали мавров стрелами. Запылали факелы; на крышу взбежали рабы-подростки; они несли в руках ковши с кипящим салом и тотчас вылили его на мавров, густыми рядами стоявших внизу. Началось нечто невообразимое. Лошади, раненные стрелами или ошпаренные горячим салом, становились на дыбы и кидались в разные стороны, вызывая среди мавров смятение. Многие из них были ранены, других выбросили из седел и затоптали их собственные обезумевшие кони.

Этого мавры никак не ожидали; к такому сопротивлению они совершенно не были подготовлены. Они метали свои копья и дротики, но противник был невидим, и оружие мавров застревало в балюстраде крыши или по бокам башенок, не причиняя их защитникам никакого урона. А стрелы все звенели и жужжали, разя нападавших; те выли от боли и сыпали проклятиями. Стремясь во что бы то ни стало завязать рукопашный бой, они выхватили мечи из ножен и пытались изрубить в куски массивную входную дверь, но тщетно. Сверху на них все время обрушивались камни и деревянные бруски, лилось кипящее сало, и вскоре перед дверью выросла груда тел убитых мавров. Самые отчаянные из нападавших притащили трупы лошадей, взгромоздили их на груду тел и силились взобраться по ним на крышу; но град камней и стрел быстро вывел большинство мавров из строя, а уцелевшие обратились в бегство. Те, что удержались на конях, бешено кружили вокруг виллы, но, в какую бы сторону они ни подались, всюду их настигали быстролетные стрелы. Наконец, видя безуспешность всех своих стараний, мавры повернули лошадей и умчались по аллее прочь от виллы. Во время боя Бренн и Марон находились в одной из передних башенок и оттуда усердно стреляли из лука. Выпустив последнюю стрелу, они долго следили глазами за отступлением конных мавров, а затем сошли на крышу. Внизу рабы, по приказанию Барбата, добивали раненых врагов; в таких схватках пощады не давали и не ждали ее. Барбат, беспрерывно пивший вино, весь сизый, злобно взглянул на мальчиков и рявкнул: — Назад, по местам! Почем вы знаете, что мавры не вернутся? Они непременно нападут еще раз, если только придумают способ! Мальчики снова взобрались на самый верх башенок. Барбат приказал, чтобы рабы разместились по всем четырем углам крыши и поочередно несли там дозор. Среди ночи поднялась ложная тревога, вызванная игрой воображения; к этому времени взошел молодой месяц, и перепуганный дозорный принял тени кустов и деревьев за притаившихся во мгле врагов. Вскоре багровое зарево возвестило, что мавры, силясь хоть чем-нибудь отомстить за свою неудачу, подожгли хижины и бараки рабов. Затем послышался конский топот, постепенно замерший вдали. — Похоже, что они убрались, — сказал Бренн. — И впрямь похоже! — отозвался Марон. — Но, может быть, это только уловка. Подперев голову рукой, он перегнулся через балюстраду. — Не нравится мне этот жирный боров, которого мы выручили из беды. По правде сказать, я даже немного жалею об этом. — Я тоже, — ответил Бренн. Тут ему вспомнилась женщина, так ласково взглянувшая на них, и он поспешно добавил: — Но мне не хочется, чтобы с его женой случилось что-нибудь дурное. Я думаю, та женщина — его жена; вряд ли у него такая взрослая дочь; что и говорить, она слишком хороша для него. — Я совсем забыл о ней, — сказал Марон. На лесенке послышались шаги; обернувшись, мальчики увидели Феликса, волочившего за собой длинный меч. — Мне сказали, что вы здесь наверху, — заявил он: — вот я и пришел помочь вам караулить. Правда, одного глаза у меня не хватает, но нести дозор я могу не хуже всякого другого. — Мы совсем не сонные, — возразил Бренн. — Нам не задремать, даже если бы мы старались. — А вы хорошенько постарайтесь, — посоветовал Феликс, посмеиваясь. — Просто диву даешься, на что люди способны, когда стараются. Мальчики легли на дощатый настил, укрылись парусиной, в знойные летние дни служившей навесом, а теперь свернутой и валявшейся в углу, вытянулись и мгновенно уснули, даже не успев снова заверить Феликса, что им не задремать. Феликс зевнул и обвел глазами дом и сад, слабо освещенный бледным месяцем и несколькими догоравшими факелами. Он смутно сознавал, что следовало бы разбудить мальчиков и, пока не рассвело, втроем улизнуть в какую-нибудь боковую дверь. Но, подумав, он сказал себе, что, в сущности, нет никаких причин для опасений, — разве только, что у этого Барбата очень уж гнусная рожа. Он крепче, оперся на меч и снова зевнул.
Глава XXI Награда
Набег не повторился. Мавры действительно ушли. Когда забрезжило утро, мальчики и Феликс увидели трупы людей и лошадей, валявшиеся в широкой аллее и на лужайках сада, среди изломанных растений и растоптанных цветов. Все трое спустились с крыши во двор, где получили свою долю общего скудного завтрака — грубый хлеб и разбавленное водой кислое вино. Барбат опять уж стал скаредничать. Не успели они кончить завтрак, как два дюжих раба пришли сказать, что господин требует их к себе! — Оружие вам больше не понадобится, — с этими словами они отобрали у мальчиков луки и колчаны. Феликс отнюдь не был расположен отдать меч; но, оглядевшись вокруг, он понял, что сопротивляться приказу бесполезно, и, воткнув меч острием в землю, последовал за мальчиками в небольшую боковую комнату, где Барбат дожидался их прихода. Владелец поместья завтракал. С жадностью проглотив последний кусок рыбы, жаренной на оливковом масле, он вытер сальные пальцы о пурпурную скатерть, хлебнул вина из стоявшей перед ним чаши и уставился на трех друзей своими рачьими глазами. — Ну вот, — сказал он, ухмыляясь, — мавры пришли и ушли, и увели моих коз. И с десяток хижин сгорело. И сады разорены самое малое на год. Говоря, он по пальцам пересчитывал свои убытки и при этом злобно глядел на беглецов, словно возлагая на них ответственность за этот ущерб; можно было подумать, что в набеге повинны они. — Если б мы тебя не предупредили, — ответил Бренн, — пожар и разорение были бы куда страшнее. Барбат пропустил эти слова мимо ушей и продолжал: — А еще они убили двух моих рабов; один из них — этакий дурень! — слишком далеко перегнулся, упал с крыши и сломал себе шею, другого ранило дротиком. Так что в моем хозяйстве сейчас не хватает рук. — А нам какое дело до всего этого? —возразил Бренн. — Придет время — узнаете, — оборвал его Барбат. — Но сперва вы толком скажете мне, кто вы такие. — Я уже сказал тебе, — ответил Бренн. Марон и Феликс предоставили ему объясняться с Барбатом. — Скажи еще раз! — Мы путешественники, плыли на «Лебеде Сириса». Бурей нас выбросило на берег после крушения. — Вчера вечером ты, сдается мне, говорил, будто вы — матросы, — прервал его Барбат, лукаво прищурясь. — Но это не важно. Я не сомневаюсь, что и то, и другое — чистейшее вранье. Поднеся чашу ко рту, он снова отпил изрядный глоток. Бренн смутился и покраснел. «Несомненно, — сказал он себе, — Барбат раскусил, в чем дело. Но как он смеет нас допрашивать? Он должен был бы из чувства благодарности принять на веру то, что ему говорят. Даже если он догадался, что люди, своевременно его предостерегшие, — беглые рабы, ему следует закрыть на это глаза». Барбат опять приложился к чаше. — Скажите мне, — откуда вы сбежали? Бренн покраснел еще гуще, на этот раз — от гнева. Барбат словно читал его мысли. — Нас выбросило бурей после крушения, — повторил он угрюмо. — — Вот уж это, наверно, правда, — с ехидством в голосе согласился Барбат. — Я отнюдь не предполагал, что вы шли по морю пешком. А поблизости отсюда, в этой части северной Африки, где цивилизованному человеку вроде меня совсем не место, нет ни одной гавани, — значит, вы не высадились обычным способом. Скажите всю правду. Глядя в упор на Феликса и мальчиков, Барбат сердито постучал рукой о стол. — Мы не рабы, — твердо сказал Марон. Он чутьем понял, что Бренн нуждается в поддержке. — Это вы так говорите, — глумливо возразил Барбат. — Вы воображаете, что перестали быть рабами, потому что вам пришла эта зловредная мысль — удрать от своего хозяина. Но, по закону, вы такие же рабы, как и раньше. Я честный гражданин, я подчиняюсь закону и — да будет вам известно — строго соблюдаю его, даже если это идет вразрез с моими чувствами. Разумеется, мне очень жаль, что придется доставить вам неприятности. Я не отрицаю — вчерашний ваш приход был весьма кстати, хотя вы, конечно, заботились вовсе не о моем спасении и не о моем добре; но если б вы не явились, от этого ничего не изменилось бы. Секст Флавий Барбат не такой человек, чтобы шайка темнорожих мавров могла захватить его врасплох сонным. Впрочем, это к делу не относится. Закон есть закон. «Я уважаю закон, и моя обязанность — заставить столь опасных для общества людей, как беглые рабы, ответить за свои преступления. — Почему ты так разговариваешь с нами?-спросил Бренн. — Откуда ты взял, что мы лжем? Ведь ты и сам не сомневаешься в том, что мы потерпели крушение. — Молчи! — крикнул Барбат, вдруг снова разъярясь. Он опять стукнул по столу и, указывая мальчикам на Феликса, заорал: — Взгляните на него, простачки! Неужели вы думаете, что можно гулять по свету с такой отметиной на лбу и не попасться? Держась за бока, толстяк разразился визгливым смехом; затем он снова налил себе вина. Феликс приложил руку ко лбу, в том месте, где были выжжены буквы FUG, и вздрогнул. Овладев собой, он ответил: — Что касается меня, ты правильно сказал, господин. Я был рабом при банях. Но оба эти мальчика — не рабы. Ты ничем не можешь это доказать! — Придержи свой язык! — снова загремел Барбат. — Ворон ворону глаз не выклюет! Мальчишки не связались бы с тобой, не будь они такие же злодеи, как ты сам! Феликс с трудом сдерживал гнев. Его мощные мускулы напряглись. Он задыхался. Барбату стало не по себе. Он подал знак вооруженным рабам, и те подошли поближе. Почувствовав себя в безопасности, Барбат рявкнул: — Хватит, наглец! Я действую так, как мне предписывает закон. Стоит мне пренебречь своим долгом, и я подвергнусь суровому наказанию, как укрыватель беглых рабов. Прямо скажу вам, в этой стране я нажил себе немало врагов, и они рады были бы сделать мне пакость. Вы только представьте — Секст Флавий Барбат привлекается к суду за попустительство беглым рабам! Усмехнувшись собственному предположению, он снова выпил, рыгнул и, небрежно взмахнув рукой, приказал рабам: — Заберите этих негодяев и отведите их в тюрьму. Они быстро возьмутся за ум, а если не одумаются, — им придется работать на поле в цепях. Мельком взглянув на беглецов, он прохрипел: — Слышите, твари? — и снова принялся за вино. Рабы вывели Феликса и мальчиков из комнаты. — Нечего сказать, удружил я вам! — простонал Феликс. — Что поделаешь, — сказал Бренн. — Кто мог думать, что он окажется такой подлой скотиной? Мы давно уж привыкли к твоему клейму и перестали обращать на него внимание. Мы так же виноваты, как ты! — Но я-то должен был помнить! — покаянным тоном сказал Феликс. — Проклятие, да и только! Человек не видит собственного лица; вот я и забыл начисто о клейме. Почему вы не напомнили мне о нем? Но мальчики были слишком подавлены, чтобы еще дольше объяснять, как и почему они забыли о клейме. Так вот чем кончились их скитания! Пройти через мытарства, через смертельные опасности — ради того, чтобы погибнуть под палящим солнцем Африки, в непосильном труде на бесчеловечного хозяина, в лапы которого они попали, желая спасти крестьян и рабов поместья. — Как-нибудь выпутаемся, — сказал Бренн. Но в душе он на это не надеялся.
Глава ХХII В тюрьме
Их отвели в сырой подвал, скудно освещенный отдушинами, находившимися под самым потолком, и заковали в цепи. Это и был эргастул, куда заключали строптивых или провинившихся рабов. В течение дня раб-тюремщик дважды приносил узникам горячую похлебку; он выказывал свое сочувствие добродушными ужимками, — сказать им ласковое слово он боялся. Мало-помалу мрак в подвале сгустился; они догадались, что настал вечер. Тюремщик принес хлеба и сыру, пожелал им, так приветливо, как только осмелился, покойной ночи и ушел, с грохотом захлопнув за собой дверь. Сидя в темноте на охапках соломы, трое узников прислушивались к возне крыс и лязгали цепями, чтобы их отогнать. — Что ж, одно утешение у меня как-никак остается, —сказал, тяжко вздохнув, Феликс. — Если мне суждено провести остаток моих дней в этой берлоге, я не буду страдать оттого, что у меня только один глаз. Тут все равно ничего не увидишь, будь ты даже глазаст, как павлин. Они попытались освободиться от цепей, но только поранили себе щиколотки. — Даже если бы нам удалось сбросить цепи, это было бы ни к чему, — сказал Бренн, — дверь тяжелая, дубовая, а в отдушины не пролезть. И все же они много раз возобновляли свои попытки; их побуждала к этому надежда, что, разорвав цепи, они сразу приблизятся к свободе, даже если потом еще придется долбить каменные стены. Им чудилось, что они уже долгие часы томятся во мраке, но у них не было никакой возможности измерить время; а потом им стало казаться, что они. давным-давно заперты в этой тюрьме, и ледяной ужас сковал их сердца. Их обуяла гнетущая тоска, они перестали разговаривать и неподвижно лежали на прелой соломе. — Чу! Кто-то идет! — сказал Марон; все трое приподнялись и насторожились. — Если это хозяин, — проворчал Феликс, — пусть только подойдет ко мне поближе, и я концом цепи размозжу ему череп! Дверь заскрипела, приоткрылась, и па пороге появилась женская фигура с завешенным фонарем в руке. Завеса спала, резкий переход от тьмы к яркому свету на миг ослепил узников. Затем они различили, кто перед ними. То была жена Барбата.

— Тсс, — шепнула она, приложив палец к губам. Выждав, пока сопровождавшая ее молодая служанка плотно закрыла дверь, она нежным, печальным голосом спросила узников: — Можете ли вы простить нас? — Ты ни в чем не виновата, — сказал Бренн. — Мы рады, что спасли тебе жизнь, а если для нас дело плохо обернулось, — это неважно! Женщина обвела подвал глазами и содрогнулась. — Как здесь холодно! — молвила она. — Но вам уже недолго здесь оставаться. Она вытащила из-под своего покрывала большую связку ключей и передала ее служанке. Трепеща от радости, пленники узнали ту самую связку, которую видели, когда стражи замыкали их оковы. Служанка быстрым шагом подошла к ним. Испробовав, при свете фонаря, несколько ключей, она нашла те, которые ей были нужны, и не без усилия повернула их в тяжелых замках. Узники так тихо, как только могли, положили цепи наземь и выпрямились, расправляя затекшие руки и ноги. — Не думайте о нем дурно, — сказала женщина. — Он ведь привык строго соблюдать законы… Голос ее дрогнул, она опустила покрывало на лицо; узникам показалось, что она беззвучно плачет. — Успокойся, госпожа, — сказал Феликс, — покуда на свете есть не только такие люди, как твой муж, но и такие, как ты, — еще можно жить. — Вы всем нам спасли жизнь, — молвила она едва слышно, — и мне очень совестно, что единственное, чем я могу вас отблагодарить, — это выпустить вас на свободу. — Ничего другого нам и не нужно, — ответил Бренн. —Мы совсем не хотим оставаться в этих местах. — Прошу вас, возьмите вот это, — сказала женщина. Она сняла с шеи золотое ожерелье, но Бренн остановил ее, воскликнув: — Нет, нет! Нам нужно только одно — свобода. Твой муж быстро хватится… Прошу тебя — и не думай об этом. Женщина с явной неохотой снова надела ожерелье и молвила, словно размышляя вслух: — Я освободила вас от оков, а себя не могу освободить. — Пойдем с нами, — сказал Бренн, сгоряча не подумав, что для нее означает такое решение. Она рассмеялась тихим, серебристым смехом. — Спасибо! Мне кажется, за всю мою жизнь ничто не радовало меня так, как твое предложение, но я не могу его принять. Отныне я буду считать, что вы втроем подарили мне эту золотую цепь, и, быть может, мне теперь легче будет носить ее. — Голос женщины снова стал ровным, звучным. — Но вам лучше уйти поскорее, — прибавила она. — Покажи, в какую сторону нам идти, — попросил Марон. — Мы не хотим встретиться кое с кем. Ему неприятно было упоминать имя ее мужа. — Он спит, — холодно, спокойно сказала женщина, — он пьян. Помолчав, она пояснила: — Значит, вам нечего бояться. Идите тем же путем, каким пришли. Девушка проводит вас до большой дороги, а крестьяне не сделают вам зла. Они знают, кто спас их от мавров, и завтра будут искать вас не там, где надо. Она повернулась, взяла фонарь, снова завесила его и открыла дверь. Они пошли по направлению к вилле. Женщина шла впереди, служанка следовала за ней, мальчики и Феликс замыкали шествие. Дорогой никто не проронил ни слова. Подойдя к вилле, женщина передала фонарь служанке, движением руки попрощалась с беглецами и бесшумно скользнула в боковую дверь. Девушка вывела их по тропинке к мостику, за которым пролегала большая дорога. — Идите все прямо, — сказала она. — У первого перекрестка свернете налево и попадете в долину. Да хранят вас боги! Она передала фонарь Бренну, помедлила минуту-другую, затем, понуря голову, быстро повернула назад — и исчезла во мраке. Трое друзей бодро пошли по дороге. В густой мгле они время от времени оступались и попадали в рытвины. Пройдя около мили, они сняли завесу с фонаря; им стало легче идти. Дорога была достаточно широка, чтобы они могли шагать в ряд и не натыкаться друг на друга. Вновь обретенная свобода так радовала беглецов, что они не чувствовали усталости. Им казалось, что перекресток только что пройден, а они уже были у самой долины, где виднелись следы стоянки мавров. Беглецы углубились в долину. — Надеюсь, у доброй госпожи не будет неприятностей, — сказал Бренн, который никак не мог забыть нежный, печальный голос жены Барбата и весь ее прекрасный облик. — Не хотел бы я завтра быть на ее месте, — отозвался Феликс. Они продолжали путь молча. Им вдруг стало ясно, что Барбат заподозрит жену и рассердится на нее. Несомненно, он дознается, что кто-то брал ключи, и если даже его гнев падет на кого-нибудь, она никогда не даст избить плетьми ни в чем не повинного слугу. Она тотчас признается во всем. Что с ней сделает муж, — этого ни Феликс, ни мальчики себе не представляли. Но они были уверены, что, по своей мстительной натуре, он не оставит безнаказанным открытое сопротивление своей власти. — Я уж и не рад, что она пошла на это! — воскликнул Бренн. — И я тоже, — признался Марон. — И я, — не столь горячо заявил Феликс. Помолчав немного, он с волнением в голосе прибавил: — Нам следовало перед уходом зайти в дом и в знак признательности доброй госпоже прикончить мучителя. Мальчики тоже были взволнованы. К радостному сознанию свободы примешивалась тревога за женщину, которая, наверно, пострадает из-за них. — Но теперь мы бессильны что-либо сделать, — сказал Бренн, пытаясь успокоить свою совесть. Феликс и Марон согласились с ним. Да, теперь ничего уже нельзя было сделать, и, хотя все они очень жалели женщину, которую, вне всякого сомнения, родители насильно выдали за Барбата, когда она была совсем еще молода, они мало-помалу забыли о ней. Все возраставшая необходимость зорко следить за извивами дороги, беречь силы, думать о будущем постепенно изгладила из их памяти прошлое. Они пересекли дубовую рощу, перешли последнюю цепь холмов и при первых лучах зари, сливавшихся с угасавшим огнем фонаря, увидели перед собой хижину пастуха. Уверенные в радушном приеме, они постучали в дверь. Им открыла жена Коракса. Разглядев пришельцев, она широко улыбнулась и сказала: — Да благословят вас боги! Прошлой ночью я молилась за вас, и вот вы здесь, целы и невредимы. Вчера к нам забегал крестьянин из поместья, он сказал, что вас заковали в цепи. Наш господин — изверг! Бренн едва не проговорился, что их освободила сама хозяйка, но вовремя прикусил язык. «Как ни надежны пастух и его жена, — подумал он, — а рассказать им, как было дело, — нехорошо и неосторожно: ведь люди часто без злого умысла болтают лишнее; и если, волею случая, жену Барбата изобличат, — мы, обязанные ей спасением, должны быть непричастны к этому». — Мы бежали из тюрьмы, — сказал он, многозначительно взглянув па своих спутников; те утвердительно кивнули в ответ. — Что же вы теперь думаете делать? — спросила женщина. — Мы будем счастливы, если вы останетесь здесь… — Нет, нет, — возразил Бренн. — Мы не хотим, чтобы вы подвергались опасности из-за нас… Да и вообще, мы задумали пробраться в дальние края… — Куда же вы хотите пробраться? — Пойдем вдоль берега, все дальше и дальше на запад. .. по направлению к Испании… — Я никогда не слыхала о такой стране. Но я знаю, что вдоль берега на много-много миль тянется пустыня… — Как-нибудь выдержим переход, — сказал Бренн; его товарищи кивнули в знак согласия. — Все, что вы можете сделать для нас, — сказал Марон, — это дать нам с собой съестного, чтобы мы могли прокормиться в пути. — Мы отдадим вам все наши запасы, — ответила женщина, — отдадим с великой радостью. Пойдем в дом, и я соберу все, что только найдется. И муж хочет вас поблагодарить. Войдя в хижину, трое друзей увидели Коракса, лежавшего на своей убогой подстилке. Ребенок лежал у него в ногах. Пастух сказал, что ему лучше, и особенно полегчало сейчас, когда он убедился, что его спасители — на свободе. — Такого крепыша, как я, одной потерей крови не уморить. Но если бы я остался лежать, без всякой помощи, там в роще, меня сейчас уже не было бы на свете. Вот почему я готов отдать за вас жизнь. Жена сказала ему, что нужно гостям, и он попытался встать, но не мог. — Ах! Какая досада, что я не могу проводить вас хоть немного, — простонал он. — Нам не нужно ничего, кроме еды, — ответил Бренн. — Отдай им все без остатка, — сказал Коракс жене и в изнеможении откинулся на подушку. Женщина уже взялась за дело; она собрала все, что у нее было, — несколько хлебов, вяленое мясо и вяленую рыбу, маслины, дробленый ячмень, сыр, — разделила на три равные доли и каждую долю завернула в кусок холста. Получилось подобие сумок. По просьбе Бренна, женщина разыскала кусок войлока, достаточный, чтобы выкроить из него три шапки для защиты от солнца; затем она принесла сшитый из козьей шкуры, просмоленный по швам мех для воды, сбегала к ручью и наполнила его водой. Еще беглецы попросили несколько длинных полос козьей шкуры и перевязали ими сумки с провизией; каждый вскинул свою сумку на спину, а мех с водой они решили нести по очереди. Выслушав от пастуха и его жены изъявления благодарности, множество добрых пожеланий, советов и предостережений, трое товарищей распрощались с ними и снова пустились в путь, ободренные тем, что их так сердечно приняли и снабдили пищей. После печального опыта с главарем пиратского судна и Барбатом им было особенно отрадно встретить таких людей, как жена Барбата и крестьянская чета в хижине. Даже мимолетное воспоминание о девушке, которая прошлой ночью указала им путь со словами: «Да хранят вас боги!» — способствовало тому, что неведомое будущее теперь представлялось им менее страшным. Уверенность в успехе крепла, а вместе с ней усиливалось желание вернуться домой, жить на свободе в родной стране, среди близких и любимых людей. И хотя ноги у них ныли от усталости, трое беглецов, шагая по дороге, дружно затянули песню.
Глава XXIII Путь по взморью
Они довольно скоро дошли до взморья и направились на запад. Солнце жгло вовсю, укрыться от его палящих лучей было негде. Крутые, пышущие зноем утесы перемежались обширными полосами раскаленного песка. Три дня подряд они шли и шли. Запас воды у них иссяк. Но на исходе четвертого дня они нашли в скалах впадину, где была вода, и наполнили мех. Они не имели представления о том, долог ли путь в Испанию. Они знали одно: нужно идти во что бы то ни стало. Когда зной становился нестерпимым, они купались в море. Они шли не только весь день, но и часть ночи. Прибавлявшийся месяц освещал им путь. В полдень путники делали привал в тени утеса, а если место было ровное, — сооружали из своих туник и нескольких жердей подобие палатки. Передохнув, шли дальше. На шестой день пути они увидели очертания непонятного темного предмета, черневшего вдали, на невысоком утесе посреди маленькой бухты. Подойдя поближе, они различили корпус разбитого судна и ускорили шаг, взволнованные тем, что в томительно однообразном странствии им встретилось нечто неожиданное. — Это пиратское судно Кудона, — на ходу сказал Марон. — Ну нет, — возразил Бренн. — Оно самое, — поддержал Марона Феликс. — Это так же верно, как то, что я лишился левого глаза, стараясь удержать нож в равновесии на кончике собственного носа. — Значит, оно все-таки не пошло ко дну, —сказал Марон, — и течением его вынесло на берег. Они вскарабкались на утес, подлезли под самое судно и убедились, что Марон прав. Затопленный, разбитый корпус поплыл по течению вслед за ними, к берегу Африки, и волны выбросили его, кормой вперед, на утес. Трое товарищей стояли под кормой, сильно приподнятой, тогда как носовая часть глубоко погрузилась в белую пену бурунов, клокотавшую над рифами.

— Ну что ж! Вряд ли нам будет какой-нибудь прок от этих обломков, — задумчиво сказал Марон. — А вот не знаю, — отозвался Бренн. — Мы можем взойти на корабль и посмотреть, не осталось ли там что-нибудь ценное. Когда мы попадем в город, деньги нам очень пригодятся. Они сложили свои сумки и мех с водой в тени, у скал, и огляделись вокруг. С одной стороны кормы до половины высоты корпуса свисал канат. Феликс стал лицом к кораблю и уперся руками в корпус. Бренн прыгнул ему на плечи и тоже уперся в корпус — и, наконец, Марон, не без труда, взобрался на плечи Бренну. В этом положении он быстро поймал канат и, подтянувшись, взобрался на палубу. Там он нашел еще несколько кусков каната и крепко связал их узлами; получился длинный канат, один конец которого Марон прочно закрепил, а другой перебросил через борт. Феликс и Бренн тотчас взобрались наверх к Марону; крепкие, крупные узлы очень облегчили им подъем. — Давайте прежде всего поищем золото, — предложил Бренн. — У Кудона золота, наверно, было немало, и хранить его он мог только в кормовой части, а не в носовой, где всегда толклись матросы. Марон взошел на мостки, соединяющие корму с баком, и отпрянул, восклицая: — Берегитесь! Здесь — дыра в настиле! Вытянув шеи, они опасливо глянули вниз; их глазам представилась зияющая сквозная пробоина, фута в три диаметром. Заглянув еще глубже, они увидели волны, исступленно хлеставшие утес и кружившие куски деревянной обшивки. — А сможем ли мы перескочить через нее? — неуверенно спросил Бренн. — Вовсе это нам не нужно! — воскликнул Марон. Он открыл дверь ближайшей каюты, через разбитую переборку прошел в соседнюю и вышел оттуда на мостки по ту сторону пробоины. Там настил был в целости. Феликс и Бренн шли за ним. Они обшарили все каюты, но денег не нашли. Одежда и корабельное снаряжение имелись в изобилии, но ни золота, ни серебра не было. Дойдя до конца мостков, все трое замешкались, глядя, как на сильно накренившуюся нижнюю палубу переплескивались волны. — Не ходи туда, Бренн, — сказал Марон, — или тебе конец. — Не такой я дурак, — ответил Бренн. — Я раздумываю, как нам добраться до самых верхних кают. — Кудон жил там, — напомнил Феликс, — и свои богатства, наверно, держал в рундуке. — Но как туда попасть? — спросил Бренн. — Все трапы снесены. Марон поймал конец каната, свисавшего с юта, и сильно дернул. — Думаю, выдержит, — заявил он. — Будь осторожен! — воскликнул Бренн, в свою очередь предостерегая друга. Марон всей тяжестью своего тела повис на канате, канат не оборвался. — Дело верное, — сказал мальчик, проворно взбираясь вверх. Феликс и Бренн зорко следили за его движениями, пока он не исчез в одной из дверей, выходивших на ют. У них не было никакого желания последовать его примеру, хотя он сверху крикнул, что канат надежно закреплен. Они слышали, как он возился, и вскоре раздался ликующий возглас: — Нашел! Над верхней палубой показалось сияющее лицо Марона; мальчик сбросил золотую монету. Он ловко угодил ею между Феликсом и Бренном, изумленно взглянувшими на него. — Тут стоит рундук, битком набитый деньгами да золотой и серебряной посудой, — всего гораздо больше, чем нам нужно, гораздо больше, чем мы могли бы пронести по этой пустыне, даже выбиваясь из сил. — Захвати, сколько можешь, золотых монет, — крикнул в ответ Бренн, — Будет предостаточно. Марон снова исчез из вида. Спустя немного времени Бренн и Феликс услышали звон монет, которые он считал. Дожидаясь Марона, товарищи мирно сидели на закраине верхней палубы, болтая ногами и глядя то на курчавившиеся белой пеной волны, бурлившие внизу, то на чаек, носившихся вокруг корабля. Возле них, сверкая на солнце, лежала сброшенная Мароном золотая монета с изображением какого-то восточного властителя. — Что бы ты сделал, если б разбогател? — спросил Феликс. Бренн пожал плечами. — Я не хочу быть ни богатым, ни бедным. Я хочу жить в родной своей деревне, где мой дядя, пахать и сеять… От золота нет никакой пользы, — оно годится только для всяких безделушек да для насечек на ножнах меча, и еще его кладут в могилу при погребении. Феликс сплюнул в воду и призадумался над тем, что сказал Бренн. Привыкнув жить в городе, он не представлял себе уклада жизни, при котором мужчины и женщины довольствуются плодами земли, — тем, что они сами посеяли и вырастили. — Я считаю, что ты неправ, — сказал он наконец, — вернее, что ты не совсем прав, хоть я и не знаю нравов и обычаев страны, о которой ты рассказываешь. Что до меня, — мне говорили, что я фригиец, но я уверен, что родился в Риме или где-то в окрестностях Рима. Никакой Фригии я в глаза не видел. Я знаю только глухие закоулки Рима, где за мелкую монетку я покупалкусок пирога с бобами и кружку укропного вина. Но теперь, изведав прелесть свободы, я уже не хочу вернуться в римские трущобы… Где же эта страна, твоя родина? — К северу отсюда. Это Британия, — ответил Бренн, которого так и подмывало завести разговор на эту тему. Ему не терпелось поведать Феликсу обо всем, что было ему дорого и мило на родине, и ему казалось, — говори он часами, и то не исчерпает того, что нужно сказать. А теперь, когда представился удобный случай, Бренн не находил нужных слов и только снова повторил, что хочет во что бы то ни стало вернуться в Британию. Объяснить другому, почему для него это так важно, Бренн был не в силах. Это желание владело им, но какими словами его передать?.. — Ты согласен отправиться с нами туда? — спросил он Феликса. — Там тебе будет хорошо! В моей семье тебя примут как родного, раз ты — мой друг. — Это было все, что он мог сказать. Феликс расправил плечи. — Ладно! Держу путь в Британию, покуда там еще нет римлян! — Берегитесь! — крикнул Марон сверху — и тотчас к их ногам свалились, один за другим, три больших кошеля, туго набитых монетами. — Я думаю, больше нам не снести. — Этого хватит с избытком, — сказал Бренн. Феликс заглянул в кошель, который ему вручил Бренн. — Эх! Сколько на эти деньги можно было бы купить бобовых пирогов и укропного вина! — воскликнул он. — Но уж раз я решил, — мое слово крепко. Я выбрал Британию, я с тобой, мой мальчик! Они вернулись на оконечность кормы и по канату спустились с корабля.
Глава XXIV Помощь с моря
Беглецы с тоской думали, что им придется идти еще много дней по бесплодному, пустынному взморью. Но, пройдя всего несколько миль, они попали в лесистую местность. Продвижение замедлилось, зато они уже не страдали от палящих лучей солнца. Однажды они заблудились в лесу и порядком устали, прежде чем вышли обратно на взморье. Но во время этих блужданий они нашли речку и наполнили свой мех чистой прозрачной водой. Поэтому бодрость не оставляла их, хотя они были все так же далеки от цели и у них иногда появлялось желание швырнуть в море свои увесистые, набитые золотом кошели. Но они были свободны, и это сознание так радовало путников, что они часто затягивали песню. Особенно охотно пел Феликс. Он знал и заунывные крестьянские песни и разудалые песенки портовых кабачков. Как-то раз он спросил: — А что — в Британии клеймо мне не повредит? — Никогда, — решительно ответил Бренн. — Да, но Британия еще далеко, и в пути мы можем встретить людей, которые нас погубят, если увидят клеймо. Что же мне сделать, чтобы скрыть его? Мне и думать страшно о том, что вы можете второй раз пострадать из-за меня. — Теперь у тебя отросли волосы, ты можешь прикрыть клеймо прядью подлиннее, — посоветовал Бренн. — А если ветер растреплет ему волосы? — вмешался Марон. — Ему нужна шапка. Нельзя ли войлок, который нам дала жена Коракса, прикроить так, как ему нужно? Они шли по цепи холмов, тянувшейся вдоль моря, время от времени швыряли вниз камни и глядели, как вспугнутые птицы разлетаются во все стороны. — Давайте отдохнем, поедим, — предложил Феликс. — Насчет еды дело плохо. Осталось несколько корок да горсть фиников. Сидя на побуревшей от солнца траве, они наблюдали непрестанную игру волн. — Можно набрать птичьих яиц и ракушек, — предложил Марон. — Как-никак лучше питаться этим, чем голодать. А пока в пути нам попадается вода, мы не умрем от жажды. — У нас, — сказал Бренн, внимательно поглядев на мех и прикинув в уме, — воды хватит еще на три дня, если ее бережно расходовать. — А к тому времени мы уже дойдем до Британии, верно? — спросил Феликс. —Эх, я и забыл, Британия ведь остров. Ну, значит, последние несколько миль, наверно, придется проплыть. Британия все сильнее возбуждала его любопытство. Каких только вопросов он не задавал Бренну! Что растет на деревьях в Британии? Длинные ли носы у женщин? Правда ли, что вороны там поют, что козы — величиной с быков, а быки — величиной со слона? Что бедняки там пьют из золотых чаш, а богачи — из глиняных плошек? Бренн никак не мог разобрать, дурачится ли Феликс или у него действительно такие нелепые представления о Британии. — Уж не там ли, как я слышал, люди сажают лошадей в повозки, а сами впрягаются в дышла? Феликс говорил серьезным тоном, но Бренн заметил, как он подмигнул Марону, и понял, что все эти вопросы задаются потехи ради. Бренн почувствовал, что в нем вскипает гнев, но в эту минуту его внимание привлек предмет, показавшийся на море. — Глядите, разве это не судно? — спросил он своих спутников. Те посмотрели туда, куда он указывал. — Эго лодка, — воскликнул Марон, у которого глаза были всех зорче, — и, сдается мне, рыбачья. — Мне чего-то уж неохота плавать по морям, — признался Феликс. — Кто его знает, может быть, и эта посудина пиратская? Давайте лучше спрячемся, пока не поздно… — Это лодка, совсем небольшая… скорлупка… — решительно повторил Марон. — Подождем и сделаем все, что можем, чтобы она причалила сюда, — сказал Бренн, исполнившись надежды. — У нас достаточно золота, чтобы за хорошую плату нас доставили… — Куда? — перебил его Феликс. — В Британию? — Нет, — со вздохом ответил Бренн. — В Испанию, в Гадес. Это — первый шаг. — Мне бы очень не хотелось второй раз потерпеть крушение, — страдальческим голосом проговорил Феликс, — даже если бы это случилось у Блаженных островов… — Лодка небольшая, можно будет все время держаться вблизи берега, — настаивал Бренн. — Подумайте, разве это не лучше, чем тащиться пешком? — Пожалуй, что да, — согласился Феликс, но в его голосе не было уверенности. — Ладно, пусть будет по-твоему. Он встал и, сложив руки рупором, принялся кричать. — Эти ни к чему! — воскликнул Марон. Он снял с себя тунику и стал размахивать ею: — Подымите-ка меня повыше! Ухватив Марона за коленки, Феликс поднял его так высоко, как только мог. Марон размахивал еще усерднее, и все трое хором кричали без устали. Сначала им казалось, что они стараются напрасно; но спустя несколько минут они увидели, что суденышко, раскачиваясь на волнах, поплыло к берегу. Феликс спустил Марона наземь, и трое друзей помчались вниз, к морю. Там они выбрали удобную для причала бухту, свободную от рифов. Когда суденышко подплыло поближе, оно оказалось утлой, однопарусной рыбачьей лодкой, а в ней — всего один человек. Сгорбившись, он сидел у руля и, озабоченный тем, как благополучно достичь берега, ни слова не отвечал на их оклики. Феликс и мальчики вошли в воду и провели лодку в бухту. Человек едва двигался. — Откуда ты? — спросил Бренн. Человек что-то прохрипел и раз-другой провел языком по пересохшим губам. — Он хочет пить, — догадался Марон. Повидимому, усилия, потребовавшиеся, чтобы довести лодку до берега, вконец изнурили неизвестного. Мальчики немало огорчились, увидев, что тот, на чью помощь они надеялись, сам нуждается в помощи. Они тотчас сбегали за мехом с водой и поднесли его к потрескавшимся губам несчастного. — Не давайте ему много пить сразу, — предостерег Феликс. — Когда человек изнемогает от жажды, это может ему повредить. Они снесли неизвестного на берег, положили на сухой песок и терпеливо ждали, когда он придет в себя. Тем временем они разглядели его поближе. Это был иссушенный зноем человек с обветренным, темным от загара лицом, одетый в грубую холщевую тунику. Спустя некоторое время он открыл глаза, приподнялся и что-то пробормотал на непонятном языке. — Ты умеешь говорить по-латыни или по-гречески? — спросил его Марон. Неизвестный ответил на широко распространенном среди моряков жаргоне, который представляет собою смесь языков всех народов, населяющих берега Средиземного моря, и в основном состоит из исковерканных греческих слов. Марон довольно хорошо понимал все, что он говорил, а Бренн и Феликс улавливали общий смысл его речи. Ему еще раз дали напиться, и неизвестный понемногу разговорился. Он оказался рыбаком с Балеарских островов. С неделю тому назад, ночью, его бурей вынесло из родных вод, и он в течение нескольких суток блуждал по морю, так как луна и звезды были скрыты тучами; а потом — очутился так далеко, что вернуться было невозможно. Он пытался достичь Сицилии, но, видимо, ошибся направлением и последние дни все высматривал на африканском побережье местечко для причала, расселину в скалах, где мог бы возобновить запас пресной воды, давно иссякший. У него был с собой всего один мех. Когда рыбак совершенно оправился, Бренн, через посредство Марона, спросил его, не возьмет ли он их к себе в лодку и не доставит ли в Гадес. Рыбак покачал головой. — Это слишком далеко. Я хочу поскорее добраться до дома. Вынув из кошеля пять золотых монет, Бренн положил их в ряд на песок. Рыбак жадно уставился на них. — Откуда у тебя золото? — недоверчиво спросил он. — Это мое дело! Они твои, если ты возьмешься доставить нас в Гадес. Рыбак быстро переменил решение. — Пожалуй, это не так уж удлинит мой путь и будет безопаснее, чем пытаться попасть домой прямо через море. Я мог бы плыть вдоль берега Африки, высадить вас за Геркулесовыми столпами[12], а потом пустился бы в обратный путь вдоль побережья Испании. Марон тотчас начал переводить Бренну и Феликсу то, чего они не поняли в речи рыбака, а сам рыбак опять, словно завороженный, уставился на монеты. Затем он сказал: — Да, я согласен. Вы спасли мне жизнь тем, что дали воды. Я с радостью сделаю это для вас. Он торопливо взял деньги и замотал их в край туники. — У тебя найдется что-нибудь съестное? — спросил Феликс. — В лодке свежий улов, — ответил рыбак. — Я только вчера забрасывал сети. Феликс побежал к лодке и принес оттуда несколько крупных рыбин. После долгих поисков Марон нашел на берегу глину, большой раковиной накопал ее столько, сколько ему было нужно, и принес в подоле своей туники. Тем временем Бренн высек огонь из кремня, нашедшегося у рыбака, и зажег костер. Глину, раздобытую Мароном, мальчики смочили водой, получилась тестообразная масса. Они обложили глиной каждую рыбину со всех сторон. Когда костер догорал, мальчики осторожно положили рыбу в горячую золу, там она спеклась. Немного погодя, палками вытащили рыбу из золы и счистили затвердевшую глину. Вместе с глиной сошла приставшая к ней рыбья кожа и чешуя, обнажилась сочная, белая, дымящаяся мякоть. Внутренности от жара свалялись в комок; мальчики без труда вынули их, и все четверо — трое беглецов и рыбак — поели вволю. Чтобы дать рыбаку собраться с силами, решили отплыть на другое утро. Удостоверившись, что лодка крепко привязана, друзья спустили парус, свернули его, уселись в круг на песке, и начался оживленный разговор. Феликс рассказал, как он лишился левого глаза в единоборстве со львом. Рыбак поверил ему и сам многое сообщил о Балеарских островах. Беглецы уже свыклись с его речью, лучше стали понимать ее и, стараясь не проронить ни слова, слушали рассказ о том, как на этих островах мальчиков с малолетства учат обращению с пращой и как матери часто отказываются стряпать сыну, если он не приносит птиц и зайцев. Вот почему, объяснил рыбак, балеарцы славятся во всем мире искусством метать пращу и балеарские воины, образующие в римской армии отдельный корпус, метают свои яйцевидные снаряды от одного края великого моря до другого. Давно уже зашло солнце, уже разожгли костер, чтобы отпугивать диких зверей и не зябнуть ночью, а дружеская беседа все еще продолжалась, пока, наконец, всех четверых не одолела дремота. Они заснули крепким сном под неумолчный рокот прибоя.
Глава XXV В океане
На рассвете они отвязали лодку и вышли в море. Мальчики помогли рыбаку поднять косой парус и наладить снасти. Феликс сидел на корме. Он взял у рыбака нож и усердно кроил себе войлочную шапку, задумав смастерить ее так, чтобы она совершенно закрывала клеймо. А боясь, как бы по рассеянности не снять шапку и не обнажить клейменый лоб, он еще прикрепил к ней две суживавшиеся книзу лопасти, которые закрывали уши и завязывались у подбородка. Закончив работу, Феликс гордо нахлобучил свое изделие на голову и потребовал, чтобы все полюбовались им. Шапка вышла нескладная и плохо сидела на голове, но моряки ведь носят всякие, самые причудливые шапки, значит, успокаивали себя его товарищи, он не привлечет к себе внимания. Но Феликс так неосторожно вертелся во все стороны, желая похвастать, до чего умело он прикроил ее на затылке, что едва не свалился за борт. Это несколько отрезвило его. Он взял на себя обязанность вычерпывать воду и усердно орудовал предназначенной для этого огромной раковиной. Дела ему хватало: со всех сторон в лодку летела водяная пыль, а на дне было несколько небольших пробоин. На второй день они увидели деревья, а причалив и оглядевшись вокруг, нашли источник, наполнили водой мехи и просмоленный по пазам ящик, привязанный к корме лодки. Теперь им должно было хватить воды на несколько дней. Они уже достигли той части Африки, где много небольших портовых городов, и старались держаться подальше от взморья: ведь они не знали, как к ним отнесутся в какой-нибудь мавританской гавани. Они дочиста съели все, что у них было, но рыбак быстро научил мальчиков ловить сетями рыбу, которую они поздно вечером пекли в золе на берегу. Временами рыбак показывал свое искусство в метании пращи и без промаха бил диких птиц. Наскоро ощипав, готовили их тем же способом, что и рыбу. Однажды они увидели речку, по прибрежным скалам струившуюся в море, и смогли спокойно, ничего не опасаясь, снова наполнить мехи и просмоленный ящик. Другой раз пошел проливной дождь, и стоявшее в лодке ведро наполнилось до краев. Это тоже обеспечило их водой на много дней. Так они медленно, упорно продвигались вдоль берега. Мальчики быстро привыкли к этой жизни; суровые требования, которые она изо дня в день предъявляла к ним, почти изгладили из их памяти все пережитое. Однажды разразился шторм, но рыбак чуял ненастье, и они успели вытащить лодку на берег, прежде чем оно их настигло. Обычно они не прерывали плаванья и при сильном ветре. Даже Феликс и тот не так уже страшился моря. Но свою шапку он, несмотря на все уговоры, носил день и ночь не снимая. — Всякое бывает. Неровен час, можно и в открытом море напороться на кого-нибудь, а я второй раз не намерен подвести всех нас. Кроме того, я должен привыкнуть носить шапку, чтобы мне было в ней удобно и не захотелось не ко времени почесать макушку. Наконец, они добрались до Геркулесовых столпов, до пролива, за которым расстилается Атлантический океан. Некоторое время им пришлось плыть вдоль берега на север; затем они обогнули большой мыс, и на противоположной стороне Марон увидел землю. — Испания, — сказал рыбак. — Испания! — воскликнули беглецы, а рыбак повернул руль и повел лодку через пролив — прочь от берегов Африки. Приближаясь к противоположному берегу пролива, они увидели высокую скалу Кальпе, словно страж стоящую над водами, а позади Кальпе тянулись луга, покрытые сочной, кое-где пожелтевшей от солнца травой. — Теперь уже недолго, правда? — спросил Бренн, погрузив руку в прохладную воду. — Мы должны быть в Гадесе через два-три дня, — ответил рыбак. — Так сказывали другие, сам я никогда там не бывал. Бренн вдруг встревожился. — А что, — спросил он, — там, я думаю, всюду торчат римские чиновники? — Уж это наверно! Наклонясь к Марону, Бренн шепнул: — Нельзя допустить, чтобы они нашли наше золото. Что, если таможенные надсмотрщики вздумают обыскать лодку? Повернувшись к рыбаку, он громко сказал: — Тебе, наверно, придется платить стояночный сбор или какие-нибудь другие сборы? Рыбак пожал плечами. Он понятия не имел о портовых порядках, но ему не хотелось признаться в этом. — Они спросят, откуда мы приплыли, — сказал он, помолчав. — Что им ответить? — Разве мы не можем сказать, что мы рыбаки из какой-нибудь испанской гавани на Средиземном море? Мы можем наплести, что нас занесло гораздо дальше на юг, чем мы хотели. — Ловко придумано, если только не подвернется кто-нибудь из этой гавани, — возразил рыбак. — Что ж, надо пойти на риск. Какую гавань мы назовем? Подумав, рыбак сказал: — Малаку. Беглецам названия незнакомых мест ничего не говорили, и все четверо быстро столковались: они укажут Малаку, а отвечать чиновникам будут на том морском жаргоне, на котором изъяснялся рыбак. — Нам нужно запастись хорошим уловом, чтобы все было, как у заправских рыбаков, — заметил Бренн. Итак, все подробности прибытия в Гадес были предусмотрены. Трое друзей чуяли, что минута последнего, величайшего напряжения вот-вот наступит. Бренн окинул взглядом зыбившиеся вокруг синие водные просторы и сказал: — Вот мы, наконец, и в океане! — Как! — заорал Феликс и пригнулся к самому дну лодки, где его тотчас обдало брызгами невычерпанной воды. Убедившись, что ничего страшного не произошло, он опасливо поднял голову и укоризненно сказал: — Стыдно так шутить! Я из-за тебя пребольно стукнулся. К чему ты это выдумал? В океане всякие водяные чудовища, и ураганы, и водовороты, и сирены, чего-чего там только нет! А здесь — вокруг та же вода, что и раньше. Он сплюнул за борт. — Это океан, — упрямо повторил Бренн. — Вот уж не думал, не гадал! — крикнул Феликс, с глубочайшим презрением глядя на волны. — После этого я никогда в жизни не поверю никаким россказням! Я всегда воображал, что океан — конец света и что там слышно, как солнце шипит, когда оно погружается в волны.
Глава XXVI Гадес
На следующий день рыбак направил лодку вдоль берега, и мальчики терпеливо вновь и вновь забрасывали сеть, покуда не оказался изрядный улов. Они оставили только крупную рыбу, и весь вечер трудились, запрятывая в брюхо каждой рыбины одну-две золотые монеты. Они занимались этим на глазах у рыбака; таиться было бы бесполезно, а за время плаванья они прониклись доверием к нему. Он, несомненно, догадался, что все трое беглые рабы. Человек, по-видимому, не очень отзывчивый, он все же сблизился с мальчиками за долгие дни нелегкой дружной работы веслами и рулем. «Добротой он не отличается, — думали беглецы, — но выдать он нас не выдаст». Понимая, что денег у них более чем достаточно, они дали рыбаку еще пять золотых, и он засмеялся своим скрипучим, гортанным смехом. — Мы, рыбаки, мечтаем поймать золотую рыбку. Как попаду домой, все подумают, что я ее выловил. По примеру мальчиков, он взял несколько рыбин и засунул в каждую одну-две монеты. Надежно разместив, таким образом, свое богатство, он завернул каждую рыбину в тряпицу и положил их отдельно от прочих. Все четверо налегали на весла, надеясь приплыть в Гадес до наступления темноты; но пришла ночь, и огней Гадеса все не было видно. Бросили якорь в ближайшем заливе и, как могли, старались побороть свое нетерпение. Их расчеты не оправдались. На рассвете к заливу пришло несколько крестьян из ближней деревушки. Рыбак с грехом пополам объяснился с ними и узнал, что до Гадеса еще несколько миль, а поближе, за мысом находится городок Безиппо. Беглецы были рады, что вовремя узнали об этом, иначе они приняли бы Безиппо за Гадес и причалили там. Примирившись с задержкой, они купили у крестьян молока, сыра и хлеба и снова пустились в путь, держась подальше от берега. После довольно длительного питания одной рыбой так приятно было попить козьего молока и поесть хлеба с сыром! В этот вечер они бросили якорь по ту сторону Безиппо. За двое суток улов успел попортиться. Пришлось проделать кропотливую работу — вытащили все золотые монеты, выкинули всю рыбу в море и снова забросили сети, моля судьбу о том, чтобы на другой день очутиться в Гадесе[13]. Но только на третье утро они увидели мощные береговые укрепления и сразу поняли, что перед ними тот город, куда они стремились. Он был гораздо больше, чем Безиппо. Да, это в самом деле был огромный портовый город: вдоль пристаней чернел лес мачт, а от набережных, где высились пакгаузы и стройные колоннады, во все стороны расходились широкие улицы, на которых величественные общественные здания чередовались с роскошными особняками. Взяв курс прямо на вход в гавань, рыбак ловко провел туда лодку и некоторое время водил ее взад и вперед, в поисках подходящего причала: они не решались пристать к какой-нибудь из внушительных набережных, возле которых высились торговые суда, окруженные шумной толпой матросов и грузчиков, и лениво раскачивались изящные суда для прогулок по морю. Наконец, они высмотрели пристань поскромнее, где стояло на якоре несколько утлых суденышек, таких же невзрачных, как их собственное, и туда рыбак направил свою лодку. Они пришвартовали ее и ухитрились по бортам других лодок добраться до деревянных сходней, которые вели к набережной. Сперва они думали, что им вообще удастся проскользнуть незамеченными, — немногие матросы, находившиеся на судах, не обращали на них никакого внимания. Но не успели они ступить на набережную, как навстречу им из своей будки вышел крючконосый таможенник в сопровождении двух помощников и человека, несшего письменные принадлежности.

— Вы откуда? — грубо спросил он. Рыбак начал что-то объяснять на своем тарабарском наречии, говоря так быстро и туманно, как только мог. — Скажи толком, — рявкнул таможенник, — не то я велю бить тебя палками по пяткам, покуда ты не наберешься ума. Рыбак стал выражаться яснее, и таможенник, которому морской жаргон был знаком, понял его речь. — М-да… рыбу привезли, — протянул он, заглянув через набережную в лодку, и поманил своих помощников: — Обыщите этот сброд! Мальчики делали вид, что не понимают приказаний, которые таможенник отдавал на латинском языке, и благодарили судьбу за то, что они догадались запрятать золото во внутренности рыб. Накануне они снова долго провозились, вынимая монеты из протухших рыбин и засовывая их в свежие. — М-да, — снова протянул таможенник. — Принеси-ка мне полдюжины этих рыбин. У твоего товара лакомый вид. Бренна от страха прошиб холодный пот. Если найдут запрятанные в рыбинах монеты, неминуемо возникнут подозрения и таможенники начнут доискиваться, кто такие эти рыбаки из Малаки. Однако он и виду не показал, что понял латинскую речь чиновника. К счастью, перепуганный рыбак опять начал что-то говорить, путаясь в словах, обращаясь то к таможеннику, то к мальчикам, то снова к таможеннику. Бренн воспользовался этой сумятицей и по сходням проворно соскользнул в лодку. Там он, заискивающе улыбаясь, взял из рук помощника таможенника отобранные им рыбины и быстро выпотрошил их. Ловко сделав надрез, он, держа рыбу за бортом, окунал ее в воду и тщательно прополаскивал, так что монеты тонули вместе с потрохами. Вычищенную рыбу он вернул помощнику, а тот вручил ее своему начальнику. Видя, с какой покорностью ему уступили отборную рыбу, таможенник несколько смягчился. — Вы должны подчиняться правилам, действующим в гавани, — сказал он рыбаку, — внесите моему писцу все установленные сборы, тогда никто вас не тронет. Он повернулся и ушел. Его помощники несли за ним рыбу. Явился писец с роговой чернильницей в руках. Он потребовал уплаты стояночного и других сборов. Бренн отлично понимал, что писец хитрит, но не стал вмешиваться, как его ни бесило самодовольство плута, воображавшего, что он всех может провести. Для Бренна дело было не в деньгах; его возмущало, что писец — подлый обманщик. Но ведь ничего нельзя было ни сказать, ни сделать. К счастью, у рыбака были мелкие монеты, сдача, полученная от крестьян при покупке съестного, и он смог уплатить востроглазому писцу требуемую им сумму, не вынимая золотых монет, иначе не обошлось бы без допроса. Наконец, все формальности были выполнены. Мнимые рыбаки взяли напрокат у одного из грузчиков несколько плетеных корзин, снова залезли в свою лодку и занялись рыбой. «Вряд ли, — так они рассуждали, — нас обыщут снова; поэтому нужно пойти на риск и вынуть монеты из рыбин, ведь во всяком другом месте, кроме гавани, трудно будет выпотрошить улов, не привлекая внимания». Они чистили рыбу, сидя у кормы; вынутые монеты клали себе на колени, а затем — в кошели. Время от времени монета выскакивала из их рук, покрытых чешуей и слизью, и шла ко дну, но с этим приходилось мириться. Лишь бы хватило денег на путешествие до Британии, — говорили они себе, — а уж сколько там монет застрянет в портовом иле, это ничего не значит. Доверху наполнив все плетенки, мнимые рыбаки из Малаки сошли со своим грузом на набережную и спросили дорогу к рынку. Там, поторговавшись немного, они заплатили за место под одним из навесов. Разложив товар, мальчики и Феликс попрощались с рыбаком оставив ему его десять золотых и всю выручку за рыбу, и на свой страх пошли разыскивать какой-нибудь корабль, отправляющийся в Британию, на Оловянные острова. Но никто из тех, кого они спрашивали об этом, ничего не мог сказать; только какой-то старик, покачав головой, заявил, что теперь ни один корабль не делает всего рейса. По его словам, олово стали отправлять прямо через пролив в Арморику[14], в Галлию, а оттуда на мулах везли в Массилию[15]. Впрочем, — обнадежил он беглецов, — быть может, найдется кормчий, который по-прежнему совершает это далекое плавание на север. — Поищете недельку или месяц, а то и дольше, — кто его знает… Эта неопределенность угнетала троих друзей. Восторг, охвативший их с той минуты, как они ступили на пристань, стал угасать, и они снова явственно ощутили, что находятся во вражеском городе. Вспомнили грубого таможенника и содрогнулись. Один ложный шаг — и они погибнут безвозвратно. Их, бывших рабов, будут судить за побег и, наверно, пошлют работать в страшные свинцовые рудники Испании. Они поняли, что нужно скрыться, уйти подальше от кишащих людьми шумных улиц.
ГЛАВА XXVII Сдаются комнаты
Они шли от пристани к пристани, расспрашивая каждого встречного об Оловянных островах, и никто ничего не знал об этом далеком крае. Как Феликс и Марон ни старались щадить сокровенные чувства Бренна, все же не раз они поглядывали на него с укоризной. Им начало казаться, что Британия — где-то на противоположном конце света, а Оловянные острова — создание его пылкой фантазии. Наконец, когда трое друзей, устав до изнеможения, уже готовы были отказаться от дальнейших поисков, они увидели моряка, стоявшего прислонясь к столбу, и задали ему все тот же вопрос — нет ли в гавани корабля, готовящегося плыть к Оловянным островам. — Есть. Завтра или послезавтра отчалит, — гласил неопределенный ответ. — Откуда? С какой пристани? — спросили они, замирая от волнения. Моряк помолчал, не спеша почесал нос и сказал: — Дайте подумать. Он прищурил один глаз и почесал за ухом; посмотрел сначала по набережной вверх, затем по набережной вниз. Трое друзей ждали, кипя нетерпением. Неужели из-за тупости этого парня они не попадут на корабль? После долгого раздумья моряк отвалился от столба. — Сдается мне, что от этой пристани, — сказал он, указывая на ту, у ворот которой они стояли, — и корабль как будто вон тот, в самом конце. Друзья помчались по сходням к судну и узнали от матроса, что судно в самом деле поплывет к Оловянным островам, но отчалит оно только в третьем часу утра, во время прилива[16]. Еще он им сказал, что кормчего сейчас нет, вернется он только к ночи и пытаться повидать его до утра бесполезно: он наотрез откажет, если его тревожить, когда он собирается на боковую. — Как ты думаешь, он возьмет пассажиров? — спросил Бренн упавшим голосом, боясь, что надежда на спасение рухнет, если на борту не окажется места. — Возможно, — ответил матрос, — если ему заплатят вперед. — Он посмотрел на Феликса и мальчиков, — ему явно не верилось, что у них есть деньги. — Но вам придется прийти еще раз утром и поговорить с ним самим. Кроме кормчего, никто ничего вам не может сказать. Беглецы отдали словоохотливому парню всю мелкую монету, какая у них нашлась; хотя он был всего лишь матрос, они считали нужным задобрить его, чтобы он похлопотал за них. Окинув корабль долгим взглядом, полным восхищения и тревоги, они ушли было с пристани, но вернулись, чтобы спросить матроса, в самом ли деле корабль отчалит наутро не раньше трех часов. Щедрый дар расположил матроса в пользу беглецов, и он заверил их, что «Надежда Геркулеса» никак не может сняться с якоря прежде, чем прилив достигнет высшей точки. А если они сомневаются, — прибавил он, — то любой матрос на любой пристани скажет им то же самое; это произойдет рано утром. Несколько успокоившись, беглецы вышли на улицу и стали обсуждать, где бы им приютиться на ночь. Уходить далеко не хотелось, так как было боязно, что утром может произойти какая-нибудь задержка. Углубляться в извилистые переулки, где они под утро, пожалуй, долго будут плутать, прежде чем выйдут назад к пристани, тоже казалось им рискованным. Поэтому они пошли переулком, который вывел их на главную улицу, как раз напротив ворот пристани, и брели по ней, пока не увидели шестиэтажный дом с надписью: «Сдаются комнаты». Внизу помещался трактир, остальные этажи были, по-видимому, заняты под жилье. Эта часть улицы была безлюдна, а дом имел мрачный, запущенный вид. Ни дом, ни место не внушали доверия, но имели то огромное преимущество, что до пристани, где стояла «Надежда Геркулеса», было совсем близко. — Ну как — попытаемся? — несмело спросил Бренн; ему не хотелось убеждать товарищей зайти. У Феликса и Марона было такое же чувство. — От пристани близко, — сказал Марон. — Грязновато здесь, — заметил Феликс. — Ну, от грязи мы вряд ли подохнем, — прибавил он, смеясь, — послушать меня, так можно подумать, что я был завсегдатаем роскошных бань, а не замызганным истопником, которому и помыться-то не доводилось, разве что дождь иногда вымочит с головы до ног. — Надо же куда-нибудь приткнуться, — настаивал Бренн, опасавшийся, что на них обратят внимание, если они долго будут толковать на улице. — Идем! Он вошел в трактир. Феликс и Марон последовали за ним. Там как будто не было никого, кроме хозяина и раба, державшего в руках швабру. У хозяина вид был еще менее располагающий, чем у дома. Неряшливо одетый человек с клочковатой рыжей бородкой стоял за прилавком; передних зубов у него не было. — Что вам требуется, ребята? — спросил он вошедших. — Винца хотите? Или, может, чего другого? Меня знает каждый моряк. Я так у них и зовусь: «Друг моряков». Так давайте поговорим начистоту. Что вам нужно? — Комнату на ночь, — сказал Бренн; он уже раскаивался, что зашел в этот вертеп, но ему невмоготу было дольше бродить по улицам. — Вы ее получите, — угодливо ответил трактирщик. —Самую лучшую комнату во всем доме. Такую, какой не погнушались бы люди и познатнее нас с вами, хотя бравый моряк, такой, как вы и я, не имеет себе равных. Я всегда так говорю: моряк — соль земли, потому что в родном соленом море он весь пропитывается солью. Отпустив эту остроту, трактирщик захихикал, защелкал языком и попытался ткнуть Феликса локтем в бок. Но Феликс сердито заворчал и отстранился; при этом движении его кошель раскрылся и золотые монеты посыпались на пол. — Что я вижу! — закричал трактирщик. — Желтые кругляшки! Золото! Ну и счастливцы! Не трудитесь объяснять, откуда у вас это богатство, я и сам смекну! Мальчики проворно подобрали монеты, со звоном раскатившиеся по комнате. Теперь им совсем уже не хотелось оставаться в этом доме. Они уже подумывали, как бы выбраться оттуда, — и вдруг увидели, что поодаль, в нише, сидят несколько человек, все бородачи со свирепыми лицами. — Пойдем наверх, — сказал хозяин, схватив Бренна за руку. — Я покажу вам вашу комнату. Только не вздумайте уйти. Разбитные парни, которые не трясутся над своими деньгами, нам по душе, не так ли? Он повернулся к людям, сидевшим в нише, словно ожидая от них подтверждения, а те, что-то пробурчав в ответ, встали и сгрудились у наружной двери. Бренн понял, что всякая попытка уйти из трактира кончится потасовкой, в которой бородачи, разумеется, одержат верх. «Даже если нас не убьют, — говорил он себе, — у нас отнимут все деньги, и никогда уже «Надежда Геркулеса» не доставит нас на Оловянные острова! Самое разумное, что можно сделать, — это притвориться, будто мы охотно принимаем предложение трактирщика». Он бросил на пол одну из подобранных им монет и так бойко, как только мог, воскликнул: — Угощаю всех! — Вот это дело, — захихикал трактирщик. — Ты молод, но, видно, уже прошел хорошую школу. Деньги не капуста, сами не растут. Не хотите ли сыграть в кости со всей честной компанией? — Попозже, — сказал Бренн, — сначала покажи нам комнату. — Ладно, — ответил хозяин и пошел к лестнице, предварительно сделав бородачам знак рукой и сказав им: — Пейте, ребята, а золотой положите на стойку. Пусть наши новые друзья поудобнее расположатся у себя в комнате, а потом — всей компанией сразимся в кости! С этими словами он стал подниматься по лестнице, уходившей вверх из темного угла комнаты. Было ясно: хозяин не хотел драки в трактире, пока на улице, как она ни была малолюдна, еще могли оказаться прохожие, которые, услыхав крик, прибежали бы. Он и не подозревал, что Феликс и мальчики не меньше его самого боялись иметь дело с властями. Очевидно, он задумал либо уговорить пришельцев играть в кости и, плутуя, обобрать их, либо вместе со своей шайкой напасть на них поздней ночью в отведенной им комнате. Идя впереди трех друзей по темной лестнице, хозяин то и дело отпускал шуточки, со скрытой целью выведать, много ли у новых постояльцев золота. — Ну и хитрюги же вы, — говорил он как бы между прочим, — мне думается, вы из тех краев, где град — и тот выпадает золотой. А еще я слыхал, будто, если богача пырнуть ножом куда следует, из раны заместо крови золото брызнет прямо в его заветный ларец. Он опять захихикал, довольный своей шуткой. Дойдя до самого верхнего этажа, он открыл дверь и ввел троих друзей в неприглядное чердачное помещение. — Только эта комната и свободна, — сказал он жалобно. Комната была мрачная, с грязными стенами; вся обстановка состояла из колченогой кровати, стола и табурета. — Ладно, сойдет! Принеси нам еды и вина, — ответил Бренн. Он уже догадался, что трактирщик нарочно отвел их на чердак, чтобы с улицы не услышали, если бы им пришлось звать на помощь. — А после ужина вы сойдете вниз сыграть в кости с хорошими людьми? — Разумеется! Трактирщик радостно ухмыльнулся и прихрамывая вышел из комнаты. Едва он успел уйти, как Марон подбежал к окну и выглянул вниз, на улицу. — Слишком высоко. Не достать до земли, даже если мы скрутим веревку из простынь и наших плащей в придачу. Мы дали заманить себя в ловушку. — Что же мы могли сделать, — возразил Бренн, — когда эта шайка загородила выход? А звать на помощь нам, понятное дело, никак нельзя, даже если б было кого звать. — Мы, прямо сказать, попали в переделку, — сказал Феликс, усевшись на кровать, заскрипевшую под его грузным телом. — Справиться с этой шайкой мы не можем, позвать на помощь мы не можем, уйти отсюда мы тоже не можем. Как же нам быть? — А не спрятаться ли нам где-нибудь в других комнатах? — предложил Бренн. — В нижних этажах всюду полно людей, — ответил Марон, — а комнаты под нами заперты. Я потихоньку потрогал двери, когда мы шли по лестнице: хромой отвернулся на минутку. — Подождем, пока принесут ужин, — решил Бренн, — тогда загородим дверь и хорошенько подумаем. Вскоре раб принес хлеб, сыр, большой глиняный сосуд с вином и деревянные чаши. Как только он ушел, трое друзей заставили всей скудной мебелью дверь, на которой не было ни засова, ни щеколды. — Если они навалятся все разом, боюсь, дверь недолго устоит, — с невеселой усмешкой заметил Феликс. Бренн крупными шагами расхаживал по комнате. — Слушай, поешь, — сказал ему Марон. — На сытый желудок мы скорее что-нибудь придумаем. Они сели на пол и принялись за еду. Феликс хотел было налить себе вина в чашу, но Бренн удержал его, сказав: — К вину, наверно, примешано снотворное. Феликс кивнул головой и с сожалением отставил чашу. — Ты прав! А мне так хочется пить! Ох, и разделался бы я с этим негодяем, только попади он мне в руки! Солнце уже садилось. «Скоро, — подумал Бренн, — в комнате будет совсем темно». Он тщательно осмотрел все закоулки, но нигде не нашел ни тайника, ни второго выхода. Он выглянул в окно, а затем занялся потолком. «Даже если бы удалось проделать дыру в крыше, — подумал он, — это ни к чему не привело бы, ведь смежные дома на целых три этажа ниже». Потолок чердака по-чему-то не оштукатурили; длинные, грубо обтесанные балки были целиком на виду. — Если мы выворотим одну-две балки, — сказал Бренн, — мы сможем понадежнее загородить дверь. — От этого проку будет мало, — печально заметил Марон. — У них топоры. Бренн снова подошел к окну и вгляделся в дом, находившийся напротив. Дом был пятиэтажный. Посмотрев на улицу, Бренн определил, что ширина ее — самое большее пятнадцать футов, и спросил себя, сможет ли он с подоконника спрыгнуть на крышу этого дома, но быстро сообразил, что ему негде разбежаться и он неминуемо грохнется вниз. Нет, спрыгнуть на эту крышу невозможно, но будь у него доска, он мог бы перебраться по ней. Крыша была плоская, в ней виднелся люк, устроенный, вероятно, для того, чтобы жильцы могли в жаркие летние дни подышать на крыше воздухом или развесить белье для просушки. — Если нам удастся выворотить балку, — молвил Бренн, сам пугаясь своей мысли и в то же время сознавая, что он должен ее высказать, — я смогу, как только стемнеет, переползти по ней на противоположную крышу. А уж оттуда я спущусь на улицу и мигом сбегаю за помощью. Феликс и Марон устремились к окну. — А кто тебе окажет помощь? — Я побегу к кормчему того корабля, дам ему много денег и расскажу, что мои друзья в разбойничьем притоне и жизнь их в опасности. Если я ему щедро заплачу, он наверняка отпустит со мной нескольких матросов. — А почему бы нам всем не перелезть? — спросил Марон. — Я не могу, — заявил Феликс, весь побелев. — Я оборвусь; но это не причина, чтобы вы, ребята, не перебрались вдвоем. — Нет, я тоже останусь, — сказал Марон. — Кроме всего, втроем мы провозимся гораздо дольше, и эти злодеи, чего доброго, заметят нас снизу. Пусть Бренн действует так, как он надумал. Феликс пытался переубедить Марона, но тот твердо стоял на своем. — Пусть идет Бренн, это его мысль, и это самое правильное, что можно сделать, — доказывал Марон. — Он больше всех годится для этого, — ведь он сможет поговорить с кормчим о Британии. А я останусь с Феликсом. — Ладно! Но сперва нам нужно выворотить балку, — сказал Бренн. Потолок был низкий; став на стол, они хорошенько рассмотрели балки. Почти все были основательно приколочены гвоздями, пропущены в пазы и вделаны в кирпичную кладку. Однако две из них сидели не так прочно; по-видимому, их кое-как прикрепили после того, как были прилажены основные деревянные части. Исследовав дело, Бренн обнаружил, что с одной из этих небрежно приделанных балок хлопот будет немного, так как крыша в этом месте протекала; от дождя большой гвоздь на одном конце балки заржавел, а дерево разрыхлилось. Убедившись в этом, Бренн отошел в сторону, а Феликс принялся за работу. Он ухватил балку за подгнивший конец и расшатывал изо всех сил, покуда не вырвал его из кладки. Известковая пыль, труха и щепки разлетелись во все стороны. Но дальше балка не шла. — Надо проделать дыру в крыше, — сказал Феликс. — Давай! Феликс нашел обломок черепицы и, орудуя им наподобие рычага, вынул с полдюжины черепиц, которые, одну за другой, передавал Марону, а тот осторожно клал их на пол. Затем Феликс приподнял балку за высвобожденный конец и стал дергать ее во все стороны, чтобы расшатать большой гвоздь на противоположном конце. Гвоздь скрипел и скрежетал, и мальчики с минуты на минуту ждали, что трактирщик начнет колотить в дверь. Но шум не доходил до нижних этажей. Марон смочил гвоздь вином, чтобы скрежет был не так слышен. Он помогал Феликсу, стоя на табуретке и пользуясь вытащенной из кровати перекладиной как рычагом. Они долго бились, прежде чем им удалось вырвать гвоздь. Чтобы балка не загрохотала при падении, Марон быстро ухватил конец и бесшумно опустил его на пол. Теперь нужно было проделать вторую дыру в крыше и просунуть туда балку так, чтобы можно было выставить другой ее конец наружу. Солнце зашло, уже смеркалось, но зрение беглецов было так напряжено, что они почти не заметили перемены. На лестнице послышались шаги; они с замиранием сердца подумали, что их замысел раскрыт. Но это был всего лишь раб, которому трактирщик поручил позвать их вниз — сыграть в кости. — Придем немного погодя, — через дверь крикнул Бренн. Раб ушел. Тем временем стемнело. Они осторожно выставили балку за окно и без особого труда перекинули ее на противоположную крышу. Ширина’ балки не превышала одного фута. Если раньше переход по ней представлялся страшным воображению, то теперь узкая балка, перекинутая между двумя домами, наглядно показывала, как это трудно и опасно в действительности. Плотно набив золотом один из кошелей, друзья повесили его Бренну на шею, под тунику. Бренн взобрался на подоконник. Балка лежала наклонно, поэтому он решил ползти по-рачьи, чтобы не закружилась голова; но даже не видя пропасти под ногами, он не мог без ужаса думать о ней. Напряжением воли он заставил себя сосредоточиться на одной мысли — как половчее ухватиться за балку, на которой ему предстояло проделать этот путь, и, стараясь забыть обо всем остальном, он вылез из окна.
Глава ХХVIII Освобождение из ловушки
Всякий раз, когда Бренн в последующие годы вспоминал об этом переходе, он обливался холодным потом. Но в ту пору он не испытывал такого ужаса; балка была плохо остругана, и при каждом движении занозы впивались ему в руки и ноги; наклон становился все круче, и Бренн чувствовал, как балка дрожит под ним. Но он продолжал ползти,машинально перебирая руками и ногами, продвигаясь все дальше вниз, по направлению к крыше, которую не мог видеть. Он знал, что Марон и Феликс стоят у окна и крепко держат балку, чтобы она не съехала, но не решался поднять глаза и взглянуть на них, так же как не решался кинуть хоть беглый взгляд на улицу, расстилавшуюся внизу.

Время тянулось нестерпимо долго. Узкая балка представлялась его затуманенному сознанию намного уже, чем она была, и мальчик едва не лишился чувств. Спустя мгновение он опомнился и, более чем когда-либо уверенный в себе, вновь ощущая упругость в мышцах, крепко-накрепко обхватил балку. Еще несколько раз изогнувшись всем телом, Бренн почувствовал, что его ноги коснулись крыши. Но при мысли, что опасность исчезнет лишь после того, как он, извиваясь, сделает еще два-три движения, у Бренна чуть было снова не закружилась голова. Ценою огромного усилия воли он преодолел охватившую его слабость, заставил себя сдвинуться с места и спустя минуту, цел и невредим, очутился на крыше. Он отпустил балку и лег навзничь, обуреваемый противоречивыми чувствами, то радуясь, то вдруг сомневаясь в том, что неимоверное напряжение миновало. Затем он услышал, как Феликс и Марон медленно втащили балку назад в комнату, чтобы загородить ею дверь. Вдруг его взяло сомнение: что, если люк заперт и он рисковал жизнью понапрасну? Страх заставил его приподняться; но ему еще не верилось, что хватит сил встать, и он на четвереньках пополз в тот угол, где с чердака приметил люк. Он нащупал ступеньку и бодро стал спускаться по лесенке, отважась, наконец, выпрямиться. У конца лесенки была дверь; чтобы открыть ее, Бренну пришлось только поднять щеколду. Благословляя судьбу, он осторожно вышел на площадку и прислушался. Снизу доносился громкий говор и звон чаш. Он бесшумно прокрался во второй этаж и, осторожно выглянув из-за поворота, увидел, что обширное помещение нижнего этажа полно людей, распивающих вино. «Что делать? — подумал Бренн. — Они, должно быть, просидят там еще долгие часы, а некоторые из них, вероятно, живут в этом доме. Да и вообще, не могу я без конца стоять на лестнице». Вдруг он весь похолодел. Кто-то поднимался по лестнице: Недолго думая, Бренн подошел к первой же двери, которую увидел, и открыл ее. Комната, где он очутился, тонула во мраке; но понемногу глаза Бренна, вначале еще ослепленные огнем светильников, горевших внизу, привыкли к темноте, и он различил окно. «Я на втором этаже, — припомнил Бренн, — а с чердака видно было, что в этом этаже всюду небольшие балконы». Кто-то заворочался и приподнялся во мраке; Бренн понял, что попал в чью-то спальню. — Это ты, Гегер? — спросил женский голос. «Она приняла меня за своего мужа», — подумал Бренн. — Да, — пробормотал он приглушенным голосом, словно зевая, и стал ощупью пробираться к окну. — Что с тобой такое? — спросила женщина. Но Бренн уже был у окна. Быстро отдернув занавеску, он выбежал на балкон, перелез через перила, спустился на руках как можно ниже и спрыгнул. Женщина пронзительно закричала, и Бренну показалось, что он услышал, как распахнулась дверь. Он ударился ногами о мокрую землю и тотчас стремглав побежал по переулку. За своей спиной он слышал глухой шум, но не мог разобрать, погоня ли это или кричат гуляки, бражничавшие в нижнем этаже. Но что бы там ни было, он бесповоротно решил, что никому не дастся в руки. В темноте он с кем-то столкнулся, сбил человека с ног, сам едва удержался в равновесии и понесся дальше. Спустя несколько минут Бренн уже был на главной улице, а оттуда мигом домчался до пристани, где стояла «Надежда Геркулеса». Радуясь, что на корабле еще горели огни, он вбежал на пристань. Матрос окликнул Бренна и велел остановиться, но он вскочил на мостки и потребовал, чтобы его провели к кормчему. — Мне нужно условиться с ним… насчет отплытия… назавтра, — проговорил он задыхаясь. — Завтра и приходи. Подведя матроса к фонарю, Бренн вытащил из-под туники туго набитый кошель, раскрыл его и показал матросу золотые монеты. Онемев от изумления, матрос живо поднялся на палубу, вскоре вернулся оттуда и провел Бренна к кормчему в его каюту. — Что значат эти россказни о каком-то мешке с золотом? — спросил кормчий, коренастый человек с коротко подстриженной бородкой и пронизывающими голубыми глазами. — Верно, парень с перепою пришел ко мне и понес такую дичь! Бренн молча положил на стол доверху набитый кошель, откуда посыпались монеты. Кормчий взял одну, внимательно разглядел чекан, звякнул ею об стол и испытующе взглянул на Бренна. — Что это за деньги? — Плата за то, чтобы доставить нас троих в Британию. — Здесь гораздо больше, чем нужно; ты, наверно, знаешь это. Деньги краденые? — Нет, — ответил Бренн, которому резкое, но не враждебное обращение кормчего придало смелости. — Мы нашли его на судне, потерпевшем крушение у африканского побережья. Кормчий заглянул ему в глаза и сказал: — Мне думается, ты говоришь правду. Но чего ради ты предлагаешь мне такую кучу денег? — Мне нужна твоя помощь, —воскликнул Бренн и торопливо рассказал все, что произошло. — Я знаю этот вертеп, — молвил кормчий, жестом приказав Бренну замолчать. — В прошлом году там ударом ножа убили одного из моих матросов. Негодяя-трактирщика давным-давно следовало отправить в рудники, но он, видно, подкупил какое-то важное лицо. Мы выручим твоих друзей. Он повернулся к матросу, который привел Бренна и теперь ждал у двери. — Кликни десяток самых дюжих людей и дай им дубинки. Этот парень поведет вас, куда нужно. Смотрите, вытащите его приятелей из этого разбойничьего логова. Матрос побежал вниз, а Бренн со слезами на глазах взволнованно обратился к кормчему: — Не знаю, как и благодарить тебя… — Благодарить не за что, — отрезал тот. — Ты заплатил мне за услугу; но я охотно доставил бы тебя в Британию даром, в награду за то, как ты перебрался по балке… Он повел Бренна из каюты на палубу, где уже выстроились матросы, и сказал им: — Идите за этим парнем и действуйте так, как он скажет. Если разобьете несколько голов, вам за это ничего не будет. Матросы одобрительно хмыкнули и вслед за Бренном сошли на пристань.
Глава XXIX На выручку
Дойдя до трактира, отряд остановился. Один из матросов зашел туда разузнать, что происходит. Вернувшись, он сообщил, что в трактире всего двое людей, но сверху, с лестницы, доносится шум. Бренн в сопровождении матросов тотчас вбежал в трактир, и два раба, сторожившие у входа, живо удрали куда-то на задворки. Бренн ринулся вверх по лестнице. Шум становился все сильнее, и он понял, что трактирщик и его шайка ломятся в дверь чердака. Матросы шли за ним по пятам, сжимая в руках дубинки. — Выходите! — орал во всю глотку трактирщик, беснуясь на площадке лестницы, среди своей банды. Он первый увидел Бренна и матросов и завопил, предостерегая своих. Но матросы уже набросились на громил, и те разбежались. Трактирщик остался на площадке, и, жалобно причитая, забился в темный угол. — Теперь можете открыть! — крикнул Бренн своим; и в отверстие, через которое раньше летели черепицы, улыбаясь выглянули Феликс и Марон. Недавние осажденные быстро убрали преграду, воздвигнутую из убогой мебели с прибавлением балки. Спустя несколько минут дверь открылась, и друзья Бренна радостно протянули ему руки. — Да, малость повредили дом старому прохвосту, — сказал Феликс. — Придется ему потратиться на починку крыши. — Уйдем скорее из этой смрадной трущобы, — воскликнул Бренн. Моряки весело загоготали и гурьбой спустились по лестнице, плотно окружив обоих спасенных. У стойки они остановились и пустили чашу в круговую, как ни возражал против этого Бренн, опасавшийся, что трактир — место сбора бандитов и может подоспеть подкрепление. Но страхи оказались напрасными, — никто не явился. Они вышли на улицу и благополучно дошли до самой пристани. — А как насчет отплытия в Британию? — спросил Марон. — Все в порядке, — ответил Бренн, — кормчий — молодец, замечательный человек, лучше не сыскать. Кормчий встретил их у мостков; ему не терпелось узнать, чем кончилась спасательная экспедиция. Он немногословно приветствовал Марона и Феликса, кое о чем расспросил их, похвалил матросов, добродушно пошучивая, и велел отвести новых пассажиров в свободную каюту. — Как будто кончились наши бедствия, — сказал Бренн. — Но я все еще не могу этому поверить. Может, поверю, когда мы благополучно выйдем из гавани. — Подальше от ретивых чиновников, — подхватил Феликс, — которые, чего доброго, захотят узнать, почему у человека шапка надвинута на лоб. В эту ночь беглецы почти не сомкнули глаз. Они поминутно просыпались, то беседовали о пережитых невзгодах, то говорили друг другу, как хороша каюта (которая была не хуже и не лучше всякой другой), и как хороши судно и кормчий (для этого уж были большие основания), и как хорош весь мир (из чего видно, как они были счастливы), — если только судно выйдет из гавани рано утром. Когда забрезжил рассвет, они не решились выйти из каюты, хотя им страшно хотелось понаблюдать приготовления, посмотреть, как работают матросы, своими ушами услышать приказания, означающие, что корабль вот-вот отчалит. Им принесли завтрак, но они не выглянули наружу, твердо решив не тронуться с места, покуда корабль не отойдет от берега. Им казалось, что они уже много часов провели в каюте. При каждом звуке они тревожно вздрагивали, спрашивая себя, не явился ли на судно проныра-чиновник. А вдруг рыбак с Балеарских островов совершил какую-нибудь оплошность и с перепугу рассказал все? Или негодяй трактирщик возвел на них поклеп? Они уже не сомневались в том, что корабль задерживается; что же могло его задержать, как не распоряжение властей? Бренн высунул из каюты голову, но ничего не увидел. Наконец, они почувствовали, что корабль снялся с якоря. Все трое с трепетом выжидали, все еще сомневаясь. Вскоре пришлось увериться, что это на самом деле так, — и тотчас они выбежали из каюты на залитую солнцем палубу, где гулял ветер. Стоя у борта, они смотрели на сновавших вокруг матросов. Свежий ветер с моря, теперь ставшего для них родной стихией, обвевал их разгоряченные лица, а лязг и скрежет, раздававшийся, когда судно делало поворот, ласкал их слух. Судно вышло из гавани на вольные воды необъятного океана, быстро удаляясь от стран, подвластных Риму. — Какое чудесное зрелище, — воскликнул Феликс. — Эх, хорошо бы иметь два глаза, чтобы вволю им насладиться!
Заключение
Спустя два месяца, после чудесных дней спокойного плаванья в ясную погоду и тревожных дней борьбы с ненастьем, «Надежда Геркулеса» оказалась почти у цели. Сначала судно обогнуло Испанию, затем поплыло вдоль берегов Галлии; достигнув крайней западной оконечности Арморики, оно взяло курс на Оловянные острова и гору Великанов[17] и понеслось прямо на северо-запад, в открытое море. — Земля! — крикнул наблюдатель. Бренн напряженно смотрел вдаль, но ничего не мог различить. Вскоре на горизонте возникла голубоватая полоса, выступавшая все отчетливее по мере того, как корабль продвигался вперед. То были Оловянные острова — сильно выпяченная западная оконечность Британии, которую первые мореплаватели принимали за группу островков: открыв острова Силли[18], они затем многочисленные мысы самой Британии тоже считали островами. «Надежда Геркулеса» бросила якорь в бухте, над которой нависли скалы небольшого пустынного острова. На самой высокой из скал стояло укрепление. Каменная дамба, длиною в несколько сот ярдов, соединяла остров с берегом самой Британии. По дамбе двумя встречными потоками сновали люди, шли вьючные животные с тяжелой поклажей. У невзрачного причала, с подветренной стороны острова, стояло на якоре еще несколько суденышек. Возле причала и на берегу самой Британии виднелись построенные из камня и дерева хижины; над отверстиями в крыше клубился сизый дым очагов. — Это гора Великанов! — воскликнул Бренн, указывая на остров. — Люди говорят, что скалы раскидали по острову великаны, когда они в незапамятные времена воевали между собой. Здесь-то и выплавляют серебро и олово. Я раз побывал тут с дядей, совсем еще ребенком. — Значит, это и есть Британия, — сказал Феликс. — Ну, что ж, жить как будто можно, не так уж она отличается от других стран. Только камней здесь больше. — Прошу тебя, не суди о Британии по этому месту, — с жаром возразил Бренн. — Моя деревня — к востоку отсюда, прямиком по берегу. Путь нетрудный, и скоро мы будем дома! Кошель, висевший у пояса Бренна, был еще наполовину набит золотыми монетами; кормчий отказался взять с них больше той платы, которую счел справедливым назначить. С берега люди приветствовали корабль. Отчалившая оттуда ладья вскоре приблизилась к корме «Надежды Геркулеса». — Мы еще увидимся с тобой на берегу, — крикнул Бренн кормчему, стремясь поскорее ступить на родную землю. Он движением руки велел лодочнику подплыть вплотную. По канату, свисавшему с борта, Бренн мигом соскользнул в лодку. Марон и Феликс тотчас последовали за ним. Лодка накренилась под их тяжестью, и лодочник проворно направил ее к берегу. Как только в воде стало просвечивать песчаное дно и замелькали водоросли, Бренн выпрыгнул из лодки и с радостным криком стрелою помчался к берегу. Ему чудилось, что родная земля откликается на его взволнованный привет. Исполненное благодарности сердце, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. «Да, — думал он, — стоило вытерпеть такие муки, чтобы вернуться домой, чтобы по-настоящему понять, всей душой ощутить, как сильна любовь к своей стране и своему народу. И не только этим одарили меня все пережитые невзгоды. Я приобрел друзей, на которых могу положиться во всем. Поистине, верные, испытанные друзья — величайшее благо, которого человек может ждать от судьбы». Обернувшись, он увидел, что Марон и Феликс замешкались у берега с робким видом пришельцев, стоящих у чужого порога. Он протянул к ним руки, и они, приободрившись, двинулись вперед более уверенным шагом. Подойдя к Бренну, Марон взял его за правую руку, Феликс — за левую. Все трое с улыбкой смотрели в глаза друг другу. За ними шумел рынок, где шла купля-продажа олова. Над ними раскинулось ярко-синее летнее небо. Наконец-то дома!
ВОССТАНИЕ НА ЗОЛОТЫХ ПРИИСКАХ
I. Балларат
— А теперь хватит, — сказал мистер Престон. — Чтобы я больше не слышал таких глупых выдумок. Он сидел на скамье перед ветхой хижиной, которую построил вместе с сыном. Сбоку на протянутой веревке висели синие рубашки из грубой ткани. В воздухе стоял запах мыла и мокрой одежды. — Отец, но ведь ты сам сказал… — начал было Дик. — Мало ли, что я сказал. Из худа добра не выйдет. Ступай, помоги матери. Мистер Престон сидел, положив ногу на ногу; выбив трубку о каблук сапога, он плотно сжал губы и окинул взглядом хижины, палатки и шахтные колпаки, теснившиеся по ту сторону долины. Над колпаками высились похожие на виселицы сооружения, с которых свешивались длинные парусиновые трубы для вентиляции. Глухой деловитый гул доносился с бесчисленных выработок, с речки, где промывалось золото, от сараев и полуразвалившихся складов. Скрип лебедок смешивался с криками старателей. Мистер Престон — медлительный мужчина средних лет, с добрым, всегда немного удивленным лицом, — покачал головой и, повернувшись, посмотрел на сына; затем мысли его снова обратились к вопросу, который беспокоил его даже больше, чем то, что он назвал глупыми выдумками. Он не мог решить, остаться ему в Балларате или переехать в один из вновь открытых золотоносных районов. Это его очень тревожило. На его участке как будто совершенно не было золота, но кто знает? Он припомнил все слышанные им рассказы об участках, брошенных отчаявшимися владельцами, где первый же новый старатель, едва копнув землю, находил кучу самородков. Кто знает? Вот это-то и сводило его с ума. Может, потеряешь целое состояние, оставив участок, где золота хоть пруд пруди в каком-нибудь дюйме от твоей кирки. Или зря провозишься на участке, которому грош цена, а уйди ты в другое место, и можешь сразу наткнуться на золотоносную жилу. — Не надо огорчать отца, — сказала миссис Престон, устало разогнувшись, когда Дик подошел к ней. — У него и так хватает забот. Добыча становится все меньше и меньше. — Знаю, мама, — сказал Дик, взяв из рук матери мокрую рубашку и выжимая ее. — Я и не хочу его тревожить. Но, право, ты не должна стирать все это сама. Дай, я постираю. Мать стояла рядом с ним, вытирая руки о передник и глядя на сына с улыбкой. Дик принялся тереть белье о стиральную доску, ласково улыбаясь ей в ответ. — У тебя тоже усталый и огорченный вид, — сказал он. — Ну, я-то в порядке, — ответила она. — У меня не так уж много дела. — Мама, ты знаешь, что это неправда. Ты ничего не ешь и говоришь, что слишком устала, чтобы есть, и тут же говоришь, что мало работала и поэтому не так голодна, как мы. Просто тебе нужно больше заботиться о себе. Она вздохнула. — У нас, кажется, ничего не выходит, Дик. Напрасно мы уехали из Мельбурна. — Не говори так. Мы еще разбогатеем. — А какой в нем прок, в богатстве? Мне его не нужно. Я хочу спокойной жизни у себя дома. Но пока мы все вместе и здоровы, я не жалуюсь. — Она сказала это более веселым тоном. — Теперь скажи мне, Дик, — из-за чего весь этот шум? Твой отец так сердится, когда начинает говорить об этом, что мне не хочется его расспрашивать. Но ты, видно, понимаешь, в чем дело. Дик был польщен таким обращением к нему. — Что ж, пожалуй, я и впрямь кое-что понимаю. Но только потому, что мне все объяснил Шейн Корриген. Тут дело не в одних лицензиях. Правительство, видишь ли, ничем не хочет помочь нам, старателям, а ведь страна стала по-настоящему богатеть именно благодаря нам. Она ничего не стоила, пока не нашли золота, а теперь правительство хочет разорить старателей и, что бы у нас ни творилось, зажимает им рот. — Полагаю, что в советах, которые может дать большинство из них, не слишком много толку, — засмеялась миссис Престон. — И не замечаю, чтоб они были до такой уж степени разорены — разве только те, кому до того не везет, что они нигде не могут найти золота. Но я не думаю, чтобы твой Шейн и в этом винил правительство. Не так ли? — Нет, не совсем так, — сказал Дик. Он почувствовал, что потерял нить своих мыслей. Все казалось таким ясным, когда говорил Шейн Корриген, а теперь почему-то стало темным и запутанным. Он покраснел, а мать улыбнулась. — Я не говорю, что ты неправ, Дик. Но ты не должен ввязываться в дело, которое тебе не по плечу. А теперь спасибо за то, что ты выстирал и выжал белье. Развесить его я могу и сама. Иди, помоги отцу; когда у нас будет на что жить, то найдется и время, чтобы переделать мир. — Хорошо, мама, — ответил он. Он радовался тому, что мать как будто немного пришла в себя и снова стала проявлять интерес к жизни; но было стыдно, что он так плохо объяснил ей положение вещей. Вечная история. Когда отец кричал, что вся эта агитация среди старателей — сплошная ерунда, и не желал даже слышать о ней, Дик проникался уверенностью в правоте старателей, и ему хотелось принять участие в борьбе, которая, по словам Шейна, еще предстояла. Но стоило матери спокойно произнести несколько слов, как Дик начинал чувствовать себя глупым и неловким, и тогда ему хотелось одного — вернуться в свою шахту и долбить киркой твердую желтую породу. Дик положил последнюю выжатую штуку белья и отправился в шахту к отцу. Он шел по равнине, мимо грязных палаток и убогих хижин из древесной коры или из грубой дранки. Старатели разворотили всю долину. Уцелело только несколько чахлых деревьев да забрызганных грязью полузатоптанных кустов. Повсюду виднелась белая и рыжая глина. Вся обширная бугристая долина, окаймленная холмами, превратилась в настоящую глиняную пустыню. Охваченные золотой лихорадкой, старатели опустошили даже прелестную зеленую лощину, где еще три года тому назад росли эвкалипты и перечные деревья и журчал прозрачный ручей; теперь все тут было искорежено, изрыто и повсюду виднелись только кучи глины. Но Дика это не трогало. Он был слишком увлечен происходящим, чтобы замечать опустошение или огорчаться из-за него. Он любил суету и шум приисков: там всегда что-нибудь случалось. Сегодня кто-нибудь «отчаливал», на следующий день обрушивалась кровля, и старатель оказывался погребенным под нею. Каждый вновь прибывший приносил с собой рассказы о неудачах, необыкновенном везении, чудесных происшествиях, приключениях с туземцами, с полицейскими или ворами… Дик любил даже неудобства и грязь, вечно портящиеся, наспех сделанные, приспособления для добычи золота, любил опасности и тяжелый труд. Все это входило в игру. По мере приближения к прииску шум становился все громче. Жужжание тысяч работающих и разговаривающих людей смешивалось со скрипом и треском лебедок, щелканьем тормозов, стуком бадей, глухими ударами кирок и скрежетом лопат. Желтую глинистую почву столько топтали, что она превратилась в трясину. Дик пробирался по доскам, проложенным между кучами пустой породы, в белых и красных потеках грязи. Отец Дика стоял у границы своего участка размером восемь на восемь ярдов и беседовал с каким-то стариком. — Мы сняли верхний пласт, — говорил старик, — углубились на двенадцать футов и напали на жилу. Вид был такой, словно смотришь в корзинку с золотистыми имбирными пряниками — так блестело там золото. Но в Маунт Александер нам уже не так повезло, и мы перебрались в Биг Бендиго. — Но какое же место сейчас самое обнадеживающее? — спросил мистер Престон, хмурясь и похрустывая костяшками пальцев, что, как хорошо знал Дик, было у него признаком раздражения.. — В Иглхоке мои дела пошли лучше, — продолжал старик, не обращая внимания на то, что его перебили. — Золото просто блестело в кучах песку, и каждому старателю приходилось сидеть всю ночь на своей куче с ружьем или пистолетом. Там было столько золота, что впору было делать из него кирки и лопаты. — Иглхок, вы говорите? — спросил мистер Престон. —Я уж довольно давно собираюсь перебраться в другое место. Здесь мне не везет. Золота тут, как говорится, и на булавочную головку не хватит. Там вон проходит отличная жила, а у нас одна пустая порода. Старик оглядел участок и завел разговор о том, в какую сторону идет жила. Дик видел, что отец взволнован и готов принять решение двинуться дальше. Хотя Дик еще недавно радовался предстоящей перемене, несущей с собой веселое возбуждение, теперь у него пропало желание уезжать из Балларата; ему хотелось остаться и узнать, чем кончится восстание, к которому, по словам Шейна, готовились старатели. — Поработаем еще немного на этом участке, — вмешался он в разговор. — Я слышал, как кто-то рассказывал, что наткнулся на богатейшую жилу как раз тогда, когда собирался все бросить. — Да, да, — сказал мистер Престон, вновь заколебавшись. Он чувствовал себя несчастным, так как не знал, на что решиться. Прежде чем отказаться от места учителя в Мельбурне, он прочел все, что мог достать, по горному делу, но знал, видимо, меньше, чем любой старый золотоискатель из Калифорнии, который не умел даже подписать свое имя. — Я спущусь вниз, отец, — сказал Дик. Мистер Престон кивнул головой и направился к вороту. Дик поставил одну ногу в бадью и стал спускаться, держась рукой за канат. Глубина шахты достигала пятидесяти футов, и спуск был утомительно-медленным; заржавевший ворот скрипел и скрежетал, сматывая канат. Свободной рукой и ногой Дик отталкивался от стен, чтобы не удариться; бадья сильно раскачивалась и порой начинала вращаться. Но, наконец, Дик достиг дна шахты и с трудом вытащил из бадьи сапог, который всегда застревал там под тяжестью его тела. Затем он взял кирку и двинулся вперед по проходке. Штольня была не длинная, футов двадцать, но, при глубине в пятьдесят футов, света не хватало, и для освещения с кровли свисали два фонаря. Степы были небрежно забраны досками и корою, под ногами на целый фут стояла вода. Глина засасывала сапоги Дика, сверху на его широкополую шляпу капало, и он слышал, как за обшивкой осыпается земля. Дик поставил на место покосившуюся распорку. Потом, шлепая по воде, он подошел к Сандерсу — костлявому шотландцу, компаньону Престона, отбивавшему породу при свете фонаря. — Дело дрянь, вода поднимается. — Да, придется нам ее вычерпывать, — сказал Сандерс, ухмыляясь и встряхиваясь. Он был так долговяз, что выпрямиться в штольне не мог. — Вода расшатывает крепления. Если мы не будем следить за кровлей, она обрушится на нас. — Брось, с кровлей все в порядке, — сказал Сандерс. Он ничего не имел против того, чтоб копать землю или промывать золотоносный песок, но терпеть не мог возню с креплением и установкой стоек. Дик решил серьезно поговорить с отцом насчет крепления. Все так спешили с проходкой, что пренебрегали простейшими предосторожностями. Вот почему было так много несчастных случаев. — Лучше нам избавиться от воды, прежде чем двигаться дальше. — Пусть будет по-твоему, — весело сказал Сандерс, — Я не против того, чтоб вычерпывать воду и ставить распорки, — лишь бы это не заняло слишком много времени. Но в маленькой штольне это ни к чему. — Он показал на неровную блестящую стену, которой оканчивалась штольня. — Посмотри на нее. Кто знает, что там за нею? Может, целый мешок самородков. — Или еще куча глины, — ответил Дик, который был так же полон надежд, как Сандерс, но считал долгом охлаждать пыл слишком нетерпеливых взрослых. — Что ж, всякое бывает, — согласился Сандерс, нащупывая у себя в рубашке жевательный табак. Они вернулись к началу штольни, и Сандерс дал сигнал, чтоб его подняли наверх. Затем он спустил вниз кожаное ведро, и Дик принялся вычерпывать желтую воду, выливая ее в железную бадью, подвешенную к канату. Штольня шла под уклон, так что дно шахты было вскоре осушено; Дику пришлось ходить взад и вперед по штольне, продолжая вычерпывать воду. Штольня была вырыта неправильно, но мистер. Престон считал, что золото может находиться только в нижних пластах, и потому проходка велась с уклоном вниз. Сандерс отказался выровнять штольню, ибо в этом случае пришлось бы заново крепить кровлю. Вычерпывать при тусклом свете фонаря воду из проходки, где воняло глиной и корой, было довольно нудным делом, но Дику это нравилось. Он что-то напевал, спускаясь и поднимаясь по скользкому подземному проходу. Приходилось быть осторожным, чтобы не упасть: стоило схватиться рукой за одну из стоек, как кровля могла бы обрушиться. Дик пел, потому что жизнь была захватывающе интересна. Он чувствовал, что на его плечах лежит ответственность за семью и золотоносный участок, не говоря уже о проблеме старательских прав; но это бремя его не тяготило. Дик часто спрашивал себя: что случится, если он перестанет следить за тем, чтобы мать не переутомлялась, отец не следовал советам первого встречного, а Сандерс своей небрежностью не довел шахту до полного разрушения? А ведь, кроме этих важных дел, ему надо было еще выяснить поднятые Шейном вопросы о положении в стране. Но все это входило в игру. Он стал тихонько насвистывать.
II. Шейн Корриген
Шейн работал неподалеку на участке, владельцы которого приняли его в компанию, предложив небольшую долю. В течение последних трех лет он бродил с одного прииска на другой, собирая золотой песок в спичечные коробки, а затем снова все растрачивал. В 1851 году он служил палубным матросом на судне, но дезертировал, как только это судно прибыло в Порт Филипп. — Я был не единственным. Вся команда ушла. А если хотите знать, то и сам капитан тихонько посмеивался себе в бакенбарды. Я слышал, каким тоном он сказал, что ему не найти людей для новой команды, — впрочем, так оно и было, — а затем и сам отправился искать золото. Дик знал, что в этом рассказе не было ничего невероятного. Когда было найдено золото, все словно сошли с ума. Отец Дика, учительствовавший в Мельбурне, бросил работу и отправился в Джилонг, но из-за своей нерешительности упустил момент, когда золото добывали диким способом, прямо на поверхности. Из Джилонга Престоны перебрались в Балларат. Иногда им везло, но за этим следовали недели, когда удавалось намыть всего несколько песчинок. Неудивительно, что мистер Престон был обескуражен. И все же у него не хватило решимости все бросить. Всякий новый рассказ про удачную находку, самородок или богатую жилу вселял в него новые надежды. Дику нравилась бродячая жизнь, и все же иногда он чувствовал, что здесь что-то не так; это бывало, когда они с отцом возвращались домой усталые и с пустыми руками, а в жалкой хижине-палатке их встречала миссис Престон и кормила скудным обедом, отдающим дымом сухой травы. Но, слушая старателей, которые пели вокруг костра под аккомпанемент варгана[19], он сразу забывал все несчастья, а рассказы старых золотоискателей о Калифорнии увлекали Дика не менее, чем его отца. Восхищали и рассказы Шейна. Шейн был еще молод, ему недавно перевалило за двадцать, и пятнадцатилетнему Дику было лестно иметь такого друга. Шейн, казалось, объездил весь свет: в Южной Америке он сражался, в Китае играл в азартные игры, в Сан-Франциско вербовщики напоили его допьяна и отправили в плавание, потом на голландском судне он занимался ловлей жемчуга. И вот теперь, как только кончится работа, он должен встретиться с Диком. — Завтра после обеда постарайся освободиться, мальчуган! — сказал Шейн, таинственно подмигивая и кивая головой. — Хорошо, — ответил Дик. — Надеюсь, отец не рассердится, если я разок устрою себе праздник. А в чем дело? — Да ведь тебе уже все известно, — сказал Шейн своим мягким, проникновенным, характерным для ирландца голосом, в котором чувствовался оттенок насмешки. — Будто ты не слыхал, как гнусно вела себя полиция в деле Бентли, этого подлого убийцы, которого покрывает двурушник и предатель судья Дьюс? — Его голубые глаза злобно сверкнули. — Ну-ка, попробуй скажи, что ты жалкая гнида и вся эта мерзость не приводит тебя в бешенство! Но, Дик Престон, возможно, будут беспорядки. Так что, мой дорогой, лучше не ходи, если боишься за свою драгоценную шкуру. Мы обязательно накостыляем им шею и выставим отсюда, так и знай. — Кто? Почему? — спросил Дик. Он знал, что шотландцу Скоби проломили голову, когда тот стучался в двери ресторана гостиницы «Эврика» после его закрытия на ночь; впрочем, отец Дика одобрял судью, который прекратил дело, сказав, что пьяницам так и надо. — Да ну тебя! — и Шейн дал ему дружеского пинка. — Ты просто струсил. — Ничуть, — горячо возразил Дик. — Я, конечно, пойду с тобой. Мне бы только хотелось побольше узнать об этом. — Да, но сумеешь ли ты постоять за себя? — Склонив голову набок, Шейн взглянул на него проницательными, смеющимися глазами. — Да падет стыд на мою голову за то, что я сбил с правильного пути мальчика, которому следует сидеть дома и учить уроки возле маминой юбки. — Ты отлично знаешь, что я могу постоять за себя, — сердито ответил Дик. — Я пойду с тобой. — Конечно, дело не в том, заслужил Скоби то, что получил, или получил то, что заслужил, — сказал Шейн. — Хотя он шумел ничуть не больше, чем обычно шумит человек, когда на него вдруг нападет охота промочить глотку. Но ложь и жульничество вывели ребят из терпения. Этот каторжник Бентли, отпущенный с Ван-Дименовой земли, орудует на пару с судьей Дьюсом, словно оба они — воры из одной шайки: Да, правительство все больше и больше позорит себя и с каждым днем все сильнее теснит нас, бедных старателей, из-за лицензий. Живому человеку такого не стерпеть. — Он сплюнул. — Это тирания, вот что, мой храбрый дружок, и никакой ирландец не станет с этим мириться; — Англичанин также, — решительно поддержал Дик, хотя и сам не вполне понимал, что он этим хочет сказать. — Жму твою руку, — примирительным тоном сказал Шейн и крепко стиснул руку Дика. — Да, ты парень неплохой, только соображаешь медленно. Но когда ты вырастешь, это пройдет. Дик уже собирался возмутиться, но заметил веселый огонек в глазах Шейна и только рассмеялся. — Итак, долой тиранию! — сказал Шейн. — Долой тиранию! Они оба засмеялись. — Хватит ли у нас времени, чтобы сыграть в кегли до темноты? — спросил Шейн. — Только не сегодня, — сказал Дик. — Я хочу помочь матери. — Пай мальчик. Правильно, я и сам пойду и помогу тебе стирать белье. Непринужденно обняв Дика за плечи, он отправился в его хижину. Дик гордился своим рослым рыжим другом, у которого было такое приятное ирландское лицо. — Вы больше палец о палец не ударите, миссис Престон, — сказал Шейн, когда они вошли в хижину. — Мы с Диком покажем вам для разнообразия, как надо управляться с домашними делами. Добрый вечер, сэр. — Добрый вечер, — пробормотал мистер Престон, который при свете чадной керосиновой лампы пытался изучать руководство по горному делу. — Надеюсь, вы отвыкаете от ваших буйных ухваток. Пора, пора. — Честное слово, — сказал Шейн, — я стал таким смирным, что почти все время только то и делаю, что слушаю, как мухи летают. Интересно, чем объясняют ученые люди, вроде вас, что, когда становится очень тихо, мы всегда слышим, как летают именно мухи? Мистер Престон хотел нахмуриться, но не сумел. — Ты дурень, Шейн Корриген, —ласково сказал он. —Но веди себя как следует и будешь хорошим парнем. — Ты только послушай! — Шейн повернулся к Дику с деланным изумлением. — Он же слово в слово сказал то, что я сам всегда говорю! Рад слышать, что мистер Престон согласен со мною. Если миссис Престон дозволит мне взглянуть на ее очаг, я научу ее всему тому, чему сам научился, когда был коком на борту «Мэри Уилкинс» — бригантины водоизмещением в 114 тонн. Ничто так не способствует развитию кулинарной мысли, как куча голодных моряков, которые толпятся вокруг тебя с ножами и вилками, и особенно, если дело происходит посреди океана.

Мистер Престон покачал головой и, склонясь к керосиновой лампе, вновь погрузился в чтение, продолжая наживать головную боль. В то же время Шейн приступил к приготовлению обеда, одновременно давая советы по части кулинарии под открытым небом. Дик пришел в восторг, видя, что мать, хотя и считает в душе влияние ирландца вредным для своего сына, все же не может устоять перед его непринужденными манерами.
III. Беспорядки у гостиницы Бентли
Назавтра около полудня, оставив Сандерсу записку для отца, Дик улизнул из шахты. Ему было стыдно, что он не поговорил с отцом прямо, но, хотя он и знал, что отец отпустит его с работы, мысль о пререканиях, которые неизбежно возникнут из-за этого, была ему невыносима. Да, кроме того, Дик и сам еще не решил, как отнестись к происходящим событиям. Не принимая всерьез всего сказанного Шейном, Дик тем не менее понимал, что у старателей есть достаточно оснований для недовольства. Составляя большинство населения Виктории, они не имели голоса в политических делах. Из двухсот тысяч человек участвовать в выборах не мог ни один. А вот налог в тридцать шиллингов должен был ежемесячно платить каждый старатель. И хотя против самого налога никто особенно не возражал, но бесчеловечное поведение полиции при поисках неплательщиков вызывало бурные протесты. Шейн ходил взад и вперед по желтой глинистой площадке между кучей породы и надшахтным сараем. — Разрази меня гром! — воскликнул он. — Наконец-то ты явился. Вот уже добрых полчаса ноги сами тащат меня отсюда, так что мне пришлось бегать взад и вперед, чтобы только угомонить их. Они отправились к холму Спесимен, где стояла гостиница «Эврика». Владелец ее, Бентли, открыл при гостинице кегельбан, всегда имел в запасе несколько колод карт для игроков, — словом, лез из кожи вон, чтобы привлечь посетителей в любое время дня и ночи. Но, когда явился Скоби и принялся барабанить в дверь, Бентли почему-то был не в духе. Он выскочил и, как рассказывали Дику, свалил Скоби ударом топора, выкрикивая: «Прекрати этот шум, болван, и дай мне спать!» У подножия холма Шейн и Дик влились в поток старателей, направляющихся к месту сборища. Лощина Спесимен была заполнена людьми, твердо решившими выразить свой протест. В основном тут были англичане и ирландцы с небольшой примесью шотландцев и валлийцев, но встречались также группы немцев, французов, американцев и итальянцев; многие были в лохмотьях, измазанных глиной, которая преследовала их всюду — на работе, во время отдыха и сна; другие были одеты чисто, в куртках из саржи и молескиновых брюках; одни пришли с непокрытыми головами, другие в широкополых шляпах или головных уборах из пальмовых листьев. Дик начал понимать, что все это куда серьезнее, чем можно было судить по болтовне Шейна. Только подлинное сознание несправедливости могло собрать воедино такую массу старателей. Шейн и Дик долго толкались в задних рядах толпы. Кто-то говорил, взобравшись на пень, но до них доносились только отдельные слова, сопровождаемые глухим ревом собравшихся. Наконец, им удалось пробраться поближе, и теперь они уже лучше видели ораторов. Молодой человек с серьезным загорелым лицом произносил речь. Рядом стоял крепко сложенный голубоглазый шатен, лет двадцати пяти, больше шести футов ростом, с густыми широкими бровями. Он-то и привлек к себе внимание Дика. — Кто это стоит у пня? — спросил он. — Это Питер Лейлор, — ответил Шейн. — А другой — Хэмфри. — Мы взываем только к конституционным принципам, — кричал Хэмфри, и чем больше он волновался, тем чаще попадались в его речи обороты, свойственные жителям Уэльса. — Мы добиваемся только справедливости. Мы требуем, прежде всего, права голоса в делах управления. Пока мы его не получим, как с рабами будут с нами обращаться. Пока мы не станем сильны, никакое правительство не будет считаться с нашими интересами. По горам и долам гоняли нас. Преследования, обиды и оскорбления терпели мы от чинодралов, с нами обращались как с подонками общества, — а подумайте только о том, что мы сделали для этой страны. В толпе поднялся тихий глухой ропот, подобный песне надвигающейся бури, которая звучит в листве деревьев. Дик вздрогнул. Нельзя было не испугаться этих звуков, говоривших о силе, спорить с которой так же невозможно, как с бурей, а между тем этот Хэмфри своими словами сам ее поднимал. — За последние три года Виктория превратилась из жалкой скотоводческой дыры в процветающий штат. Сделали это мы! А нам за это что? Пренебрежение, пощечины, гнет! Но мы уважаем закон. Мы хотим законности и порядка. Мы хранили молчание, хотя иной раз гнев закипал в наших сердцах от наглости тех, кто поставлен над нами. Мы столько терпели, сколько может терпеть свободный человек, — даже больше. Коренастый лысый мужчина вскарабкался, держась за плечо Лейлора, на пень, где уже стоял Хэмфри. — Да, все это правда, ребята. Мы терпели слишком долго. То, что случилось теперь, — выходит за всякие границы. Если мы и на этот раз подчинимся, — значит, мы самые презренные из рабов. Убийца отпущен без суда, потому что судья у него в долгу. Так и знайте, ребята, —тень моего старого дружка Скоби глядит на вас и требует справедливости. Мы должны стоять друг за друга и брать силой то, чего нам не дают по доброй воле. Толпа гневно заревела. У Дика мурашки пошли по коже от страшного предчувствия. Он все еще не совсем понимал происходящее; но и его увлекли призывы ораторов. Он чувствовал, как Шейн, стоявший подле него, весь напрягся и даже охнул от восхищения, вызванного новым оратором, и от непреодолимого желания что-нибудь сделать. В сердце Дика рождался тот же порыв. Он знал теперь, что так говорить можно только правду. — Кеннеди — парень что надо, — сдавленным голосом сказал Шейн. — Чего бы я не дал, чтобы пожать ему сейчас руку! Или съездить по морде одного из этих лягавых! Клянусь всеми святыми! Хэмфри поднял руку и продолжал прерванную было речь: — Никаких насилий, ребята! Мы подняли знамя возмущения и, клянусь богом, не опустим его. Да, не опустим, пока правительство не предоставит нам наших прав. Но не давайте им повода отговориться тем, что мы, мол, шайка бунтовщиков. Только этого они и хотят. Не играйте им на руку, прибегая к насилию. Соблюдайте дисциплину. Мы здесь для того, чтобы выразить протест против судьи, продавшего свой приговор, и собрать деньги на борьбу с этой продажностью. Маленький рыжеватый человечек с подстриженной бородкой все время подпрыгивал, стоя возле Лейлора, словно ему не терпелось выступить самому и в то же время жаль было прерывать оратора. — Это Рафаэлло, — шепнул Шейн. Человечек повел мохнатыми бровями; в глазах у него сверкало яростное веселье. — Раскошеливайся, ребята! — закричал он, когда Хэмфри сделал паузу. — Выверните ваши карманы ради святого дела свободы. — А ты сам что даешь? — шутливо отозвался один из старателей. Рафаэлло принял эти слова как оскорбление. — Все! — воскликнул он, сверкая глазами. Он схватился за карманы брюк и вывернул их наизнанку, рассыпав монеты по земле. — Вот! — он рванул рубашку и вытащил три банкноты. Помахав ими, он подбросил их в воздух. Затем, внезапно став серьезным, повелительно поднял руку. Наступило молчание. — И мою жизнь впридачу, если понадобится! — Ай да старина Раффи! — закричали старатели. Хотя участники митинга были сильно возбуждены, но настроение у них было добродушное, и они соблюдали порядок. Ораторы сумели разжечь старателей и в то же время держали их в руках. Глаза Дика снова устремились на молодого великана Питера Лейлора, который стоял в непринужденной позе возле пня и прислушивался к словам сначала Хэмфри, потом Кеннеди, и, наконец, Рафаэлло. Его привлекательное подвижное лицо светилось гордой решимостью, и он явно руководил собранием, хотя сам ничего не говорил. — Ты знаешь Лейлора? — спросил Дик у Шейна. — То есть, знаком ли ты с ним? — Малость знаком, — ответил Шейн. — С ним все знакомы. Он не прячется от людей. — Ты познакомишь меня с ним? — А зачем тебе это? Просто подойди к нему после митинга и скажи:«Питер Лейлор, я хочу примкнуть к вашему движению, потому что, как и вы, «свободу я люблю». Он тут же пожмет тебе руку, даром что ты самый обыкновенный паренек. — Нет, я хочу, чтобы ты познакомил меня с ним. — Ладно, — сказал Шейн, хлопнув его по плечу. — Я скажу ему, что ты сам не мог с ним познакомиться, потому что застенчив как барышня. — Нет, нет! — запротестовал Дик. — Ш-ш, — успокоительно сказал Шейн. — Эх ты, шумливый щенок, ты, что же, решил перекричать ораторов? Теперь на пне стоял какой-то немец, который громил продажность правительственных комиссаров и чиновников, спекулировавших землей; но Дика не интересовали его неистовые крики. Он посмотрел в сторону гостиницы, перед которой выстроился отряд полиции. Офицер, командовавший отрядом, — молодой англичанин, с правильными аристократическими чертами лица, — небрежно сидел на лошади, со скучающим и презрительным видом наблюдая за толпой. — Взгляни-ка на этого красавчика, — сказал Шейн, подталкивая Дика. — Как бы мне хотелось сбить с него спесь! Они с Диком повернулись и стали пробираться к гостинице, где старатели, до которых не долетали речи ораторов, говоривших с пня, развлекались насмешками над полицией. Подойдя к гостинице, Дик заметил в одном из окон верхнего этажа белобрысого человека со светло-серыми глазами. В этих светлых глазах тускло мерцала такая ненависть, что Дик вздрогнул и схватил Шейна за руку. — Это Бентли, та самая крыса! — закричал Шейн и нагнулся в поисках метательного снаряда. Но на дороге не было камней, и поэтому он швырнул в окно свою палку. Стекло разбилось, и белесое лицо исчезло. Среди стоявших поблизости поднялся ропот. Они подхватили крик Шейна. — Там Бентли! Давайте его сюда! Давайте сюда этого каторжника! Дик увидел, как, спотыкаясь, по ступенькам крыльца сбежал человек, волоча правую ногу, словно она была повреждена. При виде его бледного лица с безумными глазами толпа завопила: «Бентли!» Бентли кинулся к небрежно сидевшему на лошади офицеру, и тот выслушал его с тем же презрением, с каким смотрел на Лейлора. Затем офицер, внезапно выпрямившись в седле, быстро подал команду, и полицейские двинулись вперед, через дорогу. Один из конников соскочил с лошади и помог Бентли взобраться в седло. Старатели пустили в ход весь свой запас ругательств, обзывали Бентли трусом и вонючкой. Бентли, без куртки, но в шляпе, наспех нахлобученной на лоб, яростно рванул поводья и, повернув коня, поскакал галопом по дороге. Толпа ринулась к цепи полицейских. Юный офицер, повернувшись с ленивым презрением, отдал отрывистую команду, и полицейские взяли винтовки на изготовку. — Соблюдайте спокойствие! — кричали Лейлор и человек, которого звали Макинтайр. Толпа недовольно отхлынула назад. — Он поскакал в правительственный лагерь, — сказал Шейн. — Да, —подтвердил человек, стоявший рядом с ним. —Должно быть, чтобы привести подкрепления. Ну, что ж, пусть-ка сунутся ко мне. Берусь справиться с двоими. Другой мужчина взобрался на пень, не обращая внимания на попытки Лейлора и других вожаков успокоить его. — Кто это? — спросил Дик. — Не знаю, — ответил Шейн. — Это брат Скоби, — сказал маленький коренастый старатель из Уэльса, стоявший рядом с ними. — За солдатами небось кинулся! — кричал человек, взобравшийся на пень. — Этот вандемонский бездельник, убийца моего бедного брата! Он кинулся за своими сообщниками! За судьей Дьюсом, которого можно купить и продать; за доктором Карром, который, если его подмазать, поклянется, что черное — это белое; за комиссаром Ридом, который лжет и клевещет на нас, забыв всякий стыд. Как сказал мой друг Кеннеди, тень моего убитого брата сегодня здесь с нами. Он смотрит на нас своими мертвыми глазами. Его кровь вопиет из земли. Это кровь Авеля — почти такая же древняя, как само время, и она все еще вопиет к нам. Толпа орала и бесновалась, и нужен был только вожак, чтобы повести ее за собой. Шейн снова принялся искать камень, но ничего не нашел. — Можешь ты где-нибудь найти камень? — серьезно спросил он Дика. — Черт возьми, у меня до того руки чешутся, что я просто лопну, если не раздобуду камня. Дик пытался помочь Шейну. Но вокруг была такая давка, что он видел у себя под ногами лишь клочок земли и — ни одного камешка. — Мне необходимо что-нибудь швырнуть, — не унимался Шейн. — Проклятие, Дик Престон, какая жалость, что ты упрямишься и не желаешь дать мне взаймы свою голову, чтобы хоть разок запустить ею! Он принялся шарить по карманам и вытащил большие подержанные часы. — Придется пожертвовать ими ради доброго дела, — сказал он и поцеловал их. — Сейчас около половины третьего, если учесть, что они спешат минут на сорок. — Затем, тщательно прицелившись, он запустил часами в большой фонарь, висевший на цепи перед входом в гостиницу. Фонарь разлетелся вдребезги, и град осколков осыпал полицейских. Одному из них порезало щеку. Толпа радостно загудела. Люди бросились вперед, сметая с пути полицию. Начальник караула Эймс — человек, которого старатели уважали за справедливость, — встал в дверях и пытался перекричать толпу. Но его оттолкнули, и старатели ринулись в гостиницу, ломая по пути мебель. Перила лестницы с грохотом обрушились. Какой-то старатель схватил перекладину и начал размахивать ею, стараясь разбить лампы. В буфете били бутылки. Дик, которого толпа увлекла за собой, заметил, что несколько мужчин, слив виски из бутылок в ведро, пустили его потом по рукам. Гостиница была разгромлена. Дик и Шейн с трудом выбрались на улицу; им хотелось увидеть, что происходит на дороге. Полиция выстроилась у обочины. Юный офицер пригнулся к шее лошади, слушая, что ему говорит начальник караула Эймс; впрочем, он по-прежнему был ко всему равнодушен. С каждым мигом толпа росла. Добрых десять тысяч старателей теснились и кричали на холме. Бегство Бентли через прииски привлекло сюда почти всех мужчин, желавших разнюхать, чем тут пахнет.

— Солдаты! Наступило молчание. Шейн схватил Дика за руку и указал на долговязого парня, ирландца с виду, который шел вразвалку к концу кегельбана, держа в руках охапку бумаг и тряпья. Толпа следила за ним, затаив дыхание. Дойдя до наветренного конца кегельбана, парень свалил свою ношу под холщовым навесом и не спеша чиркнул спичкой. Дик взглянул на молодого офицера, который, сидя на лошади, через головы толпы следил за происходящим. Офицер медленно поднес руку к кобуре револьвера, но затем, пожав плечами, наклонился вперед и похлопал лошадь по шее. Бумага вспыхнула, пламя побежало по кегельбану, и холст загорелся. Ветер быстро погнал языки огня к гостинице. Толпа снова стала вопить и стучать ногами, и этот шум слился с ревом огня. Солдаты, присланные из лагеря после того, как туда примчался перепуганный Бентли, уже въезжали в лощину Спесимен, но спасти дом было невозможно. Он весь был охвачен пламенем. Черная тучка появилась над черным холмом и пролила несколько крупных капель дождя; но огонь, достигший теперь крыши, вырывался из-под конька, и золотой его венчик, словно в дикой пляске, метался над столбами дыма. Затем ветер вдруг утих и крыша провалилась со страшным грохотом.
IV. Свалка
Дику захотелось выбраться из этой неразберихи. Теперь, когда гостиница сгорела, у старателей пропала всякая решимость; им больше нечего было делать, и они растерялись. Солдаты оттеснили их назад и усердно старались не допустить распространения огня. Военный в форме старшины громким голосом, тонувшим, однако, в общем шуме, читал закон о мятежах. Дик понял все же, что старшина именем королевы приказывает толпе разойтись. — Это мерзавец Мильн, — сказал Шейн. — Чтоб у него язык сгорел! Старатели, охваченные гневом, который не находил выхода, то топтались на одном месте, то начинали наседать на солдат, и вскоре неподалеку завязалась драка. Дика оттеснили от Шейна. Сперва он отчаянно боролся, а потом решил, что лучше всего — поскорее убраться отсюда. Пуская в ход кулаки, локти и колени, Дик выбрался, наконец, на свободное место. Он стоял, тяжело дыша, полный решимости уйти домой, как только сообразит, где легче пробраться сквозь толпу. Но тут он услышал чьи-то крики и узнал голос Шейна. Он снова нырнул в толпу и протолкался через нее как раз вовремя, чтобы увидеть, как Шейна тащили сквозь ряды полицейских; лицо Шейна было разбито и окровавлено. — Надеть наручники на это животное! — сказал офицер холодным, равнодушным голосом. Полицейские поспешно защелкнули наручники на запястьях Шейна. Стоявшие поблизости старатели возмущенно закричали и бросились вперед, но, испугавшись при виде направленных на них ружей, остановились. — Освободим его! — завопил Дик. — Вперед! Толпа угрожающе двинулась на полицейских, Дик споткнулся и, наклонившись, увидел у себя под ногами большую почерневшую головню. Он поднял ее, размахнулся изо всех сил и метнул в лейтенанта. Головня угодила тому прямо в живот. Лейтенант громко замычал от боли, скорчился и рухнул с лошади на землю. Лошадь встала на дыбы, а затем рванулась вперед, смяв ряды полицейских. Те отпрянули, чтобы избежать копыт напуганной лошади; и лишь немногие, бросив винтовки, кинулись на помощь упавшему офицеру. Дик, в сопровождении десятка наиболее смелых старателей, напал на полицейских; началась ожесточенная свалка. Добравшись до лошади, Дик схватился за повод и повернул ее туда, где стоял в наручниках Шейн. Тот воспользовался сумятицей и вырвался из рук державшего его фараона. Следя за движениями Дика, он ринулся вперед и встретился с ним в небольшом пространстве, которое очистили испуганные лошадью полицейские. Люди, возившиеся с потерявшим сознание офицером, заслоняли Дика и Шейна от выстрелов, но нельзя было терять ни минуты. Один из полицейских, гнавшихся за Шейном, налетел с размаху на группу, занятую спасением офицера, и с руганью растянулся на земле. — На коня! — закричал Дик. Шейн отчаянно пытался взобраться на лошадь, но та все еще брыкалась, а наручники делали задачу особенно трудной. Дик вскочил в седло и, нагнувшись, втащил Шейна на загривок лошади, так что его голова и руки болтались по одну сторону, а ноги — по другую. Старатели, сообразив, что задумал мальчик, расступились. Дик ударил ногами в бока лошади и поскакал. Люди с приветственным криком тут же сомкнули ряды; а когда полицейские, оттащив в сторону раненого офицера, отбили натиск старателей, Дик уже отъехал на несколько сот ярдов, и густая толпа отделила его от полиции.

Как ни плотно стояли старатели, они расступались перед Диком, и он несся галопом, пока не достиг первых палаток на равнине. Там он остановил лошадь, соскочил с нее и стащил Шейна, ухватившись за пояс его молескиновых штанов. От неудобной езды у Шейна кружилась голова, и он стоял, держась за седло и моргая. Поблизости в это время никого не было, так как все старатели собрались возле гостиницы. Лишь неопрятная женщина вышла из ближайшей хижины и окинула их безразличным взглядом. — Спрячь наручники, — сказал Дик. — Куда к черту я их спрячу, — ответил Шейн, вращая глазами. — Пусть у меня кровь отхлынет от головы, и тогда я соберусь с мыслями. Не забудь, что я ехал вниз головой и все время боялся, как бы дорога не поднялась и не стукнула меня по башке. Он зашатался и оперся о Дика, затем с сожалением посмотрел на наручники. — Куда бы мне спрятать эти проклятые штуки? В один брючный карман обе руки не засунешь, а пиджак я оставил дома. Я мог бы воздеть руки к небу и сделать вид, что молюсь, но не привлечет ли это взоры человечества ко мне, бредущему по стезям грешного мира сего? — Подожди минутку, — сказал Дик. — Вон там валяется старый мешок. Он отошел в сторону и поднял рваный мешок, затоптанный в грязь.. Затем набросил мешок на наручники, чтобы казалось, будто Шейн несет его обеими руками. — Эта изящная поза скорее подошла бы застенчивой барышне, нежели мне, Шейну Корригену из Корригена в баронетстве Кильмарни, — сказал Шейн. — Впрочем, принимая во внимание обстоятельства, это все же лучше, чем получить по физиономии. — Ладно, сегодня нам с лягавыми воевать не придется, — сказал в утешение ему Дик и, ударив лошадь по крупу, послал ее назад по той же дороге, по которой они приехали. — Точно! — сказал Шейн. — Они все на холме и веселятся на тамошней ярмарке. Но как нам снять эти дрянные штуки? — У нас дома есть напильник. Пошли быстрее! Они торопливо зашагали по направлению к дому, выбирая безлюдные тропинки и беседуя. — Напильник — это вещь, — согласился Шейн. — Но он поднимет такой визг и скрежет, что покойники проснутся. Да что там, приличные покойники — это еще полбеды А вот лягашей или каких-нибудь косоглазых доносчиков, будь они трижды прокляты, я бы предпочел не будить. — Вот что я тебе скажу, — ответил Дик. — Я спущу тебя в нашу шахту. Там, конечно, прекратили работу, когда начались беспорядки. А потом я спущу тебе напильник, и, если ты отойдешь подальше в штольню, никто ничего не услышит. — Эта мысль ниспослана небом, — сказал Шейн. — Если не считать того, чтобы я сам распилил свои наручники. Чем мне держать напильник? Мне бы не хотелось зубами, потому что тогда я так наточу их, что превращусь в тигра. — Ну, так я убегу после обеда и сам буду пилить. А сейчас лучше всего спустить тебя в шахту. Они прокрались к шахте, прячась за сараями и кучами породы. Насколько они могли судить, все старатели, до единого, ушли на холм Спесимен. Одни лишь китайцы не вмешивались в это дело и продолжали вынимать столбы из заброшенных выработок и промывать золото вдоль берегов Яррови. Но оттуда, где они работали, участок Престона не был виден. — Приходи поскорее, — сказал Шейн, — потому что я насквозь отсырею до наступления ночи.
V. Наручники
С помощью ворота Дик спустил Шейна в шахту, а сам отправился домой. Миссис Престон стояла на пороге, но она смотрела в направлении холма, где происходило сборище, и не услышала шагов Дика; ему пришлось сделать круг, чтобы зайти на шахту, и теперь он подошел к дому с противоположной стороны. — Ты невредим! — вырвалось у нее, когда сын ее окликнул. — Мы так беспокоились. Отец ушел в лощину Спесимен. — Я могу и сам за собою присмотреть, — сказал Дик. — Мы с Шейном пошли туда только чтобы узнать, что там происходит. Мать недоверчиво взглянула на него, и Дик увидел, что она плакала. — Я бы не хотела, чтоб ты говорил мне неправду, Дик, — сказала она. Дику стало не по себе, хотя, в сущности, он сказал правду. Ему захотелось рассказать матери обо всем, что произошло, но, когда он уже раскрыл рот, оказалось, что говорить ему не о чем; а между тем можно было рассказать так много, — если б только у него нашлись нужные слова. Он не знал, правы ли были старатели, что подожгли гостиницу, но ему казалось, что поджог сам по себе не имел большого значения. Имело значение то, что говорили ораторы; но когда Дик пытался припомнить, что именно они говорили, на память приходило только слово «Свобода», строгое, загорелое, подвижное лицо Лейлора и страстный, напряженный энтузиазм толпы, ее глубокая решимость сделать жизнь свободной и справедливой. Но какими словами рассказать обо всем этом? Даже если старатели поступили неправильно, все же стремились они к справедливости. В них пробудилось нечто, придавшее им решимость упрямо, отчаянно сопротивляться всему, что, по их мнению, было несправедливо и деспотично. Дик понимал: пережитое им в толпе было необыкновенно важно, а все остальное не имело никакого значения. Но он еще не мог этого выразить. Так что, по сути дела, он не солгал матери. Ему просто не хватило слов. — Я был только одним из многих в толпе, — добавил он, словно этим все было сказано. Он гордился тем, что оказался в числе старателей, гордился больше, чем надменный молодой лейтенант своими золотыми галунами и непринужденной посадкой в седле. — Как ты напугал отца! — сказала миссис Престон. — Ты поступил необдуманно, Дик. Он будет повсюду искать тебя там. Дику хотелось раздраженно ответить, что пусть они не обращаются с ним, как с маленьким ребенком, который не способен позаботиться о себе. Но он не мог обидеть мать, да и отца тоже. Когда мистер Престон вернулся запыленный и усталый, Дик молча выслушал длинный выговор. Он чувствовал, что заслужил его, но в то же время ни о чем не жалел. Сразу же после ужина он поспешил с напильником к шахте. Там он вдвое удлинил канат, намотанный на ворот, и бросил один конец Шейну. Потравливая канат, Шейн спустил бадью с Диком. — Я так дрожал от холода, — сказал Шейн, — что боялся, как бы не попадали твои стойки и меня не завалило породой. Какое счастье услышать твой ангельский голосок, Дик Престон, а если ты захватил с собой огарок свечи, то меня еще ожидает и дополнительное блаженство при виде твоего ангельского личика; кроме того,, можно будет, наконец, выяснить, не отвалились ли отмороженные части моего тела. Дик не догадался взять с собой свечи и не мог найти в темноте фонарь. В кармане у Шейна были спички, и Дик достал их; но, сидя в шахте, Шейн прижал коробок, к сырой глине, и теперь спички не зажигались. — Неважно, — сказал Дик. — Я с таким же успехом: поработаю напильником и в темноте. — Не сомневаюсь. Но с тебя станется, что ты при этом отпилишь что-нибудь и от меня. Впрочем, придется, рискнуть. Только пили поосторожнее, и если я заору благим матом, сперва прекращай работу, а уж потом задавай вопросы. Дик взялся за наручники и начал пилить. Темнота очень замедляла работу. Дик все время должен был помнить о том, что напильник может соскользнуть с закругленного металлического края наручника и поранить Шейна, а невозможность следить за тем, как продвигается дело, настолько отупляла Дика, что он потерял счет времени и ему стало казаться, будто он пилит уже много часов подряд. Однако, ощупав канавку, он обнаружил на железе лишь неглубокую царапину. — Черт возьми! — сказал Шейн, который терпеливо сидел скрючившись на земле, пока Дик пилил. — Ты, видно, принес сюда пилку для дамских ноготков! Дик стал пилить еще усерднее и раз даже задел Шейна. Ему казалось, что он должен был, по крайней мере, уже раз пять перепилить наручники. А между тем канавка как будто совсем не углублялась. Наконец, когда он потерял уже всякую надежду, вспотел и почувствовал, что еле шевелит руками, в наручниках что-то подалось. — Ага, с одним покончено, — облегченно вздохнув, сказал Шейн. Он выпрямился, размял ноги и опять сел. —Давай дальше. Приободрившись, Дик снова стал пилить, и на этот раз, несмотря на его усталость, работа, казалось, пошла быстрее. Шейн вытянул свою освобожденную правую руку и завопил от восторга. — Теперь уже не долго. Отдохни, малыш. У меня одна рука свободна, и я сам справлюсь с другим наручником. После того, как мои руки побывали в тюрьме, приятно опять приложить их к чему-нибудь. Он зажал распиленный конец наручников между колен и принялся пилить с такой силой, что искры полетели. Визг металла отдавался по всей штольне. — Что нового? — спросил он, не переставая пилить. — Ничего особенного. Отец говорит, что они арестовали троих — Мак-Интайра, потом печатника и еще одного, не помню его имени. — Но Мак-Интайр был одним из тех вожаков, которые орали вовсю, чтоб мы шли назад и вели себя прилично. — Верно. Но они схватили именно его. Все говорят, что остальных двух вообще и в толпе-то не было. Полиция набросилась на них на шоссе. Должно быть, им нужно было кого-нибудь арестовать. — Ну, теперь ты видишь, какой в этом городе самый верный способ угодить в неприятную историю, — свистнув, сказал Шейн. — Надо просто сидеть сложа руки. Лягавые и солдатня не будут тебя бояться и поэтому обвинят в том, что сделали другие. Он снова набросился на наручники и, довольный, засмеялся. — Ну, готово. Теперь я снова свободный человек — и все благодаря тебе, Дик Престон. — Как ты думаешь, узнали нас? — Об этом не может быть и речи. Они не узнают нас среди тысяч людей, которые побывали сегодня там, особенно теперь, когда я избавился от этой улики. — Ну, мы еще не совсем избавились; нельзя же оставить ее здесь, чтобы отец на нее наткнулся. — Спрячь под куском породы, а завтра брось в речку, — сказал Шейн. — Ведь не потащишь же ты эту штуку домой. Дик согласился с этим предложением. Шейн поднял его наверх в бадье, после чего Дик, в свою очередь, поднял Шейна, снова обмотав канат вокруг вала ворота. Заметив неподалеку кучу породы, они спрятали распиленные наручники под комом светлой глины, чтобы легче было их отыскать. Затем Дик поспешил назад в хижину.
VI. Посещение театра
На следующее утро Дик встал рано, принес матери несколько ведер воды из речки и ускользнул на участок. Удостоверившись, что поблизости никого нет, он подошел к куче породы, где были спрятаны наручники, и стал шарить под комом белой глины. К его удивлению, наручников там не оказалось. У Дика замерло сердце. Он оглянулся, снова проверил все приметы и убедился в том, что не ошибается. Он спрятал наручники именно под этим комом глины, — и вот они исчезли. Кровь прилила к голове Дика, когда он понял, что кто-то их нашел и унес. Но знал ли нашедший, что они были спрятаны именно Шейном и Диком? Дику хотелось верить, что они были найдены случайно. Но нет, это не могло произойти так быстро! Ни один старатель еще близко не подходил к шахтным колпакам. Значит, кто-то шпионил за ним и за Шейном? Дик тут же отправился в палатку, которую Шейн делил со своими компаньонами. Когда он пришел, Шейн мылся в помятом оловянном тазу, потом причесывался перед осколком зеркала, покрытом трещинами и пузырями; Дику не сразу удалось отвести его в сторону. Сначала Шейн отказался верить Дику, твердя, что тот ошибся местом. — Нет, — настаивал Дик. — Я считал шаги и запомнил, что эта куча ближе всего к лебедке Митчелла. — Что ж, — сказал Шейн, хмурясь, — тогда удивительно, что мы оба еще не сидим в кутузке с головы до ног в наручниках. Если б лягавые что-нибудь знали, они схватили бы нас обоих прежде, чем мы успели бы продрать глаза. — Пожалуй, что и так, — согласился Дик, снова обретая надежду. — Когда полицейские после этой свалки арестовали ни в чем не повинных людей, то поднялся такой шум, что теперь они последние сапоги отдадут, лишь бы заполучить тех, кого засудят любые присяжные. — «Тех» — то есть нас с тобой, как это ни грустно, — сказал Шейн, делая себе пробор гребенкой, в которой отсутствовало большинство зубьев. — Что бы ни случилось с этими наручниками, пока что они еще не добрались до правительственного лагеря. Иначе на нас бы уже напустились все четыре комиссара и полк солдатни в ярко-красных мундирах, да еще, может быть, парочка пушек впридачу. Дику пришлось удовлетвориться этими слабыми утешениями. Однако, по мере того как день склонялся к вечеру, а их никто не трогал, Дику стало казаться, что он действительно ошибся относительно места, где были спрятаны наручники; поэтому он согласился пойти с Шейном на театральное представление, которое давали на холме Эврика. Мистер Престон нахмурился, когда Дик, сообщив о приглашении Шейна, попросил отпустить его; но тут уже миссис Престон встала на защиту Шейна. — Вот так так, — сказала она мужу. — Ты бранишь мальчика за то, что он ввязывается в политику и в эту историю с Лигой Реформ. А затем ты бранишь его за то, что он хочет развлечься. Нельзя же одновременно сердиться и за то, и за другое. — Я его не бранил, — сказал мистер Престон, протирая очки, которые надевал при чтении. — Ну, так ты нахмурился. Мистер Престон поморгал, взглянул на свои очки и медленно водрузил их на нос. — У меня нет возражений против серьезной драмы, — сказал он. — Но я, гм, не думаю, чтоб в Балларате поставили что-нибудь классическое. Послушай, Дик, я расскажу тебе о том вечере, когда видел Макреди в «Отелло». Это было зрелище, действительно возвышающее душу. Он выглядел совершеннейшим мавром, а говорил, как истый английский джентльмен. — Дик уже слышал все это, — заметила миссис Престон, твердо решив, что Дику сегодня следует отдохнуть. — Да, о да, — сказал мистер Престон, мигая и глядя на нее поверх очков. — Мы не можем рассчитывать в Балларате на такого актера, как Макреди. Что сегодня идет, Дик? — «Жертва вдовы» и еще «Ирландский наставник», для концовки, — краснея, ответил Дик. Он уже читал афиши. — В том же исполнении, в каком они с успехом, шли недавно в присутствии коронованных особ. Мистер Престон пососал зуб; это был признак раздумья. — Лучше бы ты лег спать. Но раз мать согласна, то и я не возражаю. Возвращайся домой сразу же. после спектакля. Завтра вечером я, может быть, почитаю, тебе «Отелло». Конечно, это будет неудачным подражанием красноречию Макреди, и я приложу к этому все усилия. То есть, я хочу сказать, что это подражание будет настолько удачным, насколько позволяют мои малые способности. Мы не должны допустить, чтоб твое образование страдало из-за того, что обстоятельства привели нас, гм, в не совсем благовоспитанное общество. Дик с нетерпением ждал вечера, а пока что старался разузнать что мог о последствиях беспорядков. Судья был вынужден отпустить арестованных под залог, так как в противном случае можно было ожидать нового и еще более опасного бунта старателей; образовался комитет, который взял на себя организацию защиты обвиняемых; было решено послать к губернатору — сэру Чарльзу Хотхэму — делегацию с требованием снятия выдвинутых обвинений.

Но у Дика пока что пропал интерес к политике. Отмыв лицо до блеска и надев лучшую рубашку и куртку, он встретился с Шейном, и оба они отправились к холму Эврика. Смеркалось, шоссе было ярко освещено длинным рядом фонарей; в Балларате началась обычная ночная жизнь с барами, игорными домами, кабаками, притонами, китайскими закусочными и танцевальными салунами.

Дик и Шейн прежде всего отправились перекусить в китайский ресторан Джона Аллу. Вывеска под фонарем, подвешенным к металлическому кронштейну, гласила: «Всегда горячий суп». Пройдя мимо группы людей, которые собрались возле лавки Пиппена и, сидя на бочках, болтали и читали вслух объявления об аукционе и о пароходстве «Белая Звезда», Дик и Шейн вошли в ресторан, где рядом с доской, покрытой китайскими письменами, висел рисунок, изображавший дилижанс, несущийся во весь опор. Надпись на рисунке гласила: «Билетная касса дилижансов на Мельбурн и Джилонг». Они уселись на скамью рядом с несколькими разговорчивыми китайцами и тремя дюжими матросами в грубых морских сапогах, свитерах и полосатых шерстяных кепи и принялись за рис, приправленный пряностями. Затем они стали ходить по шоссе, рассматривая витрины магазинов и читая объявления о «Распродаже», «Большом танцевальном вечере в концертном зале Джона О’Гроутса» и «Последние сообщения из Крыма». Наконец они взобрались на холм Эврика. Театральное здание из дерева и парусины стояло почти напротив гостиницы Критерион. Пробравшись сквозь толпу старателей, одетых по-праздничному в синие и красные саржевые рубашки, перехваченные длинными алыми кушаками, в ковбойские шляпы и высокие сапоги, Дик и Шейн вошли в зал. Дик впервые попал в театр и сидел на жесткой скамье в нетерпеливом ожидании, не замечая шумливых старателей и не решаясь оторвать глаза от занавеса — вдруг он поднимется без предупреждения и Дик что-нибудь пропустит! Чтобы время шло быстрее, он изучал объявления на занавесе и прислушивался к пиликанью инструментов, настраиваемых в оркестре. Когда начался спектакль, Дик пришел в восторг и уже не замечал никаких недостатков в постановке, хотя Шейн, который побывал во всех театрах от Дублина до Сан-Франциско, отпускал замечания столь оскорбительного характера, что они понравились бы даже мистеру Престону. Содержание пьесы Дика почти не занимало, хотя у него и создалось представление, что дело шло об интригах некоей лукавой вдовы. Но он был очарован непринужденными манерами и уверенной декламацией актеров, всем этим театральным миром с его напускным блеском и мишурой. Когда же Шейн упрямо указывал ему на убожество декораций и безвкусицу в костюмах актеров, Дику становилось не по себе и он старался не слушать друга. Наконец, первая пьеса кончилась, занавес опустился, и зрители шумным потоком устремились в бары, где заказывали всякие смеси, бывшие тогда в ходу: персиковую настойку, херес с сахаром и лимоном или лимонадом и льдом, коктейли. Шейн ограничился смесью простого пива с имбирным, клянясь при этом, что в ней нет никакого алкоголя, но Дик не поверил ему на слово и выпил лимонаду, несмотря на предупреждение Шейна, что это опасное и вредное для здоровье зелье. Пил он так поспешно, что часть лимонада попала ему в дыхательное горло и он поперхнулся. — Видишь, какое это страшное зелье! — сказал Шейн. — У тебя вся душа выйдет наружу пузырьками. Но Дику было не до шуток: он боялся пропустить вторую пьесу. Шейн сказал, что у них еще куча времени, но Дик потащил его назад в театр, и им пришлось ждать несколько минут, пока старатели снова не заняли своих мест и не начали нетерпеливо стучать ногами. Когда занавес рывком поднялся, Дик, к своему удовольствию, увидел на сцене того же «знаменитого» актера. — Смотри, какой он стал красный! — заметил Дик Шейну. — Это потому, что он в новой роли? — Это потому, что был антракт, — ответил Шейн. Сначала Дик не уловил смысла этого ответа, но немного спустя сквозь толщу его восхищения пробилось понимание того, что актер изрядно выпил. Публика заметила это задолго до Дика и стала громко высказывать свое мнение. Актер пришел в ярость, потерял самообладание, начал натыкаться на мебель и чуть не опрокинул бутафорское дерево. Потом, по ходу действия, ему пришлось ненадолго уйти за сцену, там он явно выпил еще, и, когда вернулся, публика встретила его криками: «Передай бутылку, друг! Не скупись! Нечего лакать тайком!» В следующей сцене он должен был просить прощения у своего отца, но рассердился на актера, исполнявшего эту роль, и, когда тот отвернулся, лягнул его в зад. Обиженный актер замахал кулаком перед самым носом «знаменитости». — Можешь пить, сколько влезет, — кричал он, — но не смей больше меня лягать! Если ты это еще хоть раз сделаешь, я уложу тебя на месте! Публика радостно орала и била в ладоши, приглашая актеров решить спор дракой. «Знаменитость» икнула, царственным жестом отстранила своего партнера и, подойдя к рампе, произнесла: — Леди и джентльмены! Этот грубый тип, я хочу сказать, этот болван, этот исландский дог, у которого ушки на макушке, утверждает, будто я пьян. Итак, джентльмены, я задаю вам всем вопрос. Я обращаюсь в данном случае не к дамам, ибо это дело исключительно мужское. Итак, я заявляю вам всем, что если я его лягнул, то он знает, что заслужил это. — Давай, давай, старина! — откликнулась публика. — Лягни его еще разок! — Пьян ли я, джентльмены? — Нет! — ответило несколько человек, раскачиваясь на сиденьях, хлопая в ладоши и стуча по скамьям. — Да! — кричали другие. — Дай ему хорошенько! Актер нахмурился и жестом потребовал тишины. — Джентльмены, я всегда предпочту быть пьяным, чем глупым. Согласитесь, что всякий напьется, если его заставят играть с таким вот дураком! Разве я не играл в присутствии губернатора Нового Южного Уэльса? Но пьян ли я, джентльмены? За ним поспешно опустили занавес, который при спуске заскрипел и чуть было не застрял, так как заело валик. После этого кто-то — вероятно, второй актер — просунул ногу под занавес и столкнул ораторствовавшую «знаменитость» в оркестр. «Знаменитость» полетела вниз, задевая музыкантов и их пюпитры, и растянулась рядом с контрабасом, где принялась болтать ногами и вопить, держась за шейку инструмента.

В зале раздался оглушительный взрыв хохота, старатели повскакали с мест, выкрикивая шутливые советы и приветствия. Антрепренер и служители принялись очищать зал, угрожая вызвать полицию. Насмеявшись до хрипоты, публика позволила выставить себя за дверь, более довольная, чем если бы пьеса была сыграна как следует до конца. — Что бы там ни говорил недоброжелательный критик обо всей программе, концовка была замечательная, —объявил Шейн. Дик, как и остальные старатели, смеялся от души, но ему было немного жаль крушения того театрального мира, которым он был так приятно поглощен в начале вечера. Однако ему не хотелось давать Шейну повод посмеяться над собой и своей неопытностью, и он ничего не сказал.
VII. Неожиданная встреча
Они пошли домой и, чтобы сократить путь, свернули в плохо освещенный переулок. Когда они проходили, между двумя темными лачугами, из мрака вынырнула сгорбленная фигура и плаксивый голос произнес: — Мистер Престон… Мистер Корриген… — Это еще кто? — резко спросил Шейн, вглядываясь в незнакомца. — Нет, нет, вы меня не знаете, конечно, не знаете! — заскулил человек, подходя ближе. — Для таких благородных молодых людей я — пустое место. Да, пустое место. Я уверен, что вы меня не знаете. — Но я тебя знаю! — сердито сказал Шейн. — Ты — Черный Макфай. Прочь с дороги! — Так, значит, вы меня знаете? — В плаксивом голосе послышалась угрожающая нотка. — Подумать только! Какая честь быть таким известным человеком! А куда вы направляетесь, молодые люди? — Нам с тобой не по пути, старое чучело! — ответил Шейн. — Убирайся в свою собачью конуру. Дику приходилось слышать имя Макфая, хотя его самого он ни разу не встречал. Макфай был старый попрошайка, живший в сарае неподалеку от китайского квартала и занимавшийся тем, что вынимал столбы из заброшенных выработок; однако поговаривали, что, помимо этого занятия, у него были и другие, менее почтенные: он не гнушался ни доносами, ни ростовщичеством, ни продажей краденого, ни организацией мелких краж, ни торговлей опиумом. — Пошел вон, собака! — повторил Шейн. Но Макфай и не думал повиноваться. Он неуклюже затрусил рядом с юношами, которые ускорили шаг, стараясь отделаться от него. — Вы так от меня не отвяжетесь, — заскрипел он. — Пусть я стар. О да, пусть я стар и слаб и никому на свете не нужен, но если вы хотите перегнать меня, ребятишки, то вам понадобится лошадь, хорошая сильная лошадь, вроде той, которую украли вчера у лейтенанта Дальримпла. Шейн и Дик остановились и молча смотрели на Макфая. Макфай же, хрипя, оперся о столб и свесил голову набок. — Что это значит? Выкладывай! — произнес, наконец, Шейн. — Я не стал бы угрожать старому человеку, но не думаю, чтобы тебя можно было считать человеком. Выкладывай, говорят тебе! — Я — бедный старик, — сказал Макфай, воздевая руки к небу. — Жизнь у меня тяжелая, и вы видите, какие на мне лохмотья, хотя я дожил уже до седых волос. Иной раз я сам удивляюсь, как у меня душа не расстается с телом. Вы, верно, слыхали, молодые люди, что я иногда ссужаю деньги под залог. Разумеется, когда у меня есть кой-какие деньжата, а это случается не часто. Иногда я продаю невыкупленные залоги. Дело чистое, тут ничего не скажешь. — Говорят тебе, выкладывай! — вышел из себя Шейн. — Выкладывай сейчас же, а не то пожалеешь, клянусь своей душой! — А разве я не выкладываю? — спросил Макфай, съежившись и обращаясь к Дику. — Замолвите за меня словечко, мистер Престон. Ваш ирландский друг нагнал на меня страху. Он не слушает того, что я говорю, и только кричит: «Выкладывай!», и теперь я совсем запутался. — На что вы намекаете? — спросил Дик; у него, как и у Шейна, чесались руки проучить мерзавца, но его останавливали возраст старика и та насмешливая злая сила, которая чувствовалась в нем. — И этот тоже! — захрипел Макфай. — О небо, сколько неблагодарности в этом мире! Шейн угрожающе двинулся к нему. — Я хочу только кое-что продать вам, — заговорил Макфай, прикрывая лицо руками. — Я же вам сказал, что люди приносят мне иногда в залог вещи. У меня-то обычно нет денег, но мой хозяин дает мне взаймы, если дело того стоит. Как раз сейчас у меня есть кое-какие невыкупленные вещи. Итак, молодые люди, разве одному из вас не хочется купить прекрасную пару браслетов? Мне нужно найти покупателя, понимаете? — Браслеты? — свирепо повторил Шейн. — Золотые или серебряные? — Нет, нет! — прогнусавил Макфай, набираясь храбрости. — У некоторых типов странные вкусы. Вы ведь знаете. Речь идет о стальных браслетах… Дик и Шейн безмолвно переглянулись. Итак, Макфай каким-то образом раздобыл наручники. То ли он рыскал по прииску накануне ночью и видел, как их прятали, то ли ему рассказал об этом другой жулик, вор или осведомитель, какой-нибудь шпик из той банды, которую, как говорили, он возглавлял. — Не смотрите на меня так, — продолжал Макфай. — Бесполезно думать о том, как хорошо было бы прикончить меня. Не воображаете же вы, что я настолько глупый старик, чтобы в мои лета прийти сюда, не приняв никаких мер предосторожности. — Он злобно зашипел. — О нет, я оставил у одного своего друга записку, которую он отнесет в правительственный лагерь, если я исчезну. Понятно?

— Назови свою грязную цену, — с презрением сказал Шейн. — Двадцать фунтов, — ответил Макфай. — И не говорите, что это дорого. Вы знаете, что в лагере я могу получить больше. Но я предпочитаю обделывать свои делишки с друзьями. Живи и жить давай другим, — говорю я. Я-то сам не собираюсь нести их в лагерь, но если вы не заплатите двадцать фунтов, владелец потребует их назад, и вы, конечно, понимаете не хуже меня, куда он пойдет и что сделает. — У меня нет двадцати фунтов, — сказал Шейн. — А у Дика, как тебе известно, вообще нет ни фартинга. — Но у вас есть друзья, у вас есть разные возможности, — захихикал Макфай. — Как бы я хотел быть таким сильным молодым парнем, как вы! Я бы живо раздобыл жалкие двадцать фунтов. Но спешить некуда. Даю вам сроку до завтрашнего вечера. Принесите деньги ко мне домой. Я буду ждать вас. И не забывайте про записку, которую я оставил там, где вы ее достать не можете. Если со мной что-нибудь случится, она попадет прямо в руки к правительственным комиссарам. Доброй ночи, молодые люди. Он заковылял по переброшенным через канаву доскам и исчез в тени лачуги. — Что же нам теперь делать? — спросил, наконец, Дик. — Понятия не имею, — ответил Шейн. — Если б дело было только во мне, я бы удрал в Новый Южный Уэльс. Но он знает, что ты не можешь этого сделать, черт его подери. Идем, незачем стоять тут. Придется нам пораскинуть мозгами до завтрашнего вечера, вот и все.
VIII. Лачуга Черного Макфая
Когда назавтра в полдень Дик с Шейном снова встретились, ни один из них еще не придумал способа перехитрить Макфая. — Я избил бы этого старикашку, как собаку, — свирепо сказал Шейн. — Но вполне возможно-, что он вправду оставил письмо для полиции. — Боюсь, что тебе не собрать двадцати фунтов, — сказал Дик. — Мне противно даже думать о том, чтобы откупиться от него; но что же нам остается делать? — Мне не достать столько денег, даже если бы я и захотел, — ответил Шейн. — Мы сейчас в пустой породе, золотом не пахнет, а из моих компаньонов ничего не извлечь. Адамс — такой тип, что не даст посмотреть на деньги, даже если от этого зависит твоя жизнь; Хикс же готов отдать последнюю рубашку, но у него ничего нет. На прошлой неделе он проиграл в карты все, что у него было. После этого они разошлись по своим участкам, и Дик, поднимавший из шахты бадьи с желтой глиной и гравием, с каждой минутой становился все мрачнее. Если его поймают, то, несомненно, приговорят к долгому заключению и тогда он не сможет больше присматривать за домом. Его не столько пугало заключение в тюрьму, сколько горе, которое он причинит отцу и матери. Что они станут без него делать? Они будут считать себя обесчещенными. Отец совсем потеряет голову, начнет прислушиваться к советам первого встречного и будет бродить с одного прииска на другой; мечта матери о спокойной жизни станет еще менее осуществимой. Дик поклялся, что если он выпутается из этой истории, то никогда больше не станет ввязываться в политику. Он забыл, что его увлекло чувство, двигавшее огромной массой старателей, которые выступили против несправедливости, и мог теперь думать только о том, что в своем эгоизме навлек беду на любящих родителей. Поужинав тушеным мясом, он ускользнул из дому. Пусть родители думают, что он, как обычно, бродит между костров и соседних палаток, прислушиваясь к песням и россказням старателей. Когда Дик разыскал Шейна, тот печально сидел на куче глины, взявшись руками за голову. — А, Дик Престон, — сказал Шейн, — в хорошенькую историю я тебя втянул! От души сожалею обо всем, что случилось. За себя я не беспокоюсь, но мне тяжело думать, что я принес несчастье твоим близким, которые приглашали меня к своему столу. Что касается меня, я лучше дал бы себя дважды повесить, прежде чем уплатить старикашке хоть один фартинг, но ради тебя я попытался раздобыть немного золота. Пока у меня всего около десяти фунтов. Впрочем, возможно, и этого хватит, чтобы заткнуть ему глотку. Они отправились в китайский квартал. Макфай жил в сравнительно добротно построенном сарае, который был брошен хозяевами после прибытия китайцев. Стараясь не привлекать к себе внимания, Дик и Шейн свернули на тропинку, по шатким доскам перебрались через булькающую грязь и приблизились к сараю. Сквозь щели в стенах наружу пробивался слабый свет. Они постучались в дверь, и Макфай впустил их с такой быстротой, словно поджидал их, стоя у входа. — А, вот и вы! — Он потер костлявые руки. — В самое время. Люблю разумных людей. Потому что я и сам разумный человек. Не старайся пробиться сквозь тернии. Да, библию я знаю. Не старайся пробиться сквозь тернии. Это еще никому не приносило пользы. В этом коротком совете скрыта мудрость, высшая мудрость. Я снимаю перед ней шляпу. И я рад видеть, что вы, молодые люди, не собираетесь делать глупости. Садитесь. Он указал им на неотесанную деревянную скамью, й сам уселся в старое кресло, из-под обивки которого торчали пучки конского волоса. На столике рядом с кресломстояла лампа, и свет, падавший на лицо старика, подчеркивал его отталкивающее уродство — запавшие глаза, густые косматые брови, длинный тонкий нос, тонкие бледные губы. Растрепанная борода была грязножелтого цвета, с густой проседью. Дик и Шейн молча глядели на него, но он, казалось, больше не собирался говорить. Он сидел, что-то бормоча себе под нос, иногда кивая головой и потирая сложенные руки. — Послушайте, Макфай, — начал, наконец, Шейн, тщетно ожидавший, что тот скажет еще что-нибудь. — Мы хотим выяснить ваше предложение. — Да, да, выяснить, — мягко и вкрадчиво сказал Макфай. — Именно так. Выяснить. Если хотите, можете курить, молодые люди. — Вы говорили о браслетах, — продолжал Шейн, твердо решив так или иначе довести дело до конца. — Что вы имели в виду? Макфай не поднял глаз и только шевелил сложенными на коленях пальцами. Дик с Шейном ожидали, что он опять скажет какую-нибудь раздражающе двусмысленную фразу. Но он опустил веки и по-прежнему мягко ответил: — Ну, конечно, наручники. Наручники, которые защелкнулись на ваших запястьях после того, как вы были арестованы за буйное поведение. Наручники, распиленные вашим молодым дружком после того, как он напал на полицейских ее величества, которые находились при исполнении обязанностей, и набросился на офицера, который теперь в гошпитале. Конечно, наручники. Дик и Шейн, уже привыкшие к тому, что он ходит вокруг да около, были озадачены этими прямыми словами. — Я уплачу вам за них десять фунтов, — с усилием произнес Шейн, скрипнув зубами. — Двадцать фунтов, — поправил Макфай прежним мягким бесстрастным голосом. — Я не могу достать двадцать, будь вы прокляты, — теряя терпение, сказал Шейн. — Двадцать фунтов, — повторил Макфай; лицо его искривилось подобием улыбки, он поднял указательный палец и укоризненно погрозил Шейну. — Мы сговорились на двадцати фунтах. Не стыдно вам пытаться обмануть бедного, беззащитного старика? — У меня их нет! — воскликнул Шейн. — Кто может достать десять, может достать и двадцать, — спокойно ответил Макфай. — В банках и в кассах лавочников их сколько угодно. — К тому же, — продолжал Шейн, пропуская мимо ушей совет Макфая, — откуда нам знать, что вы будете держать язык за зубами после того, как вернете наручники? Вы все равно сможете пойти и донести на нас. — Конечно, мог бы, — кивнул головой Макфай. — Только я не пойду на это. Я — деловой человек. И, конечно, не я — главный. Я только исполнитель, который должен сбыть эти наручники. Я буду нем, как рыба. А так, как вы говорите, дела не делаются. Это уничтожило бы торговлю. Не осталось бы доверия. Спросите любого банкира или лавочника. Они вам скажут, мистер Корриген, что ничего нет ценнее в делах, чем это самое доверие, о котором вы сейчас говорили. — Он снова погрозил пальцем. — Платите, и вы в безопасности. Шейн молчал, и через некоторое время Макфай опять забубнил: — Власти уже схватили трех человек по подозрению; теперь им требуется кто-нибудь, против кого есть настоящая улика. А распиленные наручники и есть настоящая улика. Такая, какую любят судьи и присяжные. У властей глаза на лоб полезут, если кто-нибудь явится к ним с чистеньким вещественным доказательством и скажет: «Посмотрите, что спрятали при мне Дик Престон и Шейн Корриген под кучей пустой породы». Это было бы получше любых свидетельских показаний. Кто может с уверенностью сказать, кого именно он видел во время свалки, при которой тысячи людей орали как оглашенные? Адвокаты живо заговорят об ошибках и алиби, присяжные скажут: «Это дело подстроенное». А вот наручники заставят мельбурнских присяжных иначе отнестись ко всему. Не так ли? Какой смысл идти и заявлять, что кто-то видел, как двое ребят закапывали наручники? Полиция сразу спросит: «Ну, а где же наручники? Где улики? А?» Закончив свою длинную речь, Макфай чихнул, закашлялся и стал шарить под столом. Нащупав бутылку, он вытащил ее и поднес ко рту, потом, отпив глоток, поставил бутылку на место и вытер рот волосатой тыльной стороной руки. — Я не предлагаю вам, молодые люди, — захихикал он. — Вино до добра не доведет. Кто пьет, тот делает вещи, которые не по душе закону. Не так ли? — Послушайте, — яростно начал Шейн, но, с трудом взяв себя в руки, продолжил довольно спокойно:- У меня есть для вас десять фунтов. Берете их? — Двадцать фунтов, — повторил Макфай, и голос его снова стал мягким и вкрадчивым. — Да падет на вас проклятие Кромвеля, если вы еще хоть раз повторите это! — закричал Шейн, вскакивая с места. — Возьмете вы десять фунтов наличными, с тем что остальные я отдам через несколько дней? — Долго я ждать не смогу, — сказал Макфай. — Блюдо остынет. Судья скажет: «Почему вы не пришли раньше, милый мой?» Они ведь тоже понимают. — Завтра вечером, — попросил Шейн, бросив тревожный взгляд на Дика, который на протяжении всей этой беседы принужден был сидеть как беспомощный зритель. Макфай призадумался. — Идет. До завтрашнего вечера. В такое же время. Но давайте сюда все, что у вас есть. А если не принесете остальные, то потеряете и то, что уже уплатили. Ясно? — Ясно! — мрачно сказал Шейн. — Держите. Он выложил на стол несколько монет и мешочек с золотым песком. В этот момент снаружи послышались шаги. Макфай мгновенно сгреб деньги и песок и спрятал у себя па пазухой; повернувшись в бешенстве к Дику и Шейну, он подозрительно взглянул на них. Но увидев, что они поражены и встревожены не меньше, чем он сам, Макфай поспешно поднялся с кресла и заковылял вглубь комнаты. — Ступайте туда, — сказал он, откидывая полог из мешковины.
IX. Убийство
Они зашли за полог и очутились в алькове, заставленном крадеными, как решил Дик, вещами: часами, кувшинами, цветочными горшками, вазами, одеждою. Заглянув в комнату через дыры в пологе, они увидели, что Макфай подошел к двери. — Сюда нельзя, — грубо сказал он. — Уходи. Я сегодня нездоров. Делами не занимаюсь. Но гость не обратил внимания на эти слова, оттолкнул Макфая и вошел в сарай. — Ах, это ты, Томми? — сказал Макфай, уже не раздраженным, а льстивым голосом. — Но все-таки я сказал правду, что мне сегодня нездоровится. Я не могу уделить тебе время… Вошедший — худощавый, широкоплечий мужчина с длинными, нелепо болтавшимися руками и лицом, указывавшим на происхождение от европейца и китаянки, — ничего не ответил. Он оглядел комнату, а затем уселся в кресло. — Это мое место, — ворчливо запротестовал Макфай. — Не садись сюда, Томми. Пересядь куда-нибудь. Ну, вставай же! Томми не двинулся с кресла и ничего не ответил. Он сидел, разглядывая Макфая прищуренными глазами сквозь полуопущенные веки; пряди иссиня-черных волос свешивались ему на уши. Макфай встревожился еще сильнее. — Ладно, Томми. Можешь немножко посидеть в моем кресле. Только нехорошо обращаться с бедным стариком в его собственном доме, как с собакой. Ну, давай, Томми, скажи, по крайней мере, что-нибудь. Что у тебя на уме? Появление нового пришельца, видимо, так встревожило старика, что он забыл о Дике и Шейне; но, спросив, что у Томми на уме, он как будто вспомнил о них, потому что, вместо того, чтобы повторить вопрос, отступил назад и невнятно заговорил: — Нет, не отвечай мне, Томми. Я знаю, что ничего плохого. Только ты раньше никогда так не обращался со мной в моем собственном доме. Но я не сержусь. Выпей, Томми, а потом уходи. Говорю тебе, что мне нужно поспать. Томми по-прежнему сидел безмолвно и неподвижно. Макфай снова подошел к нему, бормоча: — Мне нужно поспать, Томми. Ты мешаешь мне лечь в постель. Наконец Томми вытянул ноги и зевнул. — Ты никогда не спишь, — сказал он. — Черту не нужно спать. Макфай продолжал бормотать. Томми ткнул в него пальцем. — Эй, ты! Ты думал, Томми в Джилонге! Он сплюнул. Затем стал шарить под столом, нашел бутылку джина и стал пить, ставя ее в промежутках между глотками себе на колени. — Бери ее, Томми, — вертясь вокруг него, плаксиво протянул Макфай. — Всю бутылку. Можешь взять ее. Мне не жалко бутылки джина для такого старого друга, как ты. — Смотри, какой добрый стал! — сказал Томми резким, невыразительным голосом, отбрасывая назад длинные волосы. — Хватит, Томми! Говорю тебе, — я болен. Ты что, сам никогда не болел и поэтому мне не веришь? Не пожелаю тебе таких дьявольских болячек, как у меня! Я хочу спать. — Как ты можешь спать, когда у тебя такие болячки? — насмешливо спросил Томми. — Я хотел сказать, что попытаюсь уснуть, забыть о них. — Так иди спать, — ответил Томми и снова сплюнул. — Я не могу спать при свете, — сказал Макфай. — Неужели у тебя совсем нет жалости? — Тогда погаси свет. Макфай попытался засмеяться. — О, да ты, как видно, шутник, Томми! Тебе захотелось пошутить. Ну, а теперь иди домой, в свою палатку. — Томми будет теперь жить здесь. Макфай бродил по комнате, бормоча себе под нос и не зная, что предпринять. — Как идет новая работа? — спросил Томми, снова отпив из бутылки. — Какая новая работа? — в свою очередь спросил Макфай тоном оскорбленной невинности. — Я, как всегда, роюсь немного в заброшенных выработках у реки — вот и все. Томми тихонько захихикал. — У тебя есть наручники. Скоро ты сам будешь носить их, если не станешь осторожней. Макфай остановился перед ним, судорожно дергая руками. — Что ты сказал? Томми не ответил и снова погрузился в непроницаемое молчание. Затем он взглянул на Макфая. — Ты сказал, — тебе плохо. Я слышу тебя. Ну, так Томми тоже плохо. Плохо из-за тебя. Ты его надул. Но он за тобой следил, Макфай. Ты слишком часто его надувал. Делись и делись поровну. Это здорово получалось, не так ли? И Томми верил тебе, как проклятый дурак. Как насчет той половины, которую ты забрал у него после маленького дельца на складах Колак? — Держи язык за зубами! — Томми все равно, если у стен есть уши. Он пришел говорить в открытую, Макфай. Придется тебе потерпеть. — У меня не было времени сказать тебе об этих наручниках, — закудахтал Макфай. — Убей меня на месте, если это не так. Ты слишком быстро ушел. Я собирался поделиться с тобою. Ты напился, а теперь думаешь, что я тебя надул. Тебя надувают там, где ты напиваешься, а я невинен, как младенец. Приходи ко мне завтра утром, и мы обо всем поговорим. — Томми теперь все знает, — ответил Томми, вытягивая ноги и давая этим понять, что он не собирается уходить со своего удобного места. — Он останется здесь, пока все не разузнает. — Кто это наговорил тебе? Будь они прокляты! — неистовствовал взбешенный Макфай- — Это Нелли, конечно, я знаю, что она. Он заскрежетал зубами.. — Заткнись! — сказал Томми. — С чего это ты стал называть имена? Я же тебе не говорил, кто. Так что, не слишком бросайся словами, а не то берегись, — бросишься в собственную могилу! Макфай нерешительно ходил взад и вперед по комнате. — Что ты собираешься делать, Томми? — горестно спросил он наконец. —Не можешь же ты оставаться здесь вечно. Что ты собираешься делать? — Томми останется, пока не придут те двое молодцов, из которых ты жмешь деньги. А когда они придут, будем жать вдвоем. Макфай не знал, что ответить на эти откровенные слова, потому что любой ответ только ухудшил бы его положение. Он бросил быстрый взгляд на альков и, что-то ворча, отошел в ту часть сарая, где за перегородкой находился чулан с выходом во двор. Оглядев альков, Дик заметил в задней части оконце и сообразил, что Макфай собирается шмыгнуть во двор, чтобы убедить Шейна и его самого незаметно выбраться через это оконце. Томми не стал удерживать Макфая. Он только прислушался, и, когда тот постучал тарелкой о тарелку, создавая впечатление, будто готовит еду, Томми бесшумно поднялся с кресла, осторожно поставил на пол бутылку и ножом, извлеченным из-за пояса, начал приподнимать половицы. Но Макфай, который медленно отодвигал засовы на задней двери, решил взглянуть на Томми, прежде чем улизнуть во двор; он высунулся из-за перегородки и, увидев, что делает Томми, оцепенел от ярости, мгновение поколебался, а затем вернулся в чулан. Там он вытащил револьвер из-под своих лохмотьев, взвел курок и повернул щелкнувший при этом барабан, чтобы под курком оказался боевой патрон. Обычно, при ношении револьвера, в камеру, которая находилась под курком, патрона не вкладывали, чтобы избежать несчастных случаев. Затем, держа в руке револьвер со взведенным курком, Макфай тихонько вошел в комнату. Но, несмотря на осторожность Макфая, Томми услышал скрип половиц и поднял голову с беспечной полупьяной усмешкой. — Все равно. Придется тебе поделиться. Видишь, Томми знает, где ты держишь деньжата. Но тут челюсти его сжались и он уставился на револьвер, направленный ему прямо в сердце. Что-то в выражении глаз Макфая подсказало Томми, что мешкать нельзя; он почувствовал возрастающий страх и злобу старика, палец которого уже нажимал курок. В то же мгновение, быстро схватив нож за лезвие указательным и большим пальцем, Томми запустил его в Макфая. Тот отпрянул, но лезвие уже вонзилось ему между ребер. Револьвер стукнулся об пол. — Так, так, — произнес Томми странным, пронзительным голосом. — Так, так, Макфай. Не вини меня в этом. Ты сам напросился. Так, так! Наклонившись, Томми стал пальцами отдирать половицы, но остановился, когда из-под ногтей у него показалась кровь. Он лихорадочно осмотрелся в поисках предмета, который мог бы послужить ему рычагом. Не найдя ничего подходящего, Томми подошел к мертвецу и встал над ним, растерянно улыбаясь и облизывая губы. — Ты ведь сам напросился на это, Макфай, — бормотал он. — Не вини меня теперь. Я хочу только взять обратно свой нож. Он мой, а не твой. Он вытащил нож, отер его о рваную рубашку Макфая и снова принялся приподнимать доски. — Мы не можем оставаться здесь и смотреть на это, — весь дрожа, прошептал Дик. — Нет, — ответил Шейн, кладя руку на плечо Дика, чтобы успокоить его. Он слышал, как потрескивает ящик комода, о который опирался Дик. Как ни слаб был этот звук, Томми тоже его услышал. — Кто там? — крикнул он, вскочив на ноги. — Убирайся к черту, Томми! — заорал во весь голос Шейн. — Мы все видели! Томми в ужасе прыгнул назад, выронил нож и оперся о стол. Он пытался заговорить, но у него сперло дыхание. Видя, что Томми безоружен, Шейн выскочил из алькова, собираясь поднять револьвер, лежавший у тела Макфая. Дик последовал за ним. Увидев их, Томми понял, что ему не перехватить Шейна до того, как тот успеет поднять револьвер. Вместе с тем он уже оправился от ужаса, который сковал его, когда среди ночи, непонятно откуда, загремел обличавший его голос. Томми схватил со стола лампу и запустил ею в Шейна. Шейн отскочил в сторону — и лампа ударилась о стену сарая. Томми кинулся к наружной двери, распахнул ее и исчез. Лампа разбилась — и на мгновение стало темно, затем сразу же взвился столб огня. Пламя побежало по полу и охватило потолок.

— Выбирайся отсюда, — закричал Шейн и, схватив Дика за руку, потащил к задней двери. Через секунду они уже очутились во дворе, вдыхая прохладный ночной воздух. — Быстро! — скомандовал Шейн. — Сейчас здесь соберется толпа. Нужно убраться подальше от этого проклятого места, пока пламя не вырвалось наружу. Они опрометью бросились бежать, и когда остановились передохнуть, то увидели позади зарево пожара. — Надеюсь, что продолжения не будет, — сказал Дик, которому стало лучше после того, как на бегу он наглотался чистого и прохладного ночного воздуха. —Не скажу, чтобы мне было жалко Макфая. Мне бы только хотелось, чтобы Томми тоже прикончили. — Мои дорогие десять фунтов приказали долго жить, — сказал Шейн с грустной усмешкой. — Вот уж точно — исчезли в мгновение ока. Затем он добавил уже серьезно: — Думаю, что мы в сравнительной безопасности. Теперь я, конечно, не верю, что Макфай оставил у кого-нибудь письмо насчет нас. Это он нас взял на пушку. Он хотел обделать дельце без ведома компаньонов. Я видел этого Томми прежде. Его прозвали Томми Китайцем. Макфай, как видно, все время надувал его. До чего грязные свиньи! Проводив Шейна и добравшись до дому, Дик остановился, чтобы перевести дыхание и стереть с лица пот, а затем с напускной беспечностью вошел в комнату. — Ну, Дик, я надеюсь, ты получил удовольствие, — сказала миссис Престон, поднимая глаза от шитья. — Слышал ты какие-нибудь новые матросские истории? Ведь ты их так любишь. — Для него было бы лучше… — сказал мистер Престон, считавший своей обязанностью делать предложения, которые явно не имели шансов на успех у Дика, —да, для него было бы гораздо лучше, если бы он хоть один вечер посидел дома и занялся уроками, которые я ему задал, а не бездельничал у костров. — Ну, ну, — сказала миссис Престон. — Не можешь же ты требовать, чтобы он работал весь день и весь вечер. — Думаю, что мне надо попробовать посидеть дома. —сказал Дик. — Я не прочь для разнообразия заняться уроками.
X. Уловка фараонов
Дик не мог не слышать постоянных жалоб старателей на произвол властей, но больше не проявлял интереса к этим жалобам и держался в стороне. Он все время боялся, что расследование убийства Макфая и пожара приведет ко всяким разоблачениям; но никто этим делом особенно не занимался. Полиция произвела поверхностное следствие, но так как она исходила из того, что в основе всего лежит простая ссора между преступниками, то эту историю вскоре вообще забыли. Что касается старателей, то они не раз говорили при Дике: — Потеря не велика, этот Макфай был порядочной дрянью. Дик успокоился, перестал бояться за будущее, но все же твердо решил не вмешиваться больше, в политику и вообще в дела, которые могут привести к столкновению с полицией. Все же он не мог не слышать того, что говорили старатели. На холме Бэйкери состоялся большой митинг, участники которого потребовали освобождения заключенных и увольнения ненавистного старшины Милна, читавшего вслух закон о мятежах, а также заявили о правах народа на полное представительство в парламенте, всеобщее избирательное право для всех мужчин, отмену имущественного ценза для депутатов, выплату им жалования (чтобы в парламенте могли заседать и рабочие), частых выборов в парламент, упразднения комиссии по золотым приискам и отмены лицензионного сбора, ложившегося всей тяжестью на старателей и лавочников. Эти вопросы обсуждались куда ни повернись, от них было не уйти. Наконец, правительство отстранило от исполнения обязанностей судью, который за взятку вынес приговор, послуживший толчком к волнениям, а содержатель гостиницы Бентли был вновь арестован. Его судили в Мельбурне, нашли виновным и приговорили к трем годам каторжных работ за непреднамеренное убийство. Трех человек, обвиненных в бунте, также судили в Мельбурне и тоже нашли виновными. Дик продолжал упорно трудиться либо под землей, в шахте, либо у промывного корыта, а вечерами сидел дома и учился под наблюдением отца. Он не мог уклониться от случайных встреч с Шейном, но сторонился его, потому что Шейн вечно говорил о Лиге Реформ. — Приходи, и я познакомлю тебя с Питером Лейлором, — сказал он как-то. — Помнишь, ты сам упрашивал меня об этом. — Я передумал, — ответил Дик. — К тому же мне нечего сказать ему. И как Шейн ни уговаривал, он отказывался пойти с ним. Однажды утром Дик работал на своем участке и вдруг услышал справа от себя, за кучей породы, страшный шум. Увидев, что несколько старателей отправились узнать, в чем дело, он присоединился к ним. Два человека в рваных, заляпанных глиной рубашках и штанах вступили в перебранку с двумя старателями, которые, как было известно Дику, владели участком, где происходила ссора. Двое незнакомцев с грубыми лицами, заросшими нечесанными бородами, явились на участок и отказались его покинуть. Участок этот не разрабатывался. С того времени, как россыпные залежи золота истощились, приходилось углублять шахты до семидесяти футов, чтобы добраться до русла россыпи, до жилы, то есть до того места, где в древности протекал золотоносный поток. Пласты, расположенные в стороне от жилы, никем не разрабатывались; для этого потребовались бы механизмы, а старатели-одиночки были решительно против введения машин, так как это означало бы появление синдикатов и дельцов, имеющих капитал. С появлением же синдикатов старатели перестанут быть свободными людьми, действующими на свой страх и риск, и вскоре превратятся в наемных рабов. При таком порядке вещей только участки, расположенные непосредственно над жилой, представляли ценность. Время и труд старателей, которые, достигнув глубины в семьдесят футов, обнаруживали, что не напали на жилу, пропадали даром. Поэтому старатели начали задерживать разработку участков, если не было уверенности в направлении жилы. Люди выставляли заявочные столбы на участке и располагались на нем. Если на участке оказывалась жила, он становился чрезвычайно ценным; если же нет, — его бросали. Теперь в Балларате были тысячи подобных «сторожей» своих участков, и так как они пока что не получали никакого дохода с вложенных в эти участки денег, то, естественно, к лицензионному сбору относились особенно неприязненно. Всякий раз, как раздавался крик «лягаши!», они рассыпались по равнине и прятались в бесчисленных ямах, которыми она была изрыта; разыскать их там полиция не могла. Дик видел, что двое бродяг, занявших участок, постепенно довели «сторожей» до белого каления. — Вылезайте, а не то получите хорошую трепку! — кричали старатели, поднимая лопаты. — Это наш участок, — отвечали незнакомцы. — Вы его заняли обманом. «Сторожа» обратились к собравшейся толпе. — Послушайте, ребята, вы ведь можете подтвердить, что участок наш? — Не слушайте их, — в свою очередь взывали незнакомцы. — Вы, может, и видели, что эти лживые псы разбили здесь свою палатку, — но что с того? Они напали на нас на болоте Бахус и украли наши деньги и бумаги. Это настоящие акулы. — Мы ваших безобразных рож и в глаза не видывали, — старались их перекричать другие. — Ну, так вот, теперь мы здесь и не уйдем, разве что вы нас выкинете. Толпа слушала, не становясь ни на чью сторону; старатели знали, как много было кругом жульничества, и не хотели принимать необдуманного решения. Но когда речь зашла о драке, они стали проявлять живой интерес. — Правильно! Пусть решат дело дракой! Послышались крики: «В круг! В круг!» — Я вам черепа лопатой раскрою, — завопил один из «сторожей». — Нет, не раскроишь, — появляясь из ямы, ответил тот из противников, который был покрепче на вид. — Ребята свидетели, что я буду драться с тобой по-честному. — Он стал в позицию. — Давай выходи! — Он сделал выпад и ударил «сторожа» кулаком по лицу. — Ну, тут тебе и крышка! — ответил «сторож». Но один из старателей выхватил у него лопату. Лишившись оружия, «сторож» бросился на противника и повалил его на землю, отплатив за полученный удар. — Ну, давай, давай еще! — ревел победитель, прыгая вокруг побежденного. — В круг, ребята, в круг! — кричали в толпе. Но, заглушая эти вопли, раздался предупреждающий крик «лягаши!», «лягаши!» Старатели пытались убежать, спрятаться в бесчисленных ямах, но конная полиция отрезала им путь к отступлению. Конные и пешие полицейские цепью продвигались вперед, гоня перед собою не успевших скрыться, и старатели, проклиная все на свете, убедились, что они окружены. Сзади мчались галопом конные полицейские и занимали все господствующие позиции на холмах. — Чтоб вас разразило и разорвало, фараоны! — кричали старатели, отбиваясь от полицейских. Дика так сдавили в толпе, что ему пришлось напрячь все силы, чтоб не быть сбитым с ног и затоптанным. Он слишком поздно вспомнил о том, что и Шейн, и Сандерс предупреждали его об этой уловке полиции, которая затевала драки, разыгрывая незаконное занятие участков; зрелище драки всегда до такой степени поглощало старателей, что в это время их легко можно было окружить. Дик принялся лихорадочно шарить в рубахе, ища лицензию, но не мог найти ее. Он отлично знал постановление № 1: «Настоящую лицензию иметь при себе и предъявлять по первому требованию любого комиссара, офицера, ведающего поддержанием общественного порядка, или любого другого, должным образом уполномоченного лица; передаче не подлежит». Куда же девалась его лицензия? Дома она, конечно, не могла остаться; он всегда носил ее при себе и помнил, что перед завтраком проверял, в кармане ли она. Но, может быть, она выпала, когда случайно нагнулся? Или же ее вытащил в давке кто-нибудь из старателей, рассчитывая выдать за свою во время неожиданной проверки? — Назад! Не толкаться! — кричали полицейские. — Стройся! Люди неохотно, кое-как построились, и проверка началась. Полицейские были необычайно довольны тем, что им удалось успешно окружить такую толпу старателей, и теперь они грубо над ними издевались. Даже когда кто-нибудь быстро предъявлял лицензию и та оказывалась в полном порядке, они толкали предъявившего в разные стороны и ощупывали, чтобы проверить, нет ли при нем револьвера, так как существовало постановление, запрещавшее носить огнестрельное оружие. Дик увидел, как полицейский засунул руки в карманы одного старателя, потом под брючный пояс и под рубашку, отрывая пуговицы и разрывая материю. Старатель запротестовал. — Заткнись! — сказал полицейский. — Тебе повезло. Убирайся! Наконец подошла очередь Дика. — Где твоя лицензия? Ищи быстрей! — потребовал полицейский. — Оставил дома, — робко сказал Дик. У него мелькнула мысль, что лицензия могла выпасть, когда он, по просьбе матери, задвигал под кровать чемодан. — Придумай что-нибудь поновее. Ступай туда! Полицейский указал на группу старателей, которых окружали полицейские с винтовками наперевес. — Пожалуйста, пойдемте ко мне домой! — попросил Дик. — Это недалеко. Я найду вам лицензию. Он знал, — если лицензия не отыщется, отец заплатит деньги, но молил бога, чтоб она нашлась: этот непредвиденный расход будет отцу не под силу. — Ступай туда! — ответил полицейский, поднимая приклад винтовки. — Ее могли украсть в толпе, — жалобно сказал Дик. Он вдруг сообразил, что украденную лицензию можно будет обнаружить по имени владельца. — «Р. Престон. № 205. 8-го октября». Кто-нибудь уже предъявлял такую? — Откуда, черт подери, мне знать об этом? — сказал полицейский. — Ври, да знай меру. К тому же теперь все равно слишком поздно. Ступай, куда велят, да поживее. Он крикнул ближайшему коннику: — Слушай, Уилл, добавь-ка еще пару наручников, у меня все вышли… Дик робко пытался протестовать, но на него надели наручники и пинками загнали в группу арестованных.
XI. В кутузке
Полиция арестовала более шестидесяти человек, не имевших при себе лицензии или пытавшихся уклониться от уплаты. Не принимались во внимание никакие объяснения, хотя некоторые старатели утверждали, что их лицензии остались в куртках, брошенных на участках. Нарушителей собрали вместе, надели на них наручники, как ка уголовников, а затем погнали под конвоем конной полиции по пыльной, опаленной солнцем дороге к лагерю на крутом западном склоне холма. Дик грустно брел среди других арестованных, бессильно опустив скованные руки. Сначала мысли его были заняты потерей лицензии и той брешью, которую новый расход пробьет в отцовском бюджете, но вскоре к этому прибавились еще более страшные опасения. На равнине, среди множества старателей, Дик не боялся, что его узнают; но если он предстанет перед судом в одиночку, без шляпы, под сверлящим взглядом полицейских, то тут его легко опознает любой из конников, охранявших гостиницу Бентли в день беспорядков. Кроме того, Дик боялся, что его упрячут в тюрьму, так как за него не успеют внести залог, и он ломал голову, как сообщить о случившемся отцу. Когда вереница скованных старателей и ликующих полицейских покидала равнину, ей вслед понеслись свистки и угрозы тех, кто спасся, предъявив лицензии или же спрятавшись в ямах. Было брошено несколько камней, но немного, потому что бросавшие боялись попасть в арестованных. Дик шагал вместе со всеми, погруженный в малодушное отчаянье. Подойдя к кутузке — так называли здание суда и тюрьмы, — он посмотрел на часы, недавно установленные на гостинице Баса, стоявшей напротив, и увидел, что еще только одиннадцать часов утра. Дик обрадовался, потому что впереди была большая часть дня, в течение которого можно установить связь с отцом.
— Правь, Британия!
Ты, Британия, правишь волнами!
Никогда, никогда, никогда
Англичане не будут рабами! —
тихонько напевал шедший рядом с Диком мускулистый йоркширец. Старатели в наручниках подхватили припев и, шагая по пыли, повторяли его тихими угрожающими голосами.

— Заставьте арестованных замолчать! — закричал один из офицеров, ехавших впереди. — Есть, сэр, — ответил конник. — Попробуйте еще хоть Пикнуть, — понизив голос, злобно сказал стражник, — и мы с вами расправимся, как только дойдем до лагеря. Старателей загнали в лагерь через деревянные ворота и оставили на открытом пыльном дворе, где их пекло солнце и терзали мухи, —которых они не могли отгонять скованными руками. Полицейские ушли в казарму, чтобы утолить жажду, и арестованные видели, как они спокойно отдыхали на крытой террасе. На страже осталось полдесятка чернокожих полицейских, которые явно гордились своими блестящими черными сапогами; они пересмеивались друг с другом и были явно довольны тем, что в их власти оказалось так много беззащитных белых. Старатели проминали туземцев-полицейских, словно они олицетворяли последнюю степень их унижения. Но Дик был так убит своим арестом, что даже не обращал внимания на охрану. Один из пленников погрозил скованными руками полицейским и мухам. — Ох, как славно бы снова очутиться дома! — сказал он с акцентом, выдававшим в нем уроженца лондонских трущоб. — Дома с мамой. Зачем я ушел от нее, когда был смелым, но скверным мальчишкой? Как славно было бы снова увидеть уличного торговца, который продает липкую бумагу и распевает симпатичную песенку. Он загнусавил, подражая кому-то:
«Прибегайте, покупайте,
А потом кусачих, злобных,
Черных мух уничтожайте!»
— Уже за полдень, — после долгого молчания сказал Дик человеку, который стоял рядом с ним, седеющему старику — старателю из Корнуэльса. — Накормят они нас завтраком? Тот воззрился на него. — Видно, прежде не приходилось бывать здесь? — «Он молод, да еще и порядком глуп, если думает, что они привели нас сюда для кормежки». — Ты что, — в первый раз? — Да. — Оно и видно. Ну, что ж, — узнаешь. Хотя Дик был очень подавлен, но все же внимательно следил за невозмутимым старым корнуэльсцем, который молча уселся на землю, не обращая внимания на мух и беззвучно шевеля губами. Как бы Дик хотел научиться такому же хладнокровному отношению ко всему на свете! Наконец любопытство взяло в нем верх. — Не скажете ли вы мне, что вы шепчете? — Почему бы не сказать? — ответил старик. — Это гимны Джона Уэсли, которые я не раз певал на торфяных болотах. И когда я пою их, — я всегда вижу вересковые заросли вокруг Бодмина, и мне тогда хорошо. Целых три часа арестованные провели в наручниках, под жгучим солнцем, осаждаемые роями мух. Потом, наконец, появились первые признаки каких-то перемен. Нескольких старателей увели в помещение суда. Дик выждал, пока мимо него прошел один из полицейских. — Я хочу послать за отцом, — сказал он. Полицейский поднял брови. — Ты слишком молод, чтобы быть головорезом, но я, к сожалению, не могу бегать и ловить для тебя отцов. Придется тебе подождать и заявить об этом судье. Он прошел дальше, но Дику стало, легче оттого, что кто-то ласково поговорил с ним, и он сел на землю рядом с корнуэльсцем, пытаясь подражать спокойствию старика. Наконец пришел и его черед. Когда Дика ввели в помещение, где находился судья, в голове у него мутилось от жары, горло пересохло. От усталости он едва держался на ногах и не мог собраться с мыслями. Над его ухом забубнили чьи-то голоса… Дик с трудом понял, что обращаются к нему. — Отсутствие лицензии… объяснение… Голос был монотонный, безжалостный, усталый. Дик взглянул в блестящие острые глазки, которые рассматривали его пристально, но без интереса. Он начал объяснять, но его тут же оборвали. — Пять фунтов. Следующий! — Мой отец уплатит, — сказал он. — Мой отец… — Отходи, — гаркнул стражник. — Следующий! Эдвард Куин. Человек, сидевший за столом, раздраженно отмахнулся от Дика. Было что-то сказано о том, что его надо задержать, навести справки. Дик услышал, как следующий подсудимый — Куин — заговорил с сильным ирландским акцентом: — Да, сэр. Я только сегодня утром зажег лицензией свою трубку, — думал, что это проклятый счет от Робинзона; и в какой же ужас я пришел, когда понял, что зажег трубку правительственной бумагой! Раздались громкие голоса, угрожавшие, старателю привлечением к ответственности за оскорбление суда. Больше Дик ничего не расслышал, потому что его увели в помещение для ожидающих, где, по крайней мере, можно было сесть на скамью. — Можно мне напиться? — хрипло спросил он. Стражник принес ему тепловатой воды в оловянной чашке. Дик жадно выпил и почувствовал, что оживает. Полицейский записал, где он живет и имя его отца. Часы шли за часами. Дик был так счастлив, что в комнате прохладно и нет пыли, что почти перестал тревожиться. Все его мысли сосредоточились на ожидании отца, который, конечно, придет, как только получит известие о нем. Но как долго они промешкают, прежде чем послать за отцом? Вслед за Диком в то же помещение втолкнули несколько старателей, также ожидавших, что друзья или компаньоны внесут за них выкуп. Большинство сидело молча, свесив скованные руки между колен, но один старатель — полупьяный француз — все время болтал: — Я ему говорю: «Ви не понимайт. Что у вас глаз нет, лягави ви?» Я говорю: «Позовите консуль la France[20], мне нужен le comte de Moreton de Chabrillon[21]. Ви не понимайт. Immediatement. Le comte de Moreton de Chabrillon»[22]. Тут Дик услышал, что кто-то, стоявший у дверей, зовет его по имени. Он встал и пошел за стражником обратно в помещение суда, а француз кричал ему вдогонку: — Позовите le comte de Moreton de Chabrillon[23]. Никто другой ни к чему. Это все лягави. Дик с беспокойством оглядел помещение. Да, отец его здесь, бледный и встревоженный. Увидев Дика, он попытался ободряюще улыбнуться. — Пять фунтов, Ричард Престон, — повторял кто-то. Дик видел, как отец подошел к столу, стоявшему сбоку, и отсчитал деньги. У мистера Престона возник спор с судейским из-за векселя какого-то бакалейщика. — Он обанкротился, — сказал судейский. Мистер Престон принялся шарить по карманам в- поисках другого векселя, чтобы заменить отвергнутый. Дик дрожал от нетерпения. Когда же, когда же, наконец, будут уплачены деньги и все уладится? Когда можно будет снова дышать воздухом свободы? Вдруг он почувствовал какую-то заминку. Полицейский сиплым голосом говорил, указывая на Дика… Судья наклонился вперед, покусывая перо. Он ткнул кончиком пера сначала в сторону полицейского, потом в сторону Дика и нахмурился. — Штраф уплачен? — спросил он. — Да, сэр, — сказал мистер Престон, опережая судейского чиновника. — Все улажено. Могу я взять сына? — Вопрос об отсутствовавшей лицензии теперь урегулирован, — произнес чиновник. — Хорошо, — сказал судья невыразительным, дребезжащим голосом. — Арестованного задержать для доследования. Мистер Престон стал возражать, спрашивать, в чем дело, но ему велели «заткнуться» и вывели из помещения; выходя, он обернулся и бросил на Дика вопросительный взгляд, полный осуждения и любви. Дик почувствовал, что лишился последней опоры. Он услышал, как судья сказал: «Мальчик, ранивший лейтенанта Дальримпла…» Затем его снова увели — на этот раз в маленькую темную бревенчатую хижину. Тяжелая дверь захлопнулась за ним. Через щель в потолке в комнату проникал слабый свет. Он услышал, как кто-то заворочался на соломе. — Это что за несчастная свинья здесь? — раздался скрипучий голос. — Ох ты, несчастная свинья! Ручаюсь, что ты только старатель. Мерзавец ты! Послышался страшный, надтреснутый смех… — Не обращай на него внимания, — произнес голос из другого угла. — У него не все дома. Дружок. свистнул весь его золотой песок, а потом у него не оказалось лицензии и его схватили. Фараоны привязали его и еще несколько парней к дереву и оставили на ночь. После этого он и тронулся. Завтра он едет в психический гошпиталь. А ты что натворил, паренек? — Он — старатель! — закричал безумец. — Ох, несчастная свинья!
XII. Шейн в красном мундире
Дик с трудом проснулся и не сразу сообразил, где он находится. Все кости у него болели, и он ворочался с боку на бок на койке, разглядывая непривычную обстановку. Он все еще был в наручниках, и его ребра и запястья омертвели там, где во время сна к ним прижимался металл. Когда рассвело, Дик смог рассмотреть своих соседей. Один из них был пожилой, бородатый, другой — с виду лет тридцати, не больше, хотя в волосах его уже пробивалась седина. Этот второй заключенный и был сумасшедшим. Он сидел на краю койки, медленно покачивая головой из стороны в сторону. — Не смотри на него, — сказал пожилой, — не то он опять начнет болтать и не скоро угомонится. За что ты тут? Дик объяснил. — Меня обвиняют в краже, — продолжал сосед. — Но я невиновен. Просто мне не везет. Я не осуждаю полицию. Она предпочитает ловить кого следует, но кто-то наклепал на меня, и дело мое, кажется, плохо. Дик поверил соседу и сказал ему об этом. Тот принялся жать ему руку и клясться в вечной дружбе. Дику стало так жаль пожилого старателя, что он едва не предложил ему после отбытия наказания присоединиться к Престону и Сандерсу для разработки золотоносного участка. Но, вспомнив, что участок принадлежит отцу, промолчал. После скудного завтрака, состоявшего из грубого хлеба и водянистой каши, Дика вызвали на допрос в небольшое деревянное здание. Там за столом сидел офицер в пышном мундире. Как только Дик вошел, его схватил сзади за плечи полицейский и сильно встряхнул, а затем подтолкнул к улыбающемуся офицеру. — Садитесь, — сказал офицер сладким голосом, указывая на табурет. Дик, ошеломленный, сел. — А теперь, молодой мистер Ричард Престон, — продолжал офицер, — надеюсь, вы будете вести себя разумно. Иначе вы только повредите себе. Дик был слишком угнетен, чтобы говорить, поэтому он просто кивнул головой. — Вы знаете, почему вы здесь? — спросил офицер, пристально глядя на него. Дик кивнул головой. — Ах так, значит, вы знаете? — Офицер, казалось, был удивлен. — Так почему же? Дик все еще молчал. Он почувствовал, что полицейский вплотную подошел к нему сзади, чтобы снова встряхнуть, но офицер жестом отослал того на место. — Лейтенант Дальримпл был ранен во время беспорядков перед гостиницей Бентли. Вы при этом присутствовали? Дик кивнул головой. Сначала он решил было все отрицать, но за ночь пал духом. Ему хотелось одного — сказать правду и покончить с этим делом. Он не желал продолжать бесполезную борьбу. Лучше просидеть многие годы в тюрьме, чем терпеть дальше ужас ожидания и неопределенности. — Имеются свидетели, готовые присягнуть, что вы бросили поленом в лейтенанта Дальримпла, ранили его и помогли спастись бегством одному из вожаков бунта. Дик откашлялся и с трудом произнес: — Да, это правда. Офицер был удивлен и обрадован. — Хорошо, очень хорошо. Вот это я и называю разумным поведением. Я позабочусь о том, чтобы его зачли в вашу пользу. — Он откинулся на стуле. — Теперь еще один вопрос. Если вы и тут поведете себя разумно, то вам это очень поможет. Кому именно из вожаков вы помогли бежать? Дик молчал. Он забыл о неизбежности этого вопроса и вот теперь корил себя за то, что вообще признал себя в чем-то виновным. Все равно они будут мучить его, допрашивая и запугивая; изменятся только вопросы, которые они станут задавать. — Не знаю. Этого я не могу вам сказать. — Бросьте! — улыбнулся в ответ офицер. — Какой смысл сказать так много и не договорить до конца? Но Дик сурово стиснул губы. Никто не заставит его выдать Шейна. Офицер внимательно посмотрел па него и отметил упрямый взгляд и плотно сжатые челюсти. — Лучше скажите нам. Лучше скажите. Право, так будет лучше. Он быстро поднялся с места и сверху вниз посмотрел на Дика. — Не могу, — сказал Дик. — Не хочу. Он ничего не сказал, хотя сначала его забрасывал вопросами один офицер, потом другой. Наконец они решили на время оставить его в покое. — Этим вы не облегчаете свое положение, — сказал офицер в конце допроса. — Раз вы бросаете нам вызов, то не можете ожидать хорошего обращения с нашей стороны. Я снова поговорю с вами завтра утром, — посмотрим, что вы тогда скажете. Дик почти не слушал его. Ему хотелось только, чтобы поскорее кончился допрос. Теперь все свои надежды он возлагал на тот день, когда его повезут к судье — в Мельбурн, без сомнения, ибо власти боялись, что рассмотрение подобных дел в местных судах может вызвать беспорядки. Пусть бы уже с этим было покончено. Если ему предстоит тюрьма — а тюрьмы ему теперь не миновать, — то пусть он очутится там поскорее и начнет отбывать наказание, чтобы потом снова стать свободным человеком — человеком, которого никто не сможет обвинять, мучить и допрашивать. Его отвели назад, в бревенчатую хижину, и втолкнули туда. Проходя в своей угол, он перехватил взгляд, которым обменялись тюремщик и бородатый пожилой заключенный. Дик был так несчастен, что в первый момент не обратил внимание на этот взгляд, но затем сразу понял его смысл. Он припомнил быстро опустившееся веко заключенного и жест, который тот украдкой сделал. Этот человек был полицейским шпионом, подсаженным в камеру, чтобы вытянуть уДика признание. Дик сжал губы. О своей роли в восстании он уже поведал шпиону, но это было не страшно, потому что офицеру он тоже все рассказал. К счастью, он ни разу не упомянул имени Шейна. Шпион пытался снова втянуть Дика в разговор, но тот уклонился, сославшись на усталость и нездоровье. Дик теперь, удивлялся, как он мог поверить этому человеку; голос, который прежде казался ему грубовато-добродушным и искренним, теперь звучал елейно и фальшиво. В полдень сумасшедшего увели. Потом принесли обед — тушеное мясо. Дик продолжал не поддаваться на льстивые уловки шпиона. — У меня болит голова, — сказал он. — Ты мне теперь не веришь, думаешь, я и вправду вор, — ворчал тот. — Вот что получается, когда поговоришь по душам. Но я никак не могу отучиться от этого. Мне всегда кажется, что у всех душа так же нараспашку, как у меня, но когда-нибудь, верно, и я научусь уму-разуму. — Я совершенно не верю обвинению в краже, — ответил Дик, окончательно убежденный, что вообще не существовало никакого обвинения. — Но я не могу говорить. — Нет лучше средства, чем болтовня, чтобы почувствовать себя как дома и забыть про все беды, — сказал шпион с сердечностью, которая была отвратительна Дику, так как он знал, что она напускная. — У меня был друг, которого отчаялись спасти. Он уже совсем кончался. Но какой-то парень, который стоял за окном, начал рассказывать его любимую историю, да все и перепутал. Тут уж мой дружок не вытерпел. Он сел в постели и заявил, что хочет рассказать ее как полагается. История была длинная, и когда он окончил, то потребовал бренди и сбитых белков, а потом прожил еще пять лет и умер только потому, что однажды в ветреный день случайно попал на каток, а было это в Канаде. Дик не обращал на него внимания, хотя очень сердился на себя за то, что поверил этому человеку и верил бы до сих пор, если бы не перехваченный взгляд. Как это ужасно — не знать, кому верить! День тянулся медленно. Принесли хлеб и суп, и через открытую дверь Дик увидел небо, обагренное закатом. Есть Дику не хотелось, но суп он с жадностью выпил. Шпион устал от бесплодных попыток втянуть мальчика в разговор и только время от времени спрашивал, как его головная боль. Мрак сгущался, и вскоре Дик услышал храп шпиона. Он и сам впал в полузабытье и проснулся оттого, что дверь снова открылась и кто-то остановился на пороге. Вошли двое мужчин, один из них — с фонарем. Свет заиграл на красном мундире. — Зачем вам это нужно? — спросил грубый голос. — Он должен подписать бумаги, — ответил другой голос. — А как он это сделает в наручниках? Я слышал, что поступили новые важные сведения. Но я пришел сюда не для того, чтобы спорить с вами. Я передал вам приказ, и если вы отказываетесь повиноваться, пеняйте на себя. — Ну, ладно, вот он. Дик услышал, как звякнула связка ключей, и заметил, что стражник снял с нее один ключ. — Порядок. Я верну его вам, когда приведу заключенного назад. Дик задрожал от радостного ожидания. Второй голос был ему знаком. Это был голос Шейна. Дик с трудом верил своим ушам, но все же это был голос Шейна. Надежда внезапно вернулась к Дику, согревая и укрепляя. Он тихо лежал, боясь, как бы что-нибудь не выдало Шейна. Он видел отблеск света на металле, слышал пыхтенье и сопенье стражника. Позади него ворочался шпион, напряженно вслушиваясь в разговор. — А ну, вставай! Я же вижу, что ты не спишь! — закричал стражник. — Вставай или я подниму тебя сапогом. Капитан хочет видеть твою безобразную физию. Дик медленно поднялся, позевывая и моргая, делая вид, будто только что проснулся. Стражник схватил его и потащил из хижины. — Справитесь с ним сами? — спросил он Шейна. — Я уже сменился с дежурства, и все же меня стащили с постели. — Старый лгун! — сказал Шейн. — Вы же играли в карты. Дик пришел в ужас от безрассудства Шейна, вступившего в перепалку с этим человеком; но ссоры не последовало, стражник только проворчал: — Ну, так я мог бы быть в постели. Я говорил в официальном смысле. — Тогда возвращайтесь к своим картам. — Им следовало послать сюда двоих. Так было бы правильнее. — Ох, да убирайтесь вы! — сказал Шейн, который, как увидел теперь Дик, был одет в полную форму рядового, с винтовкой через плечо. — Вы думаете, мне не справиться с ребенком в наручниках? Стражник, ворча, ушел, закрыв дверь камеры и заперев ее. В тот же миг Шейн схватил Дика за шиворот и потащил за собой, прикрикивая: — Ну, пошел, и без глупостей! Ты из молодых, да ранний! Но едва они миновали освещенный двор и очутились в тени сарая, как Шейн прошептал: — Идем, дорогой мой! Мы не можем терять ни минуты. — Сними с меня наручники, — попросил Дик, готовый к любому приключению, как только с него снимут оковы. — Пожалуй, теперь их уже можно снять, — отозвался Шейн. — Протяни-ка мне руки. Зажав винтовку между колен, Шейн отомкнул наручники Дика и спокойно положил их вместе с ключом на землю. Дик стал растирать омертвевшие запястья. — Стой здесь, — сказал Шейн, — пока не услышишь мой свист. Взяв винтовку на плечо, он обошел сарай и очутился в освещенном пространстве между этим сараем и стеной. Здесь стоял только один часовой, потому что ему был отлично виден всякий, кто приближался справа или слева. Шейн пошел прямо на него. Часовой увидел человека в форме и стал в положение «смирно», думая, что ему принесли приказ от караульного начальника. — Распоряжение лейтенанта Гардайна, — сказал Шейн, подходя к часовому. — Примите! Он взмахнул винтовкой и ударил часового по голове. Тот упал. Шейн тихо свистнул. Дик тотчас же обежал вокруг сарая и очутился рядом с ним. — А ну, полезай, — сказал Шейн, положив винтовку на землю и сбрасывая с головы кивер. Он нагнулся, Дик взлез ему на спину, затем встал На плечи и, взобравшись на стену, уселся верхом.

— Прыгай, дурак! — прошипел Шейн. Дик прыгнул на ту сторону. Шейн поднял винтовку, воткнул ее дулом в землю и прислонил к стене так, чтобы получилась опора для ноги. С помощью этой опоры он подпрыгнул, ухватился за край стены, быстро подтянулся на руках и очутился по ту сторону. Раздался выстрел. Шейн и Дик пригнулись, хотя в этот момент они были невидимы и находились в безопасности, ибо стена отделяла их от преследователей; затем они побежали вниз по склону холма. В нижней своей части улица была хуже освещена, и они почувствовали себя увереннее, когда миновали группу разбросанных в беспорядке домов и достигли погруженной в темноту равнины. Время близилось к полуночи, и почти все костры уже погасли. В конце улицы Шейн сбросил с себя мундир и пояс. — Сюда! — сказал он и потащил Дика влево. Они побежали по лабиринту палаток и заброшенных выработок, стараясь обходить места, где еще горели костры. Наконец Шейн стукнул в дверь одного из сараев. Она тотчас же открылась, и оба беглеца проскользнули в сарай. — Ну, вот мы и в безопасности, Дик! — сказал Шейн тихим, довольным голосом. — Теперь дай-ка мне мои собственные штаны, а эти я сброшу. В сарае горела свеча; человек, открывший им дверь, светловолосый русский юноша, подал испачканные глиной штаны Шейна и ушел, несколько раз пожав руки Дику и Шейну. — Он почти не говорит по-английски, — заметил Шейн, — вот и старается выразить свои чувства другим способом. — Ты мне не рассказал, как это тебе удалось все устроить, — спросил Дик. — Ох, да тут особенно и рассказывать нечего, — ответил Шейн. — Все устроил не я, а красный мундир. Я, видишь ли, приметил среди солдат ирландского парня, и вот я и несколько моих друзей, то есть твоих друзей, потому что мы все теперь заодно, подпоили этого парня, а когда он напился до бесчувствия, — раздели его, и я натянул на себя его мундир. — А он тебя не выдаст? — Ну, нет! Нас было больше десятка, — все ребята, на которых можно положиться, и мы непрерывно вертелись вокруг него, так что теперь черта с два сумеет он отличить одного от другого. Он проснется, и у него будет трещать голова, он больше ни о чем не сможет думать, а к тому времени, когда его кончат пороть, он и об этом забудет. — Но как же ты заставил стражника отпустить меня? — Слушай, и я тебе расскажу. Мы уговорили солдата сказать нам пропуск, уверив его, что принесем водку, сделанную на настоящем ирландском винокуренном заводе, и не менее крепкую, чем сама Ирландия. И он дошел до такого состояния и так хотел выпить еще, что Когда мы все пошли домой вместе с ним, то это не показалось ему странным. Ну, а я хорошо знаю местность. Ты, верно, заметил караулку около ворот, где всегда стоит часовой — и днем и ночью. Я прошел через ворота, обогнул несколько строений, а затем отправился прямиком в караулку. Я знал, что лейтенант сидит в отгороженной каморке сбоку, потому что мне пришлось разок побывать там из-за лицензии, которую у меня стащили. Итак, я промаршировал в караулку, потребовал лейтенанта, вошел в каморку, вынул пистолет и сказал: «Одно слово — и тебе крышка». Ты даже представить себе не можешь, как он побелел. Сначала я всунул ему кляп в рот, затем привязал к стулу, оставив руки свободными. Я сказал ему, что написать, и он написал. Затем я связал ему руки и взял винтовку из пирамиды. Затем вышел и сказал часовому, что офицер велел его не беспокоить. Затем пошел и вызвал тюремщика, а остальное ты знаешь не хуже, чем я. Дик, запинаясь, начал благодарить Шейна. — Не трать слова понапрасну, — сказал Шейн. — Ты однажды спас меня от фараонов. Любезность за любезность! Будем надеяться, что больше нам не придется заниматься спасением друг друга. Совсем не обязательно, чтобы это превратилось у нас в привычку; что там ни говори, а это дело портит нервы. — Возражений нет, — сказал Дик. — Но что со мной будет теперь? Мне бы хотелось побывать дома. Несколько секунд Шейн молча смотрел на него. — Как ты думаешь, Дик, почему я ушел из дому? — Почему? — Потому что у меня не стало дома, а мать умерла на моих руках в канаве. Помещика звали Паркер. Великий мистер Паркер. Год был неурожайный, и мы не смогли уплатить арендную плату — вся наша деревня, семнадцать дворов. Так вот, Паркер был, как говорится, человеком слова. Он явился и начал бушевать. «Я всегда плачу свои долги, — сказал он. — Я требую, чтоб и со мной обращались так же. Платите», — сказал он. Тогда мы объяснили ему, что не можем заплатить. «Нет таких слов, как «не можем», «не могу», — сказал Паркер. — Я человек слова и плачу свои долги, а если б не платил, то был бы готов к тому, что меня выселят из дому. Убирайтесь отсюда со всеми вашими манатками, бездельники вы этакие!» И он всех нас выселил, а чтоб не было лишних разговоров, — в один день спалил все семнадцать дворов. «Разве я не могу распоряжаться своим имуществом, как пожелаю?» — сказал Паркер. Так что, видишь, я рано узнал жизнь. — Таких вещей нельзя допускать! — сказал Дик с горечью, рожденной собственным недавним опытом. — Нельзя, конечно, нельзя! — ответил Шейн. — В этом-то все дело. Ты вот теперь научился кое-чему; так не думаешь ли ты, что стоит вступить в борьбу за свободу и справедливость, даже если при нашей жизни из этого ничего не выйдет? Разве скваттеры, которые пытаются здесь все захватить в свои руки, не те же паркеры? Вот с ними мы и боремся. Только благодаря им полиция стала такой самоуверенной и всемогущей. Так не думаешь ли ты, что стоит сразиться со всеми паркерами этого забавного мира? — Стоит, — сказал Дик. — Определенно стоит.
ХIII. В укрытии
Шейн ушел из сарая до рассвета. Он сказал, что должен посоветоваться с друзьями о дальнейшем. Все произошло так внезапно, что, кроме самого побега, ничего не было организовано, но кто-нибудь, несомненно, что-нибудь придумает. Дик, голодный, ждал в сарае и мучился желанием скорее увидеть родителей, успокоить их. Порою ему казалось, что лучше всего сдаться полиции и отбыть наказание, каково бы оно ни было. Затем его снова охватывала жгучая решимость не покоряться… К приходу Шейна голод и чувство одиночества довели Дика до того, что он почти жаждал сдаться, но, завидев лицо друга, отбросил все сомнения. А когда Шейн вытащил кулек с хлебом, сыром и куском холодного пирога, Дик почувствовал, что сдача была бы проявлением величайшей слабости и постыднейшим из поступков. Слушая Шейна, он съел все до крошки. — Ребята послали меня к Фреду Верну. Он немец, но парень хороший. Один из членов Лиги Реформ. Ты на днях слышал его речь. Он немножко болтун, но все же на него можно положиться. У него есть друг, миссис Вертхайм, и она тебя спрячет. У нее собственный дом. Слишком рискованно прятаться в сараях и палатках, — тебя обязательно увидит кто-нибудь. — Но какой вообще смысл прятаться? — спросил Дик, снова пав духом. — Неужели мне придется всю жизнь прятаться от закона? — Что за странный вопрос! — ответил Шейн. — Я же тебе говорил, что ребята собираются выступить в бой за свободу! Разве ты не хочешь быть здесь, когда настанет этот день? — Ну, а если не настанет? — Будь покоен, — настанет. Но допустим даже, что нет. В этом случае ты тоже ничего не потеряешь, если спрячешься у миссис Вертхайм. Сперва надо выждать, пока вся эта шумиха уляжется, а затем уже двигаться дальше. Тогда ты сможешь улизнуть в Сидней или в Новую Зеландию, и никто даже не посмотрит в твою сторону, словно ты это не ты; а твои близкие смогут последовать за тобой. — Ты сообщил им, что я на свободе? — Да, я сказал одному из ребят, чтоб он передал об этом твоему отцу, — мне самому лучше туда пока не ходить. Полицейские, возможно, следят за всеми, кто приближается к спичечной коробке, которую ты называешь своим домашним очагом. А я не хочу наводить их на свой след. — Правильно, — сказал Дик. Он встал с места, снова полный смелости и решимости. — Прости, что я так раскис. На теперь обещаю, что всегда буду заодно с вами со всеми, и это мое последнее слово. Больше я не буду тебе докучать. — Это еще не называется докучать! — со смехом сказал Шейн. — Просто заговорил твой пустой желудок, я по себе знаю. — Ну, так пошли. Шейн схватил его за руку. — Ты, видно, совсем рехнулся, если собираешься идти на улицу днем! Придется тебе подождать темноты, паренек. А теперь мне пора идти. Я вернусь только после захода солнца, но кто-нибудь принесет тебе еще еды, и что бы ни случилось, — не вылезай из сарая, какой бы сильный припадок бродячей болезни с тобой ни приключился. — Я не сойду с места. Обещаю тебе, — сказал Дик; и Шейн ушел. Дик прилег, продолжая лихорадочно размышлять, но усталость взяла свое, и он уснул. Вскоре после полудня ему принес мешочек с провизией юноша канадец, который успокоил Дика, сказав, что через несколько минут будет говорить с мистером Престоном. — Передай ему, чтобы он не тревожился, — попросил Дик. — И еще скажи, чтоб он заставил Сандерса проверить крепления. — Тебе повезло, что ты убежал из кутузки, — сказал канадец. — Ты получил бы по меньшей мере пару лет каторжных работ. Уэстерну дали шесть месяцев за участие в беспорядках, а он даже близко не подходил к «Эврике». — Я не так уж беспокоюсь за себя, — серьезно ответил Дик, —но все-таки хотелось бы знать, чем все это кончится. — Не изводись понапрасну, брат. Правительству придется сдаться, и мы заживем по-новому. Это я знаю твердо, а большего и не хочу знать. Мы постараемся уладить все миром, но если будет нужно, — что ж, уладим по-другому. Ты Кеннеди знаешь? — Я слышал его речь. — Он хороший человек. Один из членов Лиги. Когда продажные болтуны начинают говорить о том, что все надо сделать вежливенько, надо объяснить людям, как неправильно они поступают, — Кеннеди встает и поет:
Увещеваний не слушает враг,
Лучшего довода нет, чем тумак!
— Ну вот, может, если сэр Чарльз Хотхэм не возьмется за ум, то мы дадим ему хорошего тумака и спросим, нравится ли ему это, заешь его собаки! После ухода канадца Дик доел принесенную еду, и ему захотелось поразмяться. Он стал бродить по хижине и заглядывать во все щели подряд. Иногда мимо сарая проходили старатели, иногда женщины, а однажды прошел полицейский солдат. Дик отпрянул от щели в страхе, что он обнаружен, что биение его сердца или легкое посвистывание воздуха при дыхании могут выдать его даже в том случае, если солдат ничего не подозревает. Но все обошлось благополучно. Солдат больше не появлялся. Затем Дика напугал мальчуган, который, убив на камне жука, начал бесцельно заглядывать в сарай через самые широкие щели. Хотя Дик знал, что снаружи ничего не видно, он решил, что тот выследил его. Мальчишка подошел к двери и попробовал ее открыть, но Дин уже раньше задвинул засов. Он сидел, скрючившись, ожидая, что мальчик начнет колотить по непрочной стене из древесной коры, и одновременно доказывая себе, что попытка открыть дверь — хороший знак, потому что такой карапуз не решился бы на это, если б не был уверен, что сарай пуст. После этого мальчик ушел. Дик стал с нетерпением ждать Шейна, теперь уже убежденный в том, что шаткие постройки на равнине, наскоро сооруженные из кое-как отесанных эвкалиптовых досок, коры, мешковины, парусины, дранок и жести, — плохое укрытие от полицейских. Наконец, спустились сумерки, и вскоре пришел Шейн. — Я не принес тебе никакой еды, — сказал он. — Но я думаю, ты достаточно съел, чтобы не умереть с голоду, а если ты мило улыбнешься, то тебя скоро накормят как следует. Возьми, надень это на себя. Он бросил Дику свернутую одежду. Дик развернул сверток, любопытствуя, какой костюм ему придется надеть. — О, Шейн! — вскричал он с отвращением. — Это же девчоночье платье! — Именно! — ухмыльнулся Шейн. — Влезай в него, мой мальчик. Дик чуть было не взбунтовался, но, поразмыслив, решил, что лучшей маскировки для хождения по шоссе не придумать, и настоял только на праве носить под юбкой свои штаны. — Только хорошенько подверни их, — сказал Шейн. — Я сведу тебя к миссис Вертхайм. Она живет возле гостиницы «Герцогиня Кентская», которой заправляет — о чем ты, вероятно, не знаешь — миссис Спанхейк, старинная приятельница Верна. Верн дал клятву, — вернее, целый десяток клятв, — что миссис Спанхейк можно доверять, а миссис Спанхейк ручается головой за миссис Вертхайм. Но тебе нельзя ходить по дороге в собственном обличье, так что залезай скорее в эти финтифлюшки, а я возьму тебя под ручку и отведу в твое новое жилье. — Сколько мне придется там прожить? — Надеюсь, недолго. Губернатор отклонил требования делегации. Задал .ей перцу. Послезавтра на холме Бэйкери будет общая сходка, так что скоро придет и твое время. С помощью Шейна Дик напялил на себя блузу, нижнюю и верхнюю юбку, шаль и чепец. Башмаки были ему малы, их пришлось разрезать, чтобы он мог всунуть в них ноги. Но Шейн сказал, что легкая хромота только украсит Дика. — У тебя будет грациозная, покачивающаяся девичья поступь. Любой полицейский при виде тебя растает и подумает, что ты напоминаешь ему далекую возлюбленную. И пора нам уже убираться отсюда. Один из наших парней видел, что поблизости бродил тип, про которого известно, что он осведомитель, черт его подери! Они тихонько выбрались из сарая — причем Дик опирался на руку Шейна — и благополучно вышли на шоссе. Затем им пришлось выдержать испытание в виде сверкающих огней и шумной толпы. Дважды полупьяные старатели пытались остановить Шейна и отпускали замечания .насчет его девушки, но Шейн и Дик продолжали идти быстрым шагом и, наконец, очутились перед домом миссис Вертхайм. — Она сдает квартиры, — сказал Шейн, — но в данный момент у нее только один постоялец — доктор, янки и хороший парень, телом и душой преданный делу свободы. Ты можешь доверить ему свою жизнь, кошелек и вообще все, что у тебя есть при себе. Стучать в дверь не пришлось. Она сразу же открылась, и Дик с Шейном вошли в дом. Хозяйка выкрутила фитиль керосиновой лампы, которая до этой минуты тускло горела на подставке в прихожей, и Дик увидел толстую добродушную женщину. Она внимательно разглядывала его. — Himmel![24] Это же настоящая картинка! — сказала женщина с сильным немецким акцентом, воздевая к небу пухлые руки. — Козима! В конце коридора появилась девочка примерно того же возраста, что Дик, со светлыми волосами, заплетенными в толстые косы, и блестящими синими глазами. — Да, тетечка? Дик пришел в ярость оттого, что Шейн не предупредил его. В одежде девочки он чувствовал себя ужасно глупо. — Тебе не стыдно, — сказала миссис Вертхайм Козиме, — смотреть на человека, который, даже переодетый, выглядит таким чистеньким и аккуратным? Я уверена, что он впервые в жизни носит юбку и при этом у него вид более аккуратный, чем у тебя, которая носит ее с рождения. Девочка тряхнула головой, ее льняные косы подпрыгнули. — По-моему, он выглядит ужасно, — холодно заметила она, — и смешно. Дик уже успел покраснеть, но, услышав оценку своей внешности, почувствовал желание выскочить назад на шоссе, какие бы опасности его там ни ожидали. Он попытался укрыться за спиной Шейна, но тот опрокинул его расчеты, вежливо подтолкнув вперед. — Не обращайте на нее внимания, — сказала миссис Вертхайм. — Она очень своевольная девица. — Можно ли ей довериться? — тихо спросил Шейн у миссис Вертхайм. — Довериться? — повторила она и повернулась к девочке, которая не мигая враждебно смотрела на Дика. — Козима, где был убит твой отец? — На баррикадах Дрездена, — резко сказала девочка и, к облегчению Дика, отвела от него взгляд. — И я хотела бы тоже быть там, чтобы умереть с ним и бросить вызов тиранам всего мира. Шейн и миссис Вертхайм улыбнулись в ответ на этот, исполненный энтузиазма, возглас. Но на Дика он произвел впечатление. Ему казалась прекрасной эта девочка, которая стояла в светлом круге от лампы, откинув назад золотистую головку, и он забыл о ярости, охватившей его, когда услышал ее оскорбительное замечание.

— Отведи его наверх и покажи, где его комната, — сказала миссис Вертхайм. — В мои годы не стоит лишний раз лазить по лестнице. — Идем! — повелительно сказала Козима. Не глядя, следует ли он за ней, она поднялась по лестнице. Дик шел сзади, крепко держась за перила, потому что башмаки спадали у него с ног. — Вот твоя комната, — сказала она, резко распахивая дверь. — Надеюсь, ты не храпишь? — Конечно, нет, — возмутился Дик. — Думаю, что не храплю. До сих пор никто не жаловался. — Ну, так и не вздумай начать теперь, — сказала Козима. — Я сплю в соседней комнате, и если кто-нибудь мешает мне заснуть, я готова убить такого человека. Она угрожающе посмотрела на Дика, и он поразился, что у девочки с таким нежным округлым лицом может быть столь свирепый вид. — Я это уже испытала; несколько месяцев назад здесь жил один постоялец, и он храпел. — Ты его убила? — спросил Дик, к которому теперь, когда Шейн и миссис Вертхайм не могли больше посмеяться над ним, стало понемногу возвращаться мужество. — Он уехал как раз вовремя, — сдержанно ответила Козима. Она повернулась, чтобы уйти, но остановилась в дверях. — Послушай, ты… как тебя зовут? — Дик Престон. — Ну, так вот, Дик Престон. Я не думала того, что сказала внизу. Просто мне нужно было поставить ее на место. Она цепляется решительно за все, чтобы прочитать мне мораль. А я не выношу этого. Я ненавижу, когда меня пичкают моралью, поучениями и притчами. Если мне ставят кого-нибудь в пример, я готова убить этого человека. И я просто не выношу уроков музыки. Я с удовольствием убила бы человека, который изобрел фортепиано; а ты? Я не возражаю против труб, но они не хотят учить меня играть на трубе, они хотят, чтобы я училась играть на фортепиано. Так что, как видишь, я не думала того, что сказала. — Я рад… — запинаясь пробормотал Дик. — Я… — Потому что, видишь ли, — сказала она, — ты, по-моему, такой хорошенький, что этого не выразишь словами. И, хлопнув дверью, она шумно сбежала по лестнице.
XIV. Приятная передышка
Дик чуть было не отказался перебраться из сарая к миссис Вертхайм, так как думал, что ему будет там очень тягостно. Однако на следующий день — 29 ноября — он вдруг захотел, чтоб события не развивались слишком быстро. Ему понравилась по-матерински ласковая миссис Вертхайм, все интересы которой сосредоточились на кулинарии и Козиме. Он был очарован Козимой. И кроме того, ему удалось немного побеседовать с американцем, доктором Кенворти, человеком, много путешествовавшим и много думавшим. У доктора Кенворти было что рассказать и о Калифорнии, и о конституции Британии и США, и о народном движении в Европе в 1848 году, во время которого погиб отец Козимы. Козима дополнила его повествование фантастическим описанием революций 1848-1849 годов, в котором не было ни начала, ни конца, и хотя Дик мало что понял из ее слов, но все же был глубоко взволнован. К тому же миссис Вертхайм замечательно стряпала; Дику никогда еще не доводилось пробовать блюда, какие она умела готовить; впрочем, даже у самой обыкновенной еды, поданной ею, был совсем особенный вкус. — Вам нужно прибавить в весе, — сказала она с явным удовольствием. — То-то и оно. Прибавить в весе. Она вернулась на кухню. Мир теперь совершенно преобразился для Дика. Все в нем приобрело новый смысл. Перед мальчиком открывались неведомые дали, и он больше не рассматривал то, что произошло в Балларате, как случайные беспорядки, вызванные обидами нескольких тысяч старателей. Он рассматривал их как звено в цепи непрерывных усилий, прилагаемых людьми во имя мира и справедливости. Слушая, он думал именно об этом, хотя не мог найти слов для выражения своих мыслей. Происходило нечто великое, и сам он тоже был частью великого. Нечто великое потому, что все усилия добиться свободы каким-то образом объединялись, сплетаясь в силу, которая когда-нибудь станет необоримой. — Я полагаю, — сказал Кенворти, выставляя вперед челюсть, — что мы никогда не достигнем полностью того, к чему стремимся. Люди с незапамятных времен кричат о свободе, и все-таки они еще очень далеки от нее. Однако всякая малость идет на пользу делу. Я верю в это. Одно добавляется к другому. И наступит день, когда правда победит. Но даже если этого и не случится, все равно мы должны продолжать борьбу. Именно борьба делает нас свободными. — Довольно людям быть рабами, — прервала его Ко-зима, подпрыгивая на софе от распиравшего ее желания высказаться. — Я презираю рабов! — Вы совершенно правы, мисс, — сказал Кенворти. Он снова повернулся к Дику. — Мы свободны, пока боремся, даже если через тысячу лет о нас скажут: «Эти бедняги все были тогда рабами». Да, молодой человек, такова моя философия. Зарубите ее себе на носу. Дик, наотрез отказавшись носить и дальше женское платье, снова надел рубашку и штаны. Однако миссис Вертхайм требовала, чтобы без блузки и чепца он и думать не смел подходить к окнам. — Кто-нибудь обязательно заметит вас. Вы не женщина, поэтому не знаете, что такое соседи. Женщина, да еще вдова, сразу поняла бы все. А впрочем, может, вы и понимаете, раз у вас есть мать; и, надо думать, вы иногда слышите, что она говорит? Большинство людей и живет-то на свете главным образом для того, чтобы говорить, говорить, говорить, особенно в таком маленьком городке, и если не поостеречься, все они начнут болтать: «У миссис Вертхайм живет молодой человек, кто бы это мог быть?» И они придут одолжить соли или спичек или еще чего-нибудь и скажут: «А кто будет ваш новый жилец, миссис Вертхайм? Не правда ли, красивый парень?» — и все это с улыбочками, и не успокоятся, пока не докопаются до всего. Но я повсюду рассказываю, что к Ко-зиме приехала из Мельбурна подруга, а так как у нее никаких подруг нет… — Не желаю никаких подруг! Не стану заводить подруг! Противные девчонки! — сверкая глазами, выпалила Козима. — Как раз это я и хотела сказать, Козима. Зачем тебе нужно было обязательно ввернуть свое слово? Так вот, молодой мистер Престон, поскольку у Козимы нет подруг, никто не станет совать сюда нос, чтобы узнать, которая из них приехала. Итак, Дик обещал не подходить к окнам, не болтаться в коридоре, не ходить на кухню и не выглядывать во двор. А Козима обещала не выпускать его из виду, чтобы он не забыл об этом. Позднее в тот же день в городке началось смятение, послышался гул голосов, издалека донеслись глухие выстрелы. Кенворти еще не возвращался, а миссис Вертхайм не разрешила Козиме выйти из дому и разузнать, в чем дело. — Чем меньше мы будем привлекать к себе внимание, тем полезнее для нас, — сказала она. Козима и Дик затеяли страстный спор о том, что именно случилось. Дик предполагал, что между конной полицией и старателями произошла небольшая стычка, Козима же держалась мнения, что произошла всемирная революция, направленная против всех тиранов и рабовладельцев. Миссис Вертхайм сказала, что она не видывала такого возбуждения со времени скачек во Флемингтоне, на которых была год назад. Однако около десяти часов вечера явился Шейн, и Ко-зима сразу же бросилась к нему, требуя, чтобы он подтвердил ее догадку о событиях этого дня. — Вы могли бы ошибиться и сильнее, — сказал Шейн. — Дела идут неплохо. Губернатор прислал войска, чтобы запугать нас. Ребята забросали камнями полицейских и атаковали солдатню из Мельбурна, хотя у тех были с собой две пушки. Это было в лощине Уорренхайт. Они отрезали обоз и перерыли несколько повозок в поисках ружей и патронов. Но, к сожалению, им не повезло. Там было только продовольствие и обмундирование и всякие такие вещи. Они преследовали войска почти до ворот правительственного лагеря. Но потом оттуда ринулись на них конные полицейские и ранили нескольких наших. Мы отошли, а солдаты залезли назад в лагерь, и, надо сказать, вид у них был плачевный. — Сколько вы убили? — с восхищением спросила Ко-зима. — Ну, чтобы быть точным, мисс, — сказал Шейн, — должен признаться, — ни одного. Хотя нескольких ранил. — Они наемники тирании! — воскликнула Козима, и глаза ее засверкали. — Ну, ну, не растравляй себя, а то у тебя будет несварение желудка, — сказала миссис Вертхайм. — Я бы не позволила тебе наесться яблочным пирогом и драче-ной, да еще после ростбифа, если б знала, что ты потом договоришься до такого состояния. Теперь ты не будешь спать целый месяц. — Неправда! Отвратительная неправда! — ответила Козима и добавила с торжеством: — Я никогда не сплю. Я и не подумаю спать, пока не будет провозглашен Свободный Мир. — Осторожнее на поворотах, — сказал Шейн, почесывая затылок. — Мы сделаем для вас все, что сможем, мисс, но вам придется туговато, если на это потребуется год или вроде того. — Но ведь года не потребуется, — правда? — обратилась Козима к Дику. Дик покраснел. — Конечно, нет. Он знал, что Шейн в душе смеется над ним, и хотя готов был признать, что высокие принципы Козимы выглядели иногда ребяческими в применении к действительности, все же не мог согласиться с Шейном и миссис Вертхайм, которые явно считали их смешными. — Ну, оставим пока политику в покое, — сказала миссис Вертхайм. — У меня в печке вкусный пирог, и, может быть, мистер Корриген согласится разделить с нами наш скромный ужин. — Безусловно, — отозвался Шейн, — и вот доказательство моей правоты, когда я говорил, что у вас золотое сердце и проницательность патера Мак-Гайра. Впрочем, прошу прощения, вы, наверное, не знаете его. Он был священником в моей деревне и нагонял на меня ужас в детстве, потому что от него нельзя было ничего утаить. Никогда не забуду дня, когда я стоял, дрожа, перед ним, а он орал: «Не вздумай врать, Корриген, говори, что ты прячешь в шапке!» Я ему говорю: «Ваше преподобие, там только большая картофелина, которую я подобрал на дороге», а он в ответ: «Теперь я понимаю, почему у меня гак плохо уродился картофель». Ох, он был великий человек! — И молодому мистеру Престону тоже надо перекусить. — Миссис Вертхайм благожелательно улыбнулась. —Он растет и нуждается в питании. Ему это необходимо. В его возрасте нужна пища, которая укрепляет кости. — В моем тоже, — сказала Козима. — Ни в коем случае, — возразила миссис Вертхайм. — Ты и так съела больше, чем нужно, и теперь не будешь спать всю ночь. — У меня столько же костей, сколько у него, — возмутилась Козима. — Если вы не дадите мне есть, я больше никогда не буду заниматься музыкой. Изрублю топором фортепиано. Убью учителя, пусть даже это будет милый и добрый герр Бромбергер и пусть у него будет пятеро детей, которых я ненавижу! — Ну, ладно, так и быть на этот раз, — со вздохом согласилась миссис Вертхайм. — По случаю гостей. Но ты ведь знаешь, как ты мучаешься от несварения. И, прежде чем Козима успела открыть рот, миссис Вертхайм вышла из комнаты. — Какая бесстыдная ложь! — сказала Козима. — У меня в жизни не было несварения. Ни единого раза. Она это говорит, просто чтобы унизить меня. Губы ее задрожали, на глаза навернулись слезы. — Не принимайте это близко к сердцу, — сказал Шейн. — У меня вот, признаюсь, много раз было несварение. — Да, но вы — мужчина! — топнув ногой, воскликнула Козима. — Мужчине все можно. Не то, что девочке. Ох, если бы я была мужчиной! — Ну, ну! — сказал Шейн. — Вы же взяли верх над вашей тетей. Вам дадут кусок пирога. — Да, это верно, — сразу утешилась Козима. Дик никак не мог решить, была ли Козима вправду самой красивой девочкой на свете или ему это казалось: до сих пор он еще ни разу не вглядывался ни в одну девочку. И он дал себе слово внимательно рассматривать всех, кого он встретит, чтобы собрать материал для сравнения. — Сыграй нам, Козима! — крикнула миссис Вертхайм из коридора. — Не хочу! — отозвалась Козима. Потом она обратилась к Дику и Шейну: — Я раз слышала человека, который замечательно играл на фортепиано. Он изображал грозу, и это было как настоящая гроза. Но как я ни стучу по клавишам, у меня все равно так не выходит, хотя, — добавила она с гордостью, — однажды я даже порвала струну. — Пожалуйста, сыграйте нам что-нибудь, — сказал Шейн, опередив Дика, который тоже хотел попросить Ко-зиму об этом, но был обескуражен ее явным отвращением к фортепиано. — Только не грозу, а что-нибудь помелодичнее. — С удовольствием. Козима подошла к инструменту, села на табурет, сгорбилась и подняла руки, плотно прижав локти к бокам и неуверенно растопырив пальцы. Она громко и очень тщательно отбарабанила песню: «На ней был веночек из роз». — Отвратительно, — правда? — спросила она. — Да нет, что вы, милая барышня. Так же красиво, как ваше личико, — ответил Шейн. — Именно эту песню я люблю слушать после драки с полицейскими и солдатней. Сыграйте ее нам еще раз. Козима снова заиграла, — так же тщательно и без всякого выражения. — Помоги мне накрыть на стол, Козима! — позвала миссис Вертхайм. — Не хочу! — ответила Козима. — Я очень голоден, — бросил вскользь Шейн. — Ах, бедняга, вы голодны? — Козима вскочила с табурета. — Сейчас помогу тете побыстрее управиться с ужином. Она выбежала из комнаты. Шейн улыбнулся. — Забавное существо. — Он снисходительно покачал головой. — Девочка, — что с нее возьмешь! Дик воззрился на него, потрясенный тем, что человек может быть так слеп.
XV. Восстание
Следующий день прошел так же приятно. Невозможность принять участие в сходке старателей на холме Бэйкери огорчила Дика меньше, чем огорчила бы в прежние дни, когда рядом с ним не было Козимы. Зато Козима очень волновалась и хотела тайком удрать из дому. — Я переоденусь мальчиком, — предложила она, — а ты снова оденься девочкой, и нас никто не узнает. — Правильно, не узнают, — заметил Дик, — и меня не пустят на сходку. Кенворти вернулся домой, не дождавшись окончания сходки, и рассказал Дику, что старатели водрузили на флагштоке знамя восстания — «Южный Крест». Оратора, призывавшего действовать только увещеваниями, чуть не разорвали на клочки. Старатели были разгневаны и полны воли к действию. На сходке было принято несколько резолюций. В одной из них осуждались слова помощника главного судьи в Мельбурне, который назвал порочной и преступной борьбу английских и ирландских рабочих за лучшие условия жизни. Потом явился Шейн. Он рассказал об остальных резолюциях. Старатели избрали исполнительный комитет Лиги Реформ. Был составлен протест против поведения военных, которые вводили в мирные поселки отряды солдат с примкнутыми штыками и приказывали полицейским и солдатам стрелять в народ, не прочитав предварительно вслух закона о мятежах. Была также осуждена вся система выдачи лицензий. Старатели единогласно решили сжечь все лицензии и наотрез отказаться от новых. Что сможет сделать правительство с десятками тысяч нарушителей закона о лицензиях? — И мы их действительно сожгли, — рассказывал Шейн. — Вам бы надо было посмотреть, как проклятые бумажки летели в огонь — сотни и сотни этих бумажек! Неплохо было погреть руки у такого костра. И, конечно, старатели во всех других крупных поселениях последуют нашему примеру. Пришел конец тирании военщины. — А как, по-твоему, отнесется к этому правительство? — спросил Дик. — Придется им на все согласиться, не поморщившись, — ответил Шейн. — Что они еще могут сделать? — Нет, они и не подумают соглашаться, — спокойно возразил Кенворти. — Все не так просто. Кого поддерживает правительство? Английских землевладельцев. Кто входит в Законодательное собрание? Ставленники правительства и представители скваттеров, — людей, которые заграбастали всю землю и во что бы то ни стало желают сохранить за собой свои огромные поместья. Они будут бороться с вами до последней крайности. Дело не в том, что нравится полицейским и солдатам, а в том, что им прикажут делать. — Ну, и что же из этого следует? — спросил Шейн. — Боритесь и победите! — Кенворти хлопнул Шейна по спине. — Я с вами до конца. При таком обороте событий Дик почувствовал к ним новый прилив интереса. Ему хотелось знать, что предпримут власти. На следующее утро Козиму отправили за покупками и за новостями. Вернувшись, она сообщила, что полиция и солдаты предприняли новую проверку лицензий, еще более беспощадную, чем в прошлый раз. Старателей арестовали скопом, прогнали по всей долине и обошлись с ними грубее, чем когда бы то ни было. — Я слышала такую страшную историю! — продолжала Козима. — Ее рассказал в лавке один человек. Священник. Он рассказал, что отправил своего слугу отнести собранную среди благотворителей еду голодающим старателям. Полиция арестовала слугу, хотя он вовсе не был старателем. Он слабый калека и поэтому попросил, чтобы его не тащили через всю долину, а отвели прямо в суд, и тогда конный полицейский свалил его на землю и избил. В конце концов суд приговорил его к пяти фунтам штрафа, а когда священник заплатил их, слугу снова вызвали в суд и обвинили в нападении на полицейского и снова приговорили к пяти фунтам штрафа. Диком овладела утихшая было ярость. Он шагал взад и вперед по комнате. — Я не могу оставаться здесь, когда кругом происходят такие события! — сказал он. — Пусть меня узнают, но я должен идти. Козима подбежала к нему, обняла и расцеловала. — Мой герой! — воскликнула она и тут же окатила Дика холодной водой, добавив:- Я бы хотела расцеловать вас всех! Дик поспешил к холму Бэйкери. Отряды полицейских и солдат, предшествуемые цепями стрелков и охраняемые с флангов кавалерией, построившись в боевые порядки к югу от правительственного лагеря, шли теперь на прииски. Старатели отступали, временами останавливались, но задержать противника не могли. Взяв пленных, полицейские вернулись в лагерь. К тому времени, когда Дик добрался до холма Бэйкери, там уже снова развевалось синее, усеянное серебряными звездами знамя повстанцев. На холме Дик увидел толпу людей, охваченных энтузиазмом. Питер Лейлор, не расстававшийся с винтовкой, стоял на пне, откуда произносились речи, и кричал: — Стройтесь, ребята! Старатели торопливо сбегались, держа в руках такое оружие, какое им удалось раздобыть, и, повинуясь словам и жестам Лейлора, строились в длинные неровные ряды. Дик встал в ряд, самый близкий к Лейлору. Незнакомый человек заносил в книгу названия образовавшихся отрядов и имена их командиров. Дик видел, как к Лейлору подбежал итальянец Рафаэлло. Лейлор взял его за руку и показал на группу невооруженных немцев и итальянцев. — Синьор, мне нужен как раз такой человек, как вы. Скажите этим джентльменам, что, если они не могут раздобыть огнестрельное оружие, пусть каждый возьмет кусок железа, дюймов шести в длину, и прикрепит к дубинке. Такой пикой они вполне смогут пронзить тиранов насквозь. Рафаэлло отвел своих людей в сторону и передал им указания Лейлора. Раздался оглушительный взрыв криков, угрожающих и веселых. Люди бегали взад и вперед, спорили, ободряли друг друга, делились новостями, обращались к Лейлору за подтверждением какого-нибудь приказа или за помощью в затруднительном положении. Только что назначенные командиры ревностно обучали своих людей начаткам военной дисциплины. Вооруженные старатели, дефилируя перед Лейлором, произносили слова присяги повстанцев: — Клянемся Южным Крестом нерушимо стоять друг за друга и бороться, защищая наши права и свободы! Дик увидел Шейна и вышел из рядов, желая перемолвиться с ним словечком. Шейн обменялся с Диком рукопожатием и дал ему револьвер. — У меня их два, малыш. — Он толкнул Дика к крупному румяному немцу. — Знаменитый борец за свободу Фред Верн, а это патриот Дик Престон. — Искренно рад знакомству с тобой, товарищ! — сказал Верн, стискивая ручищей руку Дика, а потом потрясая длинной шпагой. — Пришел час расплаты с угнетателями. Я, Фредерик Верн, клянусь в этом. Горе тому, кто встанет на моем пути. Месть моя будет ужасной, и говорю я это в здравом уме и твердой памяти. Дрожите, деспоты земли, ибо Фредерик Верн обнажил свою шпагу. Пусть исполнится правосудие даже наперекор небесам. Потом он понизил голос и доверительно сказал Дику: — Я храбрый, очень храбрый человек. Почему мне не признаться в этом? Ты сам увидишь. Ты тоже не из робких. Для такого малыша ты исполнен доблести, и я жму тебе руку с большим восторгом. — Пойдем, познакомься с Лейлором, — сказал Шейн, уводя Дика. Верн, на прощание, помахал им шпагой. Кричаликомандиры, проверяя по спискам своих людей. Кто-то стрелял из револьвера. Лейлор стоял на пне, озираясь по сторонам. Когда Шейн с Диком подошли к нему, он слез с пня. — Это мой друг, — сказал Шейн. Лейлор пожал Дику руку. — Хорошо быть среди друзей, — сказал он. — Всегда хорошо, а в такое время особенно. Мой друг, мы больше не балларатские старатели, мы идем по следам греков в Фермопилах, мы выходим на арену истории. Он повернулся и крикнул красивому ясноглазому юноше канадцу: — Капитан Росс, пусть люди рассчитаются по двое.

Передав приказ другим командирам, Росс подбежал к флагштоку и снял знамя. Потом, привязав его к палке, он стал во главе повстанческих отрядов. — К холму Эврика, защитники Южного Креста! — крикнул Лейлор, и колонна двинулась.

Кое-кто нес на плече винтовку, другие тащили наточенные пики, у третьих были только кирки или лопаты. Дик шел рядом с Шейном. У костела повстанцы свернули и пошли через лощину. Отряд Дика был одним из передовых. Поднявшись на холм Эврика, мальчик оглянулся. Он увидел, что сдвоенные ряды повстанцев растянулись по всей широкой лощине и ее дальнему склону до самого костела. Когда последний ряд взобрался на холм, Лейлор велел строить баррикаду — не столько в качестве укрепления, сколько для того, чтобы образовать заслон, за которым можно было бы без помех проводить учения и заниматься подготовительными работами. Размещенный в отгороженном лагере штаб повстанцев должен был внести большую четкость в ход восстания. Пространство, площадью приблизительно в акр, было наспех обнесено оградой из бревен, перевернутых телег, камней и всякого хлама. На холме не было настоящих шахт, потому что никто не знал, проходит ли там золотоносная жила, но несколько «сторожей» жили там на своих участках и, от нечего делать, вырыли неглубокие ямы. Несколько палаток этих старателей оказались в зоне, отведенной под лагерь; в них-то и расположился Лейлор со своим штабом. Людям разрешено было разойтись. Некоторые старатели вернулись в долину, другие рьяно принялись строить ограждения, третьи, соединившись в небольшие отряды, продолжали ученье. В каменном очаге развели огонь, и кузнец начал ковать наконечники для пик. Из всех старателей, собравшихся на холме Бэйкери, походным порядком в лагерь пришло около трети. Иные с осторожностью относились к мысли о вооруженном сопротивлении; другие хотели посмотреть, как будут развиваться события; некоторые разбрелись по своим хижинам и палаткам, намереваясь по первому призыву присоединиться к повстанцам, но пока желая спокойно есть и спать. Лейлор не мог держать под ружьем большое количество людей: для этого у него не было ни командиров, ни нужных средств. Он собирался сделать из лагеря командный пункт, где можно было бы с максимальной быстротой и пользой для дела продолжать обучение добровольных отрядов. Командиры, Верн и второй немец — Льюмен, Кенворти и второй американец — Макджил, Лейлор, Рафаэлло и несколько других, собрались неподалеку от лагеря, в лавке, которую содержал ирландец, некий Шенахан. Там они составили Декларацию независимости и избрали Лейлора главнокомандующим. В нескольких ярдах от лагеря Дик с Шейном нашли незанятый полуразрушенный сарай и устроили там себе ночлег. Когда спустились сумерки, повстанцы развели костры, и под летним звездным небом зазвучали песни — песни ирландских повстанцев, английских чартистов, немецких борцов на баррикадах. Вблизи от Дика пела группа чартистов, арестованных в Англии за то, что они добивались всеобщего избирательного права с тайной подачей голосов, и приговоренных к каторжным работам с высылкой в Австралию. Дик был глубоко взволнован их песней.
Я видел купы гордых ив
В полях отчизны милых.
Стихий бушующих порыв
На землю повалил их.
Огнем сверкает небосклон,
Рычит, как зверь голодный:
Пусть будет молнией сожжен
Враг хартии народной.
Не успели чартисты замолчать, как зазвучал молодой ирландский голос:
Пусть клич наш слышит твердь:
Победа или смерть!
О сын Ирландии,
Сражайся за свободу!
Гони из сердца страх,
Врага повергни в прах,
Рази безжалостно
И конных, и пехоту.
Потом, словно прощаясь со старой жизнью, хор голосов запел балладу, сложенную австралийскими беглыми каторжниками:
По течению Сиднея, милая,
По теченью реки
Я уйду на рассвете, любимая,
По теченью реки!
Командование выделило вооруженные отряды для охраны шахт. Повстанцы теперь рассматривали себя как законную власть и хотели поддерживать порядок. Другие отряды собирали оружие, амуницию и боевые припасы. — Начало положено, — сказал Шейн Дику, зевая и потягиваясь. — Скоро этот мир станет вполне подходящим местом для житья.
XVI. Снова Томми
На другой день, в пятницу, учения продолжались. Член Лиги Реформ, Холиок, был послан в Крезвик для вербовки волонтеров. Дик с Шейном и полудюжиной других старателей образовали отряд для сбора оружия — любого оружия, какое только удастся найти. Лейлор приказал выдавать расписки за все отобранное имущество, чтобы владельцы впоследствии могли потребовать оплаты. Старатели, входившие в отряд, направились прежде всего к правительственному лагерю. Там они увидели, что повсюду расставлены часовые и дозорные, а постройки лагеря укреплены брустверами, сложенными из дров, связок сена и мешков с зерном, взятых из правительственных складов. Потом отряд приступил к обходу лавок. Большинство лавочников доброжелательно относилось к старателям — своим постоянным клиентам. К тому же они были недовольны полицией, которая до того увлеклась преследованием повстанцев, что совершенно перестала обращать внимание на воров. А так как почти все лавки размещались в строениях, больше похожих на палатки, чем на дома, то кражи были делом нетрудным. Потеряв надежду на помощь полицейских, лавочники решили организовать ночные дозоры. Дику не раз случалось видеть, как, отойдя подальше от жилья, они упражнялись на рассвете в стрельбе из револьвера по листку бумаги, прибитому к дереву вместо мишени. Отряд славно поработал в это утро: удалось добыть четыре револьвера, допотопный кремневый аркебуз, малайский крис, несколько пачек зарядов и так называемую «вертикалку» — двуствольное ружье, у которого верхний ствол представлял собой винтовку, а нижний — дробовик, причем оно заряжалось с дула. В полдень, закусив хлебом и сыром, Дик улучил подходящую минуту и ускользнул, чтобы повидаться с родными. Мистер Престон был настроен весьма мрачно и предрекал неудачу восстания, но миссис Престон так обрадовалась, увидев Дика на свободе, здоровым и невредимым, что ее радость взяла верх над унынием мужа. Дик вернулся в лагерь повстанцев, принял участие в учениях, а потом уснул крепким сном в сарае, вместе с Шейном, полный уверенности в благополучном исходе дела. На следующее утро, в субботу, они снова отправились собирать оружие. Ружей и зарядов не хватало. У командования не было никаких запасов, и оно не могло обеспечить всем необходимым старателей, которые сотнями стекались в лагерь. Поэтому Лейлор старался возможно больше занять людей военной подготовкой, предоставляя им искать себе приют где придется. Из Крезвика пришла большая группа старателей, но из-за отсутствия пищи и пристанища большинство вернулось через перевал в Крезвик, а некоторые ушли на равнину к друзьям. В одной из балларатских лавок — пятой по счету, которую посетил отряд Дика, — хозяин заявил, что он уже снабдил несколько отрядов. В доказательство он предъявил расписки. Дик прочел безграмотные каракули:
«Получено из лавки в Балларате 1 пистолет, для камитета X. Х-ю Маккарти. — Да здравствует народ!»
«Камитет Лиги Реформ — 4 выпивки, читыре шиллинга; 4 пирога для патреотов ночного дозора — X. Р.»Затем лавочник показал еще одну расписку:
«Получено 2 фунта 15 шил и шесть унций золота для Лиги Реформ, А. Блейк».— Разве это подпись Блейка? — спросил Дик у Шейна. Блейк был военным министром повстанцев, и Дику случалось видеть его подпись. — Да Блейк и не стал бы заниматься сбором денег. У него и без того хватает дела в лагере. — У человека, который выдал эту расписку, была черная борода, — сказал лавочник. — Сказать по правде, я и не, стал смотреть на его подпись. Он сказал, что он из лагеря повстанцев, и с ним было полдюжины ребят, которые так помахивали револьверами, что у меня пропала охота задавать вопросы. Я их вижу в первый раз, но мне подумалось, что они, может быть, из Крезвика. Разве это не так? — Это жульничество, — сказал Шейн. — Какие-то грязные негодяи шляются тут под видом повстанцев и грабят лавки. Они поспешно вышли и стали выяснять, не побывал ли человек, именующий себя А. Блейком, в других лавках на этой улице. Некоторые торговцы давали сборщикам деньги без всякой проверки, но были и такие, которые требовали у них удостоверения на право сбора средств и настаивали, чтобы их отвели к Лейлору, Верну или другим, известным им, вожакам восставших. Наконец отряд набрел на лавку, из которой, по словам хозяина, жулики ушли минут десять назад. — Вперед! — радостно закричал Шейн. — Мы идем по свежим следам. Они выбежали на улицу. Дик, который отстал, чтобы поправить свой патронташ, заметил в небольшом переулке вывеску «Бакалейная торговля» и решил, что не мешало бы порасспросить ее хозяина, раньше чем догонять товарищей. Он добежал по переулку до лавки и вошел в нее. Бакалейщик стоял у небольшой конторки, окруженный десятком людей подозрительного вида. Дик уже собирался заговорить, но вдруг узнал их главаря. Это был Томми Китаец. Около него стоял человек с черной бородой. Дик сразу понял, что он оказался один лицом к лицу с бандитами. — А ну-ка, гони монету, — говорил Томми. — Но я вас совсем не знаю, — лепетал бакалейщик, седой человек с крючковатым носом. — Я не отказываюсь поддержать правое дело, но пусть ко мне пришлют кого-нибудь, кого я знаю! Да и деньги-то лежат в банке, а на руках у меня всего несколько шиллингов. А в банке сейчас ничего не получишь. Я слыхал, что солдаты укрепляют его, так как это единственное каменное здание в Балларате. Дик повернулся было, собираясь поскорее ретироваться, но один из бандитов схватил его за локоть. — Это еще кто такой? Он вытащил Дика на середину лавки. — Кто бы ни был, а вооружен он как следует, — отозвался чернобородый, взводя курок револьвера. — Свой, свой, — ответил Дик, делая вид, что принимает бандитов за товарищей-повстанцев. — Ах, вот как, свой? — сказал Томми, потирая подбородок. Он пристально и угрожающе уставился на Дика. — Сдается мне, что где-то я уже видел твою физиономию, а? — Он еще раз вгляделся. — Ну, как же! Конечно, видел! — Не пойму, о чем вы тут толкуете, — ответил Дик, пытаясь скрыть свой испуг. — Ладно, ладно, — продолжал Томми и выхватил из кобуры Дика револьвер. — Для такого молокососа эта игрушка, пожалуй, тяжеловата. Держи-ка его покрепче, Джейкс. Мы займемся им немного погодя. Он повернулся к бакалейщику. — Ну, давай пошевеливайся, некогда нам с тобой канителиться! Гони десять фунтов, не то придется стащить с тебя сапоги и поджарить пятки твоими же спичками. Бакалейщик отошел в сторонку и, причитая, стал перебирать какие-то ящики. Бандит, державший Дика, стоял так, что его кобура с револьвером прижалась к боку мальчика. Владелец револьвера был совершенно поглощен переговорами своего предводителя с лавочником. Дик внезапно вырвался и схватил револьвер: — Ни с места! — заорал он. Все бандиты обернулись к нему, некоторые подняли руки. Но не успел Дик вновь раскрыть рот, как кто-то сзади ударом кулака вышиб у него из руки револьвер. Это был не замеченный Диком бандит, который стоял, прислонившись к двери. Томми злобно рассмеялся. — Здорово сработано, Карл! В свое время мы рассчитаемся с этим задорным петушком. Он выдал себя с головой. Но тут бакалейщик, о котором все забыли, поднял крышку одного из ящиков и извлек громадный кольт с взведенным курком. — Как бы не так! — сказал он. — Руки вверх! Дик мгновенно хлопнулся на пол, чтобы не стоять на линии придела. Грабители попятились к стене. — А ну-ка, паренек! Отбери у них оружие! — приказал бакалейщик. Дик метнулся в сторону и отнял револьверы у троих. Один он сунул себе в кобуру, а два других бросил на пол возле бакалейщика, спустив сперва курки с боевого взвода. Затем он перебежал на другую сторону и начал отбирать оружие у остальных. Но он успел перебросить только три револьвера: здоровенный швед, стоявший позади других, внезапно схватил его, поднял и швырнул в бакалейщика. К счастью, швед не мог как следует размахнуться, — иначе Дик сломал бы себе шею. Помогло и то, что один из бандитов в эту минуту, по неловкости, оказался на дороге, и Дик врезался в него со всего размаха. Бандит грохнулся на пол, и это смягчило падение Дика. Все же удар был так силен, что у мальчика затрещали кости. Дик лежал совершенно ошеломленный на стонущем бандите, не понимая, что произошло. Дикая какофония звуков раздавалась в его ушах. По лавке бегали люди, прозвучал револьверный выстрел, послышался чей-то стон. Затем грянул новый выстрел и едкий запах порохового дыма защекотал Дику ноздри. Он попытался встать, но кто-то, пробегавший мимо, придавил ему руку. Все же ему удалось выбраться из свалки и дотащиться до старого лавочника, который сидел, прислонившись к стене, белый как мел. Бандиты пробили отверстие в стене, сколоченной из тонких досок, обтянутых парусиной, и исчезли. — Ты ранен, Дик? — спросил Шейн, подбегая к нему. — Нет, — ответил Дик, — только левая рука болит да чувствую себя так, как будто меня лягал целый табун лошадей. — Ладно, этому парню досталось еще больше! — Шейн нагнулся над бандитом, лежавшим на полу. — Кто-то двинул его в висок, когда они удирали, так что бедняга готов. — Он распорядился убрать труп, а сам заглянул в отверстие, через которое скрылась банда. — Удрать-то они удрали, но урок получили славный. В другой раз крепко подумают, прежде чем рискнут прикрываться именем Южного Креста. — Но как вы попали сюда? —спросил Дик, понемногу приходя в себя. — Боб Джулиэн заметил, как ты побежал в переулок, и, когда ты не вернулся, сказал мне об этом. Мы решили посмотреть, в чем дело. К тому же мы сбились со следа негодяев. — Ими верховодил Томми Китаец. — Вот оно что! — сказал Шейн. — Я слышал, что он спутался с бандой беглых каторжников. Похоже, что в здешних зарослях скрывается немало всяких бродяг. Это не то, что честные беглецы прежних времен, которые мечтали только свободно вздохнуть после кандалов и прочих прелестей каторги.
XVII. В ловушке
Под вечер того же дня депутация вождей Южного Креста, под защитой белого флага, направилась в правительственный лагерь с требованием рассмотреть вопрос о старателях вообще, а кроме того, освободить людей, арестованных в четверг, потому что они не более виновны, чем тысячи других золотоискателей, которые также сожгли свои лицензии. Офицеры и чиновники, принимавшие депутацию, пообещали справедливо и дружественно разобраться в деле, после чего депутаты вернулись в лагерь повстанцев. И в лагере, и на Красном Холме все еще продолжались учения, но из-за тесноты и отсутствия припасов не было никакой возможности собрать всех людей вместе. Все внимание командования было сосредоточено на дороге Мельбурн — Джилонг, по которой должны были прибыть форсированным маршем сильные подкрепления для правительственного лагеря. Вдоль этой дороги, поблизости от горы Уорренхайп, были расставлены дозоры. Но большая часть старателей продолжала жить в своих палатках на равнине. После перенесенных волнений и напряжения первых дней восстания все испытывали потребность как-нибудь отвлечься; самые необузданные разбрелись по пивным и дансингам, где могли хоть частично растратить запас энергии. В этот вечер, когда, казалось, все отдыхали от военных приготовлений, Дику захотелось вновь повидаться с родными. Шейн занялся игрой в ландскнехт с товарищами, но Дик не любил карт. Он отправился домой один. Однако мысль о миссис Вертхайм и Козиме заставила его свернуть на главную улицу. Он подошел к их жилищу и постучался. Дверь открыла Козима. — Входи, — сказала она, — только вытри сперва ноги. Дик вошел и спросил, где миссис Вертхайм. Козима ответила, что она ушла к своей приятельнице, миссис Спанхейк. — Ах, как бы мне хотелось быть в лагере вместе с вами! — сказала она, сжимая руки. — Как ты думаешь, если я переоденусь мальчиком, — возьмут меня? — Ты ведь сама знаешь, — тетя все равно разыщет тебя и заставит вернуться, — ответил Дик. — А кроме того, там не слишком-то удобно. — Я презираю удобства, ненавижу удобства! — воскликнула Козима. — В доказательство, я буду сегодня спать на полу. Не могу тебе сказать, как я ненавижу и проклинаю свою перину. — Но тебя все равно узнают, — сказал Дик, — пойдут тогда насмешки и всякие такие штуки. — Я готова пойти на унижение, лишь бы это принесло пользу общему делу, — возразила Козима. — Но, пожалуй, ты прав. Дик не сомневался в том, что он прав и что насмешки над Козимой ничуть не помогли бы восстанию. Насмешки над Козимой, — одна мысль об этом была для него невыносима. — Ты страшно помогла мне, — сказал он, покраснев, — если только это можно назвать пользой. — Чем же я тебе помогла? — спросила Козима. — Ты помогла мне увидеть разные вещи. Ты… но я не сумею этого объяснить. — До сих пор я думала, что только благодаря виски люди видят разные вещи. — Я хотел сказать, что ты помогла мне узнать правду о жизни. — Это было бы чудесно, — печально сказала Козима. — Знаешь, мне иногда приходит в голову, что я страшно тщеславна, и тогда я нарочно мажу себе нос сажей и выворачиваю чулки наизнанку, и тетя считает меня просто неряхой. Но она ошибается… — Козима помолчала, потом глубоко вздохнула и, наконец, решилась: — Это я смиряю гордыню. Вот! — Она подождала, пока ее слова дойдут до Дика, и продолжала: — Только это тайна, я еще никому об этом не говорила, и если ты проболтаешься, то я сейчас же постригусь в монахини, потому что не смогу никому глядеть в глаза от стыда. — Я лучше умру, чем скажу кому-нибудь, — взволнованно сказал Дик. Он не совсем понимал, в чем состоит тайна, которую ему было велено хранить, так что мог дать это обещание с чистой совестью. — Ну, смотри. Куда ты идешь теперь? — Нужно повидаться с отцом и матерью. Они, вероятно, тревожатся. — Можно мне пойти с тобой? — Конечно, я был бы очень рад. Но твоя тетя на меня рассердится… — Вовсе нет, она всегда сердится только на меня. Из-за всего. — Но ведь тебе нужно присматривать за домом… — Пусть сам присмотрит за собой. Как славно было бы, если бы воры утащили фортепиано! Ты только подожди минутку. Она побежала вверх по лестнице. Дик отлично знал, что миссис Вертхайм запретила бы Козиме идти с ним, но он был так потрясен непостижимой тайной, которой с ним поделились, и так хотел быть достойным доверия, что не мог отказать Козиме в ее просьбе. И затем ему очень хотелось прогуляться с нею. Через несколько минут он услышал ее шаги на лестнице и уже раскрыл рот, чтобы объяснить, почему молодой девушке не следует гулять в такой час. Но, к своему изумлению, он не увидел девушки. Перед ним стоял мальчик. Не будь уверен, что, кроме Козимы, некому было спуститься сверху, он бы ее ни в коем случае не узнал. На ней была голубая рубашка, старые вельветовые штаны и куртка, а косы она спрятала под кепи. — Полгода назад один из жильцов оставил здесь этот костюм, — объяснила Козима. — Он сказал, что костюм придется мне впору, и я его припрятала. — Но ты уверена, что твоя тетя не будет недовольна? — Конечно, будет недовольна. Только это глупости, и о них не стоит говорить. Я оставлю ей записку. Она взяла карандаш, бумагу, написала несколько слов и вставила записку в раму зеркала, стоявшего в прихожей: «Рядовой К. Вертхайм ушел на дежурство. Вернется попозже». И она со смехом выбежала на улицу. Они немного прошли по дороге, потом свернули на равнину. — Мне не хочется являться к твоим родным в таком виде, — сказала Козима. — Взрослые не так просто смотрят на вещи, как мы. Я подожду тебя поблизости. Дик оставил ее сидящей на старой перевернутой тележке неподалеку от своего дома, а сам побежал к родным. Он застал их обоих дома и услышал те же разговоры, что и вчера днем. Мистер Престон уверял, что губернатор пошлет тысячи солдат и матросов с пушками и что всех участников восстания повесят, как изменников, а Дика, которого он величал одним из зачинщиков, еще и четвертуют. Миссис Престон, более разумная, хотя уже не такая веселая, как прежде, просто уговаривала Дика держаться подальше от борьбы. — Нам нужно перебраться на другие прииски, — говорила она, — или уехать в Новый Южный Уэльс. У отца все уже готово к отъезду. — Приготовления не заняли много времени, — сказал мистер Престон. — Нечего было и готовить. Я все распродал. Получать тоже почти нечего. Сандерс и его родственники, которые были нашими компаньонами, купили участок. Теперь тут, чего доброго, откроется жила с самородками. — Не падайте духом, — сказал Дик. — Все имущество крупных землевладельцев будет поделено между бедняками. Больше нельзя допускать, чтобы люди, которые стакнулись с правительством, владели половиной страны. — Но тогда, — уныло сказал мистер Престон, — на каждого придется так мало, что из этого вообще ничего не выйдет. С таким же успехом мы могли бы попытаться завести ферму на участке нашей заявки, величиной восемь ярдов на восемь. — Ты действительно думаешь, что мы все получим фермы? — спросила миссис Престон. — Разумеется, — ответил Дик. — Так говорят и Кенворти, и Кеннеди. Вот бы вам послушать их! Они замечательно говорят. — Не сомневаюсь, — сказал мистер Престон. — Только ослы могут слушать этих краснобаев: у остальных уши недостаточно длинные. Но тут Дик вспомнил, что Козима ждет его. Он поспешно распрощался и пообещал прийти вновь завтра, в воскресенье. У него было грустно на душе, когда он вышел из хижины. Он шел потихоньку, раздумывая. Нагнувшись, чтобы завязать шнурок от башмака, он отчетливо услышал чьи-то шаги позади себя. Шаги тотчас же затихли. Дик выпрямился, пошел дальше и внезапно остановился снова. И снова ему послышались шаги человека, который останавливался, как только останавливался он. Место, где ждала его Козима, было совсем рядом, и Дик призадумался, как теперь быть. Он решил, не мешкая, встретить Козиму и вместе с ней бегом добраться до дороги. Но едва Дик свернул за угол сарая, как что-то темное упало ему на голову и плечи его захлестнула веревочная петля. После короткой борьбы он был сбит с ног и оказался на чьей-то широкой спине. Он попытался закричать, но не смог, задыхаясь в темном мешке, закрывавшем ему лицо. Он не представлял себе, кто же был его похититель. Во всяком случае, полиция едва ли стала бы заниматься такими похищениями. Человек, который нес Дика, все шел и шел. Потом он остановился, что-то заскрипело, человек сделал еще несколько шагов, и вдруг Дик очутился на земле. Когда мешок был сорван, он увидел громадного шведа из бандитской шайки, а рядом с ним стоял на коленях Томми Китаец и тыкал дулом револьвера Дику под ребра. — Узнаешь нас на этот раз? — спрашивал Томми. — Чего ж ты не смеешься? Комедия, да и только! Два раза ты совал нос куда не следует. В третий раз тебе будет не до смеха! Понял? — Он изо всех сил ткнул Дика револьвером. — Ну, говори! Выкладывай. С чего это мы так хлопочем, чтобы заполучить тебя в гости, как ты думаешь? Э, да ты знаешь!

Дик покачал головой. — Не валяй дурака, мальчуган, — продолжал Томми. — Томми не из тех людей, которые легко прощают. Но все же тебя приволокли сюда не только, чтобы расплатиться за то, что ты дважды становился мне поперек дороги. Теперь ты понимаешь, для чего? Снова Дик покачал головой. Томми грозно нахмурился. — Не ври, понял. Только ты и Томми знали, где Черный Макфай прятал свое золото. Знала еще одна женщина, но она не в счет. Это уж мое дело. Как же ты объяснишь, что на следующую ночь, когда Томми вернулся к сгоревшему сараю, там в золе не оказалось золота? А он искал на совесть, — все пожарище изрыл, но ничего не нашел. Не иначе, как ты и твой чертов дружок — ирландец — успели уже там побывать. Выкладывай! — Ни о каком золоте мы не знали, — хрипло ответил Дик, полузадушенный пылью, набившейся ему в горло из грязного мешка. — Кто-нибудь рылся там в обломках и нашел его случайно. А может, кто-то знал о нем и опередил вас. — Так оно и было, — зарычал Томми. — Ты опередил! Дик покачал головой. Он понимал, что возражать бесполезно. — Выкладывай! — допытывался бандит. — Тогда Томми отпустит тебя. Он не станет мстить, если отдашь золото. Но попробуй только заупрямиться, — увидишь, что с ним шутки плохи. — Он оглянулся на шведа. — Не так ли? Швед ухмыльнулся беззубым ртом и сплюнул: — Еще бы! — ответил он. — Настоящий зверь, ей-богу! — Он беззвучно рассмеялся, покачиваясь. — Я ничего не знаю ни о каком золоте, вот и все, — сказал Дик, которому швед внушал еще больший страх, чем Томми. — Томми теперь может и подождать, долго ждать, — сказал Томми, не обращая внимания на протест Дика. — Как бы заставить тебя сказать? — Он вновь обратился к шведу: — Нечего тебе тут делать, Гусси. Нужно найти место, где он мог бы слушать свои собственные вопли. Тебе это по вкусу, а? — Еще бы! — отозвался швед, потягиваясь так, что его рубашка расстегнулась, обнажив могучую волосатую грудь. — Пощекочи его. Развяжи ему язычок. На мгновение Томми остановился и задумался. — Сегодня вечером нам не уйти. Все парни разбрелись, да и подходящее дело наклевывается. Днем пленника тоже не потащишь. Значит, завтра ночью. Швед, в знак согласия, помотал головой и зевнул. Затем они с Томми взялись за работу: привязали Дика к столбу .посреди сарая и заткнули ему рот кляпом. — Теперь об этом нашем деле, — сказал Томми шведу. — Ты будешь сторожить снаружи. Тима и Айзека пошли сюда, как только они придут. Клема и Фрица пошли к Красной Мэри. Они знают, зачем. Гвидо пошли вслед за мной. Ты знаешь, зачем. Сам иди к Нелли. К вечеру чтобы все было готово. А этот мальчуган пусть пока поголодает. Швед кивнул: — Верное средство. Томми вышел своей бесшумной походкой. Швед, сунув за щеку добрую порцию табака, последовал за ним.
XVIII. Козима приходит на выручку
Дик был до того напуган случившимся, что забыл о Козиме, но теперь снова вспомнил о ней. И мысли о том, все ли благополучно с девочкой и не думает ли она плохо о нем, тревожили Дика больше, чем собственные злоключения. Он попытался освободиться от веревок, но только выбился из сил и запыхался. Он судорожно выпутывался, как ему казалось, много часов подряд, а потом в изнеможении сдался. Дик уныло сидел, опершись спиной о столб, и вдруг услышал какое-то царапанье. Словно чуть слышно скреблась мышь. Сарай, как большинство построек золотоискателей, был частично сколочен из неотесанных досок, частично обтянут парусиной. Сквозь парусину, лицом к которой сидел Дик, слабо просачивался звездный свет. Видимо, у хозяев сарая не хватило досок, — их всегда недоставало в Балларате, где деревья были безжалостно истреблены и порублены на крепления для шахт, — и половину сарая пришлось обтянуть парусиной и тряпками. Дик не отрываясь смотрел туда, где как будто скреблась мышь; внезапно он заметил, что нижний край парусиновой стены приподнимается. Звездный свет был достаточно ярок, чтобы это разглядеть. Кто-то лез в сарай: Через секунду незваный гость был уже внутри, тихонько, жалобно повторяя: — Дик! Дик! — Дик узнал голос Козимы. Мальчик задергался, пытаясь выплюнуть кляп, но тщетно. Он не мог ни освободиться, ни ответить Козиме, что он здесь. Глаза девочки не привыкли к темноте, и она видела еще хуже, чем Дик, различавший лишь смутное темное пятно, в котором по шепоту можно было узнать Ко-зиму. — Дик, ты здесь? — прошептала Козима-невидимка. Она секунду подождала ответа, потом снова скользнула к стене, под которой пролезла в сарай, и, приподняв парусину, выглянула наружу. Дик пришел в отчаяние. Неужели она уйдет, не заметив его, хотя стоит совсем рядом с ним? Он стал колотить головой о столб, к которому был привязан. Козима бесшумно прошла по сараю и, к радости Дика, наткнулась на него. С подавленным криком она попятилась. Потом протянула вперед руку. — Дик, ты умер? Это ты, Дик? Они убили тебя? Дик изо всей силы мотал головой, но веревки жестоко врезались в него. Козима еще раз протянула руку и дотронулась до лица Дика. Нащупав кляп, она все поняла. Подойдя вплотную к мальчику и уже ничего не боясь, она стала деловито освобождать его от кляпа. Работа была нелегкой, и Дику казалось, что Козима никогда не справится с ней. Он нетерпеливо ждал, пока она возилась с туго затянутыми узлами грубой пеньковой веревки. Что, если сейчас придут люди, которых велел прислать Томми? Ничего нет страшнее, чем неудача в ту минуту, когда до спасения — один шаг. Дику хотелось крикнуть Козиме, чтобы она поторопилась, но, к счастью, он не мог этого сделать, иначе девочка совсем бы растерялась. Наконец, он услышал ее облегченный вздох и почувствовал, что веревки ослабели и упали. Дик выплюнул тряпки, засунутые ему в рот. — Уф! — Дик, они сделали тебе больно? Они ранили тебя? — Нет, только связали. Но нужно торопиться. Они скоро вернутся. Козима принялась развязывать ноги Дика. — Нет, сперва руки. Тогда я смогу помочь тебе. Она изо всех сил стала дергать тугие узлы. — У меня кровь идет из-под ногтей, — сказала она. —Я так рада! Только жалко, что я не могу сильнее дергать веревки. Они страшно запутаны. В конце концов она разобралась в них, и Дик освободил руки. — Остальное я сделаю сам. Он быстро развязал веревки и встал. Сделав было шаг к парусиновой стене, он вдруг остановился. — Как мы выберемся отсюда? Где швед — человек, который сторожит меня? — Снаружи, как раз напротив этой стены. Он особенно следит за нею. Из-за того, наверно, что она самая ненадежная. Я была здесь уже тогда, когда отсюда вышел второй человек, но я боялась сдвинуться с места, пока сторож не перешел на другую сторону. Тогда я подбежала и пролезла сюда. И как раз вовремя. Я слышала, что он вернулся, а когда выглянула, то увидела его на старом месте. — Как ты нашла меня? — Я услышала шум, когда они схватили тебя. Я тихонько подползла и видела, как они тебя потащили. Ну, я и пошла вслед за вами. — Но как нам выбраться отсюда до их прихода? Они ничего не могли придумать. Другие стены были так крепко сколочены из досок, что любая попытка Дика и Козимы сломать их была бы немедленно замечена шведом. Они подошли к двери, но решили, что тут и пробовать не к чему. Дверь открывалась наружу, и швед немедленно сцапал бы их, тем более, что она была подвешена на тугом ржавом шпингалете, — ее скрип привлек бы внимание стражи. Дик помнил, что, когда тот вышел из сарая, дверь немилосердно заскрежетала. — У него большая палка, — зашептала Козима. Потом она вдруг оживилась. — Я придумала. Я смогла залезть сюда, потому что в зарослях что-то зашумело и он ушел с поста и стал рыскать в кустарнике. И если мы снова устроим там шум, то он снова пойдет проверять, а мы выскользнем наружу и спрячемся по ту сторону сарая. — Но как мы можем шуметь в зарослях, когда мы сидим здесь? — А ты не можешь что-нибудь бросить? Смотри, вот ту дощечку легко отодрать от стены. Они осторожно отодвинули дощечку в сторону; образовалось маленькое треугольное отверстие, сквозь которое виден был кусок площадки перед сараем. — Мне не кинуть камня через отверстие, — сказал Дик. — Оно слишком мало. Я могу задеть за край, тогда камень упадет под углом, и швед начнет проверять там, где он нам совсем не нужен. — Зачем бросать? Я лучше придумала, — сказала Козима и подошла к боковой стене. — Я наткнулась на палку, когда лезла сюда. У нее раздвоенный конец, — должно быть, палка для походной кровати. А что, если мы сделаем из нее рогатку? — А где взять резинку? — Я сниму подвязки. Но сперва найдем палку. Они нашли ее среди шестов и жердей, предназначавшихся для походных кроватей. Раздвоенный конец был толстоват, но вполне годился. Козима сняла круглые подвязки, перекусила нитки, которыми были сшиты их концы, и, связав обе резинки между собой, привязала всю полосу к рогатке. — Так себе рогатка, — сказал Дик. — И узел будет мешать. Но, пожалуй, я смогу выстрелить в заросли камнем, лишь бы он не был велик. Они принялись обшаривать пол, но там валялись только голыши, слишком маленькие для их цели. Наконец, возле стены они нашли вполне подходящий ком засохшей глины. Дик еще немного отодвинул дощечку, приставил рогатку прямо к отверстию, натянул резинку и выстрелил комом глины. Тот вылетел и, шурша, упал в кусты. Дик и Козима ждали, затаив дыхание. Потом с восторгом увидели грузную фигуру, которая шла по площадке к зарослям. — Бежим! — сказала Козима и от волнения схватила Дика за руку. Они бросились к парусиновой стене. Дик приподнял ее, и Козима выползла наружу. Дик немедленно последовал за ней. Они обогнули сарай, кучи пустой породы, пробежали мимо лачуг, перебрались по доскам через канаву и очутились на большой дороге. — Все в порядке! — воскликнул Дик. — Козима, ты спасла мне жизнь! — Ох, я так напугалась! — ответила Козима. — А я-то думала, что я храбрая. — Ты самая храбрая девочка на свете, — настаивал Дик. — Пф! — сказала Козима. — Такой храброй может быть любая девчонка. Нет, никуда я не гожусь. Когда я сперва не нашла тебя, то уже готова была убежать, только этот великан вернулся и помешал мне. Тебе хотелось бы сейчас чаю? — Да, но… — Только ты не рассказывай тете, что я так напугалась, иначе она всю жизнь будет донимать меня. — Конечно, я не скажу ей ничего подобного. Это было бы неправдой. Если бы ты знала, от чего ты меня спасла! — Я бы хотела, чтобы ты написал об этом моей кузине в Баварию. Она отвратительная девчонка и никогда не поверит, если я сама напишу ей. — Но я с ней незнаком. — Да. Тебе она, конечно, тоже не поверит. Отвратительнее нет девчонки на свете. Носит очки, и уши у нее торчат. Ох Дик, как я напугалась! Видно, леди Макбет из меня не получится, а она всегда была моей любимой героиней. Разговаривая, они быстро шли по дороге к центральной части городка. — Светает, — сказал Дик. — Ты, должно быть, ждала целую вечность. — Во всяком случае, мне так показалось, — созналась Козима. — Я была рада, что мне холодно и неудобно, иначе я уснула бы. Они шли теперь вдоль западного склона холма, на котором были расположены правительственные войска. — Прислушайся, — сказал Дик. — Слышишь, там какой-то шум. И свет вспыхнул. Вот еще раз. Один за другим вспыхнули огоньки и погасли. — Готов поклясться, что я видел движущихся солдат! — воскликнул Дик. — Я видел, как сверкнули штыки. Козима, это, может быть, готовится внезапное нападение на наш лагерь! И ничего не сделано, чтобы его отразить!
XIX. Лагерь «Эврика»
Козима хотела бежать вместе с Диком в лагерь и предупредить о готовящемся нападении, но Дик воспротивился этому со всем пылом, на какой только был способен. Ей следует вернуться, говорил он, и успокоить миссис Вертхайм. Она должна также разбудить доктора Кенворти и передать ему, что нужно немедленно собрать старателей, которые рассеяны кто где, в хижинах и палатках. Оставшиеся в Балларате рудокопы из Крезвика тоже разбрелись по постоялым дворам и винным лавкам; следовало собрать и их. Если эта помощь не подоспеет вовремя, немногочисленные повстанцы в лагере едва ли сумеют оказать сопротивление нападающим. Вторая половина доводов Дика подействовала на Ко-зиму. Она сказала, что сама найдет дорогу, и побежала домой. А Дик, позабыв о своих злоключениях, устремился к западным холмам, в лагерь. Но он так спешил и так хотел сократить путь, что, заблудившись, сперва наткнулся на болото, а потом чуть не упал в заброшенную шахту. Он кинулся в обход, но вторично сбился с пути и беспомощно блуждал в лабиринте надшахтных построек, куч пустой породы и палаток, из которых доносилось хриплое дыхание спящих. Ему пришло в голову поднять тревогу и разбудить золотоискателей, но тогда пришлось бы потратить много времени на объяснения, а оно было дорого. Он должен предупредить лагерь, где собрались почти все вожаки восстания, охраняемые лишь несколькими отрядами. Дик тяжело дышал, изнемогая от усталости, и только мысль об опасности, нависшей над великим делом, поддерживала его. Казалось, он вечно будет плутать в этом хаосе; а солдаты тем временем все ближе и ближе подкрадываются к лагерю и окружают его. Если им удастся захватить или убить командиров, что будет с восстанием? Он понимал, что атакующие должны начать наступление до рассвета, иначе оно неминуемо будет отбито сбежавшимися повстанцами. Такая победа чрезвычайно ободрила бы старателей не только в Балларате, но и во всей провинции Виктория и даже в Новом Южном Уэльсе. Уже светало, когда Дик добрался до подножия холма «Эврика». Он различал на левом фланге цепи наступающих, отряды «красных мундиров» в боевом порядке, а вдали еще около сотни конных полицейских. Потеряв надежду достичь лагеря вовремя, Дик сунул руку за револьвером, чтобы предупредить старателей об опасности выстрелами. Но револьвера не было, его взял Томми. Потеряв надежду, Дик все-таки продолжал мчаться вперед, думая только о том, чтобы присоединиться к кучке повстанцев на вершине холма. Прозвучал сигнал горниста, и Дик услышал команду офицера, топот лошадей и бегущих солдат. Он достиг лагеря и вскарабкался наверх с южной, еще не осажденной стороны. В лагере ошеломленные люди выскакивали из палаток, натыкаясь друг на друга; они протирали заспанные глаза, наспех оправляли патронташи и растерянно осматривали револьверы. Не прошло и двух минут, как пули градом посыпались на лагерь. Дик слышал их Посвист над головой и щелканье при попаданиях в бревенчатые стены. В стрелковые укрытия — бывшие палатки «сторожей» в нижней части лагеря — тотчас же сбежалось человек тридцать канадцев из отряда Рэнджера, отличных, хладнокровных стрелков. Другие старатели заняли позиции на баррикаде против лощины и открыли ответный огонь. Солдаты сперва дрогнули и пришли в замешательство. Дик увидел Шейна и кинулся к нему: — Есть у тебя лишний револьвер? Но Шейн только отмахнулся и побежал к баррикаде. Какой-то старатель, пораженный пулей в сердце, упал рядом с Диком, выронив свой револьвер на кучу фашин. Дик подскочил, схватил оружие и, добежав до баррикады, начал стрелять. Патронташ его уцелел. Стоявший рядом с ним англичанин из Мидленда охал, безуспешно пытаясь зарядить свой старинный пистолет кварцевым щебнем. Горнист протрубил сигнал сбора сорокового полка. Дик любовался им, несмотря на то, что это был враг. Горнист храбро расхаживал по левому флангу, повторяя тот же сигнал. Справа от него солдаты выстраивались в шеренги. Разведчики рассыпались во все стороны. Один отряд поднялся на вершину холма позади гостиницы «Свободная торговля» и прикрывал наступление. За линией вражеских солдат валялись, как попало, убитые и раненые. Правительственные войска наступали уже со всех сторон: с юга — кавалерия, с севера — конная полиция. Дик заметил в одном из укрытий раненного в бедро американца, который, не думая о собственном спасении, обнадеживал и подбадривал товарищей. Но его слова заглушались выстрелами… Обе стороны были упорны и беспощадны. А Дик все стрелял, стрелял… Оглянувшись, он увидел Питера Лейлора, стоявшего на краю вырытого в земле укрытия. — В укрытия! — кричал Лейлор, призывая людей уйти с ненадежной баррикады и указывая им, где нужно спрятаться. Пуля угодила ему в плечо, и он свалился. Дик плохо понимал, что происходит вокруг. Все было затянуто пороховым дымом, в котором расплывались очертания перебегающих людей. Он чувствовал тяжелые толчки крови в сердце и в голове и едкий запах, издаваемый древним ружьем, из которого кто-то стрелял поблизости. Он видел, как человек, методично стрелявший из винтовки с колена, вдруг рухнул на землю. Картины сменяли одна другую так стремительно, что он не успевал осмыслить их и в то же время думал, что этому не будет конца, что ему суждено вечно стрелять в цепи красных мундиров, подползающие все ближе и ближе. Мимо него пробежал Рафаэлло, крича: — Запомните этот день! Свято помните эту субботу!.. Солдаты наступали уже сплошной цепью, поливая повстанцев дождем пуль, поражавших каждого, чья голова появлялась над баррикадой. Дик увидел Росса, храброго юношу канадца, и как тот упал навзничь — пуля попала ему в живот. Отряд старателей, расположенный со стороны Мельбурнской дороги и состоявший преимущественно из ирландцев и немцев, вооруженных только пиками, храбро выдерживал атаку кавалерии, несмотря на тяжелые потери, которые нес от ураганного огня солдат.

— В атаку! — раздалась команда. Дик увидел блеск примкнутых штыков. Солдаты достигли баррикады. С поразительной быстротой они обошли ее с флангов, разрушили, орудуя ногами и прикладами винтовок, и ворвались в лагерь. С веселыми криками они кололи штыками всех, кто попадался им на пути, кололи даже мертвых и раненых, валявшихся на земле. «Ура!» — вопили они. Один из них добрался до флагштока и сорвал флаг Южного Креста. Они топтали его ногами, а потом разорвали в клочья. Нечего было и думать о дальнейшем сопротивлении.Внезапность атаки решила дело. Все было кончено раньше, чем старатели в городке и на равнине успели повскакать с постелей и сообразить, что происходит. Конные полицейские и кавалеристы сорокового полка, держа сабли наголо и револьверы наготове, окружили баррикаду тесным кольцом; лишь немногим повстанцам удалось пробиться сквозь него и скрыться в окрестностях. Дик бросился в сторону юга. По пути ему попался убитый, у которого из перекошенного рта текла струйка крови; это был Тонен, командир отряда немцев. Повсюду лежали раненые, истекая кровью… Какой-то старатель подбежал к заброшенному шахтному навесу и пытался туда вскарабкаться. За ним погнался солдат. Высоко подняв винтовку, он вонзил ему штык в шею. Дик поскользнулся на краю ямы, упал, и развалившийся штабель бревен накрыл его. Это спасло ему жизнь. На какое-то мгновение Дик был оглушен, но потом сообразил, что ему лучше всего остаться здесь. Он провалился в одно из крайних укрытий, в котором только-только мог уместиться; его завалило слоем бревен, и было ясно, что здесь он в безопасности. Солдаты стаскивали в кучу палатки, обливали их дегтем и поджигали. Некоторые пытались защитить бросивших оружие и сдавшихся старателей, но другие свирепствовали, убивали всякого, кто попадался под руку, и орали: — Разбудили мы тебя, бедняга! Ну, валяй спи дальше! Тяжелый запах крови, пороха и дегтя стоял в воздухе. И тут напряжение минувшей ночи и этого страшного утра внезапно одолело Дика: он почувствовал невыразимую усталость и дурноту и потерял сознание. Когда он очнулся, все было кончено. Резня и разрушение были ужасны, но кратковременны. Довольные своими подвигами, солдаты даже не потрудились основательно обыскать лагерь. Дик слышал грохот телег неподалеку и проклятия людей, подбиравших раненых и убитых. Рыдали и всхлипывали женщины. Дик приподнялся и осторожно выглянул. Он увидел группу плакавших и ломавших руки женщин; это были жены и дочери погибших. Тут же стояли дети; они цеплялись за юбки матерей и ревели, а некоторые тупо и равнодушно молчали. Поблизости на земле лежал мертвец; возле него сидела небольшая рыжая собачонка. Она охраняла мертвого хозяина и принималась бешено лаять, стоило кому-нибудь приблизиться. Потом она тыкалась носом в руки и лицо мертвеца и испуганно выла, потому что он не просыпался. Она напала на солдат, подошедших, чтобы убрать тело. Они прогнали ее ударами прикладов. Дик застонал и отвернулся. Он видел достаточно.
XX. Затерян в зарослях
Когда стемнело, Дик вылез из ямы. Хотя его томил страх и лежать было неудобно, все-таки он поспал днем. Такой усталости он еще никогда не испытывал. Теперь, выбравшись из своего укрытия, Дик почувствовал страшный голод. Блуждая по разрушенному лагерю, он обшаривал обгоревшие сараи и палатки, пока, наконец, не нашел еду. Из-под перевернутого ящика, который каким-то образом избежал огня, он вытащил половину большой пресной лепешки и несколько холодных картофелин. Дик запихивал еду в рот и жадно жевал, боясь, что вдруг что-нибудь помешает ему доесть все до конца. Револьвер и лента с патронами были при нем. Он огляделся, — не валяются ли где-нибудь еще патроны, но ничего не обнаружил: ведь у повстанцев их было так мало. Он уже совсем потерял надежду раздобыть их, как вдруг его рука наткнулась на разорванный патронташ с патронами нужного калибра, а потом, после вторичного обыска палаток, Дику удалось найти каравай хлеба. Он присел на вершине холма среди груды обломков, пытаясь осмыслить дневные события. Неужели мир, в котором существовали такие высокие жизненные цели и такая непоколебимая решимость, навеки исчез, сметенный несколькими выстрелами и штыковыми ударами? Неужели Лейлор так и погиб в той яме, в которую упал, когда был ранен? И куда девался Шейн? Холм, где все еще остро пахло кровью и гарью казался во мраке особенно пустынным. Огоньки в хижинах, у подножья, лишь подчеркивали его безлюдность. Дик не знал, что предпринять. Нет, он знал. Ему хотелось осторожно спуститься с холма, пробраться к дому Вертхаймов и попросить Ко-зиму и ее тетю спрятать его. Но хорошо ли это будет по отношению к ним и разумно ли по отношению к самому себе? На мгновение снова мелькнула мысль о том, чтобы сдаться, и тут же исчезла. Дик твердо решил не попадаться в руки врага. Он должен уйти из Балларата. Очутившись в безопасности, он напишет родителям или пошлет весточку через верного человека. Но сейчас нужно уходить. Дик печально огляделся. На юге виднелись массивные очертания потухшего вулкана Бунинйонг, о котором туземцы говорили, что он похож на человека, лежащего на спине, подняв колени. Впрочем, Дик не собирался идти на юг. Он найдет какое-нибудь убежище в зарослях и там, на свободе, все хорошенько обдумает. Пусть он ничего не знает о жизни в австралийских зарослях, но у него есть револьвер, и, конечно, он сумеет прокормить себя. Спички тоже есть. Сохранились ли они? Да, в кармане почти полная коробка. Дик пошел на север, взял правее Литл-Бендиго. Хлеба ему дня на два хватит. А в зарослях опасны только змеи. Дик обходил стороной шахты и сараи и вскоре очутился вдали от всякого жилья. Хотя звезды светили довольно ярко, идти в темноте было нелегко. Но Дик не замедлял шага. До рассвета он должен оставить далеко позади Балларат и его окрестности. И действительно, когда он проснулся под высоким белым эвкалиптом, разбуженный дневным светом, Балларат был далеко. Казалось, человеческая нога ни разу не ступала по древнему девственному австралийскому лесу. Дик хотел уйти от людей, и вот его желание исполнилось с по-истине устрашающей легкостью. Но в сиянии утренних лучей заросли не казались враждебными, они попросту были равнодушны и совершенно не замечали вторжения какого-то ничтожного Дика. Дик мало что знал об австралийских животных. Семь лет тому назад его отцу пришлось из-за плохого здоровья покинуть Лондон и поселиться в Мельбурне. И хотя мальчик не мало дней провел со своими товарищами на холмах, окружающих Мельбурн, а потом много колесил по проселочным дорогам, заросли всегда представлялись ему просто подходящим местом для пикника. Дик понятия не имел, где он сейчас находится, но так как заметил, с какой стороны взошло солнце, все же какая-то ориентировка у него была. По его соображению, он шел на северо-запад. Ему нужна была вода. У Дика было смутное представление, что если он пойдет по зарослям все на запад, то, сделав миль пятьдесят, окажется в Арарате, где его никто не знает и где, может быть, удастся получить работу. Не в шахте. С золотоискательством он покончил. На ферме или в одной из типографий, которых с ростом населения становилось все больше. Мало вероятно, чтобы полиция стала его искать. Он уже не имел значения: восстание породило таких политических преступников, которые в глазах закона были куда опаснее Дика. Вскоре Дик начал понимать, как сложно разобраться в австралийских зарослях. Нескончаемые овраги пересекали друг друга во всех направлениях, они вели куда угодно и никуда. Он пытался не сбиться с пути, следя за солнцем, но порой ему начинало казаться, что он кружит все время около одного и того же места. Все овраги были похожи друг на друга. Все эвкалипты, устремленные к небу, казались одним и тем же эвкалиптом, покрытым тоненькими серовато-голубыми листочками, изогнутыми, как сабля, и дававшими слишком мало тени, потому что они были повернуты ребром к солнцу. Можно было подумать, что на земле росли одни эвкалипты. Никаких животных Дик не видел. Он еще не научился различать жизнь в австралийских зарослях и даже не замечал хлопотливых птиц, хотя смутно улавливал их щебет. Дику было не до птичьих песен, и все-таки они его подбадривали. Без них сухие знойные заросли были бы непереносимы. И его мучила жажда. Есть ему тоже хотелось, но прикосновение сухого хлеба к сухому небу было неприятно. Пекло солнце. Дик уже не пытался придерживаться определенного направления и слепо шел, гонимый надеждой набрести на ручей. Порою ему казалось, что он слышит журчание воды совсем близко, но спереди или сзади, слева или справа, — определить не мог. Он остановился и прислушался, но опять-таки не мог понять, что это: журчание воды, биение крови в его опаленной солнцем голове, слабое стрекотание цикады в кустарнике или тихий шелест темных деревьев, чьи листья гроздьями свешивались до земли. Но то было действительно журчание воды. Растительность становилась все зеленее и свежее. Пробившись сквозь древовидные папоротники и путаницу дикого винограда и ломоноса, с которых вспорхнули, возбужденно щебеча, пестрые птички, Дик увидел неглубокую речку, струящуюся в сумрачной лощине между двух холмов. Он лег на землю и жадно припал к воде, потом сел и принялся за хлеб — на этот раз с удовольствием. Немного поспав, он проснулся и начал лениво наблюдать за тем, что окружало его. Со стороны могло показаться, что он только бесцельно глазеет. На самом деле чувства его осваивались с новой обстановкой и приспосабливались к ней. Он смотрел сквозь нависшие аркой древовидные папоротники и любовался играми птиц. Вокруг него порхали, охотясь за насекомыми, желтогрудые крапивники, и Дику стало как-то уютнее, когда, проследив за одним из крапивников, он обнаружил его гнездо — куполообразную постройку из мха, сухих папоротников и травы, свисающую с куста. Он видел молодые побеги, видел зеленых ящериц, ускользавших при малейшем его движении. Ему нравились даже муравьи. Один раз трава раздвинулась и из нее выглянула коричневая мордочка маленького кенгуру — валлаби. У Дика стало спокойнее на душе, но двигаться ему по-прежнему не хотелось. Пусть окрепнет это ощущение домашнего уюта. У него был револьвер, была вода, и он чувствовал себя в безопасности. Потом беспокойство и даже какой-то страх снова овладели им, и он встал, решив исследовать овраг. Он заглянул в гнездо крапивника и позавидовал, увидев, что оно выложено пухом. Дик бродил по склонам, стараясь не отходить от ручья. Над водой звенели голоса караваек, и Дику снова захотелось есть. Он наткнулся на дерево джибунг с почти зрелыми плодами и съел несколько штук целиком, выплюнув только твердые косточки. Он знал, что эти плоды не ядовиты, потому что один из его товарищей собирал их во время прогулки по окрестностям Мельбурна. Заметив коричневую тень, мелькнувшую в зарослях, Дик выстрелил, но промахнулся. Сразу же им снова овладел мучительный страх. Исчезло ощущение домашнего уюта, и он не понимал, чем это вызвано: тем ли, что он стрелял, или тем, что промахнулся. Сгущались сумерки, неся с собой ощущение огромного покоя, пока еще недоступного Дику. Доев хлеб, он все же улегся на сухой камень, откуда было слышно тихое бормотанье речки. Как счастлив был бы Дик, будь у него еда! Прозрачная ночь, сверкающая южными звездами, словно омыла его душу и тело своей невозмутимой благожелательностью. Жизнь была хороша. Никогда еще мальчик не чувствовал себя таким спокойным, таким уверенным! Словно вся земля принадлежала ему. Но он был голоден. Когда первый его сон был прерван глухим криком совы мопок, — «мо-пок! мо-пок!» — им безраздельно овладел страх. Он схватился за револьвер. Тьма была населена таинственными существами, смутными порождениями безмолвия. Какие-то неведомые ноги топотали вокруг него. Чьи-то неведомые глаза смотрели на него. Он был одинок и напуган. Вокруг пищали и бормотали неведомые тихие голоса. Хрустнула сухая ветка. Шорох крыльев нарушил покой деревьев, которые словно поникли под тяжестью ночи. Снова безмолвие и ощущение неведомой и враждебной жизни, которая смыкается вокруг него все теснее и теснее. Но он не собирался сдаваться без боя. Он еще крепче ухватился за револьвер и стиснул зубы. Спустя немного времени Дик снова уснул.
XXI. Речка
Дик вздрогнул и проснулся. Сквозь сон он услышал хриплый вопль и стал размахивать руками, уверенный, что над ним наклонился страшный враг. Но, с трудом раскрыв глаза, он увидел, что уже светло, что небо заслонено от него лишь пушистой веткой и что вопит тройка птиц — кукабурр, сидящая на другой, соседней ветке. Раскрывая длинные, как у зимородка, клювы, они хрипло хохотали. Дику казалось, что они смотрят прямо на него, что именно к нему относится их грубый, совсем не птичий смех. Увидев, что мальчик проснулся, птицы взлетели, опустились на землю поодаль, снова взлетели и исчезли за купой чахлых самшитов. Потом издали донесся новый взрыв каркающего хохота, словно они рассказывали друг другу, как забавно было разбудить и напугать глупого заблудившегося человечка. Дик продолжал лежать, стараясь прийти в себя. Затем чувство одиночества целиком завладело им, и он заплакал при мысли о Козиме, о родителях, о вкусном-завтраке, приготовленном миссис Вертхайм… От того, что он спал на камне, у него ломило все тело. Постепенно слезы сменились огромной благодарностью за то, что он жив, любовью к голубому утру, щебечущим птицам, журчащим струям речки. Дик вскочил на ноги, но сразу же снова лег. Торопиться не следовало. Он понял это накануне, когда стрелял в кенгуру и промахнулся. Он не должен действовать опрометчиво, иначе опять заблудится, попусту растратит патроны и умрет от голода и жажды. Нужно ко всему относиться легко, — тем легче, чем тяжелее ему приходится. А это очень трудно — уметь в нужный момент легко ко всему относиться. Он заставил себя успокоиться и принялся обдумывать свое положение, лежа на спине, заложив руки за голову, жуя травинку и глядя в утреннее бледноголубое небо. Затем, тихо и довольно насвистывая, Дик перекувырнулся и приступил к дневным трудам. Ему помнилось, что на топких берегах речки он видел следы чьих-то когтей. Сняв башмаки и предусмотрительно поставив их на свою каменистую кровать, где он не мог бы их не заметить, Дик пошел вверх по течению. Да, на отлогом берегу отпечатались следы животных, приходивших сюда на водопой. Маленьких животных, судя по следам, — валлаби, австралийских медведей, падемелонов. Дик вернулся назад, захватил башмаки и, перебравшись на другой берег, пошел к водопою. Спрятавшись за куст, он взвел курок револьвера. Потом оглянулся и подобрал несколько подходящих для его цели камней. Из них он соорудил подпорку, на которую мог бы опираться, прицеливаясь, и упражнялся в наводке на цель до тех пор, пока не уверился в том, что, когда придет время стрелять, рука его не дрогнет. Он неподвижно лежал за кустарником. Мурлыкала речка. Мелькали, словно яркие пятна, птицы, что-то щебеча друг другу. Они казались Дику шпионами, следящими за его приготовлениями, чтобы потом рассказать о них всем обитателям зарослей. Но он лежал неподвижно. Все сильнее и сильнее хотелось есть, а желание двигаться становилось непереносимым. Дик мечтал о том, как он вскочит и помчится на поиски животного, которое можно было бы подстрелить. Но он понимал: при его неопытности и плохой стрельбе ничего хорошего из этого не выйдет. Он заставил себя лежать неподвижно. И он был вознагражден за это. Внезапно и совершенно беззвучно из травы выглянула коричневая мордочка. Неуклюжий темный зверек спрыгнул вниз, к воде. Лучи солнца падали на него, и Дик видел темный, красноватосерый густой и грубый мех. Зверек напился, поднял мордочку, мигнул и огляделся, свесив черные передние лапы. Дик тщательно прицелился и выстрелил. В первый момент ему показалось, что выстрел не попал в цель, но потом он увидел, что животное, сделав попытку повернуться и убежать, упало на бок, дрыгая лапами. Дик перебежал через речку и остановился над зверьком в недоумении, не зная, чем прикончить его, — в руках не было ни ножа, ни дубинки. Почему он не сделал себе дубинку! Душить животное Дику было неприятно, а тратить патрон на то, чтобы убить его, тоже было невозможно. Поэтому он поднял все еще слабо бьющегося валлаби и опустил головой в воду. Зверек скоро издох, но кровь продолжала капать на светлый мех брюшка, а черный хвост колыхался в речке.

Теперь следовало подумать, как освежевать тушу. Дик потащил ее к месту своего ночлега и положил на камень, служивший ему постелью. Он уже с нежностью относился к этому камню, словно к чему-то родному. Потом он начал искать острый кремень. Сперва ничего подходящего не попадалось, но, наконец, он нашел узкий камень с острыми краями, до того не похожий на все валявшиеся кругом камни, что Дик подумал, — не туземец ли обронил его. Этим камнем ему удалось снять шкуру с кенгуру — работа неприятная и утомительная, потому что трудно было удержать кремень в нужном положении. Сложив каменный очаг, чтобы подольше удерживать жар, Дик развел костер из листьев и веточек. Когда костер разгорелся, он подбросил в него сучьев с поваленного ветром дерева, лежавшего невдалеке. После того, как запылали и сучья, он положил на очаг мясо, подгреб к нему палочкой раскаленные угли, а сверху добавил еще топлива. Когда Дик вытащил мясо из очага, — оно выглядело очень грязным и подгоревшим. Опасения его оправдались: сверху мясо обуглилось, а изнутри не прожарилось. Но Дик вымыл его в речке, жадно вдыхая запах и обжигая пальцы, а затем с удовольствием съел свое неудавшееся жаркое. Положив остатки туши под тенистым деревом и укрыв их листьями, Дик отправился на поиски каких-нибудь плодов или ягод и вернулся уже с наступлением темноты. Плодов он не нашел, но унывать из-за этого не стал. Ему удалось собрать немного ягод и спелых шишек, и он решил положить их утром на камень и посмотреть, — расклюют ли их птицы. Если да, то, значит, они годятся и для него. Дику пришлось доесть все жареное мясо, потому что, к несчастью, на него уже набросились мухи, муравьи и мошки. Туша тоже кишела муравьями. Он промыл ее и положил на камень, выступавший посредине речки: там, по крайней мере, до нее не могли добраться муравьи. Сгустилась безмолвная тьма, и Дик лег спать. Природа снова казалась ему дружелюбной, и он был уверен, что теперь ночные голоса — даже грубые пронзительные крики сов — не потревожат его. Он тихо лежал, медленно погружаясь в сон. Вскоре его разбудило чье-то завывание. Дик сообразил, что это воют динго, дикие собаки, и ему стало боязно, хотя он и слышал, что динго не нападают на людей. Но вдруг они голодны и все-таки нападут? Вой у них был очень голодный. В ветвях прошуршал опоссум; и вдруг сквозь дрему Дик увидел, что снизу, из темноты, на него глядят горящие холодным огнем кошачьи глаза. Вскочив, он стал бить палкой по земле, и глаза исчезли. Он вспомнил: какой-то старатель рассказывал при нем о местных диких кошках — свирепых полосатых животных. Снова завыли динго, и тут Дик понял, что было причиной этой ночной тревоги: ее вызвала разбрызганная кровь валлаби и запах туши, лежащей на камне. Хищные животные учуяли его. Больше он не спал, хотя, чем глуше становилась ночь, тем сильнее сказывалась усталость. Он пролил кровь, чтобы утолить голод, и вот теперь его окружило тесное, до ужаса тесное кольцо диких зверей, жаждущих крови. Он решил выстроить себе утром убежище и перед самым рассветом уснул. Он не слышал даже смеха гиен и проснулся, когда солнце высоко взошло над гребнями восточных гор и лесные ласточки порхали, ловили насекомых и шумно садились на кусты. Ведь день Дик неустанно трудился, собирая повсюду топливо, пока у него не получилась большая куча валежника. Потом он долго искал себе убежище и, наконец, нашел его на берегу речки, — маленькую пещеру под известняковым обрывом. Он перетащил туда весь свой валежник и из части его сделал изгородь, которую накрепко перевязал лозой дикого винограда и укрепил подпорками. Потом развел костер и изжарил остатки мяса. Лежа в убежище, он снова почувствовал себя в безопасности. Сзади на него, во всяком случае, никто не мог напасть. Револьвер на взводе — под рукой, а с боков и спереди его защищает изгородь. Дик решил поддерживать огонь в костре до утра и все время повторял себе: «Проснись, когда огонь начнет гаснуть, проснись, когда огонь начнет гаснуть!» Он уснул, повторяя эти слова, и, к собственному удивлению, действительно проснулся, когда костер начал угасать. Наверно потому, что стало холоднее, — решил он. Но, когда подбрасывал в огонь заранее приготовленное топливо, им опять овладело беспокойство, прогнав приятное ощущение уюта, появившееся, как только он нашел пещеру. Все, что он делал, было вполне разумно, но нельзя же прожить у этой речки всю свою жизнь! Рано или поздно, но уйти придется. Одни зимние дожди чего стоят! Да и запас патронов и спичек тоже когда-нибудь истощится. «Ну, что ж, — подумал он. — Мне нужно пробыть здесь еще несколько дней, пока я не привыкну к зарослям. Потом пойду на запад». Решив это, Дик снова уснул, не обращая внимания на вой динго.
XXII. Положение ухудшается
Следующие пять дней Дик посвятил исследованию оврага. Ему удалось подстрелить двух валлаби и опоссума, а свое убежище он сделал еще более надежным. Дику нравилось строить, хотя он понимал, что пещеру скоро придется покинуть. Очень заботило его и нарушало все планы отсутствие сосуда, в котором можно было бы нести воду. Он непрерывно размышлял над этим вопросом, тщетно разыскивая тыкву, которая не протекала бы. Что такое «тыква», он толком не знал, хотя читал о ней в книгах. Но какова бы она ни была, в Австралии она явно не росла. А как обходятся туземцы? Должны же они во время своих переходов носить в чем-то воду от речки до речки, от колодца до колодца! Дику пришло в голову, что для его цели годится шкура валлаби, если только ее аккуратно снять, очистить и высушить на солнце. Он решил сделать попытку со шкурой следующего же убитого им зверька. Все мысли Дика были сосредоточены на том дне, когда он отправится в поход через заросли, но в то же время страшно не хотелось покидать берега речки, где он чувствовал себя как дома. Быть может, Дик долго еще придумывал бы предлоги для оттяжки путешествия, если бы выбор не был сделан помимо его воли. Чем увереннее он становился, тем дальше отходил от речки в поисках плодов и трав, чтобы внести разнообразие в пищу, которая приелась ему и подчас становилась невыносимой. Ясным утром, звеневшим от птичьих песен, позавтракав недожаренным валлаби, — а это особенно чувствовалось, когда мясо было холодным, — Дик отправился в обычные поиски. Он следил за полетом пестрых попугаев, так как заметил, что они питаются цветочным медом, извлекая его из чашечек своими, похожими на щетки, языками. Из этого он сделал вывод, что они едят также мякоть плодов, и надеялся, следуя за ними, набрести на плодовые деревья. Попугаи вспорхнули, что-то резко выкрикивая. Дик устремился за ними. Но после напряженной погони по холмам, во время которой птицы словно дразнили его, кружась над ним и поджидая, чтобы он подошел вплотную, а потом опять срываясь с места, — он окончательно потерял их из виду в заросли молодых эвкалиптов. Дик остановился, соображая, где он находится, и понял, что заблудился. Это был страшный удар, потому что в пещере остались все его запасные патроны, не говоря уже о мясе, которое он собирался взять с собой, чтобы продержаться первые дни пути. Почти все утро Дик бесцельно бродил, пытаясь найти дорогу назад, но потом окончательно убедился, что ничего из этого не выйдет. Нужно собраться с мужеством и сразу же идти на запад. И он пошел на запад, стараясь все время следить за солнцем. К вечеру его стал мучить голод, — охота была неудачной, он только зря истратил два патрона на скользящие по траве тени, которые принял за валлаби. Однажды он издали увидел больших кенгуру, но не захотел возиться с ними. Мелкие животные были ему больше по вкусу. Голод и жажда разбудили его еще до рассвета. Полизав влажные от росы листья и чуть не наступив на черную змею, он снова пустился в путь. Увидев на дереве гоанну, Дик бросился наутек. Впервые в жизни ему встретилось такое чудовище. Это была взрослая гоанна, шести футов длиной, черно-желтого цвета, вцепившаяся длинными когтями в дерево и похожая на ящерицу, которая не может решить, кем бы ей хотелось быть, — змеей или крокодилом. Она поспешно вскарабкалась по стволу, болтая черножелтым хвостом. Дик не знал, что эти животные безобидны и что туземцы едят их, иначе он попытался бы ее застрелить. Но он предпочел удрать, думая, что на деле она так же грозна, как с виду. Встреча с гоанной лишила Дика равновесия, и он начал бояться, что в зарослях действительно водятся звери, нападающие на человека. Он опять увидел змею — тигровую змею со множеством темных перекрещивающихся полос — и ощутил ядовитую силу, исходящую от нее. Зеленый древесный уж свалился чуть ли не на плечи Дику и, хотя Дик знал, что уж не ядовит, все же страшно перепугался. Должно быть, воздух в этот день был насыщен чем-то таким, что заставляло всех пресмыкающихся выползать наружу. Не решаясь двигаться дальше, Дик уныло присел на голой, со всех сторон открытой полянке. Он неподвижно сидел в полном изнеможении и вдруг увидел, что большая птица ринулась вниз, схватила в траве зеленого древесного ужа. Птица взлетела, держа добычу в клюве, потом уронила ее на скалу, снова взлетела и повторяла все это до тех пор, пока уж не издох. Зачарованный, Дик смотрел, как птица поглощает ужа. Потом голод снова погнал его в путь. До самого захода солнца Дику удалось съесть лишь несколько плодов джибунга. От мучительной жажды рот и горло у него словно обросли шерстью. Коричневая змея ползла по сухому дну оврага, и он пошел за ней, вспомнив рассказ старателя о человеке, спасшемся при таких же обстоятельствах тем, что последовал за змеей и пришел к воде. Но змея пропала из виду между камней. В небе парил орел, на ветках трещали сороки. Все тело у Дика ныло, глаза налились кровью и горели, внутренности сжигала изнуряющая жажда. Он без сил упал на землю, в ожидании ночной прохлады. Спать он не мог, но временами впадал в лихорадочное полузабытье. Утренняя роса вернула ему самообладание, но он уже больше ни на что не надеялся. Мимо него грациозно проскользнул падимелон — серый с красноватой шеей, коричневыми лапами и ослепительно белым брюхом; прыгая, он выбрасывал лапы вперед, в отличие от кенгуру, которые подбирали их. Дик выстрелил и промахнулся. Его рука ни на что не опиралась, и стрелять было трудно: он не справлялся с отдачей. Пробираясь сквозь кустарник, Дик неожиданно наткнулся на дроздиное гнездо. В нем лежало три яйца. Дик разбил одно и, увидев, что оно свежее, залпом выпил. Потом выпил и остальные два. Дрозд летал над ним в ветвях перечного дерева и бранился. Дику стало легче, но еще сильнее захотелось есть, и он принялся искать гнезда. После долгих поисков ему удалось найти одно, но яйца оказались насиженными и так воняли, когда он разбил их, что пришлось убежать. По-прежнему не было ни признака воды. В полдень он растянулся под кустом, не в силах больше двигаться под палящим зноем. Пыль и песок словно пропитали его насквозь. В горле пересохло, глаза воспалились. Над зарослями колыхалось марево — мерцающая дымка прозрачного зноя, похожего на расплавленное стекло. Почва стала суше и каменистее, на ней росли только блестящие эвкалипты, кустарник да чахлая, редкая трава; повсюду торчали обгорелые пни — следы лесного пожара. Дика изводила неотвязная мошкара. Над левым запястьем он заметил черное пятнышко и попробовал согнать его, приняв за москита или мошку, но оказалось, что это клещ. Он попытался вытащить его, зная, что клещи вызывают паралич у собак и детей, — он сам видел собаку, у которой после укуса клеща отнялись ноги. Но тут он вспомнил, что клещей ни в коем случае нельзя вытаскивать. Вонзившийся хоботок отрывается и остается в теле, вызывая жар и нагноение. «Смажь клеща керосином, —говорила ему мать. — Годится и табачная жижа из трубки. Хорошенько запомни это. Не вытаскивай клеща». А к чему помнить, если у него нет ни керосина, ни табачной жижи? Дик в ужасе смотрел на клеша. Это была последняя капля, переполнившая чашу. Он лег на землю, содрогаясь от рыданий, но глаза его были сухи. Вдруг он услышал какой-то шум. Мгновенно забыв и о своем несчастье и о своей слабости, он схватился за револьвер. Осторожно выглянув из-за кустарника, он увидел туземца, идущего по открытой поляне. Туземец был снаряжен по-охотничьи, за поясом из кожи опоссума у него торчали каменный топор, бумеранг и короткая дубинка для охоты на мелких животных. В руках туземец нес дротик и три копья, каждое с особым наконечником. Весь его костюм состоял из набедренного пояса. Дик испуганно следил за туземцем, так как наслушался россказней о жестоких нападениях чернокожих на первых переселенцев, хотя некоторые старатели утверждали, что чернокожие добродушны и нападают только, если их принудят к этому. Несколько минут назад Дик готов был приветствовать смерть. Но сейчас, очутившись лицом к лицу с опасностью, он мгновенно весь собрался, напряженно думая о том, как поступить. До сих пор ему пришлось видеть всего лишь нескольких чернокожих в Мельбурне, совершенно опустившихся пьяниц, да короля Билли, главу балларатского племени, разгуливавшего в лохмотьях, на которых красовалась бляха с надписью: «Король Билли». Но этот обнаженный охотник был совсем иным. Дик представления не имел, как отнестись к нему. Размышляя над тем, что ему делать, Дик заметил другую фигуру, отделившуюся от купы деревьев слева, — второго туземца, скользившего бесшумно, как тень. Он подумал было, что это тоже охотник — товарищ первого — и что сейчас появятся еще туземцы и он будет окружен целым племенем. Но, наблюдая за вторым туземцем, Дик сообразил, что тот преследует первого. В одной руке чернокожий держал длинное копье с наконечником, на котором был десяток устрашающих зазубрин, в другой — дубинку.

Пока Дик ломал голову над тем, что ему предпринять, второй туземец поднял копье и прицелился в спину первому. Не раздумывая, Дик оперся локтем о развилину ветки, поднял револьвер и выстрелил во второго туземца. Первый подскочил на месте, обернулся и, не успел Дик прийти в себя от удара, полученного при отдаче, как чернокожий был уже около своего преследователя, лежащего на земле в луже крови, струящейся из раны в боку. Одним ударом каменного топора он отсек голову врага. В ту же секунду Дик выпрямился и поднял руку с револьвером не то в виде объяснения, не то — угрозы. — Я стрелял в него, — сказал он, даже не подумав о том, что туземец может не понять его. — Он хотел бросить тебе копье в спину. Я не мог этого стерпеть. Туземец широко улыбнулся, и Дик решил, что его лицо со сплющенным носом очень приятно. — Ты бах-бах? — спросил туземец, все еще широко улыбаясь, и тут только Дик почувствовал, как он рад, что чернокожий говорит по-английски. — Я буду много рассказать тебе. Много рассказать вон там. Туземец показал на юго-восток и ухмыльнулся. — Мне нужна вода, — сказал Дик, сперва открывая рот, а потом глотая слюну, чтобы смысл его слов уж никак не мог ускользнуть от туземца. — Вода. — Иди со мной, — ласково сказал тот. — Воды много-много. Он пошел впереди, легко скользя между деревьями, а Дик плелся сзади. Правда, надежда отчасти вернула ему силы, но все же он шел нетвердо. Перед его глазами колебалась ослепительная текучая дымка зноя. Наконец они добрались до маленького лагеря. Дик, словно сквозь туман, увидел хижину из коры, туземку с завернутым в лохмотья ребенком за плечами, тощую собаку. Туземец принес воду в сплющенной жестяной кружке. Вода была теплая и отдавала прогорклым маслом, но Дик пил и наслаждался. Вдруг он ощутил неприятное подергивание в руке и вспомнил о клеще. — Посмотри, — сказал он слабеющим голосом. — Ты не сможешь вытащить? И потерял сознание.
XXIII. Джим-туземец
Когда он пришел в себя, рука уже не болела и к ней была приложена припарка из приятно пахнущих трав. Он лежал на грубо сколоченной койке, а рядом стоял туземец и глядел на него со своей обычной широкой улыбкой. — Один, два, три дня, — сказал он, загибая пальцы на руке. — Спал. Нехорошо спал. Теперь хорошо. Дик чувствовал себя совсем слабым. Он понимал, что у него был солнечный удар и одновременно приступ лихорадки, вызванной клещом. Он ответил туземцу улыбкой и спросил, как его зовут. Тот почему-то не хотел назвать свое имя и бормотал бессвязные слова, но потом все-таки сказал, что на ферме, где он работал, его звали Джимом. По другому его замечанию Дик понял, что некоторое время Джим был также проводником. «Быть может, — думал Дик, — он впутался в какую-нибудь историю или бежал до окончания срока вербовки. Или скрытность Джима объяснялась другой причиной, как-нибудь связанной с верованиями его племени». Человек, которого ранил Дик, был врагом Джима и принадлежал к соседнему племени. Но и тут Дик не совсем понял объяснения Джима, и опять ему было не ясно, — то ли тот нарочно путает, то ли у него просто не хватает слов. Имя жены Джима Дику так и не удалось выяснить. Он решил называть ее «женой Джима». Услышав это обращение, Джим заулыбался, закивал головой, в знак согласия, и стал объяснять жене, после чего та тоже расплылась в улыбке, словно Дик пожаловал ее почетным титулом. Лицо у нее было такое же добродушное, как у Джима, но куда более безобразное, — с точки зрения Дика, конечно. Джим, вполне вероятно, считал ее красавицей, а может быть, он просто об этом не думал. Сперва их жилье показалось Дику просто кучей хлама, но, приглядываясь во время выздоровления к окружающему, он быстро понял свою неправоту. Количество вещей, помещавшихся в соломенной корзине женщины, было поистине поразительно. Сперва она вытащила оттуда плоский камень и истолкла на нем собранные ею коренья, потом поджарила их и накормила ими Дика. Когда Дик благодарно улыбнулся ей, она улыбнулась ему в ответ, а Джим улыбнулся им обоим. Для растопки она вынула мелкие шишки и кучу сухих белых древесных губок. Накануне ночью прошел короткий ливень, погасивший огонь в очаге, и Джим на глазах у Дика разжег его при помощи двух палочек, тоже извлеченных из корзины. После этого Дик решил узнать, что же еще жена Джима носит в корзине, и выяснил, что, кроме нескольких дурно пахнущих кусочков мяса и жира, там лежат: куски кварца для стрел и ножей, камни для топоров, сухожилья кенгуру, заменяющие нитки, полоски кожи кенгуру для обмотки копий, шерсть опоссума для кремневых ножей, кусочки смолы, нужные при изготовлении и починке оружия, белая глина, желтая и красная охра, сосуд из древесной коры для воды, набедренные повязки и побрякушки, тряпье и пустая пивная бутылка. Все это Дик видел собственными глазами и теперь, что бы она ни вытащила из своей корзины, он ничему уже не удивлялся. — Принесу тебе сахар с дерева, — сказал однажды утром Джим, с трудом подбирая слова. Дик не понял, о каком сахаре идет речь, и стал следить за Джимом. Тот рукою поймал пчелу и, взяв у жены немного смолы, приклеил к своей пленнице кусочек меха опоссума. Улыбнувшись Дику, Джим выпустил пчелу и побежал за ней. Почему пчела не укусила Джима, пока он возился с нею, Дик не понимал. Все, что делал Джим, казалось на первый взгляд весьма несложным. Через час Джим вернулся, держа в руке пчелиные соты, завернутые в кору эвкалипта. Он, оказывается, следил за пчелой, пока она не привела его к улью в дупле. Когда Дик окреп, он попросил Джима научить его бросать бумеранги и копья. С бумерангом ему так и не удалось справиться, но зато научился неплохо владеть короткими копьями, которые нужно было бросать с помощью воммеры — палки с шипом, на который насаживается копье. Копье полагалось держать двумя пальцами правой руки, причем воммера придавала ему равновесие и значительно увеличивала силу броска. Джим старался обучить Дика всем своим охотничьим уловкам, а по вечерам они сидели у костра и ели ягоды, толченые коренья и мясо кенгуру, которого жена Джимма жарила прямо в шкуре. Дика увлекла лагерная жизнь, он забыл обо всем, что прежде его волновало, забыл о своем страстном желании пробраться в Арарат. Когда мысль об Арарате случайно возвращалась к нему, он сразу же решал, что лучше обождать, — каждый день, проведенный в зарослях, уменьшает опасность быть схваченным или узнанным. Родители, конечно, не беспокоятся за него, — убеждал он себя, — так как знают, что его не было ни среди убитых, ни среди взятых в плен повстанцев. Дик изо всех сил старался отогнать мысль, что они все-таки беспокоятся. Пока что он не мог даже подумать о том, чтобы уйти из лагеря. Он ходил на охоту вместе с Джимом, и тот очень терпеливо относился ко всем его промахам. Дика поражало уменье Джима выслеживать зверя, но иногда он вдруг схватывал объяснения туземца и видел, что никакого чуда в этом умении не было: оно складывалось из острой наблюдательности и сообразительности. И все-таки его всегда удивляла способность Джима выследить опоссума по следам когтей на стволе дерева или, если следов не было, по направлению полета москитов. Змей Джим находил, наблюдая за их постоянными спутниками — сорокопутами. Позднее, говорил Джим, они перенесут свою стоянку на берег моря, к лагунам. Там, повязав голову водорослями, он будет плавать, плавать так тихо, что утки примут его за колышущуюся на волнах траву, пока он не схватит одну из них. Потом, сломав ей под водой шею, он оставит ее качаться на волнах, а сам будет охотиться за другой, и еще за другой, и поймает сколько ему нужно. Пеликанов он умеет приманивать, подражая щелканьем пальцев под водой всплеску рыбы. Наконец, Дик почувствовал, что пора сказать что-нибудь о своем желании добраться до Арарата. Но Джим не знал такого города или делал вид, что не знает. Он ухмылялся, качал головой и бормотал что-то несвязное. — Это там? — сказал Дик, указывая на запад. Джим кивнул головой и ухмыльнулся. — Может, и так. — Большой город. — Может, и так. — Ты проведешь меня туда? — Может, и так. — Значит, ты не знаешь, где он находится? Джим покачал головой. — Может, и так. — Когда ты поведешь меня туда? После того, как Дик повторил этот вопрос несколько раз, Джим ответил: — Две, три луны. Он упорствовал в своем желании идти не на запад, а на юг, к побережью. Дик предположил, что существует, вероятно, соглашение с племенем, живущим на побережье, о праве на стоянку в лагунах. Но он чувствовал также, что Джим твердо решил не подходить близко к поселениям белых; возможно, он исходил при этом из не очень приятного опыта. — Ты не любишь белых людей? — допытывался Дик. — Тебя люблю, — ухмыляясь отвечал Джим, и большего Дик не мог от него добиться. Когда Дик начинал подробно объяснять, почему ему нужно в Арарат, Джим только ухмылялся и показывал на юг: — Иди туда. Много еды. Дик сдался. Ему и хотелось и не хотелось идти в Арарат. Он уже совсем привык к Джиму и его жене. Здравый смысл, говоривший о том, что надо что-то предпринять для возвращения, просыпался в нем очень редко. К тому же он твердо решил никогда больше не испытывать ужаса затерянности и неспособности поддержать свое существование. Он до тех пор ежедневно практиковался в метании небольших копий, пока не стал настоящим мастером. После этого он почувствовал себя увереннее. В стрельбе из револьвера он практиковаться не мог из-за скудости запаса патронов. Но с копьями дело обстояло иначе. Взамен потерянного копья всегда можно сделать новое. Туземцы обучили его и этому. Когда Дик убил своего первого падимелона, он почувствовал, что больше не боится зарослей. Но ему хотелось научиться всему, чему только возможно. Он ходил с женой Джима собирать травы, корни, семена злаков, ягоды, научился отличать съедобные растения и готовить их. Каждый день он черпал у Джима новые сведения о зарослях. Время проходило в такой приятной смене занятий, что Дик не замечал его. Он пытался определить, сколько дней провел в овраге, сколько болел, сколько прожил с Джимом, но сбивался в счете. Во всяком случае, месяца два уже прошло. Однажды их посетили соплеменники Джима, человек тридцать мужчин и женщин, живших поблизости. Туземцы затеяли игры. Дик увидел шуточное состязание мальчиков, вооруженных тупыми копьями и стоявших двумя рядами в десяти шагах друг от друга. Он завидовал ловкости, с которой они ловили копья на свои овальные щиты. Больше получаса продолжалось это состязание, за которым весело наблюдали взрослые. После вечернего пиршества, состоявшего из мяса кенгуру, началась корроборри. Чернокожие женщины, одетые в шкуры опоссума, сели у большого костра. Мужчины, размалеванные белой и красной глиной, стали в круг, держась на расстоянии трех-четырех футов друг от друга.

Женщины вибрирующими голосами запели нескончаемую песню. Дик не мог уловить сперва ни мотива, ни склада. Но потом он ощутил ее внутренний смысл, ее медленные ритмические пульсации. В ней была напевность ветра, и ритм набегающих волн. Время от времени женщины ударяли правой рукой по левой, раскрашенные мужчины в такт подпрыгивали и кружились, потом останавливались и приседали, издавая гортанные крики. Эти крики тревожили Дика, они казались ему ненужными и отвратительными, и все-таки он ждал их, и его охватывало странное ликование. Танцоры схватили оружие. Женщины продолжали тянуть жалобный, дрожащий напев, хлопая в ладоши, и их пронзительные выкрики становились все громче. Мужчины кружились, притоптывали, приседали, потрясали оружием, как бы сражаясь с окружавшим их мраком, поражая бесчисленных незримых врагов. Они кружились и кружились, и задорные пронзительные вопли неслись к огромным мерцающим австралийским звездам. Дику не хотелось, чтобы корроборри кончилась, и все-таки он обрадовался, когда она пришла к концу. Ему было страшно, хотя он не признался бы в этом. Но чернокожие были по-прежнему настроены дружелюбно. Они смеялись, болтали друг с другом и улыбались. Когда Дик лежал возле сделанной из коры хижины Джима, он чувствовал себя очень одиноким. Ему хотелось домой, хотелось повидать родителей и Шейна. Он даже не знал, остался ли Шейн в живых. Вспомнил он и Ко-зиму — впервые за все время, что жил с Джимом. Она ему нравилась, она была так не похожа на остальных девчонок, которых он знал, — девчонок, созданных, кажется, специально для того, чтобы портить все игры и хихикать по уголкам. Козима была совсем другая. Дику захотелось вернуться в Балларат.
XIV. Старый Нед
На следующий день племя снялось с места. Туземцы перебирались на юг, но никто не торопился. Еды кругом было еще вдоволь. Дик радовался, что снова останется только с Джимом и его женой. В их обществе он чувствовал себя уверенно, не видел разницы между собой и ими, уже не замечал цвета их кожи и даже немногочисленности слов, которыми мог с ними обменяться, — Дик теперь немного говорил на языке Джима. Среди толпы чернокожих он утратил это чувство уверенности. Там он был чужаком, пришельцем, и это его пугало. Но вот однажды явился вестник, и Джим объявил, что пора собираться в дорогу. Племя опередило их всего на несколько миль, и в два-три дня его можно будет без труда нагнать. Жена Джима уложила все имущество в соломенную корзину, Джим взял оружие, собака выловила на себе еще несколько блох и фыркнула на свое излюбленное дерево, Дик подтянул штаны — и сборы к отъезду были закончены. Дику было неприятно, что женщина, вдобавок к младенцу за спиной, тащит на себе все самые тяжелые вещи, и он предложил нести одеяло. Но Джим с женой посмеялись над ним. Джим заявил, что на этот раз у нее очень легкая поклажа, она может нести в два раза более тяжелый груз, и женщина, в знак согласия, ухмыльнулась. Они шли довольно медленно, так как Джим по дороге отвлекался охотой на кенгуру. Дик не пошел с ним, — он должен был помочь приготовить ужин. Джим вернулся часа через два; он застрелил только кенгуровую крысу, зато принес волнующее известие: невдалеке, вниз по течению речки, вдоль которой они шли, расположен лагерь белого человека. Дик вновь загорелся желанием выбраться из зарослей и оказаться среди людей, с которыми он сможет разговаривать так, как никогда ему не удастся разговаривать с Джимом. Он очень сблизился с ним, но их дружба была дружбой людей, живущих в зарослях, а Дик, хотя и понимал, сколь многим он обязан жизни в зарослях, не желал сдаваться. Приблизиться к природе полезно, но не менее полезно вовремя отдалиться от нее. Дик печально оглядел себя. Одежда его была грязна и изодрана, еле на нем держалась. Сам он загорел почти до черноты и привык ходить босиком. Он представил себе, каким показался бы матери, если б в таком виде вошел в родительский дом. Это огорчило и потрясло его. Как похож он стал на Джима! И при этом как многому научился! Дик чувствовал, — уже ничто его по-настоящему не испугает, он стал тверже шагать по земле. — Пойдем к этому человеку, — сказал он. Какое счастье, что они натолкнулись на этого белого! Ведь Джим явно не желал и близко подходить к городу или даже к ферме. А одинокий белый человек, возможно, старатель, был именно таким товарищем, в котором нуждался Дик для возвращения к цивилизованной жизни. — Он старик, — сказал Джим. — Дурной глаз. — Неважно, — ответил Дик, охваченный теперь одним желанием: оказаться в обществе белого. — Пойдем к нему. Он попытался объяснить Джиму, что заставляет его уйти. — Отец, мать ждут меня. Джим кивнул головой и улыбнулся. Дику грустно было прощаться, и он не мог придумать, как бы им условиться о новой встрече. Он постарался втолковать Джиму, что у него нет постоянного дома. — Встретимся, — уверенно сказал Джим. Дик пожал руку жене Джима, чем явно смутил ее, поблагодарил за все, что она для него сделала, и ушел вместе с Джимом. Они зашагали по берегу речки. Вскоре Дик увидел дым от костра. Джим решительно заявил, что теперь он уйдет, — он не хочет встречаться с человеком, которого не знает. распрощался с ним и дальше пошел один. Обогнув холм, Дик радостно подбежал к одинокому путнику — первому бег ому, встреченному им за много месяцев. Как и говорил Джим, это был старик, седовласый и седобородый. Такому старому человеку не следовало бы одиноко бродить по зарослям. Но Дика не удивил его возраст, — он знал старателей преклонных лет, которые искали золото до тех пор, пока не умирали от голода и жажды в какой-нибудь глухой чаще. Старик взглянул из-под лохматых бровей и нахмурился. Дик понял, что Джим хотел сказать словами — «дурной глаз». Во взгляде старика светилась злобная сила, и Дику он сразу перестал казаться дряхлым. — Ты кто такой? — грубо спросил он, нащупывая револьвер. — Старатель, так же, как и вы, — ответил Дик. — Я заблудился. — Я не заблудился, — ответил незнакомец, подозрительно оглядывая Дика сверкающими запавшими глазами. — Я-то свою дорогу знаю. Я знаю… — Он замолчал и окинул Дика еще более угрожающим взглядом. — Кто послал тебя? — Никто. Говорю вам, что я заблудился и хочу добраться до какого-нибудь города — Арарата или Бендиго. Я хочу на запад. В Аделаиду. — А почему ты думаешь, что я тоже иду туда? Кто тебе сказал про меня? Дик начал сомневаться в том, что поступил благоразумно, променяв дружелюбного Джима на этого мрачного седобородого старика. — Чернокожий по имени Джим… — Где он сейчас? Пристально глядя вдаль, старик снова положил руку на револьвер. Дик подумал, что, пожалуй, ему тоже следует подтянуть свой револьвер и положить руку на кобуру. Не то, чтобы он ждал нападения, нет, просто хотел показать старику, что тот имеет дело не с беззащитным существом. — Он догоняет свое племя, которое переселяется к побережью. Он не захотел идти со мною. — На то у него свои причины, свои причины, — сказал старик, медленно покачивая головою и закрывая глаза. Потом снова открыл их. — У вас у всех так. Но меня вам не провести, и не думайте. Гнусен этот мир, и лишь в свой смертный час познает человек истину. От несвязных слов старика Дику все больше и больше становилось не по себе, но он сделал еще одну попытку договориться. — Можно мне присоединиться к вам? Я думаю, вы идете куда-нибудь… — Иду куда-нибудь!.. — повторил старик. — Так, так, теперь ты начал задавать вопросы. Я этого ожидал. Ты хитрец, да, да. Но я догадался. Тебе не провести старого Неда, у него мозги в порядке. — Он потряс морщинистым кулаком перед носом у Дика. — Стыдись, предатель и лживый убийца! Дик молчал. Он начал понимать, что либо ему надо не мешкая возвращаться и искать Джима, либо в одиночку идти на запад. Он боялся старика: тот, видимо, был не в своем уме. Но, бесцельно поковырявшись в костре, старый Нед поднял глаза на Дика и сказал совсем другим голосом: — Добро пожаловать, сынок. Я рад товарищу. Мне не повезло на этот раз, совсем не повезло. Но везенье приходит и уходит. Я не жалуюсь. — Я думал, вы ничего не будете иметь против того, чтобы я присоединился к вам, — сказал Дик. — Если, конечно, вы идете на запад. — Запад, восток, все одно, — уныло сказал старый Нед. — Солнце всходит и солнце заходит, ветер дует и ветер утихает. А что в этом проку, спрашиваю я тебя? Дик не ответил, и старый Нед, спохватившись, заговорил спокойнее. — Значит, молодой человек, мы пойдем вместе, ты и я. Мы пойдем на запад, туда, где заходит солнце. Запад — хорошее место. Есть места похуже, чем то, где заходит солнце. На нем кровь. — Он внимательно посмотрел на Дика. — Я хотел сказать, — на рукаве твоей рубахи. Дик посмотрел на рукав — Это кровь кенгуру, которого мы с Джимом потрошили на прошлой неделе. А я-то думал, что оттер ее. — Неважно, — ответил старый Нед, ковыряясь в костре. — Ее можно оттереть и втереть. Но отпереться от нее ты не сможешь. Ты ее пролил. И она уже не уйдет. Она на тебе, и никто не сможет отпереться. Дик не понимал, куда клонит старый Нед, но тот говорил тихо и печально, а не вызывающе, как вначале. Дик решил, что старик немного рехнулся, как многие одинокие старатели, которые слишком долго жили в зарослях. Они становились самоуверенными чудаками и нередко под конец сходили с ума. — Располагайся как дома, — сказал старый Нед, ложась на землю и уже совсем не напоминая того исполненного злобной силой человека, который встретил Дика… — Не будем торопиться. Кто, говоришь ты, послал тебя ко мне? — Я заблудился и чуть не умер от жажды. Но чернокожий, по имени Джим, спас меня. — Могло быть и так. — Старый Нед покачал головой. — Располагайся как дома, потому что в расцвете жизни мы можем встретить смерть. Это мудрая мысль, как сказал лорд Нельсон. Он был великий человек, и они выбрали бы его английским королем, но пушечный снаряд настиг его, настиг его. «Мир становится все неблагодарнее», — сказал он, испуская последний вздох, и правильно сказал. И это написано в Откровении, глава восемнадцатая, стих семнадцатый. Но об этом больше не надо. Молчи, глупец! Последние слова он пробормотал, обращаясь к самому себе. Дику снова стало боязно, но теперь, очутившись в обществе белого человека, он чувствовал, что предпочитает этого полоумного старика Джиму, доброму и разумному, но все-таки чужому. — Когда мы пойдем? — Завтра на рассвете. Зови меня Недом, потому что такое имя мне дали при крещении и, услышав его, дьявол обращается в бегство, ибо узнает, что я не из его племени. И это все, что я могу сказать. Дик решил вести себя как ни в чем не бывало и вытащил истолченные и поджаренные коренья, которые жена Джима подарила ему на прощание. Нед снова замолчал и сидел, поглаживая длинную изжелта-седую бороду. Теперь он был совсем кроткий, помог Дику приготовить ужин, потом вытащил из своего мешка несколько сухарей и начал медленно их жевать. Стемнело, и Дик улегся спать. Он видел, что Нед долго стоял на камне, обратившись лицом к западу и преклонив колени, и это зрелище успокоило его. Измученный сложным и непонятным разговором с Недом, он уснул.
ХХV. Сумасшедший
На рассвете Дик проснулся с неприятным ощущением, что кто-то угрожающе на него смотрит. Подобное ощущение бывало у него и прежде, и оно всегда оказывалось неоправданным, но, окончательно проснувшись, Дик с удивлением обнаружил, что на этот раз он не ошибся. Перед ним сидел с револьвером в руке Нед и смотрел на него недобрым взглядом. Дик сразу же сунул руку за своим револьвером. — Ты не найдешь его, предатель, — с отрывистым, безумным смешком сказал Нед. — Я его отобрал у тебя. Как ты думаешь, чего я дожидался? Я дожидался той минуты, когда в свой черед обворую тебя и стащу твой револьвер. Кража за кражу. — Но почему? — воскликнул Дик. — Я же не сделал вам ничего плохого. — Неважно, что ты не сделал, — ответил Нед, хитро кивая головой. — Важно, что ты замышлял. — Я ничего не замышлял. Я только хотел добраться до города. — Ложь тебе не поможет, — сказал Нед, поднимая револьвер. — Меня никто не проведет. Слюна ангелов пролилась мне в глаза, и теперь ложь не ослепляет меня, как темнота не ослепляет зеленоглазой кошки. Я получил этот дар в награду за свои страдания, — злобно добавил он. — Разрази меня гром, я сам не понимаю, почему не пристрелил тебя, пока ты спал. — Я впервые увидел вас только вчера… — Да, но видели другие. — Я никогда не слышал вашего имени… — Мне безразлично, как меня называют. Я и тебе не сказал своего настоящего имени. Никто не знает моего настоящего имени. Меня назвали Недом, чтобы отогнать дьявола. Но на этом свете еще никто ни разу не произносил моего настоящего имени. Ты не понимаешь, о чем ты спрашиваешь. А, может быть, и понимаешь. Может быть, это все — козни дьявола. Только имей в виду, таким путем ты от меня ничего не добьешься. Никаким путем не добьешься. Ты для меня открыт, как для пули, которая сейчас впустит дневной свет в твою тьму. Дик отчаялся что-нибудь объяснить. Ему больше нечего было сказать. Он сидел, опершись подбородком о поднятые колени, стараясь не встретиться глазами с сумасшедшим, чтобы не рассердить его и не вызвать нового взрыва упреков и обвинений. — Сейчас ты увидишь, как много я знаю, — твердо и очень медленно произнес Нед. — Страх божий овладеет твоей жалкой душонкой. Посмотри мне в глаза и попробуй сказать, что ты не знаешь Томми Китайца. От неожиданности Дик вздрогнул и уставился на старика. Нед хихикнул и радостно замотал головой. — А, попался на удочку! Посмей же сказать, что ты его не знаешь. — Нет, я знаю его, — ответил Дик. Он не мог понять, был Томми другом или врагом Неда. Но, сообразив, что старик, видимо, связывает его, Дика, с бандой Томми, решил говорить правду. — Он мой враг. После всего, что он сделал со мной, он, конечно, мой враг. Старый Нед рассмеялся хриплым, каркающим смехом. — Вот это здорово! Думаешь таким образом окрутить меня. Будь ты и вправду его врагом, я бы встретил тебя барабанным боем. Нет, так легко меня не надуешь. Что ж ты вчера не сказал: «Слушай, Нед, я пришел сюда, чтобы вместе с тобой выследить его, я враг этого негодяя, и мы сотрем его с лица земли». Но ты не сказал этого. Ты втерся ко мне с разными баснями про какого-то чернокожего. А вот сейчас, когда тебя вывели на чистую воду, ты стал притворяться, будто держишь мою сторону. — Да откуда мне было знать, что вы знаете Томми? Я бы все рассказал, если бы мне пришло в голову… — Если бы тебе это пришло в голову, я бы сразу догадался. Но ты все скрыл, думал, сможешь провести меня. А теперь видишь, что дело не пойдет. Я-то тебя знаю. — Кто же я, по-вашему? — крикнул Дик, у которого раздражение пересилило страх. — Ты — его шпион, — прошипел Нед. — Его шпион. Он послал тебя, чтобы ты завлек и погубил меня, как дьявол, который с ревом рыщет среди племен и народов и пожирает сердца грешников. Он стал бояться. Он причинил мне зло, много зла. Слишком много зла, чтобы жить на свете. Но я все предусмотрел. Имя его отмечено, и он уже все равно что покойник. Как он, верно, сейчас дрожит и трясется, каким холодным потом обливается его поганая душонка! — Я готов сделать что угодно, — сказал Дик, — чтобы помочь вам и доказать, как я ненавижу этого злодея. Не знаю, из-за чего у вас с ним вражда, но я стану на вашу сторону, потому что он не может быть правым. Но сперва дайте мне возможность доказать. — Ты станешь на мою сторону? Клянешься в этом? — Клянусь! Только дайте мне возможность доказать это! Дик говорил искренно. Он не видел другого способа успокоить сумасшедшего и, к тому же, готов был помочь кому угодно в борьбе против Томми и его банды. Какая нелепость, что именно его обвиняют в дружбе с Томми, хотя вряд ли у кого-нибудь есть столько причин для нелюбви к этому человеку! — Ладно, — сказал Нед. — Дам тебе такую возможность. Ты хочешь помочь мне? — Конечно, хочу! — Ну, что ж! Проведи меня к нему, и тогда я тебе поверю. Дик помолчал. Видно, справиться с навязчивой идеей старика было невозможно. — Я не знаю, где он сейчас. — Вот-вот, ты уже идешь на попятный. Я же говорил, что ты лжешь! — Он поднял револьвер. — Нет, от тебя мне не будет никакого проку, никакого проку… — Подождите! — в отчаянье воскликнул Дик. — Я провожу вас к нему! Другого выхода у него не было. Если он согласится быть проводником старика, — может быть, ему удастся удрать по дороге. — Где же он сейчас? — спросил Нед с торжеством в голосе. — Где-то в зарослях. В двух днях ходьбы отсюда. Старик задумался. — В двух днях ходьбы. Что ж, на этот раз ты, может, и не врешь. Ты проведешь меня к нему, и я прощу тебя и дам драгоценностей, и женю на своей дочке, на американской принцессе. Но не надейся, что тебе удастся ночью улизнуть. Я никогда не сплю. У меня отобрали сон. Зачем он мне, раз я безгрешен и на мне не лежит проклятие Адаму? — Но ведь вы едите и пьете, — сказал Дик и тут же мысленно выбранил себя за то, что стал противоречить старику. Но Нед не рассердился. — Верно. Но не потому, что мне это нужно, — сказал он, хитро усмехаясь, — а для отвода глаз. Те, кто следят за мной, не должны пронюхать, кто я такой. Ну, а теперь вставай и веди меня к тому подлецу, который причинил мне зло. Когда Дик встал, Нед, не переставая целиться в него, взял полосу сыромятной кожи с петлей на конце и накинул ее на мальчика. — А ну, опусти ее пониже. Дик покорно продел в петлю плечи, и старый Нед плотно притянул его руки к бокам. — Сперва мне надо что-нибудь поесть, — сказал Дик, стараясь выиграть время. Да он и в самом деле был голоден. — Я ведь не так устроен, как вы. Если вы меня не накормите, я не смогу вести вас. — Верно. Ты устроен не так, как я, — согласился Нед. — Ты понемногу начинаешь говорить правду. Он положил на камень несколько сухарей и позволил Дику подойти к ним и позавтракать. Есть было очень неудобно. Локти Дика были туго притянуты к ребрам, и ему приходилось сгибаться чуть ли не вдвое, а Нед смотрел на него и хихикал со злобной радостью. — Ну, теперь идем, — сказал он под конец. — Веди меня самым коротким путем. Своих верных слуг я вознаграждаю щедрой рукой. А каково приходится моим врагам, ты увидишь собственными глазами.

XXVI. И ЕЩЕ РАЗ ТОММИ
К полудню Дик почувствовал, что силы его иссякли. Старый Нед погонял его кожаным ремнем, словно он был лошадью, и утверждал, что Дик должен знать кратчайший путь к убежищу бандитов. — Они должны быть где-то поблизости, —рычал он. —Я шел по следам Томми, заруби это у себя на носу… Ты ведешь меня правильно, — мне говорили, что он пошел в этом направлении. Какие там два дня! Если идти добрым шагом, то можно добраться туда и к заходу солнца. — Он снова стегнул Дика. — Поторапливайся! Ага, ты не думал, что я такой ходок! Один раз Дик заметил туземца, прятавшегося за деревьями, и попытался помахать ему рукой и позвать, в надежде, что это один из соплеменников Джима. Но старый Нед, не видевший туземца, стал осыпать мальчика ударами, грозить и браниться. Несмотря на свой возраст, он не проявлял никаких признаков усталости. Его глаза горели мрачным огнем. Наконец Дик решил, что он должен сделать попытку убежать, даже если это будет стоить ему жизни. Все равно такая ходьба убьет его, тем более, что у него нет надежды найти бандитов, хотя из бормотания старого Неда он понял, что они должны быть где-то поблизости. Впрочем, думал он, может быть, и это утверждение — просто бред безумного. Они остановились на краю небольшого оврага, и Нед уже собирался снова хлестнуть Дика. Дик быстро огляделся. Нужно было прыгнуть с десятифутовой высоты на дно сухого песчаного оврага, потом пробежать ярдов пятьдесят до излучины речки. — Дайте мне попить, иначе я не смогу идти, — задыхаясь, произнес Дик. — Так и быть, — презрительно отозвался Нед. — Ты смертный и не похож на меня. Пока ты спал, мне была ниспослана манна. Сороки принесли мне ее в своих клювах. На, пей. Он отвязал флягу и, отвинтив крышку, протянул Дику. Тот поднес флягу к губам и сделал большой глоток. — Довольно, — сказал Нед. — Давай ее мне. Одним движением Дик отнял флягу от губ, бросил ее Неду в лицо и высвободился из петли. В следующую секунду он спрыгнул с обрыва. Когда он коснулся земли, ноги у него подкосились. Но он тут же вскочил и помчался что было сил вдоль берега реки к излучине, ободренный глотком воды и надеждой на освобождение. Прыгая, он краем глаза успел заметить, что Нед пошатнулся и упал в колючий кустарник. Должно быть, старик не сразу отцепился от колючек, потому что Дик уже обогнул излучину, когда раздался звук выстрела, сделанного в приступе слепой ярости, поскольку мальчик уже скрылся из виду. Не останавливаясь, Дик добежал до поперечного оврага, промчался по нему еще с четверть мили, а затем вскарабкался на откос. Там он немного отдохнул, не переставая настороженно оглядывать овраги. Он не видел никаких признаков погони, но мешкать все-таки не осмеливался. Из отдельных замечаний Неда он понял, что старик хорошо знает заросли, а как метко тот стреляет, — убедился воочию. В виде предостережения Дику, Нед однажды подстрелил попугая на верхушке перечного дерева. И вот Дик опять стал пробираться по зарослям на запад, сбегая с откосов и с трудом взбираясь на склоны. Но он был свободен, свободен!.. Поднявшись на холм, он увидел внизу приветливую лощину. Обилие зелени говорило о присутствии воды, и у Дика от жажды вновь запершило в горле. Шумно прокладывая себе дорогу через кустарники, он сбежал вниз и очутился на небольшой полянке. С осененного папоротниками камня струился родник, образуя внизу пруд с белым, усеянным голышами дном, а на травянистом холмике возле пруда сидело около десятка людей. Их лошади были привязаны в стороне, там, где к лощине вплотную подходил еще один овражек. Добротный каменный очаг и постели, разложенные в неглубокой пещере у ручья, говорили о том, что незнакомцы обосновались здесь довольно давно. Позабыв обо всем на свете при виде людей и прохладной, журчащей воды, исполненный восторга, Дик с громким криком бросился вперед. Но, еще не успев добежать, но почувствовал, как сердце у него сжалось от предчувствия беды, и понял, что перед ним — враги. Отступить он уже не мог. Хотя на него было направлено с полдесятка револьверов, особого страха Дик не испытал. Ему смертельно хотелось пить, сделать хотя бы один глоток воды, да и к тому же эти люди, как ни зачерствели их сердца, были в здравом рассудке! — Я хочу пить! — крикнул на бегу Дик. Люди безмолвно расступились и пропустили его. Спотыкаясь, он добежал до пруда, стал на четвереньки и погрузил пылающее лицо в прохладную воду. Потом начал пить. Все по-прежнему молчали. Почувствовав, что его усталая голова проясняется, Дик приподнялся и увидел Томми Китайца, который стоял в нескольких шагах и целился в него. — Вот ты и пришел, — сказал Томми с неумолимой улыбкой. — Томми стоит свистнуть — и ты бежишь, как собака. — Я был в лагере повстанцев, а потом заблудился. — Старая история, — отмахнулся Томми. — Мы с тобой уже раньше встречались. Что ты можешь мне сказать? — Вы же не сердитесь на меня за то, что я убежал, когда вы собирались меня мучить? — Мы не сердимся. Но мы помним. На этот раз мы будем осмотрительней. — Еще бы! — сказал, подходя к ним, огромный швед. — Именно так! Он хотел стукнуть Дика, но Томми оттолкнул его. — Погоди. Да и побоев с него мало. Он повернулся к Дику и сузил глаза. Остальные молча сомкнули круг. Дик слышал, как мирно пощипывали траву лошади. Мысли его разбегались. Невозможно было поверить, что под эти мирные звуки — журчанье ручья, похрустыванье травы в зубах у лошадей, шелест листвы — может случиться что-нибудь дурное. — Ну, как, теперь ты одумаешься? Второй раз убежать не просто. — Если вы опять меня спрашиваете о золоте старика Макфая, то я могу только повторить, что ничего не знаю, — ответил Дик, с трудом сосредоточивая внимание на свирепых лицах, обращенных к нему. — Я бы не скрыл, если бы знал. Золото дешевле жизни. — Золото и есть жизнь, — заметил Томми. — Только золото и нужно человеку. Поэтому оно — жизнь. Так, мальчики? Сообщники Томми насмешливыми возгласами выразили свое согласие. — Еще бы! Именно так! — сказал швед, с кровожадной ухмылкой утирая обеими руками рот, где недоставало передних зубов. — Отдаю свою голову за монету. Чью угодно голову. За два пенса. — А ты, часом, не за вознаграждением пришел? — спросил один из бандитов. — За каким вознаграждением? Громко смеясь, бандит указал на правительственное объявление, которое они для издевки прикрепили к большому камню. Дик прочел несколько напечатанных крупным шрифтом параграфов: «500 долларов за поимку… Живого или мертвого… Бродягу, известного под именем Томми Китаец, и его сообщников… Золото из Банка в…» — Расскажи нам про Макфая, и мы отпустим тебя, — сказал Томми Дику. — Я ничего о нем не знаю. Найди я золотой клад, разве я стоял бы здесь перед вами в таком виде? — ответил Дик, стараясь придумать доводы поубедительнее. — Но там было золото, а теперь его нет. И ты знал, что оно было. — Вам же известно, сколько жуликов живет на приисках. Наверно, кто-то раскопал его в пожарище до вас. — Ну, что ж, парень, — сказал Томми, немного подумав. — Так ты говоришь, что не знаешь? — Не знаю. — А если это правда, то скажи, — какая нам от тебя польза? — Никакой пользы, — согласился Дик. — Но это еще не причина, чтобы вам что-нибудь сделать со мною. — Нет, причина, — сказал Томми, и его тонкие губы медленно расплылись в улыбке. — И не одна, а куча причин. К чему нам мальчишка, который будет зря болтать о нас? Другое дело, если бы ты признался, что стащил у старика золото, которое принадлежит Томми, и все рассказал бы нам, и добавил бы это золото к тому, которое лежит у нас в сундучке — вон в том сундучке! — Он показал на дубовый, окованный железом сундучок, валявшийся на земле среди других вещей. — Мы бы убедились тогда, что ты хороший мальчик. Мы бы приняли тебя к себе и знали бы, что не станешь болтать о нас. А иначе… Томми сплюнул. — Я ничего не знаю о кладе Макфая, не знаю даже, был ли когда-нибудь такой клад, — уныло сказал Дик, чувствуя, что говорит впустую. — Тогда нам от тебя никакого проку, — заключил Томми, медленно взводя курок. — Еще бы! — сказал швед, облизываясь. — Черт подери! Именно так. — А почему бы ему не присоединиться к нам? — вмешался самый молодой из шайки, на лице которого еще сохранились следы грубоватого добродушия. — Он ведь тоже вне закона, как и мы! Они отошли в сторону и начали совещаться. Дик устало сел на берегу пруда. За его спиной высилась скала; эту преграду ему не одолеть. Он не мог кинуться в сторону, где стояли лошади, или начать карабкаться по склону: его пристрелили бы задолго до того, как он достиг какого-нибудь прикрытия. Ему оставалось только ждать.
ХХVII. Мститель
Томми Китаец отошел от спорящих. — Мертвые держат язык за зубами, — сказал он, и его тонкий рот слегка искривился. Дик пытался приготовиться к смерти. Но он не хотел умирать. Во всяком случае, не так. Если уж ему было суждено умереть молодым, то лучше бы его убили на холме Эврика. В такой смерти был бы, по крайней мере, смысл. В ушах Дика звучал возглас Рафаэлло: «Свято помните эту субботу!» Не успел Томми сделать шаг по направлению к Дику, как откуда-то прогремел голос: — От души спасибо, мальчик. Вот и я. Дик взглянул наверх и увидел старого Неда, стоявшего на скале, которая нависла над полянкой. Бродяги остолбенели от изумления. — Ты причинил мне зло, Томми! — воскликнул Нед, и револьвер его щелкнул. Томми пошатнулся, дико замотал головой и рухнул на землю. Мгновенно последовал второй выстрел, и большой швед упал ничком. — Это тебе, Гус! К этому времени бандиты оправились от неожиданности. Их потрясла небывалая смелость Неда. Они оцепенели при виде того, как бесстрашно он стоит на скале и не торопясь стреляет в них. Но тут они схватились за револьверы и в свою очередь начали палить. Однако от волнения и необходимости целиться в человека, стоявшего прямо над ними, они стреляли слишком высоко. Нед подстрелил еще одного бандита, потом следующим залпом сам был ранен. — Ура лорду Нельсону и ангелам господним! — завопил он надтреснутым голосом. По его щеке текла кровь, левая рука беспомощно повисла. Двумя выстрелами он свалил еще двоих. Потом выстрелил и промахнулся. В него попало несколько пуль. Он медленно начал клониться, скатился со скалы и упал вниз, на кустарник. Дик, скорчившись, притаился у ручья. Пятеро бродяг лежало на земле, трое из них были мертвы. Семеро оставшихся в живых бросились к Неду, проверяя, действительно ли старик мертв. Они стреляли в труп, пинали его ногами, потом стали проверять свои потери. Томми, швед и еще один были убиты. Двое раненых стонали и бранились, пока товарищи снимали с них одежду и делали перевязку.

«Они придут за водой, чтобы обмыть раны», — подумал Дик и стал отползать подальше. Но где укрыться? Он влез в пещеру и спрятался за камнем, лежавшим слева от входа. Один из бандитов, вспомнив о нем, обернулся. — Это все твоя вина! — заорал он. — Будь ты проклят! Не думай, что ты там спрячешься! Он подбежал поближе и прицелился в Дика. Курок щелкнул, но выстрела не последовало. Стараясь попасть в старого Неда, бандит расстрелял все патроны, но в горячке позабыл считать выстрелы. С проклятием он схватился за патронную ленту и начал перезаряжать револьвер. Один на один, Дик попытался бы броситься на бандита и схватиться с ним. Но какой в этом был смысл теперь, когда за спиной одного стояло шестеро других? Даже выйди он победителем из борьбы, все равно они убили бы его. Но не успел бандит заложить первый патрон в барабан, как в воздухе просвистело копье и, корчась, он упал на землю. В горло ему вонзился длинный зазубренный наконечник. Дик узнал копье. Такие копья с зазубренными наконечниками были у Джима. В этот миг воздух зазвенел от пронзительного гортанного вопля, заставившего похолодеть даже Дика. Этот вопль был страшен в ночь корроборри, но сейчас, при ярком солнечном свете, он звучал несравненно грознее, потому что был предвестником кровопролития. Шестеро уцелевших бандитов принялись лихорадочно перезаряжать револьверы. Но в воздухе мелькало множество копий. Одному копье попало в бедро, другому — в живот. Вскрикивая от боли, они пытались их вытащить, но только растравляли раны. Тот, кто был ранен в бедро, с огромным трудом вытащил древко копья, а наконечник застрял в ране; все же бандит медленно пополз к лошадям. Второй раненый упал, на его губах показалась кровавая пена. Третьему копье угодило в спину. Трое оставшихся невредимыми бежали с поля боя. Они бросились к лошадям, вскочили на них и, отпустив поводья, бешено поскакали к овражку, выходившему в лощину. Снова издав устрашающий вопль, туземцы, во главе с Джимом, сбежали со склона и начали приканчивать врагов. Джим мгновенно очутился возле Дика. — Не ранен? — спросил он, помогая Дику встать. — Не ранен, — улыбаясь ответил Дик. Он стал расспрашивать, как Джиму удалось узнать о случившемся, и постепенно выяснил из его отдельных слов и жестов, что охотник-туземец видел Дика со старым Недом и так был удивлен этим зрелищем, что сразу прибежал к Джиму и рассказал ему обо всем. Джим собрал несколько воинов племени и пошел по следам старого Неда. Это было несложно. Не отставая от старика, они добрались до лощины, но так как Нед был один, то туземцы не стали выдавать своего присутствия. Они были свидетелями того, как Нед стрелял в Томми и его сообщников, а когда над Диком нависла опасность, вмешались в побоище. Слушая Джима, Дик опять обратил внимание на объявление полиции, в шутку прикрепленное к скале. Как жаль, что он не может потребовать вознаграждения! Пятьсот фунтов! С ними он уладил бы все затруднения отца. Но как может объявленный вне закона взывать к закону? Золото, украденное из банка, лежало, должно быть, в сундучке, а на земле валялось семеро убитых и двое раненых бандитов. Оглянувшись, Дик, к своему ужасу, обнаружил, что туземцы прикончили раненых. Итак, перед ним было девять трупов и сундук. Ему выдали бы пятьсот фунтов, имей он возможность потребовать их. Конечно, рядом лежало золото, но Дику в голову не приходило, что он может в свой черед присвоить его. Лучше уж пусть этот проклятый сундук сгниет в лощине. Дик горестно и недоуменно смотрел на сундучок и раскиданные вещи, размышляя о том, возможно ли что-нибудь придумать. Заметив среди всякого хлама газету, он поднял ее, — ему было интересно узнать, от какого она числа и что произошло в мире за время его отсутствия. Нет ли каких-либо новостей о Крымской войне? В глаза ему сразу же бросился заголовок:
«Народ одержал большую победу. Присяжные оправдали старателей…»
Дик стал жадно читать. Люди, схваченные в лагере повстанцев, предстали первого апреля перед мельбурнским судом и были оправданы. Присяжные отказались поддержать обвинение. Это был окончательный удар по правительственной партии, требовавшей строгого наказания повстанцев. Дик впился глазами в отчет. Газету издавали, по-видимому, сторонники народного дела, потому что в ней почти полностью было приведено решение присяжных.
«В ответ на свою тиранию правительство услышало голос народа… Никакого обложения налогами без соответствующего представительства. Всеобщее избирательное право для мужчин… Свободный народ Виктории приветствует мучеников, боровшихся за свободу и противостоявших беззаконию, одетому в мундир закона… Сопротивление беззаконному применению силы — первейшее из прав свободного человека. Эту великую истину подтвердили присяжные, которым мы приносим свои поздравления. После такого отпора правительство, жаждущее жертв, должно охладить свой пыл. Мы осмеливаемся предсказать, что больше никто из наших героев не предстанет перед судом. Правительство может быть недовольным, может отказаться от признания своих ошибок и объявления амнистии. Но решение присяжных является амнистией, исходящей от народа. Люди, сражавшиеся на холме Эврика, получат свою награду в виде восхвалений и будут причислены не к уголовным преступникам, как того хотело бы правительство, а к национальным героям».
Постепенно Дик начал осмыслять факты, прикрытые высокопарными фразами. Оправдание всех арестованных означало, что участников восстания больше не будут привлекать к ответственности. Дик стал свободным человеком. Он может безбоязненно всюду показываться. Его залила огромная теплая волна благодарности. Дик посмотрел на число, которым была помечена газета. Второго апреля. Потрясенный, он попытался подсчитать. Пять месяцев. Неужели он провел в зарослях целых пять месяцев? Дик оглядел свои лохмотья. Потрм подумал о разнице между мальчиком, бежавшим из Балларата, и тем человеком, каким он стал теперь, и понял, что никакие пять месяцев из его прежней жизни не были так богаты опытом. — Слушай, Джим, — сказал он. — Умеет кто-нибудь из твоих ездить верхом? Джим кивнул головой. Дик порылся в одежде убитых — отвратительное занятие — и нашел огрызок карандаша. Сорвав объявление, он написал на обороте:
«Любому белому, который прочтет эту записку. Пожалуйста, сообщите полиции, что у меня сейф с золотом, а девять грабителей убиты. Податель сего укажет дорогу. Р. Престон».
На секунду Дику стало страшно подписывать свое имя, — в нем все еще жила боязнь, что оно выдаст его, — но потом он нащупал газету, которую сунул под рубашку, чтобы ни на секунду не расставаться с ней, словно она была настоящей гарантией прощения. Он был в безопасности. Дик отдал записку туземцу, которому Джим объяснил, что нужно сделать. Туземец вскочил на коня и с криком поскакал по оврагу. — Теперь можно и поесть, — сказал Дик. — Видишь, здесь куча всяких припасов. Как ты думаешь, те трое удравших вернутся назад? — Не думаю, — усмехнувшись, ответил Джим. Дик весело огляделся и, попросив туземцев оттащить трупы и поблагообразнее уложить их, подошел к наваленным кучей вещам. Там были одеяла, котелки, кастрюли, инструменты, банки с консервами. Дик решил все подарить чернокожим, хотя, несомненно, эти вещи были краденые и Дик не имел права распоряжаться ими. Но туземцы заслужили награды, а другого способа наградить их у Дика не было. К тому же он не сомневался, что вещи накрадены из разных лавок и домов по всей округе и установить владельцев теперь почти невозможно. Поэтому Дик сказал, что Джим и его соплеменники могут все взять себе; и они, быстро и весело разобрав вещи, разбросанные кругом, тут же попрятали их в кустарник. Дик хотел было отдать им и лошадей, но, поразмыслив, решил, что лошади уведены с окрестных ферм и рано или поздно у чернокожих могут возникнуть из-за них неприятности. Так или иначе, туземцы пришли в восторг от того, что они получили. После дружеского обеда, приготовленного из провианта бандитов, Дик и его спасители устроились на ночлег, разведя сначала большой костер и поставив дозорных. Назавтра после полудня в овраге появился туземец, ускакавший накануне с посланием Дика. За ним следовало пять конных полицейских и двое проводников туземцев. При виде полицейских у Дика заколотилось сердце. Вот когда его странствиям действительно пришел конец. Но он все еще был не совсем уверен в правдивости газетного отчета и поэтому чувствовал себя неспокойно. Загорелый сержант с суровым лицом спешился и протянул Дику руку. — Мистер Ричард Престон? Да, должен сознаться, я ожидал встретить кого-нибудь повзрослее. Не всякий может одним махом захватить сейф с золотом и прикончить девятерых, не говоря уж о том, — добавил он, оглянувшись вокруг, — чтобы пригласить отряд чернокожих в качестве телохранителей. — Ну, туземцы-то все и сделали, — ответил Дик. Он рассказал сержанту о том, что произошло. — Кажется, я знал этого старого Неда, — заметил сержант. — Непутевый человек. И пьяница. Но я не слышал о ссоре между ним и бандой Томми. В общем все это выяснится. Да, пословица о том, что и у вора своя честь, не врет. Кстати, когда вы ушли из Балларата? — Третьего декабря, — сказал Дик, глядя сержанту прямо в глаза. — Так я и думал. — На жестком лице сержанта появилась улыбка, и он вплотную подошел к Дику. — Несколько слов по секрету, юный Престон. Такая работа, как эта, мне больше по душе, чем охота за старателями. Но приказ есть приказ. Хотя вы мне очень нравитесь, я немедленно арестовал бы вас за измену и бунт, но, к счастью, мне сейчас дан другой приказ. Пусть это останется между нами. Больше не будет никаких арестов из-за того, что произошло до третьего декабря и в этот день. За Лейлора назначено вознаграждение в четыреста фунтов, и мы знаем, где он находится, и при этом, да будет вам известно, он в полной безопасности. — Он не погиб? — Нет, но потерял руку. А за Верна назначено пятьсот фунтов, и мы знаем, что он в Мельбурне. Он думает, что ему удалось здорово провести нас. Но у правительства связаны руки, и я лично очень рад этому. Однако приказ есть приказ, и, повернись все иначе, я бы надел на вас наручники. Но раз все обстоит так, как обстоит, то вы получите пятьсот фунтов. И дайте мне еще раз вашу руку, молодой человек. Он обменялся с Диком горячим рукопожатием.
ХХVIII. Награда
— Словом, сейчас мы уже можем расстаться с Балларатом, — сказал Дик, попивая чай, налитый ему не устававшей восхищаться матерью. На Дике был его лучший костюм, прекрасно сидевший на нем до ухода из Балларата, а теперь тесный и короткий. — Но Сандерс говорит, что добыча пошла лучше, — проговорил мистер Престон, немного робевший перед сыном. — Жаль бросать сейчас участок. Помнишь, ты сам раньше говорил, что преждевременно бросать — значит, делать глупость. — Я думал, вы его уже продали, — сказал Дик. — Я все подготовил к продаже, но в последнюю минуту решил, что еще немножко подожду. Не думаешь ли ты… — Ненавижу золотоискательство, — ответил Дик. — У нас теперь появились деньги, и я хочу купить земельный участок. Сержант говорил мне, что в южной Австралии можно дешево купить хорошую пахотную землю. Хочу купить ферму, чтобы сеять пшеницу и разводить овощи. Мистер Престон кашлянул и прочистил горло. — Бывают занятия и похуже… — Нет занятия лучше, — сказал Дик. — Мне хочется получше узнать страну, в которой я живу, а кроме того — оно мне нравится. — Дик, дорогой! — воскликнула миссис Престон, всплескивая руками. — Мне так нравится фермерская жизнь! Но подумать только, что ты пережил! — Дело не в том, что я сделал, — возразил Дик, чувствуя свое превосходство над бестолковыми взрослыми. — Дело в том, чему я научился. Шейн с радостью присоединится к нам. У него оказалось больше здравого смысла, чем у меня. Он несколько дней прятался в лачуге на горе Бунинйонг, а потом перебрался в Джилонг. Он согласен со мной, что поиски золота не настоящее дело для мужчины. Вот выращивать пшеницу — это настоящее дело. — Вы посмотрите только на него! — воскликнул мистер Престон. — Он говорит так, словно все знает! — А что же здесь удивительного? — с гордостью сказала миссис Престон. — Дик, после .чая придет Козима. Она была для меня таким утешением в те дни, когда мы о тебе ничего не знали! Она пришла однажды утром и назвала себя… Но я уже рассказывала тебе об этом. — Да, — сказал Дик, хотя с удовольствием послушал бы об этом второй раз. — Ручаюсь, что она согласится со мной. У нее есть голова на плечах. — Конечно, есть, — поддержала его миссис Престон. —Она говорит, что ты — герой. — Ну, я не об этом, — краснея под загаром, сказал Дик. — Но согласись, Дик, — заметил мистер Престон, — что, если бы я не переехал на золотые прииски, ты никогда бы не поймал бандитов и не мог бы заняться фермерством. — Да, все это как-то связано, — задумчиво произнес Дик. — Но я совершенно прав насчет того, чем нам сейчас нужно заняться. — Совершенно прав, — подтвердила миссис Престон. — Ты совсем его захвалишь, — запротестовал отец, набивая трубку. — Нет, папа, — серьезно сказал Дик. — Я слишком хорошо понял, как легко потерпеть в жизни крушение. Просто я люблю эту страну и понимаю, как приятно выращивать пшеницу и делать полезное дело собственными руками. — Ну, что ж, Дик, — великодушно заявил мистер Престон. — В общем, ты, наверно, прав. — И у нас будет отличный дом, — сказал Дик. — Небольшой, конечно, но удобный, и там будут цветы, и плодовые деревья, и… и… — Я понимаю, что ты хочешь сказать, — подхватила миссис Престон. — Такой дом — моя заветная мечта. Дик подумал о другой мечте, с которой он уже не расстанется, о мечте, которая представлялась ему в образе Рафаэлло, бегущего по вершине холма под градом пуль и взывающего: «Свято помните эту субботу!» Но не было разлада между двумя мечтами — мечтой о свободном мире и мечтой о зреющей золотистой ниве. И внезапно Дик понял, что ему ферма нужна по-иному, чем его родителям. Она была нужна ему для работы, которая влечет его, которую он считает стоящей. А, кроме того, ферма послужит ему точкой опоры, без которой он не сможет вести борьбу. — Шейн идет, — глядя в окно, сказала миссис Престон. Шейн ворвался в комнату. Он был одет в алый свитер, опоясанный зеленым кушаком, молескиновые штаны, морские сапоги и широкополую шляпу с болтающимися кисточками, чтобы отгонять мух. Шейн сорвал шляпу и поклонился. — Здорово я замаскировался? — спросил он. — Мне, разумеется, понятно, что теперь я ни к чему полицейским, но я хотел польстить им маскировкой. — Тебя всеравно сразу можно узнать, — сказал Дик. — Вы только навлечете на себя подозрения, —поддержала его миссис Престон. — Ну, что ж, — согласился Шейн, — в конце концов, действительно, зачем человеку прятать свою красоту? — Надеюсь, вы не собираетесь опять сбивать моего сына с пути истинного? — сказал мистер Престон, улыбаясь и приминая табак в трубке. — Вы называете это — сбивать с пути истинного? Да я как раз наставил его на путь истинный — и вот посмотрите на него. Он теперь может без всякой посторонней помощи влезть в любую самую неприятную историю. — А скажите, был какой-нибудь смысл в вашей истории? — настаивал мистер Престон. — Огромный! — воскликнул Шейн. — Она изменила облик мира — ни мало, ни много. Я целый месяц скрывался вместе с доктором Кенворти. Он немножко просветил меня, и теперь я лучше разбираюсь в вещах. Правительству волей-неволей пришлось сдаться. Оно разбито наголову. Скваттеры — эти старые черти, эти земельные воры — потерпели поражение. Мы скоро получим все, за что боролись, за что тщетно боролись чартисты в Англии. А почему мы победили? — Почему? — сомнительно качая головою, спросил мистер Престон. — Потому, что боролись не в одиночку. Все до единого порядочные люди в стране после нашего выступления помогали нам, кто словом, а кто и делом. События повернулись в нашу пользу после митинга в Мельбурне. Мы скоро добьемся всего, за что боролись. Права голоса для всех, даже для самых бедных. Конца самоуправства фараонов и солдатни. Тайного голосования, чтобы не было подкупов и избиений, как в Англии. И всех остальных требований чартистов. — Ура! — закричал Дик.

— Да, и кое-чего мы уже добились. Но не думайте, что остановимся на этом. Скоро им и в Англии придется согласиться на всеобщее избирательное право и тайное голосование. Им не удержать рабочих после того, как мы показали дорогу. А вслед за Англией к нам присоединится весь мир. Говорю вам, что мы кое-что сделали, чтобы изменить облик мира. — Трудновато мне поверить вам, — сказал мистер Престон. — Может быть, вы и правы, но я никогда не думал, что история делается таким путем. Можно сказать, прямо под моим носом. — Но, даже если мы выиграем эту партию, до конца еще далеко. Когда мы получим право голоса, мы не прекратим борьбу. Я-то их знаю, они хитрые бестии. Борьба только начинается. Но мы хорошо начали, и наши товарищи погибли не зря. — Я не могу согласиться с вами во всем, — моргая, сказал мистер Престон, — но в общем кое-что вы сделали. Отдаю вам должное. — Мы еще переделаем мир так, чтобы в нем стоило жить! — воскликнул Дик. Миссис Престон давно уже не слушала их и безмятежно что-то шила, время от времени отодвигая занавеску из бумажной материи и бросая взгляд в окно. Посмотрев в последний раз, она обернулась к Дику: — Идет Козима, — сказала она.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
«Мир — наш ответ» — так называется сборник поэтических произведений, вышедший несколько лет назад в Англии. Творчество автора этой книги, одного из организаторов Английского объединения писателей в защиту мира — Джека Линдсея, чрезвычайно разнообразно. Он не только поэт, но и автор многих повестей и романов. Большой знаток древних языков и культуры, Джек Линдсей известен также как переводчик стихов ряда представителей литературы Греции и Рима и западно-европейских авторов, писавших на средневековой латыни. Наряду с этим, Линдсей опубликовал ряд исторических исследований, а также трудов по истории и теории литературы. Литературная и научная работа Джека Линдсея неразрывно связана с его общественно-политической деятельностью. Чем бы он ни занимался, Линдсей является страстным борцом за мир и взаимопонимание между народами, подлинным патриотом своей родины, другом трудящихся всех стран, другом нашей страны. О какой бы эпохе ни писал Линдсей, симпатии его всегда на стороне тех героев, которые ратовали за свободу и мир, за счастье и дружбу народов. На русском языке был издан его роман «Адам нового мира». В центре этого романа — образ великого итальянского ученого, передового мыслителя Джордано Бруно, злодейски умерщвленного католическими церковниками. Обращаясь к прошлому Англии, Линдсей рисует картины революционного движения ее народа, вписавшего немало славных страниц в историю родной страны и всего мира. Так, его роман «1649» посвящен английской буржуазной революции XVII века, с которой теперь начинают изучение новой истории. Роман «Люди 48-го года» посвящен другому незабываемому периоду, когда в ряде стран Западной Европы высоко вздымалось пламя революции, а в Англии происходил новый подъем чартизма, этого первого действительно массового революционного движения рабочего класса. Верный и испытанный друг советской страны, Линдсей не раз бывал нашим гостем. Он участвовал в пушкинских торжествах 1949 года, присутствовал и выступал на 2-м Всесоюзном съезде советских писателей в конце 1954 года. Свои впечатления от поездки в Советский Союз в 1949 году Линдсей изложил в книге путевых очерков «Мир будущего». С восхищением отзывается он в этой книге о советских людях и их великих достижениях, неустанно подчеркивает, какое огромное значение для всех народов имеет строительство коммунизма в нашей стране, борьба Советского Союза за мир во всем мире. В своей речи на 2-м съезде советских писателей Линдсей говорил о том, как много дает опыт советской литературы передовым писателям капиталистических стран. Влияние советской литературы благотворно сказывается и на творчестве самого Линдсея. Это влияние, конечно, сыграло немалую роль в тех важных сдвигах, которые произошли в его творчестве за последние годы. Не порывая с исторической темой, Линдсей все чаще изображает теперь в своих романах современную действительность, современную Англию. Положительные герои его романов «Весна, которую предали»[25], «Прилив» и «Час выбора» — это простые люди сегодняшней Англии, которые ведут трудную, но благородную борьбу за лучшую жизнь для себя и своих детей, за мир между народами. По примеру советских писателей, Линдсей повседневно общается со своими героями, чутко прислушивается к мнениям и советам рядовых тружеников. Произведения Линдсея как на современные, так и на исторические темы проникнуты любовью и уважением к людям труда и науки, к борцам за свободу. Они проникнуты горячей верой в победу народов над всеми видами угнетения. Вера в конечную победу правого дела не покидает героев произведений Линдсея даже и тогда, когда им приходится испытать горечь поражения. Это относится и к героям двух исторических повестей, которые он написал для детей. Первая из них — «Беглецы» — повествует о далеких временах древнего Рима, историю и язык которого так хорошо изучил Линдсей. Повесть «Беглецы» построена на материале исторического характера (I век до нашей эры). В ней рассказывается о побеге двух подростков рабов от своего господина, римского рабовладельца. Толчком к побегу мальчиков явились дошедшие до них отзвуки грандиозного восстания рабов во главе со Спартаком. Это восстание, охватившее всю Италию, продолжалось три года — с 74 по 71 год до н. э. Вождь его — Спартак — родом из Фракии, был умен, образован и отличался необыкновенной физической силой. Во время одной из войн Спартак попал в плен к римлянам и, подобно другим военнопленным, стал рабом. Его послали в школу гладиаторов — так назывались люди, которые должны были драться и убивать друг друга на потеху свободным римлянам. Но Спартак не захотел умирать на потеху врагам. Он уговорил своих товарищей бежать из школы гладиаторов и поднять восстание против римских рабовладельцев. Вначале повстанцев было всего 78 человек. Но к ним стали массами присоединяться другие рабы, не желавшие больше терпеть жестокий гнет и произвол рабовладельцев (в древнем Риме хозяин мог совершенно безнаказанно подвергнуть раба пытке или даже убить его). В армию рабов вступило также множество свободных римских крестьян, которых разорили богатые рабовладельцы. В момент наивысшего подъема восстания численность этой армии достигала 100-120 тысяч человек. Спартак много раз громил на полях сражений римские войска, считавшиеся непобедимыми. Но в его армии не было необходимого для победы внутреннего единства и сплоченности. Большая часть рабов стремилась уйти из Италии в родные края. Другая часть рабов и крестьяне Италии хотели оставаться в этой стране и продолжать войну с рабовладельцами. Мобилизовав все силы, римскому государству удалось подавить восстание. Сам Спартак погиб смертью героя, с оружием в руках. Несмотря на поражение, восстание не было напрасным. Борьба рабов под руководством Спартака нанесла жестокий удар рабовладельческой системе. Имя Спартака вдохновляло и вдохновляет трудящихся всех стран в их борьбе против поработителей. «Спартак, — говорит Карл Маркс, — является самым великолепным парнем во всей античной истории. Крупный полководец, благородный характер, истинный представитель древнего пролетариата» (XXIII, 15). Герои повести «Беглецы» стремятся добраться до войска Спартака, до его лагеря, для них это первый этап в достижении главной цели — возвращения на родину. Как это сделать, они реально себе не представляют, но уверены, что Спартак им поможет. Руководимые этой уверенностью, мальчики удачно совершают побег, мужественно преодолевают трудности, опасности, испытания. Наконец, они попадают в один из отрядов уже разбитого спартаковского войска, принимают деятельное участие в общей судьбе отряда. Последующие их приключения разделяет и начальник отряда, с которым у мальчиков завязывается крепкая дружба. В конечном счете трое друзей достигают своей цели. Повесть не только занимательна, но имеет и познавательное значение. Она знакомит молодого читателя с отдельными историческими фактами, с жизнью трудового населения римской провинции, сообщает ряд полезных сведений. Русский перевод повести с разрешения автора дается с небольшими сокращениями. Объяснения некоторых латинских слов и географических названий, встречающихся в повести «Беглецы», читатель найдет в примечаниях. Действие второй повести — «Восстание на золотых приисках» — происходит сто лет назад в Австралии. Джек Линдсей отлично знает людей, природу и историю Австралии. Он сам происходит из этой страны. Линдсей родился в 1900 году в Мельбурне — главном городе штата Виктория, на территории которого живут герои его повести. В Австралии прошли детство и юность писателя, здесь он вступил на путь литературной деятельности, здесь стал участником освободительной борьбы трудящихся. Повесть «Восстание на золотых приисках» рассказывает о действительных событиях австралийской истории 50-х годов прошлого века. Эти события надо рассматривать в связи с предшествующей историей Австралии и других стран. Коренное население Австралии, жившее в полном отрыве от других частей света, отстало в своем развитии от передовых народов. Тем не менее, и оно создало свою самобытную культуру. Некоторые достижения этой культуры долго оставались непонятными европейцам. Одно из таких достижений — удивительное метательное орудие бумеранг, которое, если не попадает в цель, обязательно возвращается в то место, откуда было брошено. Как и все люди первобытного общества, коренные австралийцы отличались физической закалкой и выносливостью, были честны, искренни, благородны, гостеприимны. Такими и изображает их Джек Линдсей. Однако люди первобытного общества, как и само это общество, имели свои недостатки. Живя отдельными племенами, они, например, часто враждовали и даже воевали между собой. Правда, эти войны не были особенно кровопролитными и опустошительными, но все же они вызывали к жизни различные жестокие обычаи. Вражда и войны между коренными жителями Австралии усилились до невиданных прежде размеров, когда в XVIII веке на этом материке появились английские колонизаторы. Так как свободолюбивых австралийцев невозможно было обратить в рабство, колонизаторы принялись истреблять их самым безжалостным образом. Захватывая земли коренных австралийцев, колонизаторы постепенно оттесняли уцелевших жителей в бесплодные пустыни, где остатки этого народа прозябают и поныне. Чтобы облегчить себе истребление коренных австралийцев и грабеж их земель, колонизаторы ловко использовали межплеменную рознь. Они натравливали одних австралийцев на других, разжигали войны между ними. Эти войны и зверства колонизаторов способствовали тому, что древние обычаи не только не отмирали, а, наоборот, становились более жестокими. Вот почему в повести Линдсея честный, благородный австралиец отрубает голову убитому «врагу», который, со своей стороны, пытался его прикончить. Выгоды от этого он никакой не получил и получить не мог, зато невольно оказал услугу колонизаторам: одним австралийцем стало меньше! На землях, отнятых у коренного населения Австралии и соседней Тасмании (тасманийцы были истреблены до последнего человека), английские чиновники и помещики сначала широко применяли рабский труд. Рабами становились английские и ирландские ссыльные, которых власти раздавали помещикам. Нужно сказать, что среди каторжан и ссыльных, которые попадали в Австралию и Тасманию (последнюю называли тогда «Ван-Дименовой землей»), настоящих преступников было немного. Таким преступникам власти, как показано в повести Линдсея, даже покровительствовали, ища в них опору против массы ссыльных. А масса эта состояла из людей, виновных только в том, что они были голодны и бедны или пытались отстаивать свое право на землю и свободу. К 1840 году ссылка в Австралию была, в основном, прекращена. Это было вызвано главным образом борьбой против нее мелких крестьян-фермеров и рабочих. Кроме того, овцеводство, игравшее все большую роль в народном хозяйстве страны, не могло развиваться на основе принудительного труда. Однако, отказавшись от рабского труда, крупные помещики-скваттеры не собирались, конечно, сделать Австралию свободной. Они распоряжались в этой стране, как в своей вотчине, захватывали все пригодные для обработки земли, не давая развиваться крестьянскому хозяйству, нещадно эксплуатировали завербованных в Англии батраков. В начале 50-х годов XIX века в Австралии было найдено золото. Со всего света туда хлынул поток старателей. Уже к 1853 году в Балларате и других поселках, возникших на реке Яррови, насчитывалось 30 000 жителей. Обогащались из них, конечно, только одиночки, а остальные едва сводили концы с концами, а то и вовсе бедствовали. Среди них было немало людей с революционным прошлым — участников революций 1848 года во Франции и в Германии, английских чартистов, борцов за независимость Ирландии и Италии. Скваттеры и зависимые от них власти со страхом и ненавистью отнеслись к этим пришельцам. Старатели подвергались несправедливому налоговому обложению и всяческим притеснениям. А если они пробовали протестовать, полиция открывала по ним огонь. Для этого нужно было только прочесть предварительно вслух так называемый «Закон о мятежах». Соответствует данным исторической науки и ход борьбы старателей, как он изложен в повести Линдсея. Выведенные в книге руководители восстания ирландец Лейлор и итальянец Рафаэлло — исторические лица. Главный герой повести — Дик Престон — лицо вымышленное. Известно, однако, что разгром гостиницы, принадлежавшей преступнику Бентли, начался с того, что мальчик, бывший в толпе старателей, стал бросать камни в это здание. С другой стороны, приключения Дика после бегства из Балларата во многом напоминают приключения самого Лейлора, который вслед за поражением восстания долго скрывался от властей. Автор правильно отобразил в своей повести причины поражения балларатского восстания в ноябре-декабре 1854 года. Восставшим не хватало организованности, дисциплины. Именно этим объясняется, что каратели смогли захватить их лагерь врасплох, в то время как большинство повстанцев, разошедшихся по домам, мирно спало. Известное значение имело и то, что врагам трудящихся Австралии удавалось вносить рознь в их ряды, играя на расовых предрассудках. В районе, охваченном восстанием, проживало много китайцев. Английские и австралийские судовладельцы наживали бешеные деньги, доставляя из Китая в Австралию бедняков, которые отдавали им последние гроши. Этим беднякам сулили в Австралии золотые горы, а на самом деле разрешали лишь копаться в заброшенных выработках да гнуть спину на богачей. Используя китайцев как полударовую рабочую силу, хозяева Австралии одновременно восстанавливали против них местных рабочих и старателей. Они уверяли последних, будто во всех их бедах виноваты китайцы, которые, дескать, приехали отбивать у них хлеб. Лживая пропаганда богачей имела некоторый успех. Обманутые ими австралийские рабочие и старатели с недоверием относились к китайцам. Вот почему китайцы не приняли участия в балларатском восстании. Помимо китайцев, своеобразным «громоотводом» для хозяев Австралии служило и коренное ее население. Грабя и истребляя коренных жителей, колонизаторы в то же время зачисляли некоторых из них в ряды полиции. Это нужно было им не только для того, чтобы легче справляться с сопротивлением коренных австралийцев, но и для того, чтобы отводить от себя гнев трудящихся европейского происхождения. При этом они пускались на всякие провокации. В повести Линдсея власти оставляют арестованных старателей на палящем зное, под охраной полицейских из коренных жителей. И мы видим, что многие старатели, забывая, кто их истинный враг, негодуют на этих полицейских не за то, что они служат врагу, а за то, что у них черная кожа. Неудача восстания и зверская расправа над повстанцами не означали, что властям удалось подавить освободительное движение. Как показано в книге Линдсея, весь трудовой народ Австралии выражал сочувствие его участникам. Каждую минуту могло вспыхнуть новое восстание. Ввязываться же в серьезную войну в далекой Австралии правители Англии опасались, между прочим, и потому, что героическая оборона Севастополя сковала основные силы британской армии и флота. Австралийских борцов за свободу поддержали передовые люди всех стран. В марте 1855 года Карл Маркс опубликовал статью, в которой рассказал правду о событиях в Балларате. Вместе с тем Маркс указал, что, хотя восстание в Балларате подавлено, революционное движение в Виктории может быть прекращено только путем значительных уступок (X, 329). И действительно, вскоре английским правителям и австралийским властям пришлось пойти на такие уступки. Ненавистные старателям лицензии были отменены, вокруг золотых приисков началась продажа земли небольшими участками, чего раньше не допускали скваттеры. И, наконец, в Виктории было введено всеобщее избирательное право для мужчин. Трудящиеся Австралии не забыли уроков событий 1854-1855 годов, образы героев Балларата вдохновляют их на борьбу за демократические права, против втягивания Австралии в подготовку новой мировой войны. Несколько лет назад в Лондоне вышла книга австралийской писательницы Теннант: «Австралия; ее история». Вспоминая о балларатских повстанцах, писательница замечает: «Их синее звездное знамя всегда служит источником вдохновения для рабочих ораторов Австралии».
В. Голант


Последние комментарии
15 минут 18 секунд назад
16 часов 19 минут назад
1 день 1 час назад
1 день 1 час назад
3 дней 7 часов назад
3 дней 11 часов назад