Денис Лукьянов 12 смертей Грециона Психовского
Список действующих лиц, который в этой книге почему-то показался абсолютно необходимым
Грецион Психовский, профессор, преподаватель, эксперт по древним цивилизациям и антинаучным теориям. Федор Семеныч Аполлонский, друг его, художник, преподаватель. Зискрит Вольфанг Шпингле Брамбеус, барон. Сунлинь Ван, достопочтимый алхимик. Его переводчик. Бальмедара, магиня, Глас Духовного Пути. Инара, дочь ее. Заххак, магус, Визирь Духовного Пути. А также студенты, ящерицы, драконы, жители, пассажиры, маги и другие, о судьбе которых, увы, неизвестно. P.S.: Книга представлена в авторской редакции, и автор просит искреннего прощения за самые глупые на свете опечатки и описки.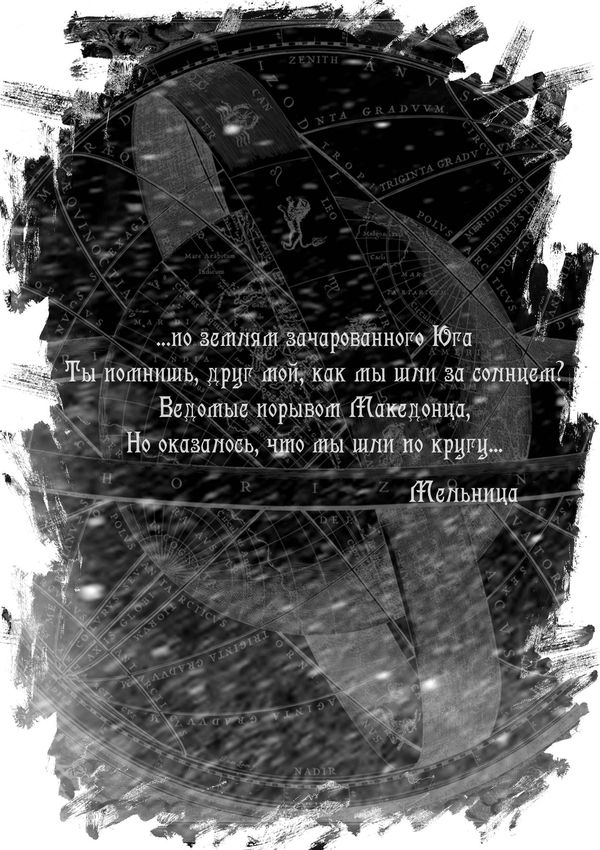
Часть 1 Дежавю по расписанию

Козерог. Глава 1 Дар Аполлона
— Кажется, это где-то уже было, — пробубнил профессор Грецион Психовский и как-то странно посмотрел на морщинистые руки. Он принимал последний экзамен в пустой, просторной аудитории — за широкими окнами бушевала зима, хлопьями валил постянварский снег, тот самый, от которого уже не веет волшебством, от которого хочется избавиться, уступив место (и время) слащавой весенней капели. Грецион в принципе воспринимал только два времени года: весну и лето. Поэтому его не так уж смущало это глобальное потепление, о котором балаболили все вокруг — пусть теплеет, пусть. Психовский с удовольствием бы договорился с небесной канцелярией, чтобы снег застилал землю лишь пару раз в году: за две недели до Нового Года и на две после, сохраняя ощущение праздника, приятный резиновый скрип под ногами, снежки, валяние в сугробах и возможность хранить молоко прямо на балконе. А потом было бы неплохо сразу получить ну если не +20, то хотя бы +10, прыгнув с места в карьер, не расшибив при этом головы. Но небесная канцелярия замечания Грециона Психовского не слушала, напрочь игнорируя все возмущения профессора — мало ли, чего вы хотите, у нас тут вот, и так погодный график выбился из колеи. Наступила та пора, когда сессия должна заканчиваться, она затянулось настолько, что надоела уже не только студентам, но и самим преподавателям, мечтающим поскорее рвануть куда-нибудь на грядущие каникулы, чтобы потом еще полгода выдерживать своих подопытных. Грецион устало глянул в окно, уставившись на хлопья искрящегося в свете фонарей снега, словно это звезды горстями сыпались с неба. Профессор чувствовал, что где-то это уже видел, что ситуация повторялась в точности до деталей и даже до формы снежинок — на профессора гадкой жижей нахлынуло дежавю. В последнее время Грециону как-то слишком часто дурнело, хотя старуха с косой вроде бы даже не подавала намека на свое близкое присутствие — профессор просто ощущал себе до ужаса скверно, в особенности каждый раз, когда мозг сбивало с толку то самое дежавю. Сидящий перед Греционом студент с кроличьими глазками искал любой повод, лишь бы не отвечать на билет, поэтому спросил: — Вы себя хорошо чувствуете? — Не помру, пока не ответите, не дождетесь, — хмыкнул профессор, выйдя из транса и почесав густую желтоватую бороду. — Это все ретроградный, будь он неладен, Меркурий. Студен посмотрел на Грециона как на инквизитора XV века, внезапно решившего сжечь на костре работницу аптеки за богохульство и продажу зелий. — Вы верите в звезды? — все еще пытался заговорить зубы студент. — А вы? — парировал Грецион. — Это повлияет на оценку? — Нет. — Тогда, да, — признался студент. — А я вот не верю в звезды, — ухмыльнулся Грецион, поправив зеленую толстовку на молнии, — зато верю Шумерам, а они верили в звезды. Психовский окончательно пришел в себя, хлопнул в ладоши и продолжил: — Кстати, о Шумерах! По-моему, у вас первый вопрос как раз о них, — он сверился с билетом. — Отлично. Итак, я вас слушаю: Вавилон, Ворота Иштар и все, что я вам об этом рассказывал. Только прошу, не уходите в скучную историю. Грецион Психовский верил скорее в антинаучные теории, которые и преподносил студентам с толикой своего авторского видения. Он, надо сказать, больше любил выступать на конференциях, или «свободных лекциях» — когда приходил лишь тот, кто хотел. Но и на университетских занятиях профессор не изменял себе, рассказывая вещи, от которых у серьезных ученых глаза лезли на лоб (хотя, сам Грецион часто задавался вопросом — а кто вообще называет этих, цитата, «нудных дедов», серьезными?). Правда, профессор сам не до конца верил многим вещам, о которых говорил, но признавал и даже надеялся, что они вполне могут существовать, и их нельзя отрицать. Та же Атлантида, допустим: конечно, ее существование не доказали, но ведь нельзя отрицать ее существования! Знаем, проходили уже, вон, с теми же Шумерами. К тому же поспекулировать всегда интересно. Грецион Психовский четко понимал — то, что мы знаем о мире, и то, что мир есть на самом деле, такие же разные вещи, как курица и яичница-глазунья. Кажется, что связь вроде присутствует, но на деле она минимальна. — Ну… — выдал студент многообещающее начало. — Ворота Иштар были откопаны… — Я же просил, — тяжело вздохнул профессор, откинувшись на спинку стула. Он бы сейчас с удовольствием сел прямо на стол, как делал на лекциях, но останавливали его не какие-то там моральные установки, а постоянные выговоры чокнутого (как казалось Грециону) начальства. — Давайте поставим вопрос по-другому, ладно уж с вами, конец сессии, мы все устали. Расскажите мне о Вавилонском Драконе — и вы свободны. — Это тот, который собран непонятно из каких частей? Ну, на мозаике еще был. — Начало многообещающее, — не сдержался Психовский. Студент дошел до той нервной кондиции, когда никак не реагировал на колкие замечания — все равно, что перепить виски, хотя никто не исключал, что именно так отвечающий и сделал. — Ну, когда Ворота впервые откопали, то на мозаике нашли… Грецион Психовский закрыл лицо руками — получился практически знаменитый «мыслитель», только думал он явно о тупости своих студентов. — Как жалко, что почти все кормят вас сухим и отсыревшим за столько лет образовательным кормом, как нелюбимых кошек. Могли его хоть немного молоком разбавить. Студент долго соображал, что профессор имеет в виду, а потом до него дошло: — Но разве нелюбимых кошек вообще кормят? Раз уж на то пошло. — Конечно! Просто любимым обычно покупают нормальный, мясной корм. Ну, знаете, подушечки там эти, кусочки курицы, креветки. А морить животное голодом — это уже садизм. Хорошо, что до этого пока со студентами не дошло — образно, конечно. Буквально вы вон и так — злые и голодные. — Пока? — наступил отличный повод вновь тянуть время. — Не отвлекайтесь. Так вот, Вавил… Тут комната загремела — раздался металлический звук, сперва непонятный, разрозненный, но со временем собравшийся во вполне себе узнаваемую мелодию. У Грециона Психовского зазвонил телефон, экран замерцал, корпус завибрировал, а из динамика в пустую аудиторию — как на концерте — вырвалась рок-мелодия. Студенту она показалось знакомой. — Metallica? — уточнил он, пока профессор брал в руки смартфон. Психовский непонимающе уставился на него. — Нет, Black Sabbath. ‘Paranoid’. Минус балл за незнание классики! Грецион посмотрел на экран, чтобы понять, кто решил позвонить ему во время экзамена. Варианта было два: либо мобильный оператор, который думает, что люди могут взять трубку в любое время суток, либо… да, конечно, это был он. Звонил Федор Семеныч Аполлонский. — Алло? — прозвучало из динамика, когда Психовский взял трубку. — Грецион? — Ты ожидал услышать кого-то другого? — У тебя экзамен? — проигнорировал замечание Аполлонский. — Ну конечно. — А, отлично, у меня тоже. Но мне очень нужно с тобой поговорить, это конечно не так срочно, но я не хочу откладывать, а студенты переживут. Я уже предупредил своих, что вернусь, и вышел. Давай-ка тоже поставь экзамен на паузу, пусть спишут себе спокойно. — Спорить с тобой бесполезно, — рассмеялся Грецион в трубку, а потом повернулся к студенту, абсолютно запутавшемуся в ситуации. — Я постучусь перед тем, как войти, потратьте это время с пользой. И ради любого на ваш вкус бога, не надо никаких дат. Грецион Психовский хмыкнул, встал, явив миру розовые брюки и красные кроссовки — этот прикид часто называли «клоунским», на что профессор, если его упрекали, отвечал почти всегда одно и то же: «Конечно, он клоунский, это специально чтобы вас запутать и еще раз напомнить, что обертка почти никогда не соответствует содержанию. Можете считать, что я, самое банальное, конфетка — а я действительно такой! В смысле, гораздо более содержательный и полезный внутри, чем снаружи». Профессор вышел из аудитории и закрыл дверь. Оказавшись в коридоре, он вновь приложил трубку к уху и сказал: — Я слушаю тебя, Феб[3] мой среброкистый. Федор Семеныч Аполлонский тоже работал преподавателем, причем в том же университете, что и Психовский — только вот судьба раскидала этих двоих по разным факультетам. Если Грецион — профессор, специализирующийся на древних цивилизациях, то Аполлонский — художник местного разлива, не мировой гений, но и не забытый всеми отвергнутый творец. Логично было предположить — судьба так и сделала, — что Федор Семеныч в любом случае будет читать лекции на другом факультете, на художественно-графическом. С точки зрения студентов, обычно самой правильной, эти двое по манере преподавания были два сапога пара — если заглянуть в групповые переписки, особенно накануне экзаменов, в этом можно убедиться сполна. Если суживать это определение, то оба они были чудаковаты, но слушать их было одно удовольствие. А еще и Грецион, и Федор Семеныч могли внезапно прервать занятие, да даже экзамен, как сейчас, ни о чем не задумываясь — да и вообще, давали много свободы и разрешали мухлевать, потому что не верили в честную игру и сами честными игроками никогда не были. Аполлонский был посдержанней в одежде и слегка отличался от Грециона характером — два как капли воды похожих человека обычно не сходятся на долгое время, это все равно, что общаться со своим отражением, что бы там не говорили об общих интересах. Рано или поздно, такое наскучит, начнешь видеть темные проблески себя в закадычном друге, который уже через полгода — это еще если повезет — станет совсем чужим. Так вот, художник был не столь эпатажным и бьющим фонтанами необузданной энергии, но более чудаковатым и копошащимся, склонным к абстрактным и долгим рассуждениям, которые — как там писали безымянные авторы? — мыслью растекались по древу, а потом собирались в целое озеро, где Федор Семеныч вскоре и тонул. Но когда дело касалось практического рисования, тут художнику не было равных — особенно всем нравилось то, что он не зацикливался на всяких вот этих натюрмортах и пейзажах «родной и духовно богатой земли», а практически все превращал в какой-то аналог «Властелина Колец» и вообще был без ума от драконов, в существование которых, спасибо Психовскому, даже верил. — Ну а почему их не могло быть? — говорил профессор. — Просто здоровые ящерицы с крыльями, что в этом странного? Слушайте, да посмотрите на тварей, которых вылавливают из океана каждый день и выкладывают в соцсети. И, по-вашему, ящерица с крыльями — самое странное, что природа могла придумать? К тому же, средневековые рыцари просто не ценили прекрасное, вот и устроили окончательный геноцид драконов. И только потом уже взялись за крестовые походы, потому что геноцидить стало некого. Аполлонский вырос на фэнтези, хорошем и плохом одновременно, но все же фэнтези, и до сих пор рубился в какие-то компьютерные игрушки, не говоря уже о книгах и фильмах. Поэтому, когда студенты спали на парах после ночи, проведенной в фэнтезийной компьютерной ролевой игре, Федор Семеныч их не трогал, а иногда даже ставил дополнительные баллы — если, конечно, приобретенный опыт отражался в их работах, и меж скучных лужаек начинали бегать орки с гоблинами. В общем, если кратко — Федор Семеныч Аполлонский считал, что «Утро в сосновом лесу» могло быть куда интереснее, если бы вместо медведей там нарисовали драконов. — Замечательно, что ты меня слушаешь, — раздалось по ту сторону трубки. — У меня для тебя прекрасные новости — после экзамена можешь собирать вещи, я купил нам два билета на… — Надеюсь, не на оперу? — уточнил Психовский. Здесь интересы парочки тоже шли вразрез — Аполлонский заслушивался классическими операми, желательно на фэнтези-тематику, а Грецион такой пытке предпочитал рок-оперы. — Нет, ты что, пока еще ничего такого, на что мы могли бы пойти вместе, не придумали. И спасибо, что перебиваешь. В общем, на зимние каникулы мы с тобой отправляемся в небольшой-круиз путешествие. С Днем Рожденьица, как говорится. — Он у меня вообще-то не сегодня, — хмыкнул Психовский просто так, из вредности. — Ох уж эти Козероги! — возмутился художник по ту сторону сетевой изгороди. — Вечно чем-то недовольны, я ему делаю приятное, а он… Родись ты каким-нибудь Водолеем…. — Ты опять о Зодиака? Слушай, даже я, верящий Шумерам как себе… — Да, опять о них! Потому что ведешь себя, как типичный Козерог, — еще раз посчитал нужным добавить Федор Семеныч. — В том-то и соль, что твой День Рождения мы отметим прямо в дороге. Так что давай, выше нос, выше голову, выше все, что только можно — и хватит быть недовольным! — А я был бы доволен, — Психовский закатил глаза, но собеседник этого, по понятным причинам, не увидел, — если бы ты предупредил меня заранее, хотя бы за пару недель. — Тебе известно такое слово, как сюрприз? — К твоему сведенью, не все сюрпризы — приятные, — вздохнул профессор. — У меня нет сил никуда тащиться — вот честно. Может, мы как-нибудь устроим это в другой раз? Аполлонский взревел — ну, скорее заблеял как барашек. — Упертость — твое второе имя. Если ты не хочешь, то я прямо сейчас возьму и сдам эти билеты… — А куда хоть мы с тобой поплывем? — А вот это узнаешь на месте! Завтра отчаливаем, и я тебе умоляю, не отправляй никого на пересдачу, иначе испортишь нам весь отпуск. — Я, конечно, понимаю, что со мной спорить бесполезно, но с тобой — еще хуже, — профессор сдался. — Но и я не сумасшедший, портить свой юбилей не собираюсь. Смотри у меня, если что не так… Улыбка ползла по лицу профессора топленым маслом. — Ты Психовский, — решил пошутить Аполлонский. С шутками у него, кстати, тоже было тяжеловато — не считая старых-добрых анекдотов про Штирлица. Не услышав смеха в ответ, художник переключил тему: — Ладно, проехали. Кстати, сколько тебе там стукнет? Грецион озвучил цифру — ему должно было исполниться пятьдесят, вел себя на тридцать, ощущал на все двадцать, да вот только выглядел на шестьдесят — из-за бороды. Аполлонскому он назвал все эти возрасты. — Тогда отметим сразу четыре круглые даты. Психовский поправил желтую бейсболку, которую не снимал в здании, пока его не посещало такое желание — норму нахождения без головного убора в помещении профессор считал архаичной и идиотской. Потом Грецион посмотрел на часы и цокнул. — Ну, я бы с тобой еще поговорил, но и так скоро увидимся. К тому же, по-моему, мы дали этим оборванцам достаточно времени, чтобы списать. Я не против постоять в коридоре еще, но надо нам иметь какое-то приличие и хоть иногда быть построже. Оба рассмеялись — прослушивай их разговор какой-нибудь тайный агент, у него лопнули бы барабанные перепонки. — Ты предложишь тройку и отпустишь с миром? — уточнил Федор Семеныч. — Нет, сначала послушаю, что мне попытаются наплести, а потом отпущу с миром и зачеткой. — Мы неисправимы. — Ага, — подтвердил Психовский. — И в этом наша прелесть! Ладно, увидимся. — Я тебе все распишу сообщением. — Мне хоть понравится твой сюрприз, на который ты меня, считай, вынудил? — Обижаешь! Экран телефона погас, разговор завершился. Психовский заулыбался, предвкушая что-то интересное — такие спонтанные туры, по закону вселенной, которая своим правилам не изменяет, всегда превращаются во что-нибудь интересное. А Грецион любил вляпываться во всякие истории — иначе, считал он, жизнь станет скучной, неинтересной, и нечего будет травить студентам на занятиях. Как и было обещано, Грецион Психовский три раза очень громко постучался, чтобы его уж точно услышали, и вошел в аудиторию.…великий праздник Небамесяц великого сияния Иштар[1]старцы города к Собранию выходятИшум ворота для них отпираетСолнце освобождение и отдых земли устанавливаетмесяц этот до окончания своего…Из «Астролябии В[2]»
* * *
В душном и липком тропическом воздухе, под огромными листьями пальм и папоротников, которые теперь растут только здесь, но когда-то правили балом флоры, девушка смотрит в щелку, подглядывая. Под массивными сводами храма из белого камня она чувствует себя, как дома, но знает — там, за этой щелкой, что-то происходит. Среди же колонн с каменными змеями, словно желающими задушить эти столбы, ничего нового: на дворе ночь, храм тихо дремлет, внутри остались лишь маги, божественные служители, мастера ритуалов и возливания масел. Она — среди них. Или, почти. Она спустилась по ломаным ступеням в ту часть храма, о которой даже не догадывалась. Так глубоко под землей, что здесь прямо из стен врываются корни исполинских деревьев, ломая фасад белого камня. Тот покрылся трещинами, как разбитое яйцо. Запах корицы и стрекотание сверчков — только у нее в голове — становится сильнее. Она смотрит в щелку и видит пустой, мрачный зал, а в центре — клетку. Ей думается, что это какое-то тайное место для жертвоприношений, и сейчас она увидит кости, человеческие ребра и кровь. Она тихонько приоткрывает дверь, которую то ли забыли запереть, то ли специально оставили открытой, лишь отойдя ненадолго, и заходит внутрь. Это оказывается тюрьмой, но не для людей, а лишь для одного… пленника. В центре взаправду стоит каменная клетка, а в ней лежит странное существо — прежде она таких никогда не видела. Животное, видимо, привыкшее к неволе, не сопротивляется, но, видя нового человека, приподнимается на передних лапах. Размером оно раза в два больше варана. Существо высовывает раздвоенный язык и шипит. Она подходит поближе, чтобы разглядеть животное во всех подробностях. Будь она на пару лет постарше, все бы знала сама, ей бы уже давно рассказали про этого зверя. Она каждый день ходит в этом храме при свете яркого солнца и матовой луны и, казалось, выучила его наизусть. Но, как выяснилось, заблуждалась. Она поворачивает голову в сторону животного и тянется рукой к клетке — аккуратно, с опаской. А существо, столь фантастическое, явно пытается что-то сказать, смотрит в ответ жалобными глазами, полными самого космоса, будто запускающего свои зыбкие пальцы в самое нутро — они хватают самое сокровенное и тянут, тянут на себя, поглощая и завораживая одновременно. И ей становится жалко.* * *
Десант из снежных хлопьев валил с грузных, затянувших небо полностью облаков, кружился, своими миниатюрными завихрениями напоминая снежные ураганы, и мерцал непривычными оттенками в свете длинноногих фонарей, рассекавших ночь. Белые хлопья, летевшие вниз словно по маслом смазанной горке, кувыркались и оседали на шапке Грециона Психовского, где вскоре таяли и мерцающими капельками светились на меху. Красиво? Безусловно. Приятно? Ну, не сказать, чтобы особо да — профессор понимал, что, простой он под снегом еще минут тридцать, домой вернется не сказочным Дедом Морозом, а человеком-амфибией. И глубоко внутри Грецион ворчал всеми известными и неизвестными человечеству словами. Природа решила откашляться, пустив поток холодного ветра: он взбудоражил снежинки, нарушил их плавную гармонию и обдал Психовского своим сковывающим тело и душу дыханием. Вот это зима, так зима, а не мелкий снежок раз в две недели, словно молящий, чтобы на него обратили внимание и вспомнили, какое время года сейчас на дворе. Профессор перемялся с ноги на ногу и посильнее натянул на уши меховую шапку-ушанку, с которой зимой практически не расставался. Грецион посмотрел сквозь луч фонарного света, в котором роились мелкие снежинки (да и сам профессор, надо сказать, стоял в точно таком же луче, как герой какого-то мюзикла). Психовский увидел — ну, попытался сквозь метающиеся туда-сюда хлопья снега — торчащие серые махины домов, которые даже не думали наряжаться в зимнее платье. С домами поменьше в такую погоду такое происходило окончательно и бесповоротно. В этом морозном великолепии Психовскому захотелось в тепло — для начала, хотя бы просто сесть в такси, которое едет уже десять минут, хоть обещало быть через пять. Цель чуть выше, этакий следующий этап этого квеста — добраться до квартиры, чтобы скинуть куртку, шапку и ботинки. Но в идеале, конечно, хотелось махнуть куда-нибудь в теплые края, где такой погоды не будет в принципе — там, видимо, невидимые архитекторы мироздания постарались, чтобы люди не испытывали такого ледяного ужаса, а вот другие места явно обделили вниманием. Ну, ладно, думал Психовский, их можно понять — должен же быть какой-никакой, а баланс, просто ему, профессору, не повезло родиться и жить именно в месте, теплом обделенном. Но Грецион не сомневался, что Аполлонский подобрал для своего сюрприза какое-нибудь турне по теплым местам, а не по ледникам — пингвины, белые мишки и морские котики — это, конечно, очень хорошо и мило, но только не в разрезающим душу холоде. Ехать все еще было как-то лень — и Грецион про себя ругался на художника, хотя раньше за собой такого не замечал, даже после самых странных чудачеств Федора Семеныча. Смартфон в кармане пиликнул. Профессор осмелился вытащить руку из кармана и разблокировать экран — такси, вроде как, приехало. Грецион огляделся, но машины не увидел, снова перемялся с ноги на ногу и натянул шапку еще сильнее, чуть не спрятав под ней глаза. Прошло совсем немного, и к представлению из фонарного света добавились новые лучи немного иной природы — они, в отличие от своих собратьев, двигались. Психовский сообразил, что это такси, только когда фары начали слепить глаза. Грецион открыл дверь, отряхнул, казалось, целые снежные равнины с шапки и ледники с ботинок. Он сел в машину, потихоньку оттаивая. Профессор, к слову, никогда не был против поболтать в дроге — за что многие водители были готовы его убить, ведь говорить Психовский мог часами, — но сейчас Грецион радовался, что таксист попался молчаливый: просто уточнил дорогу, а потом включил — хвала всем богам и космическим сущностям! — главную рок-радиостанцию страны. Профессор Грецион Психовский наконец-то расслабился, мыслями погрузившись в теплые страны. Вообще, Грецион давно думал, что пора бы сменить обстановку, и не только из-за тонны работы и скрипящих холодов — профессор чувствовал, как вокруг, в каждом возможном и невозможном углу, открыто и исподтишка, закручиваются гайки абсолютно во всем. На профессора это давило, вызывало внутри какой-то механический скрежет, разрушающий душевную гармонию и иссушающий те маленькие капельки счастья, которые еще оставались в душевном двигателе. Задним числом, правда, Профессор знал: кое-кто просто забывает элементарные правила инженерии и механики, ведь если гайки затягивать слишком туго, рано или поздно они слетят с резьбы и дадут по носу. Проверено столетиями во всех смыслах: и в буквальном, и в метафорическом. Хотя проблема, как обычно, была в том, что гайки крутили абсолютно все — даже те, кто говорили, что раскручивают их. В общем, Аполлонский, не смотря на привычку Грециона поупираться и поворчать без причины, как всегда, не прогадал со своим таинственным подарком — и пусть только попробует купить билеты в какую-нибудь Гренландию, сам будет кататься там на санках и рисовать картины, состоящие исключительно из оттенков белого. Козероги — они такие. Будь дорога профессора в такси хоть чем-либо интересной и примечательной, она бы стоила внимания — но в этом оттиске реальности, в одном из вариантов развития событий в мультивселенной, ничего этакого не произошло. Надо понимать, что, чисто гипотетически, есть миллиарды и больше разных Греционов в разных вариантах мироздания. И везде события происходят по-своему — с маленькими катушками, словно бы небольшими шероховатостями, бугорками на каждом из этих оттисков. События во всех этих возможных «там» слегка отличаются: сегодня Грецион здесь повернул налево, а там — направо, здесь пошел на обед в кафе, а там взял с собой бутербродов. А именно малые решения и расхождения, как известно, влияют на все остальное… Грецион Психовский ввалился домой, в маленькую уютную квартирку с целым лесом из растений напротив компьютера и стенами, обклеенными древними пергаментами и обложками-конвертами рок-альбомов, которые раньше были упаковками виниловых пластинок. Это напоминало классическую монтажную склейку через движение, такую условную перемотку времени. Профессор жил на широкую ногу, но до тех, кто в этом отношении мог сесть на шпагат, ему было как до Китайской Стены ползком. Избавившись от намокшей одежды и кинув портфель просыхать в прихожей, Грецион метнулся на кухню, вскипятил чайник и заварил чашку зеленого чая, настоящего, прямиком из Китая — там профессор очень удачно сторговался на рынке, — добавил лимона и, конечно — без постоянного допинга пряностями мозг Психовского превращался в кашу. Профессор сделал глоток и поморщился — слишком горячо, слишком кисло. И непонятно, то ли он не доложил сахара и переборщил с кипятком, то ли это постоянное недовольство и ворчание, начавшееся еще на улице из-за погоды. Аполлонский говорил, что в случае профессора, ворчание с недовольством — его личные Деймос и Фобос, этого уже ничто не исправит, потому что Козероги — они все такие, постоянно найдут, к чему прицепиться, порой раздуют из этого проблему вселенского масштаба и слушать никого не будут. Так, по крайней мере, говорил художник. А вот Грецион Психовский эти возмущения Федора Семеныча и не слушал, хоть не отрицал правдивости астрологических наблюдений, только, конечно, не на всяких сайтах наподобие «ЛЮБИМАЯ ХОЗЯЮШКА». Некоторые вещи сохранились и дорабатывались еще со времен Шумеров, простыми наблюдениями, которые трудно назвать пустым совпадением — систематически повторяющееся совпадение становится уже какой-никакой, а закономерностью. Профессор положил дополнительную ложку корицы, дошел до комнаты, включил компьютер, поставил чашку на стол и скрылся где-то в зарослях своего леса из домашних растений. Грецион порылся в коллекции пластинок, вытащил одну, повертел в руках, довольно улыбнулся и установил на проигрыватель. Пока профессор возвращался на рабочее место, на всю квартиру загремел — но не слишком громко, чтобы соседи не пришли с вилами и факелами — ‘Crazy train’. Психовскому показалось, что это отличная мелодия перед дорогой — надо настроить окружающий мир на некий символизм. Грецион сделал глоток, наконец-то удовлетворившись сладкостью чая. Параллельно открыл электронную почту — личную, на рабочей делать было нечего, ее завалили глупые вопросы, просьбы студентов и других преподавателей, которых профессор сейчас ни слышать, ни видеть не хотел. Сообщение от Аполлонского висело в самом вверху, под тоннами рекламы, которую профессору было лень удалять. Грецион открыл и прочитал:«Грецион! Завтра у нас в пять утра самолет. Ага, вот так внезапно, я знаю! Так что пакуй чемоданы как можно быстрее, летим рисовать драконов! Комодо, конечно же, но я бы тебя и таких потащил смотреть. Короче, начинаем с островов Индонезии, с Комодо, а дальше у нас с тобой небольшое корабельное турне с высадкой на ТРОПИЧЕСКИХ островах. Да, тащу тебя в твои любимые теплые места. И ты еще ворчал! Увидимся совсем скоро, давай, начинай паковать чемоданы. P.S.: Билеты прикрепил. Умоляю, не забудь. НЕ ЗАБУДЬ».Профессор скачал билеты, закрыл письмо и улыбнулся. Это, конечно, не тур по пирамидам майя, но тоже подойдет. Было лень, ехать никуда не хотелось, диван выглядел куда привлекательней, но… встретить День Рождения в тепле, в компании комодо и Аполлонского — это же просто мечта. Греясь этой мыслью, профессор начал собирать миниатюрный чемодан, наслаждаясь вливающимся в уши роком, настраивавшим на интересную поездку. Интересную настолько, что Грецион Психовский даже не догадывался.
* * *
Они холодно взирают на раскрытую и, что важнее, пустую клетку, не сулящую ничего хорошего — среди древних белых стен начинают покалывать страх и негодование. Они не смогли — здесь, в этом священном, в этом защищенном и свободном для всех месте, не смогли уследить, впервые за столько лет. Они никогда не думали, что кто-то додумается до такого, спустится сюда без дозволения, распахнет клетку, сойдя тем самым с Духовного Пути, ведь лишь Духовный Путь — ключ к идеалу, которого они почти достигли. Но задним числом они, толпясь здесь, в этом подвальном помещении, понимали, что сами сошли с Духовного Пути, ведь не досмотрели и смухлевали — теперь им придется отвечать, как минимум — морально, перед самими собой, а это уже страшно. Корни вековечных деревьев, спящие здесь, на глубине, через дрему слышали их разговоры, обрывки фраз, которые становились все уверенней и уверенней — страх испарялся, улетучивался, поднимаясь вверх и рассеиваясь в голубых небесах над храмом, уступая место уверенности в собственной невинности. Когда разговоры прекратились, они пришли к выводу — нет, то был не сход с Духовного Пути, они лишь оступились, споткнулись о случайно брошенный под ноги камень, но теперь встали и готовы идти дальше. А вот она, та, что открыла клетку и освободила зверя… Да, она воистину сошла с Духовного Пути, в непоколебимости которого никто не сомневался. А теперь остывшее тело лежало около клетки, у их ног — конечно же, бездыханное.* * *
Пока с неба продолжал сыпать снег, Грецион Психовский, топчущийся на улице с собранным портфелем и маленьким чемоданчиком, клял опять никак не подъезжающее такси, которое, видимо, не смогло преодолеть пару-тройку снежных баррикад и теперь тащилось с издевательской скоростью. Возможно, где-нибудь в другом оттиске реальности, оно бы уже давно приехало, и сидел бы профессор внутри, радостно слушая музыку — или радио, если включат что-то нормальное, — но здесь и сейчас такого не случилось. Если представить, что вселенная — это скопище множества разных реальностей, где все вроде бы одинаково, а вроде бы и нет, все отличается деталями, то логичнее назвать каждую из таких реальностей отдельным оттиском. Оригинала, с которого нескончаемое множество копий сняли, никто, конечно же, не знает, да и как поймешь в этой кипе вариантов событий, где оригинал, а где — нет. Тут случится одно, тут другое. Все эти оттиски никогда не бывают одинаковыми. Погрешность техники и, в нашем случае, вселенной. Но здесь и сейчас, в нынешнем оттиске, такси все не приезжало — уже желтые фонари, освещающие глубокую непроглядную ночь, и то жалобно стали смотреть на мерзнущего профессора. Грецион, конечно же, продолжал мысленно ругаться на такси, по ясной причине, ну и на снег, так, заодно — а поскольку здесь и сейчас ему повезло родиться Козерогом, проклятья эти были страшные. Снег вообще обнаглел, все идет и идет и, как назло, не тает — конечно, Психовский знал и понимал, что посреди зимы не может резко наступить лето, максимум ударит плюс на пару дней, а потом ходи и скользи по этому незапланированному катку. Хотя, профессор допускал вероятность вообще чего угодно — кто знает, вдруг однажды зима резко станет вечным летом, кто-то что-нибудь напутает там, наверху, и Грецион Психовский лично поднимется туда (желательно, с билетом обратно, чтобы не застрять в небесной канцелярии навсегда) и пожмет этой сущности руку. Или руки, если это окажется какой-нибудь Шива — опять же, возможно все. Очень здоровый подход для профессора, занимающегося древними цивилизациями. Снегу на самом деле очень повезло, потому что все негодование крутилось лишь в голове Грециона, а разговаривать с падающими белыми хлопьями было не в его вкусе. А вот таксисту, который наконец-то приехал, повезло меньше в десятки раз — потому что, в силу своего характера, Грецион тут же высказал все, что о нем думает. — У вас совести совсем нет, — пробухтел Психовский, устраиваясь на переднем сиденье, хотя мог сесть и на заднее. — Я ждал вас десять минут на таком морозе. Мне, между прочим, не двадцать лет — меня такая спонтанная закалка и убить может. — Так дороги занесло, — только и ответил таксист. — Я то что мог поделать. — Нет, все равно, это сумасшествие — о таком хотя бы можно предупредить ради приличия, — профессор хлопнул дверцей. — Давайте поедем побыстрее, а то еще тут до завтра простоим, а у меня самолет. Щелкнула блокировка дверей — машина тронулась. Грецион хотел было уже надеть свои беспроводные наушники, готовясь к наихудшему варианту музыкальной подборки от водителя, но тот каким-то чудом включил довольно сносную волну — наушники исчезли в кармане. — А вот это другое дело, — лукаво улыбнулся Психовский. Он хотел добавить, что за хорошую музыку можно простить все остальное, но в силу характера промолчал. Таксист никак не отреагировал — ему просто хотелось побыстрее довести этого мужчину в странных розовых брюках и ушанке, дотерпеть до конца дня, вернуться домой, налить крепкого кофе и лечь спать — в такой снег так и манит в кровать. Грецион же, утонув в музыке, смотрел в окно на пролетающие мимо, сверкающие разноцветной иллюминацией здания, из-за бешено падающего снега превратившиеся в зернистую, снятую на очень-очень плохую фотокамеру картинку — пейзаж за окном такси казался смазанным, нечетким, размытым и рябящим, но был в этом какой-то шарм. Словно глаза Психовского включили фильтр ретро-кино. Профессору, в принципе, понравилось. Но долго этой нахлынувшей красотой у Грециона насладиться не вышло. В этом оттиске реальности, машину резко занесло в сторону — водитель вывернул руль, чтобы возобновить управление, но ничего из этого не вышло. Тормоза по невероятной причине тоже отказали. Такси, уже ничем не контролируемое, полетело в сторону по скользкой дороге под звуки орущего из магнитолы оркестра — громкость радио случайно выкурилась на максимум. Под эти фанфары из грохочущей музыки и валящего снега, машина со всей скорости врезалась в столб — подушки безопасности, вот это совпадение, тоже не сработали. Перед тем, как такси объяло огнем, профессору показалось, что перед глазами мелькнуло что-то странное — какой-то образ, видение, легкая галлюцинация от удара о лобовое стекло, что-то, знакомое со страниц учебников и из музейных экспозиций, но сейчас неразличимое и неузнаваемое. Оно, это что-то, бежало со всех лап, потом по-змеиному зашипело; профессор ненароком посмотрел прямиком в его глаза, чтобы утонуть в них — в бесконечно-глубокие, бесконечно-грустные, схватившие и утянувшие какой-то неуловимый осколок себя самого. Такси рвануло — весь корпус объяло голодным огнем, постепенно уплетающим свою добычу. И Грецион Психовский умер.Водолей. Глава 2 Драконовы штучки
— Кажется, это где-то уже было, — пробубнил профессор Грецион Психовский, продолжая смотреть на рябящую картинку за окном такси. Профессора с головой захлестнуло невероятное, нагрянувшее с максимально возможной мощностью чувство дежавю — мир словно превратился в репликацию чего-то другого, уже когда-то виденного. Психовский терпеть не мог, когда его настигало дежавю — от этого по большей части необъяснимого чувства передергивало и бросало в легкую, но нехорошую дрожь. Грецион отвернулся, сморщившись. Вскоре, гадкое ощущение рассеялось. Хоть небо и решило устроить артиллерийский обстрел всего живого, скрыв мир под белой шубой из снега, дороги, на удивление профессора, оказались расчищенными — да и водитель ехал как-то чересчур даже мягко, такси не прыгало, машину не заносило. Так, под звуки очень странного радио, с волн которого звучала то громогласная классика, то металлический кряхтящий рок, Грецион добрался до аэропорта. Из-за снега видно было лишь общий силуэт аэропорта — будто тот прикупил на барахолке слишком уж большую футболку, размеров на пять больше, и сослался на то, что так сейчас просто на просто модно. Профессор подумал, что ситуация изменится, когда он выйдет из машины — ошибся. Даже так аэропорт казался каким-то размытым чертежом, на который неумеха-механик пролил ночной кофе. И несмотря на ужасную погоду и невероятную усталость, от которой покалывало в груди, Грециона тянуло вперед, навстречу новому — он всегда любил такие авантюры, без раздумий соглашаясь на все, что казалось ему интересным, пусть это и казалось настолько невозможным, что даже автор-фантаст сказал бы: «Хватит, перебор!». Но Психовский ощущал, будто бы он просто не мог не идти, вот и все. Откуда это ощущение взялось — непонятно. — Как бы ваш рейс не отложили, — пробубнил на прощание водитель. — Мыслите позитивней, — улыбнулся профессор, из этого самого позитива состоящий примерно наполовину; вторую же половину, к слову, занимал сарказм. — Снегопадом свойственно резко начинаться и так же резко кончаться. А у меня еще полно времени. Всего доброго! — Доброго, доброго, доехать бы дальше без приключений… — Я же говорю, — кинул уже уходящий Психовский, — мыслите позитивно! Если бы водитель знал, что случилось с ним в другом оттиске реальности, уж точно бы превратился в один большой генератор позитива. Грецион тем временем приступил к первому ритуалу внутри храма под гордым именем «аэропорт»: очистил карманы, выложил ключи, всю мелочь, телефон, снял часы и, положив багаж на ленту, прошел через рамку. Конечно же, по вселенскому закону, она все равно запищала — с первого раза это испытание пройти могли только избранные. Все первые, последние и серединные испытания великих героев фэнтези по сравнению с этим — просто пшик. Окажись прямо здесь и сейчас эти самые герои — великие колдуны, крушащие града и занимающие места богов, — они подтвердили бы это. Набалдашники посохов у них точно запищали бы. — Давайте еще раз, — буркнул страж порядка. Грецион прошел через рамку вновь — снова заставил ее издать истошный визг. — Ну что же, — опять буркнул все тот же страж порядка, на этот раз подойдя к профессору. — Руки вверх, как говорится. — Я так похож на особо опасного преступника? — Грецион почесал бороду. Охранник, видимо, заведомом обившийся на профессора, опустил взгляд на розовые штаны. — Будем вас осматривать. — Спасибо, что хоть не измерять, как одного мальчика. Ну, что же, милости прошу. Страж порядка посмотрел на Грециона взглядом серым, как концентрированный асфальт. — Вы не могли бы отвечать не так оптимистично? — нахмурился он. — Это еще почему? — Потому что. — Отвечаете, прямо как мои студенты, — хмыкнул Психовский. — Слушайте, я лечу на крыльях любви и энтузиазма на встречу совершенно непонятному туру-отпуску, но он хоть на несколько дней вырвет меня из рутины. И я совсем не хочу с вами ссориться, как там оно поется… спросите у любого на Тверском Бульваре, я самый дружелюбный человек на свете. Грецион взглянул на часы. — А Аполлонский вам это еще и по гороскопу подтвердит. Асфальт во взгляде охранника наливался свинцом и желчью. Будь Грецион не совсем собой, он бы спорил и упирался до кутузки, но авантюрное шило профессора зудело так сильно, что он просто вздохнул и повиновался. Поэтому раздеться все же пришлось — проверив профессора, скажем так, вручную и с пристрастием, стражи порядка поняли, что все дело в ремне. Почему-то пряжки на нем всегда оказываются какими-то чересчур металлическими. Ничего не оставалось, как ремень снять, кинуть в лоток для вещей к остальному добру и пройтись вновь — рамка пискнула, но нормально, не истошно, предупреждая, что все, мол, в порядке. Этот маленький побочный квест завершился, теперь пришла пора следующего— найти Аполлонского. Тут, благо, решение оказалось проще — просто взять и позвонить. Но Федору Семенычу, как и любому человеку, носящему божественную или полубожественную фамилию, такие вещи свойственно было чувствовать — так что звонок, можно сказать, не понадобился. Точнее, понадобился, но только для того, чтобы Грецион перепугался — за спиной раздался включенный на полную громкость Иоганн Себастьян Бах, стоящий у художника на звонке, и профессор чуть не подпрыгнул. — Ага! — провозгласил Аполлонский, когда Психовский повернулся. — Ты не опоздал, прекрасно! Я всегда знал, что хотя бы раз в жизни на тебя можно положиться. Вы, Водолеи, сами кого можно на авантюру за уши вытащите, но уж слишком импульсивные и рассеянные… — Твоя дурацкая привычка каждый раз вспоминать знак Зодиака собеседника когда-нибудь сыграет против тебя, о среброкистый Феб, — ухмыльнулся Психовский. — Твоя привычка издеваться над моей фамилией тоже когда-нибудь сыграет против тебя, — парировал Федор Семеныч. Аполлонский, откровенно говоря, совсем не соответствовал своей фамилии внешне — из головы можно сразу выкинуть изображения всех статуй соответствующего божества, которые, как и другие в Древней Греции, выглядели идеально во всех отношениях.Если аналогия со скульптурой мифологического Аполлона в голове все же возникает — справедливости ради, это неизбежно, — то рисующуюся картинку стоит слегка подкорректировать. Правильнее всего представить, что древние Греки не пожалели глины и потратили все запасы на новую статую, отчего Аполлон… пополнел, будто подносить в жертву ему стали исключительно сдобные булочки. Всю атлетичность как рукой сняло — он получился таким низеньким, слегка упитанным, но не прямо уж толстым. Скорее даже капельку коренастым, хотя мускулатура задыхалась где-то под слоем излишней глины. К этому добавилось идеально выбритое лицо, огромные круглые очки в красной пластиковой оправе и соломенную шляпу с гигантскими, «блинными» полями, с которой этот модный Феб не расставался ни на миг. Такое изображение, конечно, мог придумать какой-нибудь очень навороченный греческий скульптор, правда все остальные сразу же затравили бы его, не восприняв столь креативного взгляда на привычную часть жизни (уж сколько времени прошло — а все одно и то же). Но таким и был Федор Семеныч Аполлонский, шляпа которого, кстати, слыла красной тряпкой для Психовского — как только он не пытался круглые сутки намекать художнику, чтобы тот ее выкинул ко всем чертям. Но упрямство Аполлонского не знало границ. В этом они с Греционом — здесь и сейчас — были весьма непохожи. — Я тебя, наверное, не удивлю, но наш рейс задерживают, — Федор Семеныч ткнул рукой в огромное табло. — Но хорошая новость, как я понял, в том, — профессор прищурился, что откладывают… всего на полчаса? — Именно! Так что предлагаю пропустить по чашечке кофе, ну или чего покрепче. — И почему я не удивлен уточнением про что-нибудь покрепче? Видимо, подношения богам все же лучше делать именно хмельными напитками. — Полно, прекращай, а то скормлю тебя дракону-комодо. — Даже не подумаю. Психовский рассмеялся, поправляя рюкзак и зашагал, оглядываясь по сторонам и насвистывая под нос назойливую мелодию — точно ребенок в магазине игрушек. — Грецион! — окликнул художник. — И что ты придумал на этот раз? — Я-то? Да так, ничего — просто сказать, что ты идешь вообще не в ту сторону. — А! — хлопнул профессор в ладоши. — Ну и ничего! — Ничего, ничего, страшно представить, как ты один дома справляешься, — закатил глаза Федор Семеныч и посчитал нужным добавить: — Водолеи…Из «Астролябии В»
Кафешки в аэропортах — весьма особые места, где царит уникальная, непередаваемая атмосфера сдавленного пружиной ожидания, что вот сейчас, совсем скоро, ты взлетишь, и начнется невероятное путешествие, а пока надо залить свой топливный бак кофе, чаем или коньяком, это если очень боишься летать. Здесь и вкус напитков даже какой-то другой, более полный и раскрытый, что ли — словно насыщенный всеми возможными эмоциями, которые, попадая в организм с жидкостью, взрываются в голове фейерверком приятных ощущений. Конечно, в таких кафешках работают и особые официанты — это люди всегда бывалые, повидавшие такое количество разных клиентов из разных стран, что удивляются уже редко чему. Внешне эти официанты ничем не отличаются от всех других, но внутри у них жужжит особое ядро, которое взращивается как раз-таки в таких кафешках. Эти люди готовы к любому развитию событий, они быстры, сообразительны ну, одним словом, просто особенны, и все тут. У одного официанта глаза на лоб полезли, пока бедняга выслушивал профессора, но хотели рвануть куда выше — остановило их лишь то, что выше лба подниматься было некуда, законы физики не позволяли им взмыть под потолок и стать еще парой-тройкой спутников Юпитера. Первое легкое удивление внутри молодого человека, обслуживающего Психовского с Аполлонским, заскреблось еще когда Грецион снял верхнюю одежду — ладно, ничего особо удивительного в желтой футболке с гремлином, розовых брюках и зеленой толстовке на молнии не было, но как-то в сердце у официанта кольнуло. Потом профессор, кстати, избавился от теплой ушанки и сменил ее на желтую бейсболку, в которой так и остался сидеть. А вот теперь официант принимал заказ, а глаза все норовили и норовили покинуть атмосферу на реактивной тяге. — Я прошу прощения, но вы точно ничего не перепутали? Вы точно хотите, чтобы я принес вам зеленый чай с молоком и ликером? — Вы спрашиваете уже второй раз, — непрозрачно намекнул Грецион. — Да, я хочу, чтобы вы сделали именно это. — Может, все же лучше приготовить кофе? У нас очень большой выбор… — видимо, в этом оттиске реальности о чае матча слыхом не слыхали. Психовский тяжело вздохнул. — Ладно уж с вами, давайте тогда просто… Федор Семеныч не дал ему договорить и, оторвавшись от уже второй сигареты, сказал: — Не слушайте его, в этих делах он совершенно мягкотелый. Так что тащите то, что он просил, и нет, не предлагайте других вариантов. Все тут, он сам потом будет жалеть, что не настоял. Вот будь он каким-нибудь там Козерогом… Когда нужна была тяжелая рука, Аполлонский становился настоящей дланью убеждения. — И опять пошла морока про румынский Будапешт, — закатил глаза профессор. Аполлонский вновь затянулся, пустив в воздух осьминожье щупальце дыма. Курящее божество — весьма интересный объект изучения для теологов. Если взять в расчет то, что художник пыхтел как паровоз, выкуривая на перерывах между парами со студентами в курилке больше, чем сами студенты вместе взятые — интерес к такому объекту возрастает еще больше. А когда лекции приходилось проводить онлайн, то Аполлонский вообще курил прямо на парах — просто выключал камеру, ссылаясь на технические проблемы, и сладко затягивался. А вот это уже тянуло на объект № 1 для теологического препарирования. В общем, тот еще божок. Официант немного подуспокоился, услышав привычные разговоры о Зодиака, а не чересчур причудливые причуды — об астрологии молодой человек слышал за каждым вторым столиком и пока еще не слетел с катушек. Записав заказ художника, официант ушел. Аполлонский докурил сигарету, достал блокнот с карандашом и начал что-то усердно рисовать. Вскоре заказ принесли: зеленый чай с ликером и молоком, здоровую чашку капучино и два огромных куска чизкейка, потому что оба университетских преподавателя были теми еще сладкоежками и взятки могли брать конфетами, если бы брали. Психовский накинулся на пирожное с проворством изголодавшегося Робинзона Крузо, а вот Федор Семеныч все рисовал и рисовал, притом — молча. Грециона это напрягло примерно на том моменте, когда пирожное почти кончилось, и желудок позарился на нетронутый заказ художника. — Может отвлечешься? — намекнул Психовский. — Ты что, увидел за соседним столиком дракона-комодо? Уже? Только попробуй при таком раскладе сказать, что мы не едем никуда… — Увидел, — кинул Аполлонский. — Только не дракона-комодо, сам посмотри, через столик от тебя. Грецион повернулся и увидел… Ну, говоря откровенно, ничего особенного, тем более по сравнению с зеленым чаем с молоком и ликером. Там сидел не грифон и не дракон, а просто человек, но очень уж колоритный — настолько, что художественный взгляд Федора Семеныча мясным крюком прицепился к сидящему. Ну так вот, там потягивал, как Психовскому показалось, пиво, весьма упитанный мужчина, похожий на очень грозную скандинавскую бочку — от него так и веяло ни то духом викингов, ни то старых немецких баронов, закатывающих такие пирушки в замке, что фигура бочкой — самое безобидное из возможных последствий. Финальным штрихом стала густая рыжая борода, вьющиеся рыжие волосы и роскошный, словно под старину, костюм. — Ну прямо вылитый барон, — Грецион повернулся обратно. Незнакомец мог это и услышать, но профессору было как-то без разницы, пусть слушает на здоровье. — Вот именно! И ты еще удивляешься, почему я на него отвлекся, — Аполлонский наконец-то сделал глоток кофе, обильно присыпав сахаром. — С твоего позволения, — приподнялся Грецион и, подойдя к художнику, посмотрел на набросок, увидев там ровно то, что ожидал. Конечно, Федор Семеныч переиначил все на свой любимый лад — фэнтезийно-средневковый, а потому на листе в рогатом шлеме восседал уже самый настоящий барон, Эрик Рыжий нового кроя, пускай и нарисованный. — Могу построить ему замок из салфеток, — предложил Грецион, садясь на место. — Будет очень мило с твоей стороны, — художник наконец-то отложил блокнот и принялся за тортик, тоже посыпав сверху сахаром. — Как вернемся, заставлю студентов рисовать вариации на темы немецких баронов, пусть помучаются. А вообще, такие колоритные товарищи просто так в кафешках не встречаются, помяни мое слово. — Обязательно помяну, — хмыкнул Грецион. — Обязательно. А со студентами ты слишком жесток. — Кто бы говорил, знаю я твои чудачества… Ну-ка покажите мне на карту Атлантиду, или что-то в этом духе! — Почему ты так любишь спорить и колоть на пустом месте? — Дурная наследственность! Дядьки, тетьки, и все вот это вот. — Представить не могу, что было бы, если бы у меня был такой же скверный характер. Аполлонский махнул рукой и глянул на часы. — Ну сколько ж можно задерживать этот рейс… — Терпение, мой дорогой Феб, терпение. — Иногда я хочу, чтобы ты был нытиком, — надулся художник. — Где-нибудь, но не здесь. Профессор чувствовал, что обязательно должен покинуть аэропорт и улететь на острова-Комодо — этот интуитивный локомотив, необъяснимый, но слишком броский, чтобы его игнорировать, тянул профессора вперед. К тому же, Грецион доверял своей интуиции больше, чем логике. Когда на регистрации они спросили, почему рейс задержали, к тому моменту, уже на два часа — никто не смог ответить ничего внятного, получались только нечеткие «приносим извинения», «так вышло», «какие-то проблемы». А ведь погода была летной, самолет, со слов персонала, исправным, а бастующий пилотов и стюарде рядом не наблюдалось. Тогда на регистрации Грецион сказал: — Видимо, так нужно было. И оказался абсолютно прав — некоторые решения происходят лишь потому, что нечто странное и неправильное случается в слега ином пласте бытия. Слова Федора Семеныча профессор, кстати, все же помянул, как только они с рыжим псевдо-бароном оказались в очереди на один рейс. Собственно, на этом поминания и закончились — в самолете господин оказался в другом конце салона и мирно проспал там всю дорогу. Храп слышал весь салон, но поделать никто ничего не мог, боясь получить топором викингов прямиком по макушке.
* * *
Гигантские листья папоротников наслаивались друг на друга, соприкасались с выпирающими высоко над землей корнями исполинов-деревьев и собирались в один зеленый калейдоскоп, в непроходимые джунгли, где терялся даже свет — оттого и казалось, что освещение здесь весьма странное. Свет не заливал эту зелень, как обычно бывает — скорее он был разбросан вокруг мелкой крошкой, соединявшейся в одну матовую иллюминацию. Но так это выглядело для его преследователей, для людей. А для бегущего со всех четырех лап существа картинка преломлялась фантастическим образом — человеческий мозг воспринял бы такое как абракадабру. Существо бежало так быстро, как могло, уносясь от преследователей. Им двигал… нет, не страх, страх — это слишком человеческое чувство. Это было что-то намного глубже и первобытней, что-то, чего внутри человека не отыскать, ощущение, не поддающееся объяснению. Но если уж и переводить на людской лад, то нечто сродни тому, что чувствует еретик на уже вовсю пылающем костре, или терзаемая пираньями жертва — смесь безысходности, глубинного страха и некоего безразличия, ведь итог и так ясен. Но зверь все еще бежал, пытаясь найти хоть какую-то лазейку в этих давящих джунглях. И ему все-таки удалось. Существо ощутило щекочущее покалывание, ползущее от рога по всему телу. Потом нахлынула волна чего-то столь знакомого, чего-то столь родного, что зверь вполне мог назвать домом, если бы в его лексиконе были хоть какие-то слова. Существо рвануло вперед, просто поддавшись этому сладкому сиропу из ощущений. А потом зверь провалился — не буквально, конечно: он не упал в яму и не сорвался с холма, а провалился… правильнее будет сказать, между реальностей. Провалился в мир, возможно, не столь идеальный, в мир без Духовного Пути, но в мир, веявший чем-то таким трогательно-родным, как первый теплый весенний ветерок после затяжной и холодной зимы. И оттиски, нагрузка на которые внезапно оказалось двухкратной, с хрустом преломились — на мгновение, которого было вполне достаточно.* * *
Драконы-комодо — удивительные животные. И вовсе не из-за того, что жить они могут по сто лет, и даже не потому, что они из прочих родственников ближе всего к погибшим динозаврам и фантастическим драконам средневековых легенд — хотя, это большой такой плюс в карму этих пресмыкающихся. Прежде всего ящеры невероятны тем — сей факт будоражит ученые умы, как камень осиное гнездо, — что растут всю жизнь. Понемногу, по сантиметру в год, но все же становятся больше и больше, не останавливаясь — в отличие от других, с точки зрения природы, видимо, примитивных форм жизни, которых она такой сверхспособностью обделила. Рано или поздно все живые существа перестают расти, а вот комодо — отнюдь. Если взять в расчет еще их столетний возраст, получатся действительно новоявленные динозавры, или хотя бы динозаврики. Все натурально, экологично, без использования каких-то там застывших в янтаре комаров с ДНК рептилий. А потому эти огромные ящеры, очень, надо сказать, довольные жизнью — еще бы, такой подарок она им отвалила, — лежат на песке, греются, лениво переворачиваются с огромного боку на не менее огромный бок. И продолжают расти даже в таком состоянии абсолютного блаженства — вот ведь чудеса. Но сегодняшний день ознаменовался уменьшением размера всей популяции на острове Комодо, притом — дважды. Сначала в воздухе что-то словно хрустнуло, будто небесную гладь разломили напополам — ящеры нервно дернули глазами, почувствовав эту аномалию. Люди, конечно же, ничего не заметили — не по глупости своей, хотя ее у них всегда тоже хоть отбавляй настолько, что, если вдруг появится раса, которой внезапно приспичит закупать глупость галлонами, люди станут главными ее поставщиками. Ну так вот, не заметили этого надлома живущие на острове люди и приехавшие сюда туристы совсем по иной причине — это ощущение пронеслось на уровне, человеком не воспринимаемым. Как свисток для собак — дуешь-дуешь, сам ничего не слышишь, а животное просит побыстрее заткнуться и прекратить это издевательство. Драконы-комодо, как уже было сказано, ощутили это стрелой пущенное ощущение — и перепугались так, что на миллиметр точно уменьшились в размерах. Но это ладно, ерунда. Второй раз за день все ящеры уменьшились уж точно не меньше, чем на сантиметр, испугавшись так, как никогда за свои долголетние жизни до этого — ящерицы просто услышали довольные возгласы Психовского, ступившего на землю острова, как стихийное бедствие. Аполлонский восклицал и радовался еще пуще — но только умел делать это тихо, выливая эмоции карандашом на бумагу. — Да ты посмотри на этих красавцев! — вскрикнул Грецион, топчась босиком в мокром прибрежном песку — крабы профессора, видимо, тоже обходили, боясь цапнуть за палец. — Они же восхитительны! — Я думал, что так радоваться буду я, — Федор Семеныч сидел на песке чуть вдали от берега, орудуя карандашом. — А громче всех, как обычно, ты. Водолеи… — И снова ты за свое, — фыркнул Психовский, зашагав к художнику. — Я бы обрадовался сильнее только если бы ты привел меня на берега Атлантиды. — Утопил, то есть? — Дурацкая шутка, — честно признался профессор, заглядывая в блокнот. Там уже прорисовывалась линия островных джунглей, просто для украшения добавленная на лист. Но в центре, пока в общих чертах, появилась рептилия — живой экземпляр лежал неподалёку. Вообще, драконы-комодо встречали всех приезжающих на остров уже на берегу — и правильно делали, это ведь их дом, их территория, они тут полноправные, вечнорастущие хозяева. Правда, с приездом на остров Грециона, ящеры стали сомневаться, что эта земля все еще принадлежит только им, и уже подумывали сдать остров профессору без боя, от греха. — Дурацкое и пошлое желание, Атлантида, пф, — махнул свободной рукой Аполлонский. — С каких пор ты стал таким банальным? Я думал мелкие островные цивилизации заинтересуют тебя больше — об остальном ты и так все знаешь. Даже о том, о чем другие не имеют ни малейшего понятия. Грецион машинально кивнул. Он, в меру профессии и увлечения, действительно понимал в сгинувших цивилизациях много больше остальных, и красок его знаниям предавали теории, которые в серьезном и обязательно скучно-сером научном сообществе считались антинаучными. Такой подход, Психовский абсолютно не понимал — с чего вообще принято считать, что той же Атлантиды действительно не было, богов Ацтеков не существовало, а Египтяне не умели пользоваться пестицидами и чем-то радиоактивным даже в примитивных целях? Профессор считал, что вселенная — штука очень хитрая, любящая всякие фокусы, и она специально подсовывает людям ящик с двойным дном, о котором они редко догадываются, ведь им сначала нужно, как слепым, ощупать весь ящик, обнюхать его, понять странные письмена на нем — а до потаенного дна руки не доходят. Ну а Грецион Психовский больше всего любил эти скрытые донышки, по логике вселенной — весьма очевидные, а по человеческой — абсурдные. Профессор хотел сказать что-то, но мысль покинула его, понеслась на просторы обдуваемого горячим ветром и морской свежестью острова и растворилась где-то среди зеленых ветвей, став единой с сознанием леса. Так прошло несколько минут — Психовскому наскучило. — И долго ты с этим драконом будешь возиться? Это первый, которого ты увидел. — Мне нужно довести его до ума, — протянул Федор Семеныч, на секунду отвлекшись от рисования и поправив соломенную шляпу — Грециона передернуло, но он промолчал, решив попозже напомнить про необходимость ритуального костра для этого головного убора. В вопросе замечаний профессор был галантен, как граф старого воспитания. — То есть, превратить в настоящего дракона? — профессор перевернул желтую бейсболку козырьком назад. — Ты абсолютно прав, — самодовольно протянул Аполлонский. — Ладно, — пожал Грецион плечами и положил руки в карманы розовых шорт — они уже успели переодеться, не в штанах же по пляжу ходить. Вот по ночной пустыне — другое дело… Профессор Психовский зашагал по мокрому песку, но все же захватил красные кроссовки, мирно лежавшие около сидящего художника, и нацепил их по дороге — если крабы в песке его пощадили, не значит, что так сделают все другие твари. — Ну и куда ты? — спросил Федор Семеныч, когда Грецион отошел достаточно далеко. Голос художника звучал отстраненно, словно из своей компактной вселенной — наверняка, полной рыцарей, драконов и волшебников. — Гулять, — признался Психовский, не останавливаясь. — По незнакомому дикому острову, полному столетних ящериц? — Ну да, тем паче, — профессор задумался, добавив: — Почему-то очень хочется — сам не пойму, почему. — И почему-то, я не удивлен, — Аполлонский вернулся к работе. — Типичный Грецион Психовский, просто наитиипичнейший.* * *
Существо опешило, оказавшись совсем в других джунглях — старых, очень старых, но не настолько древних как те, где оно только что бежало. Местная флора казалось такой чужой, незнакомой, а фауна — тем более, но все равно… зверь ощущал какое-то родство с этим местом и с его обитателями, будто бы оно и было первоисточником всего, отправной точкой для этого существа, колыбелью его жизни. И неуловимое родство ощущалась с другой, как казалось, фигурой — одновременно и лишней, и необходимой в этих джунглях. Зверь, недолго думая, ринулся со всех ног. Мир казался непривычным, перевернутым, отраженным в кривом зеркале, но все это зверю было не столь важно. Главное — убежать от преследователей, не дать им поймать себя, не дать… Существо замедлилось. Преследователей оно больше не ощущало, их и след простыл — в буквальном смысле, будто они остались там, по ту сторону зеркала, а зверь совершил невероятный прыжок и… очутился тут. Только вот где — тут? Впрочем, это тоже было не столь важно. Еще поди пойми, что хуже — преследователи или абсолютно чужая и незнакомая земля. В обоих случаях, делать можно только одно — бежать. К тому же, зверь ощущал, что принес с собой на хвосте еще что-то — и не понимал, друг это, или враг, тянуться к нему, или спешить от него. Существо, переваливаясь на четырех лапах, вновь побежало.* * *
Профессор Грецион Психовский чувствовал себя как на обычной весенней прогулке по знакомому двору, где ориентируешься уже автоматически и знаешь, что в правой подворотне тебя поджидает местная шпана, а левая выведет к прекрасной пекарне, где продают такой багет, что за него и душу заложить не жалко — но пока есть деньги, лучше платить ими. С такой же легкостью профессор — что ж с него взять — забрел в один из немногочисленных густых лесов острова, по дороге встретив уже с десяток ящеров разной степени активности, которые смотрели на него как-то испугано — вот до чего докатились потомки динозавров, увы и ах. Грецион успел наснимать кучу фото на смартфон, даже сделал селфи с одни из дракончиков-комодо — получилось очень даже ничего. Но профессору не хватало… какой-то древности, что ли, а древность всегда несла элемент загадки. Самые большие ящеры на планете — это, конечно, просто прекрасно, восторга полные (розовые) штаны, но шарма абсолютно никакого. Если вы, конечно, не Федор Семеныч Аполлонский, готовый часами преображать ничего не подозревающих драконов в крылатых чудовищ всех форм, размеров и цветов. Короче, драконов в драконов — такая себе трансформация. Утопая в таких противоречивых мыслях, Грецион забрел как-то совсем глубоко — не самое хорошее решение. А древности все не было и не было видно. Профессор огляделся. Вокруг — тишина и спокойствие, как в детском садике, чирикают птички, никаких гигантских насекомых, лес не такой уж непроходимый, агрессивных ящеров поблизости тоже нет. В общем, ничего интересного — с таким же успехом можно сидеть во дворе английского поместья и потягивать чаек, точно зная, что следующая минута будет как две капли воды идентична предыдущей. Но Грецион поспешил с выводами. Он хотел уже было развернуться и уйти посмотреть, что там вышло у Аполлонского, но в этом оттиске Психовский действовал как-то медленно и нерасторопно, а потому заметил на земле абсолютно человеческие, еле-заметные следы. Грецион нагнулся, чтобы изучить их — он успел только подметить их легкость и изящество, а потом резко поднял голову, заметив движение в глубине леса. Вот теперь внутри профессора пожаром загорелся интерес. Грецион рванул глубже в смыкающиеся деревья. Следы попадались все чаще. Вскоре, размытое движение повторилось — на этот раз Психовский различил силуэт существа, сам себе по началу не поверив. Сперва метающийся призрачными бросками силуэт напоминал просто дракона-комодо, а они умеют не только лежать, но и бегать, это профессор знал, ничего удивительного в этом не было. Но Психовский разглядел нечто особенное в мотающемся звере, нечто, напоминающее Грециону древнее существо, скорее даже мифологическую тварь, сошедшую с фресок… и эта метающаяся тень абсолютно точно могла похвастаться рогом. До Психовского дошло, что это за зверь такой, и внутри запели ангелочки — в случае профессора, скорее заорали в разнобой, как сирена. В этом оттиске реальности — одном из многих — профессор незамедлительно кинулся вперед, не обращая внимания на вполне человеческие следы, да и вообще ни на что, кроме прорисовавшегося в голове изображения зверя. Грецион наступил на что-то и уже успел проклясть пресловутые корни, которые здесь так и норовили поставить подножку, чтобы листы высоких деревьев дружно захихикали. Но это был отнюдь не корень. Психовский, сам того не заметив, в этом оттиске наступил на хвост отдыхающего в траве дракона-комодо. Тот, хоть и уменьшился давеча от возгласов профессора, разозлился — еще бы, кому такое понравится. Рептилия решила действовать — не перевелись еще на земле комодской смелые потомки динозавров. Профессор даже ничего не успел осознать, а огромная ящерица с молниеносной для себя скоростью и бешеной силой прыгнула на Грециона, сжав мускулистые челюсти на его шее. В глазах у того потемнело, кислород будто бы перекрыли, а мир все отдался и отдалялся… Перед тем, как провалиться в никуда, профессор увидел ту тварь с тысячи фресок — он так и не понял, напала ли на него она, или просто наблюдала за всем издалека, но в память врезались ее глубокие глаза без дна, завораживающие, хватающие и забирающие. И Грецион Психовский умер.Рыбы. Глава 3 Причуды старого китайца
— Кажется, это где-то уже было, — пробубнил профессор Грецион Психовский, замедлив шаг и остановившись. В этом оттиске под ногами хрустнула обычная ветка. Голова потяжелела от до тошноты противного чувства дежавю, которое имело свойство падать как снежный ком на голову, утяжеленный свинцовым ядром — профессор и в целом чувствовал себя как-то не очень, а тут еще и эта непонятная гадость решила: гулять так гулять. Грецион помотал головой в поисках скользящей тени, но ее уже и след простыл — вот и думай, то ли умом тронулся, все-таки возраст уже, пора и в сумасшедший дом, то ли просто поддался мимолетной игре света и тени, они — те еще шутники. Про следы на земле профессор словно и забыл. Постояв еще немного, не заметив более ничего интересного и избавившись от колючего, как стальная стружка, осадка после дежавю, Психовский развернулся и поспешил прочь из леса, слегка расстроившись — можно было забрести еще глубже, но профессору было откровенно лень. Вот тебе и остров Комодо — трава, драконы и какие-то леса без намека на интересности и древние постройки. Но если бы то, что так наивно мелькало вдалеке, оказалось реальным, если бы он увидел это — вот тогда дела приняли бы интересный оборот. Но, как там стали говорить в народе? Не сфотографировал — не было. А раз уж не увидел — тем более.…месяц Ячменьв небе Рыбытока равнины наполняются,на нивах широких серпы не ленятсямесяц радости сердца Эллилямесяц Эа…Из «Астролябии В»
Аполлонский наконец-то переместился в пространстве, но не слишком сильно — если бы не следы на мокром песке, никто бы и не заметил этого передвижения. От одного ящера художник перекинулся к другому, лежащему неподалеку — видимо, Федор Семеныч собрался перерисовать каждую особь на острове, чтобы уж точно удовлетворить художественные потребности. Карандаш выводил каике-то безумные острые линии, которые неведомым образом собирались в рисунок — всегда так только кажется, что все это ерунда, легкотня: что такого, скажите на милость, в этих рисунках? Пара линий тут, пара там, и все они до ужаса простые. А когда садишься и принимаешься эти простые линии чертить самостоятельно, собираются они максимум в «палка-палка-огуречик», при этом человечка в итоге не выходит — скорее какой-то монстр из ночных кошмаров, таких жутких, какие не снятся даже потусторонним сущностям. В блокноте же Федора Семеныча вырисовывался новый дракон, похожий на лежавшего ящера (идеальная модель!), но вот только раза в три больше, с крыльями, зубищами и потоком пламени, вырывающимся из глотки. На листе уже начала появляться и какая-то башенка, ставшая жертвой нарисованной струи огня. За все это время Аполлонский ни разу не закурил — непонятно, как, прямо-таки настоящая фантастика. Видимо, держался, не хотел портить драконам свежий воздух, а то приучатся нюхать дым и будут потом таскать у туристов сигареты. Ну и от работы художнику тоже отвлекаться не хотелось. — Если бы они и правда плевались огнем, было бы куда интереснее, — Психовский заглянул через плечо Аполлонского. Рука дернулась — следом за ней карандаш, а следом и линию, словно опьяневшую, занесло куда-то не туда. Аполлонский надулся и полез за ластиком. — Ты бы хоть предупреждал, — буркнул художник. — Как погулял? — Да никак, твои драконы — скука смертная. — Ты сам недавно восхищался ими… Эх, Рыбы-Рыбы, двойственные натуры. — Это не отменяет того факта, что смотреть на них и только на них столько времени — скукотища. И Рыбы тут не при чем — гороскопы, знаешь ли, работают слегка не так. — Ну это мы с тобой потом еще обсудим, не боись. Тут, кстати, говорят, есть белки летяги, или кто-то там еще летающий. Тебе стоило зайти поглубже в леса…
— Все одно и тоже, да к тому же, мне очень лень. — вздохнул Психовский. — Правда, я тут нашел… Федор Семеныч даже остановился, поднял голову и поправил шляпу. — Что же? Неужели древний обелиск или статую забытого всеми бога? Психовский хотел рассказать об увиденным им существе, но как-то засомневался, заметался из стороны в сторону — в этом оттиске с ним такое происходило от случая с случаю, когда надо было сделать или решить что-то действительно важное… но вопрос был в другом: а видел ли он того зверя вообще? В этом профессор тоже сомневался, а потому, подумав — этот процесс в его голове всегда пролетал на скорости японского поезда, — решил промолчать. — Да так, — махнул рукой Психовский. — Среброкистый Феб, с ясновидением у вас дела плохи. — Не отрицаю, — вернулся Федор Семеныч к работе, — я же не преподаватель на кафедре медиумов в Хогвартсе, или где там еще. — Лучше покажи, что у тебя получилось. Аполлонский недовольно вздохнул, лукаво при этом улыбнувшись — удивлять Грециона рисунками было здорово, а вот резко прекращать рисование второй раз за такой короткий отрезок времени — удовольствие так себе. Профессор взял в руки блокнот и разглядел огромного дракона, восседающего на каком-то поваленном, гниющем дереве. — Не хватает болота и орды орков. Зеленых, а не как у Джексона[5]. — Все будет, — потянулся художник за блокнотом, но Психовский не отдал его. — Ты же знаешь, что я больше люблю графпланшеты. Отцифрую потом драконов, будут заготовки на любой рисунок. Нет, студентам точно устрою конкурс на лучшего дракона — пусть веселятся! — Или страдают, — продолжал рассматривать рисунок профессор. — Те, кто страдают от такого прекрасного задания — скучные дураки, и поделом им. С такими преподавателями, как Грецион и Федор Семеныч, легко вместо диплома написать завещание. — Давай уже блокнот обратно, — снова протянул руку Аполлонский. — А то мы ведь надолго тут застрянем, а нам еще в турне отправляться, корабль ждать не будет. — Как будто мы тут и так не на долго, — профессор вернул блокнот. — Если ты хочешь узнать, что находится за границей слова «долго», то эта будет прекрасная возможность… В любой нормальной ситуации, да и в любом другом оттиске реальности, Грецион бы ответил что-нибудь: сострил, пошутил, поворчал, да сказал хотя бы что-то, но тут профессор засомневался в необходимости замечания и промолчал, осмотрев словно мазками кисти прорисовывающийся вдалеке лес. Мысли Психовского были заняты мифологической тварью, которую он почти наверняка увидел… или все же нет? Духовный маятник профессора сумасшедше мотался туда-сюда, не в состоянии остановиться, хотя в других вариантах здесь и сейчас он бы лишь легонько пошатывался. Если бы профессор рассказал любому нормальному, рационально мыслящему человеку о том, что за существо металось в лесах, этот, надо повторить, нормальный, рационально мыслящий человек сказал бы: «Да быть такого не может!», «бред сивой кобылы, сказки» или любую другу вариацию на эту тему. Загвоздка в том, что Грецион Психовский считал рациональное мышление в таких вопросах дико скучным и бесполезным. И не сказать, что был неправ.
Туристический лайнер с гордым названием «Королева морей» (спасибо и на том, что не «Титаник») бороздил водные просторы уже долгие годы. Гостям предлагали уютные каюты, отличный сервис и, самое главное, никаких спонтанных происшествий и айсбергов на пути. Что удивительно, море даже не бунтовало против броского названия лайнера — обычно природе не нравятся такие выпендрежи человека, и она их с удовольствием съедает, доминируя, властвуя и унижая. Но в случае с «Королевой морей» все как-то обходилось — видимо, нравилось морям и океанам эта королевишна. В общем, когда корабль — включим в это слово и само судно, и команду, и капитана, и все-всех, кто составляет сущность любой морской посудины — причалил к берегам Комодо, то был спокоен, как волк на охоте. Да и беспокоиться, объективно, было не из-за чего — тур по островам Индийского Океана на борту «Королевы морей» проходил уже не первый раз, перед отчаливанием из порта судно проверили, спонтанных препятствий на пути не наблюдалась, Летучий Голландец не докучал, а пираты эти места как-то не особо жаловали. Вот спокойная, расслабленная «Королева морей» и причалила к берегам острова Комодо с легкой душой, спустив трап. Лайнер, конечно, еще не догадывался, что на его борт взойдет профессор Психовский, а это ничем хорошим — ну ладно, ничем нормальным — точно не кончится. И «Королева морей», легонько маячащая на кристальных волнах, даже не представляла, что ее ждет впереди.
Закончив с рисованием драконов и обойдя, как показалось профессору, все, что только можно было, Аполлонский и Психовский взошли на борт. Поднимаясь по трапу, профессор специально остановился, чтобы еще раз оглядеть раскинувшийся остров — Грецион не ждал увидеть ничего интересного или нового, но интересное, не заботясь об ожиданиях Психовского, все же случилось. Фантастическая тень снова мелькнула — как показалось профессору, очень близко. — Все хорошо? — уточнил Аполлонский, положив руку другу на плечо. — Лучше не бывало, просто показалось. После твоих ящериц и не такое с человеком случится. Когда «Королева морей» отчалила, а остров стал отдаляться, превращаясь в невнятное, смазанное и бесформенное пятно посреди морской глади, Грецион Психовский стоявший на палубе и полной грудью глотавший теплый морской воздух, все же сказал, откинув сомнения: — Мой дорогой Феб… — Да, — наигранно нахмурившись, отозвался стоящий рядом художник. — Помнишь я говорил, что мне что-то показалось? — Ты же решил, что тебе ничего в итоге не показалось. — Мне, — профессор отвлекся на почесывание густой желтоватой бороды. — Мне показалось, что я видел Вавилонского Дракона. И если бы в этот момент кто-то из них посмотрел на удаляющийся песчаный берег, то заметил очень легкие и элегантные следы, которые мгновение спустя смыла морская волна, не оставив никаких улик.
* * *
Существу снова показалось, что оно в клетке, правда на этот раз — добровольно. Вокруг было холодно, но исключительно из-за металла — зверь воспринимал его как дополнительные градусы, которые стремительно давили на столбик термометра, опуская все ниже и ниже. Металл внизу, справа, слева, сверху — почти как клетка, но с ощущением скорой свободы, с ощущением выхода. Зверь добровольно метнулся сюда, почуяв в этом непонятном для него месте спасение. На секунду в этом неуютном, но совершенно точно безопасном пространстве, существу почудилось какое-то движение. А потом зверь осознал — по-своему, — что действительно движется, но только не сам, ведь лапы его стоят на местах. Он двигался вместе с этим местом, не теряя связь с чем-то родным, находившимся еще ближе. Существо улеглось, успокоилось и уснуло, а потому не заметило, как еще одна тень присутствия заклубилась где-то рядом. И это, кстати, случилось во всех оттисках разом.* * *
Над плещущимся океаном солнце мерещилось апогеем всех отражений, центром лабиринта кривых зеркал — мерцающий гранатовый шар постепенно утопал за линией горизонта, смешиваясь со своим же отражением на воде, окрашивая волны в цвет малинового сиропа и разбивая свет на осколки, утопающие где-то глубоко на дне. Аполлонский, а за ним и Психовский, ахнули бы, увидь они такое прямо сейчас. Но в баре на лайнере «Королевы морей» этого великолепия видно не было, поэтому гости дивились только незатейливым интерьером в неоново-морской тематике с одной обязательной святящейся русалкой на стене. И не то чтобы друзья были алкоголиками, или игнорировали природную красоту — просто завершение дня в баре оба посчитали прекрасным вариантом, хоть Грецион и посомневался в таком решении, но Аполлонский этого оттиска был локомотивом их дружеских отношений. Вот и сидели, утонув в мягких диванах, потягивая кто что: Психовский — коктейль, Аполлонский — вроде как, если смотреть со стороны, виски. — … я дивлюсь тебе, — продолжил Федор Семеныч беседу, начало которой безвозвратно потеряно. Говорить приходилось громко, чтобы перекричать назойливую техно-музыку. — Вот хорошо, что ты такие Рыбы, которые рвут и мечут все вокруг, несясь к цели, пусть и со своим вечным «ой, а я сомневаюсь!». А что было бы, будь ты ровно противоположным видом Рыб — и даже не думай сейчас шутить про Немо с Дори. Короче теми Рыбами, которые бесконечно ленятся и ничего делать не хотят. Посмотрел бы я на такого тебя. Нужно сделать важное замечание, потому что от постоянных астрологических замечаний художника может треснуть голова — Федор Семеныч не был безумным фанатиком-сектантом, который верил только в звезды, читал по тридцать гороскопов на дню и каждое утро начинал не с похода в булочную, а с похода к гадалке в тюрбане. Просто Аполлонский, исходя из своего жизненного опыта и всяких причуд, считал, что астрология — вещь не такая уж глупая и бесполезная, и зачастую она действительно работает — конечно, это не значило верить первому попавшемуся на глаза гороскопу, где и тэт-а-тэт с Калипсо могли пообещать. Но если Грецион Психовский верил в силу созвездий лишь потому, что в это верили Шумеры, а Шумеры — это такой гарант качества, что попробуй с ними поспорь, то Федор Семеныч взирал на проблему более приземленно и с меньшей магическо-мистической коннотацией. — Даже я не до конца понимаю, какие я Рыбы, а ты вон все знаешь, — улыбнулся Грецион, — Если бы я был такой ленивой Рыбой, то не поехал бы с тобой ни к драконам, ни по островам, а просто бы валялся и занимался ерундой — хотя, сейчас такое кажется сущим наказанием. И все же очень заманчивым, с какой-то стороны. Вообще, знал бы ты, откуда Рыбы пошли и что значат… Это очень интересно и весело, но не веселее Козерога, конечно[6]. Аполлонский махнул рукой — мол, расскажешь другой раз — и допил наполовину полный (именно так!) стакан. Психовский тоже сделал глоток коктейля, оставаясь в трезвом уме, хотя нотки алкоголя уже начинали покалывать в голове. — Я думаю, — откинулся художник на спинку дивана, — что сейчас мы дошли то того состояния, когда можно поговорить о твоем Вавилонском Драконе. Просто если ты сошел с ума, отправлю тебя в психушку прямо сейчас, а то начнешь еще ночью ходить сюда и пить с призраками, а не со мной. — Я готов говорить о нем в любом состоянии, — для уверенности Грецион сделал еще глоток, потом неуверенно помешал остатки на дне стакана, решаясь начать разговор. — Если он не мерещится мне наяву. Ты знаешь, что я не вижу ничего странного в его существовании как таковом — а почему бы и нет? Так даже интереснее. Но меня пугает, что он мерещится мне, и я не могу понять, настоящий он или нет. — Если бы ты выступал перед роем ученых, тебе бы уже давно вызвали скорую. — Предварительно освистав, — добавил Психовский. — Я был бы очень рад увидеть и погладить такого дракона, но если он настоящий, то как-то уж резко объявился. А еще, в последнее время мня как-то дурновато, я не в своей тарелке, и что-то слишком часто меня одолевает дежавю. — О, де-жа-вю, де-жа-вю, — по-французски просмаковал Аполлонский. — Феномен, суть которого науке до конца не известна и, чую я, известна не будет, пока мы лезем в космос, хотя столько всего непонятного прямо под носом. Но, друг мой, де-жа-вю отлично лечится! Чем мы сейчас и занимаемся. Аполлонский подлил себе виски. Друзья чокнулись. — М, — пришла мысль Федору Семенычу, пока он пил. — Как там, кстати, звали твоего Вавилонского Дракона? Ну или зовут. У меня вылетает постоянно… — Сирруш, — должен был сказать Грецион Психовский, но в этом оттиске его опередили. Профессор и художник повернулись на голос. Там стоял вытянутый и тонкий, как гладильная доска, китаец в строгом черном костюме — после общения с иностранными студентами, Грецион и Федор Семеныч, люди уже опытные, могли сразу отличить китайца от корейца и японца, что у простых смертных получается редко, и часто незнание это рождает кучу конфликтов. Говорил китаец по-английски — Психовский с Аполлонским китайского как раз и не знали. — Я предпочитаю произносить с одной «р», так немного проще, — недоверчиво посмотрел на подошедшего профессор. — Прошу прощения, — извинился китаец, — что так спонтанно врываюсь в вашу беседу, это очень невежливо, но достопочтимый господин Сунлинь Ван попросил меня перевести ему вашу оживленную беседу, а когда услышал от меня о Вавилонском Драконе, очень заинтересовался вашим разговором, пожелав присоединиться, если вы позволите. Этот массив текста китаец-переводчик отчеканил почище, чем заучивший мантру брахман. — А господин Сунлинь не хотел бы… — начал было художник, но остановился. Из-за спины тощего китайца, словно выйдя из своего карманного измерения, появился еще один — только на этот раз низенький и очень старенький, лысенький, одетый в упрощенный вариант национального костюма. Аполлонский, как художник, ждал еще традиционной бородки а-ля Конфуций, но разочаровался — бородка-то была, но скорее козлиная, чем благородная конфуцианская. — Ах, теперь я понял, — закончил Федор Семеныч. Сунлинь Ван пробормотал что-то на китайском — переводчик согнулся, пружиной выпрямился и проговорил: — Господин Ван просит прощения за то, что не показался сразу, и предлагает угостить господ напитками за такое ужасное с его стороны поведение. — Бросьте, — махнул рукой Грецион. — Давайте сначала мы вас угостим. Ну присаживайтесь, чего уж там, поговорим о Вавилонском Драконе Сируше, раз хотите. Почему-то здесь профессор даже не сомневался — просто чувствовал, что поговорить надо. Дождавшись перевода и внимательно все выслушав, Сунлинь Ван кивнул, улыбнулся, поклонился и сел на диван напротив профессора, а переводчик — рядом с Психовским, для удобства. — И что будете пить? — уточнил уже Аполлонский, глотнув виски. — Достопочтимый господин Сунлинь Ван говорит, что предпочел бы саке, потому что давний друг подсадил его на этот напиток, — практически синхронно перевел тощий в строгом пиджачке. — Отлично, — хлопнул Психовский в ладоши по привычке, чем напугал переводчика — старик же лишь улыбнулся. Дождавшись напитков, все четверо вернулись к разговору, попутно представившись. — Ну и о чем же вы хотите поговорить? — первым взял право голоса Грецион. Старый китаец кивнул молодому — тот полез в карман пиджака, как-то странно двигаясь, словно суставы его не функционировали, и каждый раз рукам приходилось складываться и раскладываться, как кусочку оригами или, для более точно сравнения — раскладушке. Совершив еще одно такое ломаное движение, переводчик вытянул руку, передав Психовскому визитку, украшенную двумя бронзовыми — только не Вавилонскими — драконами. С обратной стороны, на китайском и английском значились контакты, имя старика и род его деятельности. Грецион сначала даже внимания не обратил на написанное, но потом резко вернулся к визитке, словно вспомнив о включенном утюге. Профессор прочитал вслух: — Достопочтимый господин Сунлинь Ван, алхимик, член Древнекитайского Общества Алхимиков и Мудрецов. Профессор глянул на Аполлонского — тот выглядел не менее удивленным, но отнюдь не напуганным. В конце концов, алхимики, пусть даже китайские, пусть даже в двадцать первом веке, пусть даже подслушивающие ваш разговор — это же не маньяки. — Я почему-то думал, что в Китае алхимией уже никто не занимается, — пожал плечами Федор Семеныч. — Отнюдь нет, хоть этот вид деятельности не так сильно распространен в Китае, он все же высоко ценится, как и народная медицина. И Древнекитайское Общество Алхимиков и Мудрецов — самое крупное из существующих. — И что же китайская алхимия хочет узнать? Не уж то, все еще в поисках Философского Камня? — Господин Ван спрашивает, верит ли профессор в существование Камня? — А почему бы и не верить, — хмыкнул Психовский, еще раз подтверждая свою позицию о возможности вообще всего. Потом профессор глянул в стакан — тот был уже просто пуст, даже не наполовину. Грецион подал знак бармену. — Но я все ставлю под сомнение, и этот вопрос тоже — так поучается вернее. Сунлинь Ван улыбнулся и кивнул. Потом заговорил. — Сначала господин Ван хотел бы рассказать вам, что общество Алхимиков и Мудрецов изучало Вавилонского Дракона и пришло к выводу, что у него есть нечто схожее с драконами-комодо — по предположению господина Вана и его коллег, Сирруш тоже имеет свойства расти всю жизнь, — на лету подхватывал переводчик. — Сируш, — поправил Грецион. — Ради всего святого. — Прошу прощения, — извинился человек-гладильная доска и продолжил. — Так вот, достопочтимый господин Сунлинь Ван говорит, что вы именно поэтому могли почувствовать присутствие Сируша. — А господин Ван верит в то, что я мог видеть настоящего Вавилонского Дракона? — уточнил профессор. Старый китайский алхимик кивнул. — Но тогда совсем нелогично выходит, — принялся рассуждать Психовский, переходя на тот тон и ту манеру, в которых он вел лекции — профессор вошел во вкус. — Если Вавилонский Дракон существовал, то я не беру в расчет, что он прожил столько лет — ладно уж, вдруг он размножался как любое нормальное существо. Но совсем нелогично, что он оказался на острове Комодо, а не в Междуречье. Или, наоборот — навряд ли шумеры притащили бы его с острова Комодо, выдумав подходящую легенду. К тому же, Геродот, вроде, говорил, что в Вавилоне действительно держали какого-то ящера… Выслушав переводчика и кивнув несколько раз, Сунлинь Ван продолжил: — Господин Ван говорит, что здесь он тоже в замешательстве, но хочет вернуться к предыдущей теме, — тощий китаец остановился, дослушал алхимика, и только потом продолжил перевод — видимо, побоялся конкретно сейчас ошибиться на ходу. — Господин Ван не просто так спросил вас о Философском Камне. Дело в том, что алхимики Общества пересмотрели взгляды своих древних коллег, и европейских — в том числе. Достопочтимый господин Сунлинь Ван с другими алхимиками пришел к выводу, что ключ в создании Философского Камня — это Вавилонский Дракон. — Я боюсь спросить, — повеселел Грецион. — Но это что, как в китайской медицине? Используя орган, отвечающий за размножение? Старый китаец, выслушав перевод, улыбнулся и тихонько похихикал, отрицательно помотав головой. У Психовского как камень с души упал — знал он, что алхимики любят чудить, так что решил проверить. — Я, конечно, чувствую себя абсолютно лишним в этой беседе, — заговорил наконец-то Аполлонский. — Но разве сейчас не научились дробить ни то атомы, ни то молекулы, превращая их в золото? Я понимаю, это затратно, ну и с Камнем проще, но разве… — Господин Сунлинь Ван просит прощения за то, что перебивает, но он хочет возразить. Достопочтимый господин Ван говорит, что Философский Камень открывает путь к куда большим возможностям… — Тогда уж скорее Вавилонский Дракон открывает этот путь, — профессор кивнул головой официанту, принесшему коктейль — его украсили долькой апельсина. Грецион задумчиво посмотрел на нее: есть или нет? И, чего греха таить, все же снял и отправил в рот. Но прежде, сказал, хитро косясь на Федора Семеныча: — Знаете, как представитель знака Зодиака Рыбы, притом той его части, которая не ленива и апатична… Именно в этом оттиске реальности профессор как раз закинул апельсиновую дольку в рот, и как раз в этом оттиске, в этот момент, кто-то откашлялся — так громко, что, казалось, стены заходили ходуном, внутрь ворвался суровый ветер с далеких фьордов, снаружи нагрянул шторм, а ближайший остров поразило землетрясение. Психовский поперхнулся — немудрено, — и апельсин попал не в то горло, профессор подавился, закашлялся, воздуха не хватало. Он поперхнулся безопаснейшей на свете закуской, постепенно задыхаясь — а потом мир резко рванул куда-то вниз, и последнее, что всплыло в памяти — глубина этих невероятных, космических глаз, таящих куда больше, чем просто животное. И Грецион Психовский умер.Овен. Глава 4 Тур в никогда
— Кажется, это где-то уже было, — пробубнил профессор Грецион Психовский, пока остальные отходили от внезапного титанического кашля. — Так вот, как представитель знака Зодиака Овен… Кашель повторился — на этот раз, чуть тише, словно стихийное бедствие поняло, что перепило, разошлось и слишком распустило руки. Все сидящие на диване повернули головы в сторону звука — китайцы ни капельки не удивились, увидев массивного рыжебородого человека, а вот Грецион с Федором Семенычем очень даже. — Я же тебе говорил, — шепнул другу Аполлонский, — что такие колоритные люди просто так не встречаются. — До последнего, я тебе не верил. И не важно, что он храпел на весь самолет, — ответил Психовский. — Я же упертый, как баран, сам знаешь. — Как Овен, — поправил его художник, ухмыльнувшись. Рыжебородый мужчина прочистил горло — словно камни понеслись с горных склонов в голодную бездну — и заговорил на английском, с очень сильным немецким акцентом: — Господа, желаю вам доброго вечера! Я не буду врать: понятия не имею, о чем вы говорите, но вы выглядите самой живой компанией в этом богом забытом баре. Поэтому, я бы хотел к вам присоединится. Бас у рыжего был какой-то невероятный, не от мира сего, словно говорил мужчина разом всем своим нутром, в качестве усилителя подключая огромный живот — такого голоса не выдержал бы ни один микрофон. Но при этом, говорил незнакомец весьма странно, фразы будто предназначались для средневекового выступления на рыцарском турнире, а не для бара с неоновой русалкой. Огромную бочку из старого замка вкатили сюда — и бочка очень хотела поговорить. Психовский просто пожал плечами. Видимо, незнакомец пользовался какой-то своей системой жестов, приняв, во-первых, это телодвижение за приглашение на диван и, во-вторых, посчитав Психовского вожаком неотесанной стаи за столом. Когда мужчина уселся, по дивану прошла рябь — старику-алхимику и Аполлонскому пришлось подвинуться. — Допустим, — проговорил Федор Семеныч, удивившись такому поведению гостя. — Вы представьтесь, что ли. Сегодня к нам все слетаются как мухи на мед… — А мы и не против, — поспешил добавить Психовский. Вероятность того, что рыжий вытащит из-за пазухи боевой топор, или достанет умело спрятанную за спиной секиру, все еще была высока. — О, прошу меня простить! Я — барон Зискрит Вольфанг Шпингле Брамбеус, но для вас просто — барон Брамбеус. У Аполлонского загорелись глаза. Психовский ухмыльнулся. Старый китаец остался безучастен, а молодой был слишком занят переводом, чтобы чему-то дивиться. — Ага, — воскликнул Федор Семеныч. — Так и знал, что вы самый настоящий барон! — Да? — улыбка превратила лицо Брамбеуса в головку сыра. — Мы видели вас в аэропорту, — вновь уточнил реплику художника Грецион. Профессор знал, что Аполлонский — натура творческая, оттого слегка рассеянная. И если в повседневной жизни художнику удавалось брать себя в руки и не рассыпаться в порыве невнимательности, то во времена эмоционального возбуждения Федор Семеныч забывал все на свете. — О, — в исполнении барона это было не просто «О», а «О», занимающее по мощи своей, наверное, целую страницу. — И я, черт возьми, так рад оказаться на этом лайнере! Знаете, мой рейс непонятно почему отменили, и пришлось лететь сюда, а тут подвернулся такой круиз, последние места…. — И замок у вас тоже есть? — для Аполлонского не было тем, на которые с незнакомцами говорить неприлично. — А то! — вскинул руки барон, чуть не пришибив бедного переводчика, как муху. — Многие мои родственники считают, что скромность — залог успеха, но что бы они понимали, эти педанты-идиоты! Поэтому смело скажу вам — замков у меня целых три. Ну все, Федор Семеныч вошел в раж — сначала драконы-комодо, теперь настоящие замки и бароны. — Вы просто обязаны будете мне попозировать! — чуть ли не заорал уже подвыпивший Аполлонский. — Вы что, фотограф? — Художник, — уточнил Федор Семеныч и тут же вновь собрался — видимо, вагончик на его эмоциональных американских горках на время ушел вниз. — Ох, я же совсем не представился. Федор Семеныч Аполлонский, художник, преподаватель… Вслед за ним представился и Грецион. Брамбеус кивнул, почесал рыжую бороду, больше напоминающую горящий лес, и повернулся к старому алхимику, смотря непонимающим взглядом. Господин Ван смотрел идентичным непонимающим взглядом. — Эм… — пропищал худой переводчик, рядом с бароном казавшийся совсем уж глистом. — Боюсь, это моя ошибка, я не смог перевести ваше имя для господина Сунлинь Вана. — Сун-сына кого? — удивился Брамбеус, переведя взгляд на молодого китайца. — Или я совсем подглох и вас не расслышал… Переводчик понял, что проблема двухсторонняя, и просто указал рукой на алхимика. — Я не могу перевести ваше имя, вот господин Ван и не понимает… — А! — взревел барон и расхохотался так, что страшно стало всем. — Ну, это легко исправляется! Брамбеус вновь повернулся к старому китайцу — сравнивать этих двоих визуально все равно, что персик и курагу — и проговорил, медленно, отчетливо и очень громко — к сожалению, кнопки убавления звука барона рядом нигде не значилось. — Брам-бе-ус, вы понимаете? Брам-бе-ус, — это сопровождалось активной жестикуляцией. Переводчик быстренько добавил что-то на китайском. Наконец, в глазах Сунлинь Вана появилось понимание — алхимик закивал, потом заговорил. — Господин Ван говорит, что очень рад познакомиться с настоящим бароном и с удовольствием продолжит беседу, если достопочтимый барон не посчитает ее скучной. — Любая беседа сейчас будет хороша! — забасил Брамбеус. — Нам еще долго торчать на этой посудине до первой высадки. Ну что же, раз мы познакомились, то самое время еще немного выпить — эй, официант, бармен, как вас там правильно звать? Всем любой выпивки за мой счет! Всем — значит всем в баре! И налей чего-нибудь себе, тоже за мой счет. Барон довольно улыбнулся и утоп в диване, или же диван утоп в нем — тут еще поди разберись. — Так о чем вы говорили, когда я прервал вас? — Мы говорили о Зодиака, — объяснил Аполлонский, а потом повернулся к Грециону и шепнул: — Нет, точно, абсолютный барон! — Так это же отлично! — этой фразой барона, и только ею, можно было убить пару куропаток — бам, и все. — Я как раз хотел сказать, что моя жена — Лев, хотя скорее львица, особенно по ночам, и она просто невыносима……месяц престолв небе Пегас, престол небапрестол воздвигается, престол устанавливаетсяблагое начало Ана и Эллилямесяц Нанны, первородного сына Эллиля…Из «Астролябии В»
Грецион Психовский любил выпить, но предпочитал исключительно коктейли, да и то — раз в никогда, по праздникам, или когда нужно было хоть как-то отвлечься от студентов, деканата и скучного научного сообщества. Да, выпить он любил, врать тут бесполезно. Но чтобы пить, по-настоящему, напиваясь, да еще и крепкими напитки в чистом виде — нет, конечно, такого никогда не случалось, студенческие годы в расчет не берутся, там вообще может произойти все что угодно. Но вечером на борту «Королевы морей» в этом правиле случилось исключение. Если кратко — стараниями барона Брамбеуса, Грецион напился. В оправдание профессора — напились все, только старый алхимик-китаец каким-то образом был трезв ну не как стеклышко, хорошо, а как слегка запотевшее стеклышко. То ли особенность организма, то ли напичкал себя алхимической отравой — но какая, собственно, разница. Изначально, Психовский и Аполлонский собирались посмотреть на звезды — ночью, посреди океана это было то, что нужно в завершении дня. Но Грецион понимал, что теперь ему уже не до звезд, потому что они скоро не на небе, а перед глазами начнут плясать. Затуманенный и опьяненный разум все же подсказывал телу, что надо поспать, думать уже на трезвую, свежую голову — это профессор и хотел предложить Федору Семенычу, но у того были свои планы на вечер. — Да, я с’бр’лся см’треть на зв’зды вм’сте с б’роном! — попытался сделать максимально серьезное лицо художник, слегка заваливаясь набок. — Ты пьян, как сапожник — нет, даже сильнее, — профессор находил силы говорить более-менее связно. — Ну и что! — икнул Аполлонский, размахивая соломенной шляпой. — Зв’здам это не п’мешает, да, б’рон? — Абс’лютно т’чно! — пьяным тот говорил еще громче — небосвод, похоже, затрясло. — У нас еще м’ллион сил для пр’гулок! — Ну гуляйте, гулены, — Психовский зашагал, заплетаясь, к каюте. — Передавайте звездам привет! По дороге обратно профессор заметил на мокрой, недавно отдраенной палубе очень изящные и легкие, отдающие перламутром в лунном свете человеческие следы, и подумал, что похожие где-то уже видел — но не придал особого значения мокрым отпечаткам, чего после пары, тройки и даже четверки коктейлей не привидится. Поэтому профессор добрел до каюты, разделся и спокойно, без неожиданностей, лег, да и заснул без проблем — в сон прямо тянули канатами, завязывая морские узлы. Спал Грецион Психовский умиротворенно, снилось ему… что странно, то совсем ничего, то Вавилонский Дракон — четкий, вроде бы словно живой, а вроде бы — шевелящаяся картинка с фрески, как в дешевой 2D-анимации. Не стоит звать господина Фрейда и просить его разобраться в потаенном смысле этой пантомимы — вместо этого лучше посмотреть наверх и увидеть, что пока профессор глубоко и прекрасно спал, на небе, черном-черном, загорались, гасли и мерцали звезды, где-то там, в холодной и бездонной космической пустоте, они собирались в созвездия, которые взирали сверху властным взглядом, влияя если не на судьбы и характеры людей, то просто на их настроение. А внизу свежим перламутром светились следы.
Утро загорелось над океаном, ударившись о зеркальные волны золотыми искрами. Федор Семеныч Аполлонский проснулся — да с таким ощущением, словно его только что ударили по голове не иначе, чем чугунным утюгом. Точнее, по тому, что от головы осталось — она раскалывалась и уже, похоже, развалилась на части, окончено треснув. Такому даже монстр Франкенштейна, у которого все худо-бедно сшито белыми нитками, не позавидует. Художник поднялся, попытавшись усесться на кровати — его тут же потянуло назад. Но Аполлонский смог удержать себя. Федор Семеныч посмотрел в круглое окошко каюты — там, среди бесконечной воды и лишь воды, утро только-только начинало разгораться, как минуту назад разожженный камин. Федору Семенычу свет показался слишком ярким — художник прищурился, полез за часами и, найдя их, наконец-то посмотрел на время — циферблат отчетливо показывал восемь утра. — Какая же рань, — предположительно собирался сказать Аполлонский, но вышла у него какая-то каша, которую ни один переводчик в мире разобрать не сможет. Так же, как Грецион не переносил зимние холода, Федор Семеныч не переносил ранние утра, и каждый поход на первую пару оказывался сущим мучением, а расписание, составленное так, что спросонья приходилось приезжать шесть дней подряд из пяти рабочих — божья кара, спущенная на художника в лице злобного руководства. Правда, иногда, по выходным, Аполлонский вставал рано и бегал… ну, хорошо, хорошо, по крайней мере он каждый раз собирался так делать, но не просыпался раньше двенадцати. Вот и сейчас, утопая в подушках — ему уже стало сниться, что это море — и пытаясь не обращать внимание на ядерные взрывы в голове, художник начал засыпать. Как на зло, в дверь постучали — один раз, второй, потом третий вдогонку. В голове Федора Семеныча этот звук сопоставим был с треском разрушающейся от толчков землетрясения Трои. Чтобы хоть как-то прекратить муку, художник встал. — Иду я, иду, — сказал он так громко, как только мог — то есть, чуть громче работающего на минимальной мощности радиоприемника. Аполлонский открыл дверь, одной рукой держась за голову. На пороге стоял Грецион Психовский. Художник сфокусировал взгляд и понял — что-то в друге сегодня не так, да вот только что конкретно… искать какие-то различия и подмечать детали в таком состоянии все равно, что пялиться сквозь призрака. Но через какое-то время до Аполлонского дошло — Грецион стоял в его шляпе. Художник решил убедиться, что это не иллюзия, и начал ощупывать голову. Психовский хихикнул. — Это что, моя шляпа? — промямлил Аполлонский. — Ты что, стащил мою шляпу?.. — Нет, если бы я стащил ее, то сразу бы сжег. — Прямолинейность — твой конец, будь ты не ладен. — Ты вообще помнишь, что вчера было? Вечером. — Конечно помню, я же алкоголик, а не маразматик, — Федор Семеныч сморщился. — Мы сидели, потом пришел барон, а потом… — Потом вы пошли смотреть на звезды и, я почти уверен, говорить с ними в таком состоянии. Когда я уходил, шляпа была уже на тебе, а утром нашел ее на палубе. Заметь, я мог выкинуть — но не стал. — Овен — добрая душа, — просипел художник и сморщился пуще прежнего. — Слушай, у тебя нет чего-нибудь… — О, я за этим к тебе и пришел, — ухмыльнулся Грецион, сняв соломенную шляпу. Под шляпой оказалась… маленькая бутылочка с прозрачной жидкостью. — Что может быть лучше после попойки, чем еще немного алкоголя. — Там то, что я думаю? — как бы для самого себя уточнил Аполлонский. Не дожидаясь ответа, художник выхватил протянутую бутылку, открутил пробку и начал жадно пить. Но после первых двух глотков Федор Семеныч сплюнул, закашлявшись. Грецион в голос засмеялся, размахивая шляпой. — С добрым утром! Давай-ка собирайся, одевайся, умойся, если хочешь, прямо из бутылки. А то опоздаем на завтрак! — Это же вода! — практически пришел в себя художник. — Чтоб тебя, Грецион, это же просто вода! Психовский все не унимался, смеясь. Аполлонский в шутку ринулся за ним, размахивая бутылкой — так они выбежали на палубу, где солнышко, только недавно возродившееся, уже пригревало. Только потом Федор Семеныч вспомнил, что выбежал как был — в одних трусах. Вскоре — как только художник оделся и забрал обратно шляпу — друзья спустились в тот же бар, где сидели вечером, на завтрак. В нос ударило душистой смесью, сплетением из запахов, которые медленно расплетались, расчленяясь на отдельные: пахло печеной картошкой, яичницей, беконом, жареным мясом, грибами, ароматным чаем и бодрящим кофе. Сразу после носа в бой вступали глаза — первым делом что Психовский, что Аполлонский заметили барона Брамбеуса, сидящего за столиком и с удовольствием уплетавшего здоровенный кусок мяса. Барон в принципе привлекал внимание к себе раньше всех в любом месте — тяжело было не увидеть охваченную пожаром гору среди низкорослых кустиков. Барон и вправду напоминал скалу, которая по-тихому нарушала строгую диету из вулканических пород, позволяя себе вкусненького — вроде бы и сохраняла грозный, мощный вид, но в некоторых местах сдала позиции, не во вред общей внешности. Брамбеус тоже заметил друзей, отвлекся от еды — лишь на мгновение — и поднял руку вверх, приглашая к столу. — Доброе утро, — Грецион, уже с тарелкой глазуньи, уселся за стол. — Доброе утро, — подключился Аполлонский, налив самую большую чашку капучино с тремя ложками сахара, а еще прихватив кусочек чизкейка — диабетики всего мира перекрестились. Федор Семеныч в принципе был тем еще сладкоежкой, а уж на утро после спонтанной попойки сахар с кофе помогал ему лучше всего остального. Барон ответил не сразу — сначала дожевал свой кусок мяса, потом вытер бороду и только после сказал: — И вам доброго утра! Ну что, как вы после вчерашнего? — его мощная рука, сверкнув рубиновым перстнем, потянулась за грушей. И только сейчас Психовский разглядел очень важную деталь в бароне, важную и несколько, ну, пугающую. Брамбеус был абсолютно трезв — как стеклышко. — Хуже чем у вас, — признался Грецион. — Если мне встать было просто трудновато, то нашему среброкистому Фебу… — Да, удивительно, — обратил внимание на состояние барона уже Федор Семеныч, делая глоток кофе. — Вы абсолютно трезвы, я бы даже сказал, абсолютное абсолюта. — О, — улыбнулся Брамбеус. — Просто у меня есть прекрасное средство, которое досталось моему роду от пра-пра-пра-пра… Его речь прервало внезапное появление китайца-переводчика — тот словно ниндзя выскочил из тени. На завтрак человек гладильная-доска пришел в узких джинсах и цветастой футболке — видимо, вне работы он позволял себе расслабиться. — Достопочтимый господин Сунлинь Ван просил передать вам его огромные извинения, — слегка поклонился переводчик. — Сегодня утром ему совсем нездоровится, а потому он не спустится на завтрак. — Очень его понимаю, видимо, это какие-то общие сбои в самочувствии, — почесал бороду Психовский. — Барон, мне кажется, нашему алхимику срочно нужно это ваше средство после попойки… — Нет-нет, — замахал веточками-руками китаец. — Господин Сунлинь Ван абсолютно трезв. Просто он сказал, что его слегка мутит от нехорошего предчувствия. — Ну, на айсберг мы точно не налетим, — хмыкнул Аполлонский. Грециону слова переводчика совсем не понравились. В глубине души Психовский понимал, что беспокоиться особо не о чем, но догадывался, что алхимики и прочие игроки в поддавки с реальностью — будь то какие-нибудь медиумы или маги — могут ощутить то, что другим просто не доступно, заперто на прочнейший амбарный замок; только не те из них, кто предсказывают потерю крупненькой суммы в ближайшем будущем, беря за свою услугу как раз-таки крупненькую сумму, а те, которые действительно пытаются постигнуть спрятанные по углам вселенной тайны. Они-то действительно могут ощутить что-то надвигающееся… с невидимого фронта. Ведь им открыт доступ в потустороннее, и те сущности, что живут по ту сторону, с удовольствием держат дверь открытой — им ведь тоже интересно, — пока заглядывающие туда люди не наглеют окончательно. И почему-то у профессора было ощущение, что где-то и когда-то он с таким уже сталкивался[7]. Канат слов Брабмеуса вытащил Грециона из пропасти мыслей: — А вы присаживайтесь и позавтракайте с нами! — предложил тот переводчику. Молодой китаец на мгновение замялся, но все же сказал: — Покорнейше благодарю, — поклонившись, он сбегал за едой и вернулся, удостоившись настороженного взгляда барона. Тарелочку переводчик взял совсем маленькую, положив туда фрукты и йогурт — видимо, такую пищу Брамбеус считал даже не травой, а водорослями. Переводчик цветастым воробушком заклевал свой завтрак. — Кстати, я тут по утру заметил, — прищурился барон, — что по палубе кто-то всю ночь активно ходил. Какие-то очень женские следы, что ли? — Да-да! — подтвердил извазюкавшийся йогуртом китаец. — Я тоже что-то такое заметил, когда решил подышать воздухом. — Женщина на корабле — плохая примета… — Барон, это же туристический лайнер, — поспешил успокоить переводчик. — К тому же, маленький размер ноги и такое изящество еще ничего не говорят… — Хотите сказать, что это вы шлепали? Ваши миниатюрные ножки тоже очень даже прошли бы следственную экспертизу… Грецион насторожился, но глаза мгновенно вспыхнули зажигалкой — новая задачка для ума, которую нужно решить, взамен старой с Вавилонским Драконом, по крайней мере сейчас. Студенты этого оттиска часто упрекали профессора, что он скачет с темы на тему, быстро теряя интерес к сказанному минуту назад — а потому все конспекты напоминали безумные планы врачей по захвату мира. — То есть их видел не только я? — профессор отпил чая. — Ну вот, а я уже обрадовался, что пора ждать санитаров и уютной комнатки… — Не дождешься, — сказал усаживающийся за стол Аполлонский, уже успевший сбегать еще за одним кусочком чизкейка — гулять так гулять. — Кстати, барон, вы там начали говорить о каком-то рецепте от пра-пра… — О, да! — всплеснул свободной рукой Брамбеус. — Так вот, моя пра-пра-пра-пра… — Как много «пра» нас ждет? — уточнил Грецион. — Полагаю, около двух десятков, — признался Барон. — Хотя я всегда путаюсь, где остановиться — на двадцатом или двадцать первом «пра»? — Давайте сократим просто до «очень дальнего родственника», — предложил Психовский, с удовольствием доедая яичницу. — Отличная идея! Так вот, мой очень-очень-очень-очень-очень…
Достопочтимый алхимик Сунлинь Ван уткнулся головой в подушки, забаррикадировавшись ими от внешнего мира и будто не желая ничего, вообще ничего, слышать — так оно отчасти и было. То предчувствие, что беспокоило китайца с самого утра — он даже проснулся еще до восхода солнца, так больше и не уснув, — теперь из простого ощущения превратилось в звук, конвертировалось в какой-то пьяный хор кривых мелодий, ломаным зигзагом режущих голову. Сунлинь Ван, как настоящий алхимик, даже в таком состоянии сделал предположение: видимо, чем ближе он к предмету своего предчувствия, тем более физическими становятся ощущения и боль. Или, если посмотреть с другой стороны — чем ближе предмет предчувствия к алхимику, тем хуже. Вот в данном случае перестановка мест слагаемых правит бал. Старый китаец не прогадал — вскоре заломало ноги, на которые Сунлинь никогда не жаловался в своем не просто почтенном, почтеннейшем возрасте. Значит, оно — чтобы это ни было — еще ближе. Господину Вану вообще чудилось, что вся «Королева морей» движется куда-то к пропасти, но старый алхимик, конечно, признавал, что земля отнюдь не плоская, и за край диска лайнер не свалится. Нет, то было нечто другое… скорее, край привычной реальности, или даже край бытия — этакие врата между миров, но только вот ведущие отнюдь не в полное межгалактических терок измерение, а во что-то… более земное. Ощущеньицу китайца сложно было позавидовать. Вскоре, хотя боль в теле и жужжание в голове становились все сильней, Сунлинь Ван нашел в себе силы встать и подойти к панорамным окнам, приложившись лбом к стеклу — в своем возрасте позволять себе лучшие каюты он имел полное право. Старый алхимик глянул на абсолютно спокойное море небесно-голубого цвета, на пылающий зеленоватым вдалеке горизонт и на мелкие островки, до которых было так далеко, что они казались маленькими, поросшими мхом камушками. Вроде бы, ничего особенного в пейзаже — красиво, конечно, безусловно, но никаких поводов для беспокойства. Ни тебе айсбергов, ни мегалодонов прямо под лайнером, ни жутких водоворотов. Вот и Сунлинь Ван подумал точно так же, уже собираясь вновь накрыться подушками… «Так, погодите-ка. Горизонт пылает зеленым?» Старый китаец тоже поймал эту мысль, вновь приложившись к стеклу — убедившись, что ему не померещилась, алхимик, преодолевая боль, вышел вон из каюты, поспешив на палубу. И если бы он только знал, что пылающий зеленым горизонт — далеко не причина его головной боли.
* * *
Зверь почувствовал. Он не увидел это глазами, потому что здесь, в кромешной и ласкающейся темноте, не было никаких иллюминаторов — но картинка нарисовалась перед глазами существа, всплыла в сознании, родилась из простого ощущения, которое для него было сравни сигналу к тревоге. И зверь заметался. Он думал, что это холодное металлическое подобие клетки станет для него спасением, но сейчас судьба тянула его обратно, туда, откуда он сбежал. В то место, которого хотел сторониться, мечтал даже не приближаться — и вот, теперь он вновь настиг его, хотя скорее уж оно настигло его. К тому же, кто-то абсолютно точно преследовал его по пятам. Существо заскреблось когтями о металл, наполняя тишину жалостным скрежетом, словно желая предупредить, сказать, что не стоит лезть туда, лучше вернуться обратно, но мольбы зверя оставались неслышимы. Существо прекратило скрестись и издало шипящий звук, высунув раздвоенный язык — будь оно львом или грифоном, его бы точно услышали, но шипение просто растворилось в пузырящейся тишине.* * *
Наевшийся и послушавший россказней барона Брамбеуса Грецион Психовский теперь сидел на палубе на раскладном стульчике, который ему любезно предоставил художник, и смотрел, как сытый, довольный, протрезвевший Федор Семеныч с количеством сахара в крови, раз в десять превышающим суточную норму, рисует. Рисует, что б его, обычный пейзаж, даже не добавляя в небо драконов. По какому-то закону подлости это было очень скучно — сидеть тут и смотреть на обычный пейзаж, хоть и сочащийся красками, хоть и с почему-то магически-зеленой линией горизонта. Грецион надеялся хотя бы на пару маленьких корабликов вдалеке, чтобы все флаги в гости были к ним с художником — но Аполлонского как подменили. — Ты же понимаешь, — показательно зевнул профессор, — что это ужас как скучно? — Иди походи, — кинул художник, добавляя оттенков волнам на своем графическом планшете. — Я тебя здесь не заставлял сидеть, заметь. Иди, послушай там музыки, или чем ты занимаешься, когда не придумываешь приключений на свою голову… — Одному здесь заниматься нечем. — Вот ведь упертый Овен, — вздохнул Аполлонский. — Где ж твой вечный запал. Я бы послал тебя к старому китайцу, но ему сегодня дурно. Хотя, иди, поговори с Брамбеусом, раз тебе так уж скучно. Грецион поежился. — Чай не водка, много не выпьешь, — выпалил он. — Брамбеус тоже. — Тогда у тебя остается два варианта. Сидеть и наслаждаться рождением шедевра живописи или пойти гулять в одиночестве и не насладиться шедев… Художник недоговорил, потому что профессор резко встал. — Так и знал! — хмыкнул Федор Семенович. — Ничего ты не смыслишь в шедеврах, голова твоя антинаучная! Ну ничего, вот когда я помру и меня признают гением, вот тогда… Вышагивающий по палубе Психовский, не оборачиваясь, засмеялся — Аполлонский продержался недолго и тоже разразился смехом. Грецион ходил по палубе, скучал и правда думал, чем бы заняться — занятие нашлось само собой, когда профессор вновь заметил уже почти окончательно потускневшие следы на палубе. На этот раз легкие отпечатки, будто из лунного света, имели какую-никакую, но траекторию — и Грецион не был бы собой, если в порыве бесконечного интереса к любой подвернувшейся вещи не решил бы последовать за следами. К тому же, это был отличный способ разузнать, насколько все-таки эти тончайшие мокрые отпечатки на палубе реальны, потому что еще ночью они казались лишь зудящим помутнением пьяного рассудка, жужжанием расстроенной ментальной дрели, а тут оказалось, что другие их тоже видели, а теперь они так рядом, при свете дня, который обманывает намного реже ночного мрака. Короче говоря, Грецион пошел по следу — вроде бы медленно и нерасторопно, с опаской, но с каждым шагом профессор ускорялся, задор разгорался в нем все сильнее. Минув пару поворотов и лестницу, Психовский спустился в трюм, где тонкие водянистые отпечатки ног обрывались около одной из стен. Грецион почему-то такому развитию событий ни чуть не удивился, ведь таинственным следам из неоткуда свойственно упираться в никуда, но для уверенности, профессор, уняться которому в этом оттиске было почти невозможно, решил пощупать холодную металлическую стена трюма. За ней, по его соображениям, должно было находиться машинное отделение — или хотя бы спуск в него. Сперва профессор схватился рукой за разболевшуюся голову, которая начала покалывать еще во время спуска, но здесь боль достигла точки невозврата. Психовский потер переносицу и, морщась, все же коснулся стены — вот тогда в голову словно метнули стеклянное копье, расколовшееся на кровоточащие осколки, и сознание словно треснуло. Грециону опять поплохело, во рту появился какой-то странный привкус, а перед глазами заплясали пятна и странные образы, которых он — существующий здесь и сейчас — никогда не видел: аметисты, татуированные языки, древние камни, огромные пальмовые листья, странные одежды… Профессор отскочил от стены и грохнулся на колени. Приступ боли затух, но на смену ему пришла противная тошнота, с завидной редкостью беспокоившая в последнее время, особенно после дежавю. Профессор откашлялся и еле-еле поднялся на палубу, где ему заметно полегчало. Глубоко подышав, придя в себя и заметив, что Аполлонский все еще возится с картиной, Грецион решил пройтись — свежий воздух всегда оказывался лучшим лекарством от всего на свете. — Нет, ну это никуда не годится, — проговорил он про себя. — Надо привести себя в порядок, а то ты скоро совсем развалишься, старый жигуль. Новое занятие для не унимающегося в этом оттиске Психовского весьма быстро нашлось, а скуку как рукой сняло, когда профессор увидел вдалеке новый объект интереса. За небольшим заборчиком, который перемахнуть — как нечего делать, стояло натуральное джакузи — вода в нем уже пузырилась. Такие обычно помещают в самых роскошных каютах, и вроде бы пользоваться им может только тот, кто живет там, но, опять же, перемахнуть забор… — Конечно, перемахнуть забор, но сперва притащить сюда Аполлонского, — подумал Грецион, уже более-менее придя в себя, на реактивной скорости вернувшись к художнику и неведомо как заставив того встать с места, ссылаясь на что-то «очень интересное». — Если это не очаровательная дама, не остатки древней цивилизации, не черный маг и не дракон в подсобке, я буду очень разочарован, — предупредил Федор Семеныч профессора, пока тот буквально тащил его к месту будущего преступления. Они дошли быстро — Грецион изложил план, пока художник взирал на джакузи. — Знаешь, вот вроде это обычное джакузи, жалко, конечно, не дракон и все прочее, но я не особо разочарован, — игнорируя слова Психовского, сказал Федор Семеныч. — А, что ты там говоришь? Грецион специально что-то проворчал — чтобы Аполлонскому жизнь медом не казалась — и повторил свой план. — То есть ты предлагаешь рвануть в чужой джакузи без разрешения, пока там никого нет? — Да, — ехидно улыбнулся профессор. — Может, там вообще никого нет. Если тебе страшно, хотя бы ножки помочить. — Ты сумасшедший, — с этими словами художник зашагал к заборчику вокруг джакузи. — И где бы мы были без твоего сумасшествия. Психовский улыбнулся так, что лицо чуть не треснуло. — Оправдываю фамилию, — пошутил он и, обогнав друга, перемахнул через заборчик, встав у края джакузи. Профессор посмотрел на свое по чудному искаженное отражение в булькающей воде, собравшись закатать розовую штанину, но не заметил подкравшегося сзади Аполлонского, который резко толкнул Грециона — Психовский свалился прямиком в джакузи, даже не раздевшись. — И кто бы что говорил о сумасшествии! — энергично покрутив головой и протерев лицо руками, засмеялся профессор. Потом он решил распушить намокшую бороду. — Эм, Грецион, — задрожал вдруг сзади словно сдувшийся голос художника. — Лучше-ка вылезай. — Так, что-то я не понял тебя… — Подними глаза. Профессор вновь протер лицо и поднял голову — в проеме, что вел внутрь каюты, торчало дуло ружья, направленное вперед. Оно словно висело в воздухе — за ним ничего видно не было. — На счет три, — среагировал Грецион, готовясь к марш-броску. — Раз, два… — Три! — крикнуло ружье, окончательно высунувшись на свет божий — за оружием показался грохочущий смехом барон Брамбеус. Психовский, не успевший полностью вылезти из джакузи, вновь свалился в воду. Аполлонский тяжело задышал. — Да, вот вы и напугались! — сквозь смех, который можно было использовать вместо комбайна, выдавил барон. — Простите мне такой фарс, но я не смог удержаться. — Скажите мне одно, — Федор Семеныч более-менее пришел в себя. — Зачем вы везете с собой ружье? — О! Я всегда вожу его с собой, — как ни в чем не бывало ответил Брамбеус. — Не успел вам сказать, но охота — мое второе имя! Я до нее ой как падок. А видели бы вы моих гончих, таких нигде уже не найдешь… Грецион поймал себя на мысли, что барон иногда говорит каким-то архаичными фразами, словно взятыми из словаря древностей. То ли ему нравилось оставаться в образе, то ли по-другому говорить он просто не умел. Профессор как раз хотел спросить кое-что, но отвлекся на восклицание на непонятном языке и обернулся. В их сторону ковылял старый китаец. — А, господи Ван! — помахал ему рукой Брамбеус. — Тоже решили искупаться? Тяжело шагающий старик вновь повторил фразу на китайском — от нее несло какой-то тревогой. — И где этот переводчик, когда он нужен, — буркнул Федор Семеныч. — Господин алхимик, мы вас не понимаем! Не по-ни-ма-ем! Аполлонский замахал было руками, но отвлекся на линию горизонта, которая как-то яростно вспыхнула зеленым. — Северное сияние? — удивился барон. — Какая-то несостыковочка, — пожал плечами все еще сидящий в джакузи профессор. Достопочтимый Сунлинь Ван вновь выкрикнул фразу на китайском — на этот раз, громче, яростней жестикулируя. А потом мир вокруг перевернулся. Все залило зеленым заревом, и весы, поддерживающие хрупкое бытие, словно насильно лишили равновесия — корабль ушел под воду, но не утонул, не разбился о скалу, а просто перевернулся, будто палубе внезапно в порядке вещей стало находиться под водой. Рамки реальности раскололись, восприятие пошло трещинами, и Грецион Психовский видел только ярко-зеленое свечение с белыми линиями, что, расширяясь, разламывали зеркало мира на острые, расходящиеся, режущие сознание кусочки. «Королева морей» продолжала плыть, да вот только неким чудесным образом вверх дном — она неслась в какой-то неосязаемый разлом, утопая в зеленоватом свете. Профессор попробовал сделать глубокий вдох — но слишком поздно вспомнил, что находится под водой. Она хлынула в легкие, обволакивая все внутри приторной соленостью, а потом мир накрыла яркая вспышка, перешедшая в приглушенную и угрюмую тьму. И Грецион Психовский умер.Часть 2 За краем бытия
 Человек сидел, по-турецки сложив ноги и закрыв глаза. Его белая ряса, совсем простенькая и легенькая, слегка покачивалась на слабом ветру, словно боявшемся побеспокоить сидящего.
Человек не медитировал — он просто сидел, закрыв глаза и сосредоточившись. Сознание отдыхало, становясь куда чувствительней к изменениям любого рода, оно начинало улавливать даже то, что в обычном состоянии принимало за информационный шум, а то и вовсе игнорировало.
Солнце, прокладывающее свой путь даже через вековечные тропические деревья с огромными листами, огибая древние белые камни, падало на лысую голову человека, находя там свое последнее пристанище.
Человек сидел, как восковая кукла, сложив руки на коленях.
Тут сознание его сжалось в одном болевом спазме, захлестнув волной невероятно сильного ощущения: искрящегося, пробирающего все тело, шальными узорами рисующего перед темнотой закрытых глаз блеклые фигурки на фоне сияющего зеленым среза миров.
Человек резко открыл глаза, вокруг которых красовались жирные черные круги, но не шевельнулся, оставаясь сидеть в прежней позе. Потом он высунул язык, облизав сухие губы. И будь рядом еще хоть-кто, то он, приглядевшись, смог бы заметить странные, словно татуированные, черные письмена на языке человека.
Человек улыбнулся.
Человек сидел, по-турецки сложив ноги и закрыв глаза. Его белая ряса, совсем простенькая и легенькая, слегка покачивалась на слабом ветру, словно боявшемся побеспокоить сидящего.
Человек не медитировал — он просто сидел, закрыв глаза и сосредоточившись. Сознание отдыхало, становясь куда чувствительней к изменениям любого рода, оно начинало улавливать даже то, что в обычном состоянии принимало за информационный шум, а то и вовсе игнорировало.
Солнце, прокладывающее свой путь даже через вековечные тропические деревья с огромными листами, огибая древние белые камни, падало на лысую голову человека, находя там свое последнее пристанище.
Человек сидел, как восковая кукла, сложив руки на коленях.
Тут сознание его сжалось в одном болевом спазме, захлестнув волной невероятно сильного ощущения: искрящегося, пробирающего все тело, шальными узорами рисующего перед темнотой закрытых глаз блеклые фигурки на фоне сияющего зеленым среза миров.
Человек резко открыл глаза, вокруг которых красовались жирные черные круги, но не шевельнулся, оставаясь сидеть в прежней позе. Потом он высунул язык, облизав сухие губы. И будь рядом еще хоть-кто, то он, приглядевшись, смог бы заметить странные, словно татуированные, черные письмена на языке человека.
Человек улыбнулся.
Телец. Глава 5 Оговорка по Жюль Верну
— Кажется, это где-то уже было, — пробубнил профессор Грецион Психовский пред тем, как вода сомкнулось над головой, а сознание поглотила мгла.…месяц БыкВ небе звезды, семеро их, великие боги ониОтверзание земли, волны направляютсяВлажная земля открывается, плуги омываютсямесяц Нингирсу, героя, энсигаля Эллиля…Из «Астролябии В»
В мокром песке мирно ворошились крабики, никого не трогали, занимались чем-то своим, для человека непостижимым. Животные были настроены серьезно и, сосредоточившись, не отвлекаясь ни на что, смело шли — хотя, скорее, ползли — к своей цели. Сегодня, в отличие от других дней, им что-то мешало — только вот крабы не могли понять, что именно. Ведь обычно они перебирали лапками и ползли по песку строго по прямой, а теперь так не получалось, приходилось огибать нечеткий силуэт препятствия. Крабы, повторяя мысль, настроены были серьезно — и новое препятствие их с толку не сбило. Но когда это самое препятствие резко зашевелилось и тяжело, громко задышало, животные попрятались, как солдаты в окопах. Грецион Психовский закашлялся и стал жадно глотать воздух, хоть сознание его до сих пор блуждало далеко. Профессор распахнул глаза, прищурился от яркого света. На инстинктивном уровне Грецион испытал невероятное облегчение — он увидел вокруг себя что-то неясное, нечеткое, словно размытое мокрой кистью, но это что-то хотя бы было, а значит он не умер и больше не тонет. А потом профессор наконец-то понял, что представляло из себя это что-то. Край взгляда, словно вычурная рамка для фотографии, украшали тянущиеся ввысь деревья, древние и видавшие те дни, которые уже давным-давно не просто поросли легендами, а перестали существовать в человеческом сознании. Огромные тропические листья грузно свисали, бросая на землю густую, насыщенную тень — но все это глаза Грециона улавливали лишь мельком, лес был где-то там, в стороне. Профессор же лежал на прибрежном песке лицом вверх, смотря прямиком в небо. Но вряд ли кто-то в своем уме сходу назовет небом то, что видел Психовский. Вверху раскалывались и соединялись цветные лоскутки с размытыми краями, постоянно меняя свое положение и форму — все это сливалось в одно огромное полотно, которое, видимо, и стоило считать местным небом, хотя больше оно напоминало какой-нибудь экспонат в галерее современного искусства, во весь потолок. Складывалось ощущение, что творца всего сущего внезапно накрыло потоком вдохновения, и он решил себе ни в чем не отказывать — вот и покреативил с небом, превратив его из скучного синего в разноцветное: осколки мерцали, шевелились, игрались оттенками, смещались и колыхались высоко-высоко вверху, на недосягаемой, вожделенной высоте, и каждое мгновение небо над головой уже было другим — не тем, что секунду назад. Грециона, здесь и сейчас по натуре очень восприимчивого к всему прекрасному, это заворожило, но, конечно, не слишком удивило. Не то чтобы профессор видел такие пейзажи над головой каждый день — Психовский жил в сером мегаполисе, где зимой оттенки неба варьируются от серого до очень-очень серого. Просто Грецион еще не пришел в себя, это, собственно, неудивительно — сознание до сих пор не могло понять, что вообще стряслось, почему профессор лежит на песке, а не на палубе, а перед глазами пляшут цветные пятна. Какое-то время Психовский просто лежал. Здравое восприятие мира постепенно, как нежелающий возвращаться в общежитие после пьянки студент, все же возвращалось. В конце концов, оно столкнулось с комендантом — в смысле, со всем букетом чувств профессора, — и Грецион понял, что абсолютно ничего не понимает. — Ого, — первая реакция на цветное небо оказалась коротка, но метка. Как следует поморгав, профессор приподнялся на локтях, ожидая, что тело пронзит боль от сломанных конечностей — но нет, все было в порядке, только нога слегка ныла. Будто бы Грециона кинули на сорок мягких перин, положив вниз горошину — судя по боли в ноге, не простую, а свинцовую. Вернувшиеся в строй чувства теперь не просто уловили, а полностью осознали тропический лес с древними деревьями, раскинувшийся вокруг пляж и притихших в песке крабов. А потом, хуже, чем черт из табакерки, явился Аполлонский. — О, ты наконец-то пришел в себя, — протараторил тот, поправляя соломенную шляпу. — Я-то уж думал, что пролежишь тут до темноты. Спокоен и медлителен, типичный Телец. — А привести меня в чувства ты не пробовал, гуру гороскопов? — парировал профессор. Лишь на мгновение ему в голову пришла мысль гаркнуть на друга, но погасла так быстро, что даже не успела оставить следа — получается, что вроде и не думал о таком. — Решил даже не пытаться. Ты же ненавидишь, когда тебя будят. А отключка от реальности — почти тот же сон. Я тебе больше скажу, будь я некромантом, даже не стал бы воскрешать тебя — ты бы стал тем мертвяком, который постоянно ноет, что хочет обратно в могилу и хоть пару минуточек тишины, но ты терпеливый, ныл бы долго. Федор Семеныч набрал воздуха и, не дав другу ничего сказать, продолжил: — Впрочем, это ладно. Ты не видел мой графический планшет или, хотя бы, блокнот? Я точно знаю, что они здесь, раз шляпу не унесло. Правда планшету наверняка хана. Ну, сигареты мои вот промокли насквозь. В подтверждение слов художник вытащил пачку и покрутил почти перед носом Грециона. — Тебя правда сейчас интересует блокнот или планшет? — потер глаза Психовский. — Я художник! — развел руками Аполлонский. — Я не могу упустить шанс зарисовать такой пляж и такие деревья! — Слушай, у нас тут ситуация почти из Жюля Верна, а ты со своими рисунками, — профессор наконец встал, пошатываясь, приложил ладонь ребром ко лбу и посмотрел за линию горизонта. Там, где небо смыкалось с океаном, плясали уже знакомые цветные пятна, сливаясь и перемешиваясь в самый настоящий ад для эпилептика. — И где мы? Выглядит просто… восхитительно, — глаза профессора еще напоминали мутную воду после шторма, но там, на дне, уже мерцал жемчуг неподдельного, даже в некотором роде детского восторга. — Да у тебя все выглядит потрясающе — даже какой-нибудь банальный парк. А так, не имею ни малейшего понятия, где мы — художник суетно бегал туда-сюда, вглядываясь в песок. — Но если мы мыслим Жюлем Верном, то это какой-то таинственный остров.
— Значит, надо угнать подлодку капитана Немо, — хмыкнул профессор, вытряхая песок из бороды. — А остальные? — Пока никого больше не видел. Кто знает, что их сожрало. — Какое у тебя позитивное мышление, однако. — Да нет, это просто закон жанра, — махнул Федор Семеныч рукой и перешел к более насущным проблемам. — Ты точно не видел блокнот? Даже не замечал? Грецион помотал головой, пытаясь понять, что вообще происходит. Последнее воспоминание профессора — это тонущий корабль и словно бы перевернутый вверх-дном мир, зеленое свечение, вода, легкая тошнота и отвратительное чувство дежавю, изрядно поднадоевшее. Пока что все эти ячейки памяти не особо складывались в одну логическую картинку, и предположительный остров с вековечными деревьями сюда никак не вписывался. К тому же, «Королевы морей» нигде не было видно, а корабли просто так не испаряются. Такое разрешено, нет, скорее уж положено, только Летучему Голландцу, но им тут даже не пахло. Любой здравомыслящий человек если бы не запаниковал, то хотя бы расстроился, что весь отпуск пошел коту под хвост, но профессор Грецион Психовский не спешил разочаровываться — вот если на этом островке, кроме каких-нибудь каннибалов, не окажется ничего интересного, то тогда отпуск точно можно будет официально утвердить проваленным, зверив всеми печатями. Профессору всегда казалось, что даже катастрофа должна быть интересной и запоминающейся — короче говоря, проходить с огоньком, с примесью древности и сверхъестественного. А если к этому коктейлю добавить приправу из утерянного знания минувших веков — получится хит сезона. На это наложилась еще та самая легкая впечатлительность Грециона в этом оттиске, превращающая даже поездку на гольф-карах в незабываемое путешествие. Ни то к счастью, ни то к горечи Психовского, вселенная в общем и частности любит подслушивать чужие мысли, подобно Гудвину воплощая их в реальность. Правда, иногда из этого выходит ведьмовская пакость, а не подарок доброго волшебника, но в случае Грециона все обычно выстреливало так, как нужно. Вот и сейчас вселенная — все ее оттиски разом — подслушала мысли профессора и решила действовать незамедлительно. Как только Грецион перевел взгляд с моря на тянущийся вглубь суши лес, то увидел ящероподобный силуэт с торчащим из головы рогом — на этот раз у профессора не было сомнений, что это Вавилонский Дракон. Такой расклад как раз отлично вписывался во всю концепцию происходящих фантастических событий — если можно с бухты-барахты оказаться на непонятном острове с цветным небом, то почему бы в нескольких метрах не стоять мифическому существу? Профессор схватился за голову — внутри все заскрежетало, к горлу снова подступил комок, а в голове замерцали странные обрывки лоскутов-картинок. Предположительный дракон остановился, помахивая хвостом. — Мой драгоценный Феб, — окликнул профессор художника, чуть пошатываясь. — Надеюсь, ты нашел блокнот… — Нет, а что это ты вдруг?.. — Федор Семеныч хотел было добавить что-то еще, но посмотрел туда же, куда Грецион, и замолчал. — Это что, твой Сируш, Вавилонский Дракон? — Ну, если у нас не коллективные галлюцинации… хотя мое самочувствие говорит именно об этом… — заключил профессор. — Ох, старый китаец был бы так рад. Существо внимательно изучало стоящих вдали людей и, видимо, приняло решение убраться подальше, молниеносно рванув в глубь леса. — Так, — закопошился Грецион, потирая переносицу. — Нам нужно туда, за ним! Определенно! Это всяко лучше, чем торчать на берегу в ожидании Годо. Честно говоря, если бы не нашлось подходящего случая в лице Вавилонского Дракона, профессор так бы и остался сидеть на берегу. — Мы торчим тут исключительно в ожидании блокнота, — поправил Аполлонский, вернувшись к поискам. — Я уж и не надеялся, что ты предложишь идти глубже, но, о чудеса, случилось что-то, что подняло тебя с места. Ты же, наш пассивный Телец, не любишь охоты за возможностями, постоянно ждешь, пока они сами придут на блюдечке с голубой каемочкой, и желательно сервированные по Фэншую. И все же я надеялся, что успею найти блокнот раньше, чем возможность с грохотом свалится на нашу голову. Ты, пожалуй, беги, тебя теперь не остановить, а я тут продолжу искать… — Даже не надейся, — рассмеялся Грецион. — И давай уже вместе найдем твой чертов блокнот. А карандаши-то не растерял, среброкистый ты мой?
* * *
Вавилонский Дракон боялся. Ощущение угрозы стальным чертополохом впивалось в него отовсюду, кололо и заставляло бежать лишь вперед и вперед. Все вокруг казалось враждебным, хоть и привычным, ведь дракон бегал по этим тропическим лесам многие годы, но сейчас, вернувшись, готов был оказаться где угодно, только не здесь — хотя нечто материнское, будто бывшее частью его, пыталось одновременно убаюкать где-то в глубине, но в тоже время разбудить нечто дремлющее. Словно бы все части его, все бывшее им и являющееся им, неведомым образом собралось в этом тропическом лесу, месте притяжения. Зверь знал, что его обязательно будут искать, что за ним вернутся, и холодные клешни неволи вновь сомкнутся над головой. Он бежал изо всех сил, стараясь оттянуть неизбежное, стараясь хотя бы еще немного побыть свободным. А ведь так недавно существу показалось, что все уже позади, и он — он нынешний — в безопасности… Даже те двое на берегу показались Вавилонскому Дракону враждебными, хотя он знал, ощущал своим звериным нутром, что они не причинят ему вреда, потому что они пришли с той стороны бытия, а не с этой. Не с этой, где никому нельзя было довериться, все хотели запереть существо, перерезать живительную связь со свободой. Все, кроме одной девушки, да, разве только кроме нее. И особенно острое чувство зверь испытал, увидев своими бесконечно цепкими глазами одного из незнакомцев на берегу — пласты воспоминаний, своих и чужих одновременно, начали всплывать, но стремительно вновь пошли ко дну. Вавилонский дракон бежал со всех ног, зная, что в любом случае уже проиграл.* * *
В тропическом лесу действует одно, самое главное правило: ничего нельзя трогать, вообще ничего, особенно если оно похоже на лиану, особенно — если шевелится, а если высовывает раздвоенный язык и шипит — лучше даже не приближаться. В этом нет ничего странного, потому что обычные джунгли, в отличие от каменных, настроены к человеку ой как враждебно — и вовсе не потому, что у них такой сварливый характер. Просто это немного не та среда обитания для хомо, как бишь его там, сапиенс. Точнее, если верить теории эволюции, то когда-то она была именно той средой, то есть человеческой, но некая обезьяна с камнем в руке решила покинуть тропические леса с длинными лианами и огромными деревьями, оставив их на произвол судьбы. И где-то внутри любых джунглей, любых тропиков, таится эта древняя обида — древняя обида на человека, бросившего зеленые древесные своды, приютившие беспомощного обезьяныша на заре развития. Да и, что уж там таить, не просто бросившего, а иногда попросту уничтожающего, жадно рубящего и жгущего свою первую среду обитания — попробуй такое прости. Ядовитые змеи и огромные насекомые в таком случае вообще самый безобидный вид мести. Но в тропическом лесу с неестественно высокими деревьями, царапающими растекающееся в цветных пятнах небо, все было совсем не так. Это место не выглядело слишком уж злобным и обиженным, все здесь было как-то предрасположено к человеку. Нет, конечно, заросли не расступались с песнями и плясками, обнажая мощеную дорожку — мол, вот, пожалуйста, все для вашего удобства, дорогие люди, ходите где хотите. Но Грецион инстинктивно приготовился к зарослям, через которые придется прорываться с гипотетической саблей, а поскольку саблей физической нигде и не пахло, задача в голове профессора нарисовалась вдвойне сложная. В итоге, поход Психовского и Аполлонского через тропический лес скорее напоминал воскресную прогулку по грибы с добрым пастором. Не хватало лишь говорящих зверушек и ветра в ивах, и все, идиллия, не поспоришь. — У меня такое ощущение, — поделился Грецион, внимательно изучавший ящероподобные следы на земле, — что этот лес привык к людям. — У меня такое ощущение, — скопировал Аполлонский, — что мы вообще попали в какой-то Юрский период и скоро заблудимся. — Ты что, не будешь рад динозаврам? — Буду, просто они не будут рады мне, — улыбнулся художник, крепко прижимая к себе все-таки найденный блокнот. — Только если как закуске… — О, ты потянешь и на главное блюдо, — профессор вгляделся в еще один след. — А вообще, тебе надо читать меньше книг о попаданцах, если ты думаешь, что нас кинуло в прошлое… — Если бы нас кинуло прошлое, над головой не творилась бы такая пьяная феерия, — ткнул пальцем ввысь Федор Семеныч. Грецион, как по команде, поднял голову — через густые кроны тропических деревьев, подмигивая, виднелось разноцветное небо. — Мне вот интересно, — сказал Психовский, вновь зашагав по следам предполагаемого Вавилонского Дракона. — Куда подевался Брамбеус, старый китаец и его переводчик? — Их уже могли сожрать динозавры, — пошутил Аполлонский и, не дав Грециону ответить, переключил тему: — Я думал, тебя будут интересовать какие-нибудь связи с древними цивилизациями ну и тому подобное, как обычно. — Меня интересует много чего. Например, какого черта тут взялся Вавилонский Дракон, который, даже если и существовал в Вавилоне, уже давно должен был превратиться в кости и прах? Меня интересует, какого черта мы здесь оказались, меня интересует, какого черта небо цветное, какого черта лес такой добродушный, какого черта в последнее время мне так плохо, и я так часто стал ловить дежавю… И да, ты прав, если это окажется просто дурацкий необитаемый остров — я разочаруюсь. Но если бы Вавилонский Дракон не появился прямо перед нами на берегу — я бы и с места не сдвинулся, ты знаешь. Аполлонский почесал нос. — Это очень похоже на тебя, но все равно, знаешь, что я скажу… какой-то ты сам не свой. Будто что-то… Федор Семеныч хотел договорить, но остановился, увидев, что Грецион тоже стоит на месте. Профессор вглядывался в землю — следы предполагаемого Вавилонского Дракона обрывались. — У них есть крылья? — Аполлонский опустился на колено, чтобы получше разглядеть последние оставленные зверем следы. — Что? — не понял сморщившийся Психовский. — Ну, крылья, — для наглядности художник помахал руками — скорее как-то по-куриному. — Конечно же нет. — Тогда я в замешательстве — других объяснений у меня пока нет… Федор Семеныч мог бы добавить что-нибудь еще — например, хлесткую шуточку, ставшую бы ядовитой вишенкой его реплики. Возможно, в одной из оттисков реальности так и произошло, но здесь вселенская рулетка событий распорядилась иначе. Аполлонский и Психовский ничего не успели понять — внутри просто молниеносно сработали какие-то древние инстинкты, всегда ожидающие хищника за углом: когда раздался дикий крик, напоминающий рев озверевшего и очень голодного тигра, инстинктивная подушка безопасности сработала — и двое повалились наземь как раз вовремя, потому что из зарослей выпрыгнуло что-то, размахивая чем-то. А потом дикий рев резко оборвался, сменившись не мене страшным, но все-таки смехом. Что-то оказалось бароном Брамбеусом, размахивающим ружьем, как дубинкой — примерно так, наверное, и поступали дикари, переживавшие, что съели Кука. — Это просто вы! — буквально вытолкнул барон сквозь смех. — А я-то уж думал! — А это просто вы, — чин по чину ответил Психовский, вставая и отряхивая розовые штаны. — И где вы только научились так рычать? — О! — Брамбеус как-то слишком резко прекратил смеяться, обрадовавшись вопросу. — Знаете, я же тот еще охотник — вы не видели стены гостиной моего замка, столько трофеев, ух… Так вот, главное правило любой охоты — чувствовать себя на месте зверя. А за тигром в лесах Индии я гонялся так долго, что чересчур вжился в роль! Барон замялся, ностальгически посмотрев в пустоту, и продолжил: — Эх, вот бы сейчас устроить хорошую охоту с буйным пиром в конце! И домашним пивом — я вам не успел рассказать? Эх, хорошо было бы… Но теперь эта штука годится разве только на то, чтобы дать кому-нибудь по башке! Брамбеус потряс ружьем, окончательно превратившись в тучного вождя дикарей-каннибалов, судя по всему, очень хорошо питавшихся. Федор Семеныч, до того момента молчавший, кашлянул, привлекая внимание барона — тот уже собирался переключиться на новую тему. — Простите, уважаемый барон. Вы что, стали лучше говорить по-английски? Просто на «Королеве морей», только не обижайтесь, акцента у вас было раз в пять больше. — И правда, — согласился Грецион, вопросительно взглянув на Брамбеуса. — Не извиняйтесь, я считаю акцент своим личным национальным достоянием! Знаете, часть образа, что ли. Но нет, я как говорю, так и говорил, — парадоксально, но барон замолчал, пусть и на миг. — Не поверите, но я хотел у профессора спросить то же самое… — Уж не стали ли мы внезапно все говорить по-немецки? — хмыкнул Психовский. — А то так хорошо можно головой приложиться… Вопрос мог бы получить ответ, инь сошелся бы с яном, и беседа, как ей положено, продолжилась бы — но концентрация частиц «бы» уже превысила допустимое количество, потому что шутка Грециона так и осталась висеть в воздухе, игнорируемая собеседниками. У них появился куда более интересный объект для внимания. Совсем рядом то ли спокойно лежал большой валун, сокрытый растительностью, то ли просто выпирали могучие корни вековечных деревьев — в общем, это было не столь важно, сколь то, что на этом гипотетическом валуне находилось. Там сидела здоровая… ну, ящерица, хоть родовидовые отношения определять было гиблым делом. Размерами зверь оказался в полтора раза больше дракона-комодо, в остальном же он напоминал гекона-переростка фиолетового цвета. И все бы ничего, да вот только брюшко существа и область вокруг глаз светились неоново-зеленым — сла́бо, ведь ночь еще не сомкнула свои объятия над лесом, но вполне заметно. — А вот и твой Вавилонский Дракон, — шепнул Аполлонский. — Видимо, мы точно приложились головой. Зато объясняет все твои головные боли. — Нет, я на сто процентов видел именно что Вавилонского… — Сама упертость, — фыркнул художник, уже зарисовывая зверя в блокнот. Существо, кстати, не обращало на людей никакого внимания. — Где же твои астрологические шутки? — Ты Телец, а не Овен, ошибся месяцем — так бы я не упустил возможности. Грецион мог рассмеяться, но побоялся спугнуть ящеро-геконо-дракона, а потому просто выдал какую-то полуулыбку. Тут в себя пришел Брамбеус: — Говорите, вы искали одного ящера? Аполлонский и Психовский почти синхронно перевил взгляды на барона. — Вы его что, видели? — Нет, — признался Брамбеус. — Но там, где одна ящерица, там и другая. Народная мудрость нашего рода, правда в первоначальном варианте эта история касалась борделей и тамошних работниц, ну, думаю, вы понимаете — где одна потаскуха, там и другая. — Только не говорите, что вы собираетесь… — Федор Семеныч правда не хотел, чтобы дальнейшие события развивались так, как в итоге вышло — но художник не успел остановить барона, да и не смог бы, тут хоть все версии реальностей прошерсти, не найдешь кардинально другого исхода. Выставив ружье вперед так, будто не отсырел еще порох в его пороховницах, барон Брамбеус издал дикий тигриный крик и носорогом с двустволкой вместо рога ринулся вперед. Для пущего эффекта, стоит добавить, что рыжая его борода вновь пылала лесным пожаром — такая метафора могла стать вполне материальной, дай кто-нибудь Брамбеусу спичек. Существо, даже познай оно дзен, после такого точно не стало бы сидеть на месте — вот ящерица и бросилась куда-то глубже в лес. Аполлонский выругался. Психовский, наоборот, засмеялся и кинулся за бароном. — Боже, тебе стукнуло пятьдесят, а ты носишься так, как студенты не бегают покурить между парами. — Про покурить — кто бы говорил! — Не дави на больное, — художнику тоже пришлось бежать, и делал он это с большой неохотой. — И не несись ты так быстро, я курящий художник-сладкоежка, черт тебя подери, Грецион! — Не могу, мой среброкистый Феб, не могу. Меня ждет Вавилонский Дракон! — Психовский, похоже, работал на вечном двигателе энтузиазма, не требующем подзарядки — разве что, в этом оттиске реальности, жалостно просящем подходящего случая, ведь без него браться за любое дело не было смысла, тем более отдаваясь этому занятию полностью. — Или самая обычная галлюцинация, — умудрившись не выронить на бегу блокнот, покрутил пальцем у виска художник. Все трое, не считая фиолетового ящеро-геконо-дракона со светящимся брюшком, бежали глубже в лес — а, как известно, чем дальше в лес — тем больше дров. Но именно эти дрова Грециону Психовскому сейчас и были нужны.Достопочтимый алхимик Сунлинь Ван всматривался в мерцающий изумрудно-зеленым горизонт, периодически переводя взгляд на плывущее цветными пятнами небо. Больше всего китайца беспокоило то, что рядом не оказалась молодого переводчика. Очнувшись непонятно где, алхимик первые несколько секунд не совсем соображал, что произошло — да, честно говоря, он до сих пор не понимал, что в итоге произошло, но сейчас это его как-то не волновало. Сунлинь чувствовал, что беседы о Вавилонском Драконе, странная боль в суставах, зудящее предчувствие, мокрые отпечатки ног и вспыхнувший зеленым горизонт связаны, и то место, где он оказался — отличная возможность наконец-то прикоснуться к секрету пресловутого Философского Камня. Или даже чего-то большего, что было бы только интереснее. Сунлинь сидел по-турецки и просто смотрел вдаль, ожидая каких-то событий и думая, что делать дальше — торопиться было некуда.
Философия востока тем и отличается от западной, что можно бесконечно ждать и терпеть, принимая события такими, какие они есть, старясь найти гармонию во всем, даже в самом экстраординарном. И самое главное — никуда не торопиться. В отличие от Грециона, Федора Семеныча и тем более Брамбеуса, моментально ринувшихся в гущу событий, старый алхимик мог спокойно ждать, пока события не станут располагать с действием. Это все равно, что сидя на экзамене ждать, пока ответят остальные, чтобы прощупать все возможные варианты вопросов, подводные камни и настроение преподавателя. Достопочтимый Сунлинь Ван повернул голову и оглядел древесных гигантов — ему показалось, что уже слегка стемнело, но это не было поводом ни для действий, ни для беспокойства. Китаец закрыл глаза, чтобы уловить — совсем не факт, что обычным слухом — легкие шаги на влажном песке, а после бархатный шум волн, уже смывших следы. Звук внезапно оборвался. И старый алхимик продолжил ждать.
* * *
…нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет… И так до бесконечности — примерно это короткое слово, если переводить на человеческий, прыгало и кружилось в голове существа. Все случилось совсем не так, совсем по-другому, и побег стал лишь еще одним шагом к заключению — они будто знали, знали, что он вернется сюда, в эти леса, что древнее древнего, под своды этого глубокого, разодранного в клочья цветного неба… И он вернулся. Нехотя, но вернулся. Вернулся, пытаясь убежать — но попался в кольцо вечно голодного уробороса. Теперь в сознании мерцало, вспыхивало и гасло только одно слово, зацикленное до тугой бесконечности… … нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет…* * *
Огромная фиолетовая ящерица пожалела, что не умеет истошно орать, когда барон Брамбеус своей мощной рукой схватил ее за хвост. Честно говоря, она пожалела о многих вещах: например, о том, что эволюция не наградила ее возможностью откинуть хвост и спастись бегством, да и вообще о том, что родилась на свет. Вместо того, чтобы истошно крикнуть, рептилия не менее истошно захрипела — она очень постаралась. — Ага! Не уйдешь! — радостно взвизгнул барон, хватая ящерицу второй рукой. Ружье он доверил подержать Аполлонскому и, благо, то промокло насквозь, а то художник мог ненароком и пальнуть раз-другой куда не нужно — спички не игрушка детям, огнестрельное оружие и все, что отличается от карандаша с кисточкой — не игрушка Федору Семенычу. Ящерица, все еще пытаясь спастись, извивалась, напоминая плохо раскрученный неоновый волчок. Аполлонский, схвативший ружье под мышку, пытался зарисовать ерзающее существо — но сдался после нескольких безуспешных попыток. — Ну, ха-ха! — зарокотал барон. — Теперь ей от меня никуда не деться! Ну и здоровая же, а! Оглушить бы ее как следует. Помню, поймали такого здоровенного карпа… — Не удивлюсь, если это были карпы из императорского пруда, — пошутил Грецион. Он не рассчитывал на бурную реакцию — шутка была не слишком искрометной, — но Брамбесу понравилось так сильно, что тот засмеялся громче всех нордических великанов, чем привел в еще большую панику бедную рептилию. Брюшко ее засветилось сильнее. — Это она от испуга? — Брамбеус отвлекся на свечение. — А по-моему, — заметил художник, поправляя шляпу, — просто стемнело. Грецион взглянул на небо — действительно, цветные обрывки непонятно чего, эти витражные кусочки небесного купола словно бы приглушили, наложили поверх них пленку, но только голубоватую. И теперь на лес спускалась, снисходила мягкая синеватая темнота, почему-то казавшаяся какой-то не от мира сего — будто между бесконечным космосом со всеми его светилами и землей не было никаких преград, и небо постепенно наслаивалось на макушки деревьев, ползло по кронам, крупицы вселенной проникали сюда — как в хорошем десерте с воздушным творожком и черничным вареньем. А еще откуда не возьмись начал клубиться фиолетовый туман — он наползал шлейфом ночного платья и слабой, пока что еле-еле видной дымкой смешивался с воздухом, словно тысячи эфемерных джинов разом развеялись по миру. — Это что, туман? — почесал подборок Федор Семеныч. — А что по-твоему? — вопросом на вопрос — как он любил общаться со студентами — ответил Грецион. Профессор поймал себя на парадоксальной мысли: он видел этот туман впервые, абсолютно точно, но пружинка внутри, вероятно сломанная, подсказывала, что фиолетовый туман должен быть знаком профессору — это слегка сводило с ума, но пока обходилось без тошноты. — Розовые, мать их за ногу, пони? — Ого, вот это мы резко заговорили, — захлопал глазами художник. — Я понимаю, что это туман. Но он… фиолетовый. — Прости, — потер переносицу Психовский. — Это тебя действительно здесь удивляет больше остального, среброкистый Феб? — Это все, конечно, замечательно, — каждый раз, когда ненадолго замолчавший Брамбеус вновь начинал говорить, от неожиданности сердце уходило в пятки, — но лучше бы нам найти какое-нибудь место, где мы переждем ночь. Кто знает, какие еще существа бродят тут в темноте… — Отлично, всегда мечтал пожить в пещере, — максимально саркастически сказал Федор Семеныч, разглядывая ружье. — Отлично, всегда хотел посмотреть на полудоисторических тварей-переростков! — максимально искреннее сказал Грецион Психовский, разглядывая, как художник разглядывает ружье. Ситуация практически анекдотическая. Все четверо — художник, профессор, барон и бедная ящерица — направились в ту часть тропического леса, которая, как им показалось, была не такой густой. Пока они шли, природа вокруг уже начала готовиться к ночной жизни — помимо ящерицы, засветились и грибы на гигантских стволах деревьев, словно бы питаясь наступающей темнотой. Фиолетовый туман шагал за четверицей по пятам, все разрастаясь и разрастаясь, густея и густея. Мир вокруг начинал походить на условный Квартал Красных Фонарей, включивший подсветку витрин, вывесок да указателей, и ставший к ночи еще более живым, чем был до этого. Деревья, тем временем, редели. Еще несколько пройденных метров без каких-либо приключений — хотя, кто знает, что произошло в других оттисках, — и Грецион, на правах шагающего первым, остановился, оказавшись на голом месте. Все это время они, похоже, постепенно шли вверх и оказались то ли на холме, то ли на утесе — поди разбери. Вековечные деревья порасступились, оголив склон — расти они продолжали только далеко внизу. А еще… Внизу виднелись очертания огромного, с вытянутыми куполами, каменного сооружения из древнего белого камня. Грецион присвистнул. Федор Семеныч снова взял ружье под мышку и полез за блокнотом. Брамбеус цокнул. Ящерица хрипнула и попыталась сбежать, но барон хватки не ослабил. Рептилия, пожалуй, единственная удивилась не столько увиденному, сколько мощным рукам своего тюремщика. — Это Индия? — прищурившись, проговорил вопрос художник. И, да, именно проговорил вопрос — спрашивают обычно, во-первых, у кого-то, а во-вторых — ожидая услышать ответ. Аполлонский же общался с воздухом, ответа не ожидая. — Скорее Камбоджа, — почесал бороду Психовский. — Вылитый Ангкор-Ват[8]! — Боюсь, вы оба неправы, — раздался незнакомый голос. Все трое обернулись. Ящерица решила остаться безучастной. В стороне, словно тоже выйдя из вековечного леса, стояла женщина в фиолетовом одеянии — ни то робе, ни то платье, — украшенном тонкими узкими костяными пластинами, некоторые из которых тускло блестели мрачно-золотым. На голове у незнакомки была надета… высокая шапка, типа папской католической митры, тоже сделанная словно из костей и инкрустированная аметистом. Густые темные волосы свисали до плеч, но среди них виднелись как-то чересчур ярко выраженные белые пряди. Конечно, вся эта картинка обработалась мозгами троицы моментально, оттого шоковый эффект пришиб куда сильнее и резче. А потому следующая реплика забила гвоздь в крышку этого гроба удивления — для Грециона уж точно. — Это вовсе не Индия, и не… — женщина замялась, — не Камбоджа. Это Лемурия. Добро пожаловать. В этот момент ящерица решила еще раз испытать удачу, и, наконец-то, везение не обошло рептилию стороной — она вырвалось из ослабевшей хватки удивленного барона и со всех лап кинулась вниз по склону, задев Грециона Психовского. В ином оттиске профессор просто пошатнулся бы, или, на худой конец, свалился, быстро придя в себя — но здесь Грецион как-то неудачно упал. Попутно споткнувшись о мощный торчащий из земли корень, он покатился вниз по крутому склону в неоновое царство вековечного леса, пока не ударился головой — на миг профессору показалось, что вдалеке прямо на него смотрят до невозможности глубокие, утопающие в собственном космосе глаза, разглядеть которые на таком расстоянии можно было только обладая соколиным зрением; но в сознании зазвенело, цветной мир закружился каруселью, а потом все кончилось. И Грецион Психовский умер.Близнецы. Глава 6 Вовсе без лемуров
— Кажется, это где-то уже было, — пробубнил профессор Грецион Психовский, слегка пошатнувшись от толчка ящерицы, уже скрывшейся где-то в тропическом лесу. Профессор оперся о подвернувшийся под руку стол, чтобы не свалиться — по-хорошему, ему очень хотелось выругаться в надежде на то, что после этого полегчает. — И снится нам не рокот космодрома, а очередное дежавю? — с другой стороны схватившегося за голову друга подхватил художник. — Да подожди ты, — профессор вернул равновесие, оправил темно-зеленую толстовку, сделал важный вид, посмотрел на женщину и переспросил: — Лемурия? Та просто кивнула. — Вот те на! Кто бы знал, что это поездка может оказаться такой прекрасной. Женщина улыбнулась и снова заговорила медовым, словно обволакивающим изнутри голосом. — Я рада, профессор, что вы уже довольны, хотя мы еще не познакомили вас с нашей культурой. Но я должна проводить вас, пока окончательно не стемнело. — Одну минуточку, — не выдержал Аполлонский, подняв вверх руку с блокнотом. В компании Психовского обязательно должен был находиться балласт, не дающий безудержному энтузиазму и желанию распылиться на все подряд — лишь бы нос сунуть — взять верх. Роль эту много лет играл художник. — С каких пор в Лемурии говорят по-английски, да еще так чисто? Я что-то сомневаюсь, что тут можно найти репетитора. Девушка улыбнулась — так обычно улыбаются доктора наук, слушая доводы одиннадцатиклассников о теории вероятности, думая при этом: «какие же вы дети, совсем еще зеленые». — Языки, Федор Семеныч, всего лишь наша придумка, — объяснила она. — У слов есть изначальный смысл, и понимая его, можно разбирать все, что будет сказано. Слова оставляют… некоторые отпечатки в пространстве. Образы, если хотите. А здесь, в Лемурии, нет языков — здесь лишь слова в их истинной сущности. — Расскажите это моим коллегам с иняза, — хихикнул художник. — Кстати, откуда вы знаете, как меня зовут? Я же не предст… Аполлонского вдруг осенило. — А, точно же, конечно. Отпечатки слов, образы. — Мне провести тебе лекцию по средневековым универсалиям? — встрял Психовский. — Чтобы ты точно все понял. — Нет, спасибо, мне хватило философии еще в те времена, когда я был студентом. Повторять как-то не хочется, — Федор Семеныч задумался. — Но не думай, что ты один тут мистер-умник, я примерно понял. Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет. Ну или как оно там. — Садитесь, зачет! — Когда-нибудь я дам тебе пинка, Психовский. — Жду с нетерпением, дорогой мой Феб. — Смотрю, ты там уже совсем оклемался? Близнец хлещет энергией, ха-ха, как неожиданно! И тут очнулся барон Брамбеус, до это впитывающий и переваривающий информацию. — Погодите-ка, мы что, правда пойдем с этой непонятной мадам в странном наряде? — Да, — четко ответил Грецион. Художник просто пожал плечами, как бы показывая, что другого ответа и не ждал — у Психовского в одном месте торчало шило, притом крутящееся, и с каждым годом оно вращалось все быстрее и быстрее, а кнопки «выкл», в отличие от Электроника, у Грециона не было. — А если они каннибалы и просто решили сожрать нас на ужин? — без малейшей нотки юмора в голосе сказал Брамбеус, сурово смотря на женщину. — Барон, мы далеко не дикари — спросите у профессора, он подтвердит. К тому же, Духовный Путь нам этого в любом случае не позволил бы, — здесь незнакомка слегка задумалась, а улыбка ее как-то потускнела. — К тому же, мы хотели предложить трапезу вам — вы же наши гости. — Вы всех, кого выкинуло на ваши берега, считаете добрыми гостями? — Так говорит Духовный Путь, — повторилась женщина. — К тому же, к нам не так часто кого-то выкидывает. Просто в вашем случае… Она не договорила, потому что как раз в этот момент у Брамбеуса громко — собственно, неудивительно — заурчало в животе. — Ладно, — улыбка вернулась на лицо барона. — Против хорошего пира я ничего не имею, даже если мне придется сожрать этих двоих. Брамбеус снова загоготал. — Тогда идите за мной, нам совсем недалеко, — женщина повернулась к троице спиной. Психовский заметил, что фиолетовое платье-мантия оголяло спину, и этот открытый участок украшали сплетающиеся золотистые… издалека видно было не очень хорошо, но вероятнее всего, золотистые змеи. Грецион такой детали слегка удивился и добавил ее в ящичек своих чертогов разума, пометив ярким маркером — чтобы, при случае, подставить к пазлу событий. Они шли мимо светящихся деревьев и все рьянее наступающего фиолетового тумана, и тут Грецион опять схватился за голову. — Как же я не переношу дежавю, — пробубнил он себе под нос, но женщина его услышала. — Значит, вы умерли, — сказал она. Грецион затормозил и побелел. — Что-что? — Вы умерли, профессор, но не здесь, — объяснила проводница. — То, что вы называете дежавю… впрочем, надо начать издалека. Вы знаете о том, что реальностей — много? — Мы называем это мультивселенной, — кивнул Психовский, поравнявшись с женщиной. — И я не скажу, что не поддерживаю этих теорий — уж слишком они заманчиво звучат. К тому же, если отрицать даже такие сумасшедшие вещи, то потом, попав в Лемурию, сядешь в лужу и уже не отмоешься. — Отлично. Тогда, вы поймете, что я имею в виду. Так вот, то, что вы называете дежавю, случается с вами тогда, когда в одной из бесконечных реальностей вы по той или иной причине умираете. И вам начинает казаться, что это вы уже где-то видели. Любой, на месте профессора, открыл бы рот от удивления и принялся бы переваривать услышанную информацию, или бы просто посчитал это бредом сивой кобылы. Но Грецион, мистер пытливый-ум и сэр незакрывающийся-рот призадумался, решив продолжить мысль: — То есть каким-то образом, это место во времени и пространстве… то, где я не-я умираю… резонирует со всеми реальностями? — Можно сказать и так. Смерть вас, но в другой реальности — слишком важное событие, чтобы остаться незамеченным в других вариантах реальностей. — Мне нравится! — загорелся Грецион. — Зная все это, наверное, даже интереснее испытывать чертово дежавю, да… Профессор замялся, поняв, что не знает имени собеседницы. Она, конечно же, догадалась: — Бальмедара, простите, я забыла представиться, — женщина вновь на мгновение замолчала, задумавшись. — Увы, но я не подскажу, каково это, потому мы, лемурийцы, никогда не испытываем дежавю. — И что для этого надо делать? — Родиться здесь, в Лемурии. Родиться под Змееносцем. Тут, заслышав знакомое астрологического слово, обезумевшим чертом из табакерки к Бальмедаре подбежал Федор Семеныч. — Тут кто-то сказал про Змееносца? Я вас внимательно слушаю. Женщина вновь улыбнулось, словно бы разговаривая с детьми в песочнице и рассказывая, почему корова говорит «му», а собачка «гав». В принципе, все мы — дети по сравнению с представителями цивилизаций давно минувших лет, только вот играем в песочнице, построенной на костях и пепле их империй. — Представьте себе круг Зодиака, — женщина показала это руками. — Он поделен на двенадцать частей, но в полый центр можно уместить еще одну фигуру. Двенадцать по окружности, и Змееносец — в центре. А теперь представьте, что каждый Зодиака в определенное время находится над одной из версий — или, возможно, вам будет понятно слово оттисков — реальности. Круг, как колесо, вращается — но центр не меняет своего положения. Бальмедара замолчала и закатила глаза к небу: — Центр, Змееносец, всегда над Лемурией. — И каким образом это влияет на дежавю? — присоединился к научно-оккультно-познавательной беседе Брамбеус. Женщина напоминала экскурсовода в музее — сначала все туристы разбрелись кто-куда и скучали, но чем больше экскурсовод рассказывала, тем интереснее становилось слушать, и народ постепенно подтягивался. — В каждом оттиске вы рождаетесь под разным знаком — и почти везде вы умираете не под своим Зодиака. Тогда каждого из вас постигает разная судьба — в одном оттиске вы живы, в другом — умерли, в третьем — тоже живы… — Так, — глаза Аполлонского горели ярче полуденного солнца. — А здесь Зодиака всегда один и тот же? Змееносец? И что тогда? — Если ты Лев, умерший в августе, — попытался додуматься Психовский. — То тогда… — Тогда все версии реальности, где вы тоже Лев, постигает та же участь. Все Львы погибают. Потому что они под одним Зодиака, и всеоттиски для них в этот момент едины. — Тогда Лемурия — едина для всех оттисков? — уточнил художник. Бальмедара улыбнулась. — Да, — сказал она. — Все, что происходит здесь и сейчас, происходит точно так же во всех возможных версиях реальности. Ведь наш знак неподвижен, в то время как для всех остальных, время стояния Зодиака в небе и Зодиака самого человека должны совпасть, чтобы оттиск стал единым. У нас же только один знак — Змееносец. Нельзя родиться не Змееносцем в Лемурии, и нельзя родится Змееносцем вне Лемурии. — Совсем? — огорчился Федор Семеныч. — Почти, — вздохнула Бальмедара. — Иногда, раз в никогда, Змееносец сдвигается из центра… это, конечно, аномалия, но она случается. Тогда кто-то вне Лемурии может родиться под Змееносцем, но он все равно будет разным во всех реальностях. Потому его знак не совпадет с тем, что пристроился на небосводе. — Если не попадет сюда, — уточнил Брамбеус. — Да. Но как только он покинет Лемурию, то вновь перестанет быть единым для всех оттисков. — Так, а если, — после долго молчания сказал Грецион, — кто-то, как мы, родившийся не под знаком Змееносца, попадет сюда. И умрет здесь. То тогда… — Вы сами проверили это совсем недавно, — ответила женщина. Психовский откашлялся и побелел — профессору опять поплохело, и не столько от осознания собственной смерти где-то в другом месте, сколько от осознания того, что всю эту информацию он почему-то и знал, и не знал одновременно, будто бы она стерлась, как запись на старой кассете, и то — взятой в прокат. — Да, точно. А… — А небо, — перебил его Аполлонский, — потому такое странное? — Лемурия — место между мирами, между оттисками. Посреди условного небесного круга, понимаете? Все версии реальностей в некотором роде вертятся вокруг нас. — А теперь можно еще раз, но не для профессорского состава? — попросил Брамбеус. Бальмедара вновь улыбнулась — Грецион подметил, что делает она это удивительно часто. — Лемурия едина для всех оттисков реальности, она — где-то между ними, прямиком под знаком Змееносца. А Змееносец — в центре Зодиакального круга. Потому здесь мы и не испытываем дежавю. Если мы умрем — то единожды в единственном оттиске Лемурии. Но вас выдрали из ваших оттисков, а потому дежавю у вас все еще случается. Женщина приумолкла, думая, как бы объяснить еще проще. — Представьте, что каждый знак Зодиака — это отверстие в форме определенной фигурки. И колесо с отверстиями крутится. Когда фигурка, то есть вы, и отверстие совпадают — то дежавю пропадает, на это время вы едины для всех оттисков. А здесь ваши фигурки никак не попадут в отверстие в форме Змееносца. Потому что под ним можно родиться лишь в Лемурии. С бароном было весьма просто разговаривать по многим причинам, но самой яркой, наверное, стала вот какая — Брамбеус читался как открытая книга, почти буквально. Все его мыслительные процессы отражались в весьма выразительной мимике, отчего было понятно, когда тот прикидывает некую идею, а когда ничего не понимает. После нескольких мучительных пантомим лицо Брамбеуса все же приняло выражение, говорящее: «Понял почти что до конца». — А тринадцатый добавочный месяц Шумеров, — пулеметной очередью оттараторил профессор, чтобы не дать Федору Семенычу вновь перебить себя, — с этим как-то связан? Женщина резко вскинула вверх руку, призывая к молчанию — сначала Психовский подумал, что тут что-то не чисто, и это — способ уйти от ответа на непонравившийся вопрос, но потом Грецион просто оглянулся. Он так увлекся беседой, что совсем не заметил, как густой лес уже кончился. Бальмедара же следила за дорогой, а потому остановилась как раз вовремя, чтобы… Чтобы впереди раскинулся храм, шепчущий не просто старостью, а уходящей глубоко в первые человеческие легенды древностью — от сооружения из потрескавшегося белого камня с вытянутыми, заостренными куполами, веяло чем-то очень… пустым — это было не ощущение, а его шаблон, который каждый должен заполнить сам. Грецион почему-то ощутил вкус кислых, забродивших ягод, а в ушах услышал религиозное бормотание, словно записанное на корке мозга, как на пленке. Складывалось ощущение, что древнее сооружение пыталось самым ярким образом представить себя каждому индивидуально, чтобы первое впечатление стало самым точным. — Скисшие ягоды и бормотание, — прошептал профессор. — Лакрица и журчание воды, — подхватил художник. — Мясо и… мясо? — не понял посыла Брамбеус. Бальмедара снова улыбнулась своей фирменной, какой-то дремлющей за пеленой улыбкой. — Мята и детский смех, — сказала она. — Предвосхищая ваш вопрос, профессор: да, это действительно заклинание. — Работающее по какому принципу? — уточнил Аполлонский, пытаясь переиграть Психовского. — Ну, Кабала, жертвоприношение, молитва… — По принципу слов, как и все остальные. Слова нашего правителя очень… весомы, во всех смыслах. Они спустились с холма, и чем ближе подходили к храму, тем больше понимали, что это — центр города. Вокруг появлялись другие люди, не обращавшие особого внимания на внезапных гостей: практически все местные были одеты в фиолетовые нарды, но без костяных вставок, да и причудливых головных уборов у остальных не оказалось. Грецион знал, что такие отличительные черты одежды и дополнительные аксессуары что-то, да значат — это как сумочки со стразами или дорогой строгий пиджак, ярким бельмом кричащий о статусе человека (или, по крайней мере, о наличии у него денег). Профессор уже начал прикидывать, какой статус давало лемурийцу наличие шапки-митры, но мысль его резко оборвалась и полетела в пропасть забвения, когда он вновь увидел здоровую фиолетовую ящерицу. И ладно бы, если рептилия просто мирно ползла где-то рядом — ну подумаешь, забралась в город. Но на ящерице сидел человек, помыкая ей, как лошадью — по бокам седла свисали какие-то кожаные мешки и сумки. — Мне кажется, или… — прошептал Аполлонский. — Нет, не кажется, — ответил Грецион. — Похоже, я в раю, — вздохнул художник. — Похоже, нам надо было оседлать ту ящерицу! — добавил Брамбеус. Заметив такой интерес к рептилии, проводница решила объяснить ситуацию: — Да, мы используем их как ездовых животных. Очень удобно, и наездник недалеко от земли, в отличие от лошадей. Но на это вы еще насмотритесь. Они проходили мимо сооружений из белого камня, которые давно уже захватили лозы и суровые корни огромных деревьев, но лемурийцам это, похоже, не мешало. Казалось, что все домишки, террасы, ступени и башенки росли из огромного храма, были его продолжением, и этот город — а никто не сомневался, что оказался в центре древнего мегаполиса — разрастался из центрального комплекса. Психовский гордился одной своей способностью, которая часто помогала ему на экзаменах: в молодости для того, чтобы списывать, а сейчас — чтобы мешать студентам заниматься тем же, ну или хотя бы издеваться над ними, ловя на жульничестве. Так вот, профессор очень быстро улавливал детали и запоминал их надолго — поэтому в отличие от Брамбеуса и Федора Семеныча, завороженных ездовыми ящерами, Грецион настороженно смотрел на колонны, обвитые каменными змеями, разинувшими свои пасти. Что-то очень напрягало Психовского, какое-то щемящее, интуитивное чувство, которое не получается объяснить до поры, до времени — пока не найдется катализатор для ответа. Но змеи в архитектуре… нет, тут что-то определенно было не так. И вот опять — не дежавю, нет, но ощущение, словно бы он видел это своими, и в то же время совершенно чужими глазами. Пока Грецион считал ворон, ну, точнее, змей, все четверо добрались до храма, вблизи — еще более огромного и нависающего. Индивидуальный запах каждого усилился, и профессора аж затошнило от едких забродивших ягод. Коварный взгляд, мониторящий детали, тут же просканировал колонны — конечно, здесь их тоже овивали змеи, только огромные, под стать храмовым колоннам — метров двадцать в высоту, не иначе. Бальмедара повела гостей внутрь. Внутри храм выглядел заброшенным, опять же, из-за торчавших отовсюду корней, опускавшихся с потолка лиан и других наглых представителей флоры, обосновавшихся здесь и не желавших депортироваться в леса. Своды купола возносились ввысь, и казалось, что они обмякнут, упадут и польются вниз самим космосом. Стены и колонны пестрили очень детальными и рельефными фресками с огромным количеством надписей, но ни у кого из троицы не было времени, чтобы их рассмотреть — Бальмедара вела гостей глубже в храм, а ведь Аполлонский даже успел достать карандаш и войти в режим художественной боевой готовности. Остановились они лишь в огромном зале, утонувшем в купели мягкого лунного света, сквозь который крались ниточки фиолетового тумана. Здесь были зажжены аметистово-золотые лампады и какие-то аналоги современных фонарей, вот только светившиеся так же, как многочисленные ночные грибы в вековечном лесу. Грецион, в своем репертуаре, обратил внимание на огромную белокаменную статую пернатого змея в конце зала — это не понравилось профессору в разы больше, чем все предыдущее архитектурные изыскания. Но, собственно, это все вещи описательные, а вот вещи действенные куда интереснее — потому что резко хлопнувший в ладоши барон, словно сотрясший землю, заставил вздрогнуть даже Бальмедару. — Еда! — проревел он как очень голодный, но относительно обученный манерам медведь. — Мой желудок уже начал сам себя есть! Какой-нибудь серьезный дядька-ученый заметил бы, что при таком раскладе, учитывая размеры Брамбеуса и его желудка, от барона давно бы остались рожки да ножки, да и то, не факт, что остались бы. Грецион и Федор Семеныч, не обладавшие столь молниеносной реакцией на еду в радиусе нескольких метров, отвели взгляд от храмового великолепия и увидели огромный каменные стол, накрытый всем, чем только можно: фруктами, кубками и сосудами с напитками, зеленью и даже мясом — последнему пункту барон, похоже, радовался больше всего остального. — Да, вы верно подметили, барон. Прошу к столу, — женщина жестом пригласила гостей. — А мы не помешаем… им? — уточнил Брамбеус, кивая в сторону четырех сидящих человек в таких же головных уборах и костяных украшениях, как у Бальмедары. — Они здесь исключительно ради вас. — Да нас еще и встречают с такими почестями! Эх, жалко старый алхимик куда-то попал, ну да ладно, сам виноват, что пропустит самое вкусное. — А ведь на этом столе сейчас могли есть нас, — шепотом пошутил Федор Семеныч, известный любитель черного юмора разного уровня жестокости — говорят, что студенты даже сделали сборник с его самыми тяжеловесными шутками, назвав «Чернее черного». Грецион промолчал. Зато Бальмедара услышала, легонько рассмеялась и пошутила в ответ: — Если бы мы хотели, то уже бы съели вас. Но, увы, для украшений и одежды мы используем лишь кости ящериц. — А для мяса за столом? — нахмурился Аполлонский. — Такие вещи лучше спрашивать после еды, — подмигнул Грецион. Троица уселась, поздоровалось с остальными четырьмя лемурийцами — все они были мужчинами — и приступила к трапезе, насев на еду так, что искры летели. В случае барона — почти буквально. Грецион же очень медленно жевал какой-то фрукт, похожий на смесь манго и питахайи, продолжая молчать — профессор думал, раскручивая в голове все возможные винтики. Аполлонский уж распереживался, зная о разговорчивости своего друга, тем более в таких ситуациях, но как раз в этот момент Грецион посмотрел на Бальмедару и спросил: — Этот пернатый змей, — он указал рукой в сторону статуи. — Это ваш бог? — Мы отказались от религии, профессор, заменив ее на Духовный Путь, — раздался старческий голос, прямо-таки наэлектризовавший воздух — борода профессора даже слегка встала дыбом, а это зрелище уж точно не для слабонервных. Пятеро лемурицев встали и отвесили поклон до того, как Грецион успел разглядеть, кто ответил на его вопрос — но в голове, по традиции, уже нарисовалась картинка. Профессор представил старца в здоровенной митре, обвешанного кучей золотых, костяных и аметистовых крашений, с посохом в форме змеи в руках — волне себе тянуло на одну из иллюстраций Аполлонского. Ожидание не оправдалось — что неудивительно. К столу мерно вышагивал лысый старик в простенькой белой робе, да к тому же — с черными кругами-татуировками вокруг глаз. — Да это же Ганди, настоящий Ганди… — опешил Федор Семеныч. — Нет, — поправила Бальмедара, выпрямившись. — Это наш правитель, магус[11], Визирь Духовного Пути, Заххак… Грецион обратил внимание, что женщина пытается не смотреть на новоявленного. Непохоже было, что делала она это из трепета или невероятного уважения — так отводят взгляд, когда очень сильно стыдятся чего-то, ну, например, разбитой вазы, хотя мама многократно просила даже на сантиметр не приближаться к ней. — Спасибо, Бальмедара, — сказал Заххак, и слова его вновь сотрясли пространство колючими и обжигающими искрами, словно дыхание огненного факира. — А что же до религии… да, мы отказались от наших пятерых богов в пользу Духовного Пути, профессор. А бывшие маги стали Гласами Духовного Пути. Магус обвел рукой пятерых сидящих за столом лемурийцев и продолжил: — В отличие от дураков-Атлантов мы понимали, что человек не станет совершенным, не займет место божества, но оставлять это место пустым тоже не получится — нужна хоть какая-то опора, за которую мы будем хвататься в минуты морального сомнения, в часы отчаяния… Для этого и нужен Духовный Путь, профессор — это всегда освещенная ярким огнем дорога, которая не дает людям сойти с того, что до́лжно и шагать не туда. Каждое слово, произносимое Заххаком, отзывалось в голове ударом кувалды, оставляя в сознании вмятины — но они не причиняли адскую боль, как при десятиминутном прослушивании самого отборного мата на высоких тонах, а лишь какое-то время зудили. — А зачем тогда эта статуя? — уточнил Грецион. У него всегда был пунктик насчет религии в голове, будь то постулат о могуществе четырех стихий, пантеон из пятисот с хвостом богов или вера в единую сущность, связующую все бытие своим эфемерным клеем. Как видел Психовский, проблема всех мировых религий, которые людей по идее должны объединять, состояла в том, что паломники постоянно смотрят на один и тот же банан, но кто-то говорит, что это яблоко, а кто-то — что ананас. А сказать, что это просто фрукт, без лишних уточнений, никто не удосуживается. Или те же паломники, но в другой ситуации, глядят на огромную скалу с разных сторон, и ее поросшие деревьями склоны что-то им напоминают: кому-то — здоровенный нос, кому-то — грозный лик, кому-то — пораженную параличом кошку. Но сойтись на том, что это просто гора, а остальное дорисовывает воображение, никто даже не думает. Шизофрения в чистом виде, не иначе. — Это лик… — заговорил один из лемуирйцев, но Заххак перебил его. — Да, абсолютно верно — лик Змееносца, знака, хранящего нас от разрозненности реальностей. Согласитесь, что такой подарок достоин статуи… во имя себя. — И все это нам вы рассказываете, — поинтересовался барон, который воспринимал многие фильмы уж слишком близко к сердцу, — потому что собираетесь от нас избавиться, да? Любой нормальный человек, если бы в его голове роились такие же мысли, не смог бы за обе щеки уплетать угощения — нервишки дали бы о себе знать, — но Брамбеус всегда считал, что ничего не должно мешать сытной трапезе, даже предчувствие подвоха и, какой пустяк, грядущей смерти. Иными словами, находясь на волоске от гибели, барон бы обязательно жевал что-нибудь питательное. — Потому что вы наши гости, — поправил Заххак. — А гости у нас бывают не так часто. Сами понимаете, единое для всех оттисков место под знаком Змееносца весьма… не располагают к визитам. И раз вам было интересно узнать об этом каменном лике Змееносца, то почему я должен был молчать? К тому же, хорошо обращаться с гостями гласит Духовный Путь, а сойти с него… вещь неподобающая. Тут правитель покосился на Бальмедару, которая старалась смотреть на стол и никуда больше. — То есть, как гласите вы? — уточнил до этого молчавший Федор Семеныч. — Простите? — на этот раз кувалда слов Заххака ударила с десятикратной силой. — Ну, если вы и есть тот, кто Духовный Путь придумал — то, получается если этот ваш Путь что-то гласит, значит это ваша идея и ваше убеждение. Ни то, чтобы я был против. — Очень напоминает бизнес-коучей, — заметил Грецион. — Да-да! И вот эти книжечки, ну ты знаешь, когда тебя учат, как организовать твой график, чтобы спать по восемь часов в день и успевать все на свете… Но это мы так, простите. Ваше здоровье! Аполлонский поднял бокал, запустив тем самым известную цепную реакцию застольной выпивки — гости и лемурийцы чокнулись. Психовский, отпив полбокала, тут же понял, что срочно нужна закуска, и потянулся за виноградом, так молниеносно кинув его в рот и проглотив, что тот попал не в то горло. Профессор закашлялся, пытаясь набрать побольше воздуха, но тот упорно не хотел наполнять легкие — голова закружилось, перед глазами потемнело, где-то на небесах рассмеялся философ Хризипп[12], и вот уже мир отошел на второй план, куда-то на затворки сознания, где очень скоро утонул небытии… Но перед этим профессор услышал — или, ему опять показалось? — утягивающее за собой, всепоглощающее шипение где-то под храмом. И Грецион Психовский умер.Из «Астролябии В»
Рак. Глава 7 Песнь песней Грециона Психовского
— Кажется, это где-то уже было, — промямлил Грецион Психовский, выплюну хмельной напиток и подперев голову руками. Нет, он все-таки воистину ненавидел это чертово дежавю. — Счастливого дня смерти, — хихикнул Федор Семеныч, с довольным видом хватая что-то со стола. — Заткнись! — гаркнул профессор. Аполлонский открыл рот, став похож на рыбку пучеглазика. — Опа, — протянул он. — А вот это что-то новенькое. Я, конечно, знал, что Раков легко обидеть, но ты превосходишь сам себя… — Прости, — Психовский так сильно схватился за бороду, что чуть клок волос не вырвал. — Но просто помолчи, помолчи, помолчи… — Лемурия — место тем и особенное, — как бы между делом заметил Заххак, — что здесь никогда не бывает ноющего чувства дежавю. Одна для всех оттисков, один знак Зодиака, под которым все и рождены. Но, думаю, об этом вам уже рассказали… Магус снова посмотрел на Бальмедару — та все еще отводила взгляд. — Но не буду вам больше мешать. Ешьте, отдыхайте, спите крепко и не нервничайте — ночь, как вы могли заметить, у нас очень туманна и особенна. А мы с вами еще увидимся — поверьте, гости у нас задерживаются надолго. Заххак взглянул на Брамбеуса, который между бесконечными приемами пищи набрал было воздуха, чтобы высказаться, но реплика его была прервана, не начавшись: — И нет, это не значит, что всех своих гостей мы сжираем или обращаем в рабство, барон. Просто география располагает… Визирь Духовного Пути улыбнулся и облизнул иссохшие губы — Грецион, волей случая в этом оттиске уже более-менее пришедший в себя, заметил… некое подобие черных надписей прямиком на языке Заххака. А может, это была просто игра света и тени — в конце концов, станет ли нормальный человек родом с древнего мифического континента идти в местный тату-салон с просьбой набить что-то во рту? Психовский предположил, что при определенных условиях точно станет. Голова, чувства и поведение все еще не особо слушались и шатались туда-сюда, как на старых деревянных качелях, но профессор все же записал эту деталь на жестком диске мозга, где она смешалась с кучей других нюансов — вот что бывает, когда долго не чистить и не сортировать системные папки, просто не находя на это времени.Из «Астролябии В»
Фиолетовый туман оказался настолько густым, что в него можно было укутаться, подобно главной эстрадной диве — и это отнюдь не фигура речи. Подолы этой ночной мантии доползли и до берегового пляжа, где достопочтимый алхимик Сунлинь Ван все еще продолжал думать, правда, слегка сменив позу и местоположение на песке. Ни один философ и мудрец, даже самый терпеливый, не сможет думать о вечности постоянно сидя на одном месте в одной позе, если он, конечно, не отдал богу душу. Но такое обычно сложно не заметить. Старый китаец передернулся, когда туман коснулся его щиколоток — он не ожидал такого материального прикосновения. Когда же фиолетовая дымка шалью окутала Сунлиня, он наконец-то открыл глаза, выйдя из терпкого омута раздумий. Алхимик додумался — до чего бы то ни было — и перешел к действиям: теперь медлить было нельзя, причин тому, неведомых никому, кроме Сунлиня, были десятки, да и шорох ног вновь начинал нарастать. Шагая по еще не остывшему бархатистому песку — а ночи здесь были теплые, как молоко с маслом и медом, — достопочтимый алхимик припомнил своего отца, еще более старого и достопочтимого алхимика, который горел страстной любовью к древним и простеньким музыкальным инструментам. Отец Сунлиня даже держал небольшую лавку — одну из тех, что до сих пор можно найти в старых китайских кварталах, над которыми не властно ни время, ни прогресс. В этой лавке зажигались свечи, горели китайские фонарики, звенели лиловым звоном (Сунлинь отчетливо помнил цвет звука) колокольчики и продавалась самодельные инструменты. Старик вырезал флейты, губные гармошки и другие простецкие инструменты прямиком из бамбука и, конечно же, учил этому Сунлиня — как делают все взрослые, надеясь, что знание это хоть где-то пригодится, ну хотя бы в игре на подобии «Ответь на сто абсолютно бредовых вопросов и выиграй миллион, от которого тебе придется отдать 80 % налога». И почему-то именно сейчас эти воспоминания вспылили в голове достопочтимого алхимика, а вместе с ними — знания, заложенные где-то на программном уровне. Те навыки, которые, как нам всегда кажется, в одно ухо влетели, в другое — вылетели, но на самом деле осели в глубине сознания и просто ждали своего часа; и потом, когда, проведя все детство в мастерской бабушки-швеи, кто-то вдруг садиться кроить платье, и у него получается само собой — он искренне удивляется, с чего это вдруг такие мастерские умения. Короче говоря, чтобы уж не тянуть резину, достопочтимый алхимик Сунлинь Ван вошел в стрекочущий ночью светящийся лес. И в этот момент на береговом песке стали появляться новые следы, сплетаясь с теми, что оставил алхимик.
Грецион проснулся посреди ночи от раздирающего душу подобно осколочной гранате, начиненной гвоздями, храпа. Людей с таким громогласным храпом ожидаешь увидеть в поезде, ну или самолете, куда они, видимо, приходят спать специально, чтобы другим жизнь медом не казалась — но никак не ждешь такого храпа в Лемурии, где ночь тиха, как немой в комнате с хорошей шумоизоляцией. Профессор открыл глаза — храпел барон Брамбеус, а его во всех планах грандиозный живот прыгал вверх-вниз. Ладно, тогда все размышления о людях с титаническим храпом сходят на нет — барон, видимо, и был тем человеком, который лишал весь вагон поезда сна и доводил машиниста до нервного тика. А почему еще перед бедной Анной Карениной паровоз не успел затормозить? Вот-вот, виной всему оказался как раз такой магистр храпа, но это все лирика… Профессор понял, что в такой компании уже не уснет — хотя Аполлонский дрых, как убитый, но это была какая-то его суперспособность: художник мог уснуть в любом положении, даже по пояс в воде. У Грециона, увы, такого дара не было, зато профессор обладал другим важным качеством — как сказал однажды Федор Семеныч, в случае с Психовским фраза «седина в бороду, бес в ребро» была в корне неправильной, потому что тут бес завелся и в бороде, и в ребре, и в голове, и даже где-то в селезенке. Вот профессора и тянуло на вечные авантюры, а сидеть на месте больше положенных часов университетских лекций было настоящей пыткой, с которой не сравнится ни железная дева, ни, чего там, знаменитая «пирамидка». К слову говоря, средневековые инквизиторы были теми еще извращенцами — наверняка с их подачки и придумали порносайты. Грецион встал, накинул снятую на ночь темно-зеленую толстовку и, пошатываясь после резко прерванного сна, вышел на улицу из домика Бальмедары, где им и предложили остановиться. Словно на автомате профессор дошел до какой-то возвышенности, не помня ничего — такое случается по утрам, только-только после пробуждения, когда вроде бы осознаешь мир, но через час вдруг понимаешь, что ничего не помнишь — а оказывается, ты уже успел надавать кучу обещаний. В голове сонными рыбами плавали мысли о всяком, но акулой среди них было раздутое размышление: что-то пошло не так, и не в том смысле, что их с Аполлонским внезапно выкинуло непонятно куда, это даже интересно, азарт лишним не бывает, а в том, что с ним, профессором, происходило не то — сегодня он сорвался на Федора Семеныча и еле-еле держал себя в руках до сна, пока окончательно не отпустило. Мысли крутились сами собой — в такие моменты они кристально чистые, как вода в горном источнике, — и Грецион понимал, что маленький механизм внутри лопнул, и по всему телу ползет ниоткуда взявшаяся ржавчина, ужасная коррозия, которая сегодня вырвалась наружу едкими парами, хотя Грецион всегда пытался не показывать самые сокровенные, терзающие эмоции на людях…. …в бодрствующее сознание профессор пришел, только когда уселся по-турецки и посмотрел на небо. А оно было… бесконечным. Цветные лоскутки мерцали и переливались, как разлитые на воде пятна бензина, и в их магическом неторопливом вальсе бултыхались звезды, которые казались какими-то чересчур близкими, рельефными — они напоминали колючих морских ежей, сменивших океанскую глубину на космические просторы. Среди огоньков крутились планеты, видные, как на ладони — будто небо было и не небом вовсе, а иллюминатором прямиком в космос, правда, декорированным цветным витражом, как в старом готическом храме. Планеты неспешно покачивались в такт этого небесного боулинга, кокетливо крутя своими поясами астероидов. Северное сияние по сравнение с таким — просто пшик. Грецион перевел взгляд на город, росший из храма. Там, внизу, отчетливо виднелся уже осевший и задремавший фиолетовый туман, да и на небольшом возвышении его тоже хватало — хватало настолько, что он теребил бороду профессора. Придя в себя и насладившись местными красотам, Психовский решил прогуляться по спящему городу — ну а что, все равно делать было нечего. Такие решения, как известно, редко приводят к чему-то позитивному. Но Раки, как тоже известно, любят ломать логику — и не стоит спешить бросать обвинения в зодиакальном мракобесии. Грецион миновал сонные домишки, пристройки и башенки, местами светившиеся от голубоватых грибов, и вскоре добрался до центрального храма — профессор решил еще раз полюбоваться на змей и, раз уж на то пошло, на пернатого змия. Уж слишком все это напрягало Грециона, но картинка как-то до конца не складывалась в голове — осколков этой древней мозаики словно бы с вавилонских Ворот Иштар[15] не хватало, чтобы сделать вывод, а как только общий узор начинал собираться, тошнота и головные боли с хрустом рушили его, вновь раскалывая на бессвязные куски. Хотя некий общий вывод напрашивался, и, если верить ощущениям — а Грецион в этом оттиске им ой как доверял, — то не самый приятный. Профессор вошел в храм, на ночь тоже уснувший — шаги аккуратным, непроснувшимся эхом отразились от древних стен. Даже лунный свет здесь дремал. — Пернатый змий, пернатый змий… и какого черта тут делает Кецалькоатль[16]? — пробубнил Психовский, шагая вглубь храма и все отчетливей ощущая запах забродивших ягод. Но дойти до пернатого змия ему было не суждено. В девственной тишине профессор услышал голоса — и это было не то религиозное бормотание, что звучало его в голове и усиливалось с каждым шагом. Это были звуки иного рода. Грецион, по привычке, решил проверить — а что это за тусовка, и без него? Юркнув в сторону голосов, профессор увидел в древнем белом камне лестницу — местами уже осыпавшуюся, — ведущую вниз. Внизу, кстати, мерцал свет от свечей, лампад и здешних «грибных» фонарей. Аккуратно спустившись — против всех законов жанра, очень даже бесшумно, — Психовский сделал еще несколько шагов, пока голоса не стали слишком громкими, и притаился, выглядывая из-за искореженного могучими корнями обломка стены. Грецион чуть было не присвистнул — но вовремя вспомнил, что ему надо молчать. Потому что в центре небольшого зала, двери в который, по-видимому, обычно были заперты, стояла металлическая клетка — а внутри дергался, как разозлившийся кот, Вавилонский Дракон. Теперь у профессора не было сомнений, что он видит именно это существо — и мысли об определенного рода таблетках сошли на нет, тут же уступив место паре-другой пилюль от головной боли. Внутри все снова затрещало, да с такой силой, что мир даже поплыл, и древние своды потекли плавленым сыром, превратившись в шаткие ятаганы — Психовский оперся рукой о стену, чтобы облегчить головокружение. Профессор взял себя в руки и прищурился, фокусируя взгляд. Вокруг клетки — насколько было видно Грециону — стояли люди в фиолетовых одеждах с костяными украшениями и вставками. Стало быть, подумал Психовский, маги — маги вокруг Вавилонского Дракона Сируша, посреди ночи, в подвале, который, предположительно, был местом не столь уж публичным. — А вот это, — подумал профессор, пытаясь второй рукой потереть переносицу. — Вот это уже то, что нужно. Еще бы не эта чертова тошнота, будь она неладна… Маги разговаривали. Грецион ожидал услышать знакомый женский голос, но почему-то насчитал лишь четыре мужских — да и то, в нынешнем состоянии они казались лишь приглушенными несвязными обрывками, разобрать которые стоило особых усилий. — У нас не так много времени, — сказал один. — С ним что-то не так, оно просыпается внутри… Визирь Духовного Пути и так был разочарован, когда Дракон сбежал… — Не забывай, что он сбежал не сам, его выпустили, это не наша оплошность, — поправил второй. — Мы лишь попытались исправить ситуацию и… наказать виновных. — Да, — сказал третий. — Это целиком и полностью ее вина. И она знает, что чуть не соскользнула с Духовного Пути. Нет, это непростительная оплошность… — Но мы сыграли не по правилам, — сказал четвертый будто бы наперекор остальным. — И Заххак этого не знает, и Бальмедара — мы сами оступились с Духовного… — Лишь смухлевали во имя общего блага — перебил первый. Грецион заметил, как дернулся широкий рукав, обшитый золотом. — Никому не стало от этого хуже, и Вавилонский Дракон на месте. Круг больше не нарушен… — Да, и все цари в надежном месте, снова здесь, — заметил второй. — Но все же, оно пробуждается внутри. И эту проблему надо решить, пока дракон взаперти, он всегда должен быть взаперти. Потому что… Дальше Психовский потерял нить разговора — чья-то рука легла профессору на плечо. Мир все еще пошатывало, и Грецион еле-еле сдерживал подступающую к горлу тошноту непревзойденной силы. Совершенно не желая поворачиваться, что вполне согласовано с инстинктом самосохранения в таких ситуациях, Грецион все же развернулся — деваться было некуда. Позади стоял магус Заххак. — Доброй вам ночи, профессор. Психовский знал, что главное таких ситуациях вести себя абсолютно уверенно, словно все так и должно быть, и в меру наглеть. — Она была бы доброй, если бы барон не храпел как вол, — невозмутимо сказал профессор, откашлявшись. — Ну ничего, уже светает, — поспешил обрадовать Визирь Духовного Пути. — Вам нехорошо, профессор? — Не ваше собачье дело, — рыкнул Психовский и тут же вздрогнул — оно опять поднялось откуда-то изнутри, черный комок спонтанной злости и негатива, дегтевая масса злобы вылезла наружу. Профессор наморщил лоб и еще раз потер переносицу — от головной боли это обычно помогало, но сейчас стало скорее просто инстинктивным движением. — Простите, — протянул Психовский. — Со мной все в порядке, просто мало спал, не обращайте внимания. Главный завет профессора здесь и сейчас — не делиться личными эмоциями. Грециону ничего не оставалось, как идти ва-банк — чего уж там терять, все равно ситуация сложилась не самая приятная. — Это Вавилонский Дракон? — Психовский показал в сторону клетки. Разговаривали они с Заххаком вполголоса, непонятно, правда, почему — какой смысл был скрываться? Ответа профессор не особо ждал, но он его получил — притом вполне лаконичный и четкий. — Да, — слово упало жестяной банкой и также сильно приложило по голове, превратив ужасное самочувствие в невыносимое. Правитель Лемурии вновь облизал сухие старческие губы — и вот оно, снова, Грециону опять показалось, что он увидел письмена на языке! Нет, на этот раз даже не показалось — на этот раз он точно их увидел, так же отчетливо, как теперь видел Вавилонского Дракона в клетке. — Ииии… — протянул профессор, ожидая продолжения. Ему хотелось уже перестать опираться о стену и просто осесть. — По-моему, он должен быть в Вавилоне, а не у вас в клетке… Заххак рассмеялся — так ломаются в лесу сухие ветви умирающих деревьев. Даже от простого смеха магуса все внутри покалывало и начинало чесаться, как после очень-очень старого свитера, найденного в глубине деревенского шкафа и лежавшего там, если повезет, лет пять, а то и все десять. — Конечно же нет, — Визирь Духовного Пути провел ладонью по лбу. — Вавилонские Драконы — наше детище, профессор, это наши зверушки, если хотите, царские домашние питомцы. Мы собрали их и просто подарили вавилонянам, потому что они мыслили, как бы вам так сказать… мыслили с нами в одних категориях. Но они не оправдали этих надежд, громогласно пав. — Стоп-стоп-стоп, что значит Драконы, почему собрали и…. — Грецион, понимающий, что все еще стоит живой и получает ответы на вопросы, решил идти напролом, путаясь в болезненно ноющих мыслях. — Профессор, профессор, — рассмеялся Заххак. — Вы действительно думали, что природа может породить такое… существо? Как мантикору или химеру? Мы собрали Вавилонского Дракона по кусочкам, по-моему, вы называете это… генной инженерией, но наши методы, методы наших предков, куда более действенные и глубокие. Их было двое, профессор — один в подарок Вавилону, один — для нас, и наверное все же стоит называть их Лемурийскими драконами, но раз уж на то пошло… Визирь Духовного Пути задумался, давая Грециону отойти от градом навалившихся слов — а они и вправду завалили сознание лавиной. — Вы не представляете, какие возможности дает существование вне оттисков, под Змееносцем… И это даже не считая отсутствия тошнотворного дежавю и осознания, что где-то, но не здесь, ты умер. У Психовского еще пуще затрещала голова, словно бы половицы сознания решили поддеть ломом — в сочетании с и без того отвартиельным самочувствием, запахом забродивших ягод и легкими отголосками религиозного бормотания, что рождал сам храм, маленький апокалипсис внутри наступил неотвратимо. Глубоко задышав, профессор посмотрел на ухмыляющегося Заххака, а потом перевел взгляд в сторону комнаты с клеткой, где Вавилонский Дракон уже беспомощно улегся, перестав сопротивляться. Маги, они же — Гласы Духовного Пути, они же, но по-человечески — жрецы, до сих пор что-то обсуждали. — А он, — профессор вновь ткнул в сторону существа. — Вавилонский или… ну, пускай будет, Лемурийский? — Подумайте, профессор, вы же умеете складывать два и два. Вавилон пал, их Дракон похоронен где-то глубоко под землей. А этот — единственный, что остался. Думаю, вы понимаете, почему я так… настороженно отношусь к нему. — И собираетесь что-то с ним сделать? — фраза прозвучала так, словно зоозащитник увидел дворовых детишек, поджигающих кошкин хвост. — Я собирался его поймать, пока он шлялся по разным оттискам стараниями глупцов, — Визирь Духовного Пути сделал какой-то непонятный жест рукой. — Это же абсолютно нормально — искать сбежавшего домашнего питомца. Дракон должен быть на своем месте, профессор — и не только потому, что я этого хочу, что мне это… скажем так, весьма полезно. Заххак наконец-то зашагал, словно бы гуляя по воде. — Всего хорошего, профессор, поправляйтесь, и доброго утра. Еще увидимся — обязательно. И, я надеюсь, в более… открытых обстоятельствах. Последние два слова ужалили разум — буквально. Грецион решил задать вопрос, необходимый в конце любого откровенного разговора, тем более, если речь касалась мудрых, могущественных и таинственных правителей древних, мистических континентов. — Ну и зачем вы все это мне рассказали? — Это — отнюдь не тайна, — магус даже не обернулся. — И таков Духовный Путь — будь открытым, да и откроется просветление тебе. У профессора почему-то сложилось ощущение, что последнюю фразу Заххак придумал только что. — Вас ждут к завтраку, профессор, — слова, опять тяжелые, как чугунные наковальни, ударили по голове Психовского. — Поторопитесь — аппетит барона не знает границ. И поднимайтесь аккуратно — в вашем состоянии лучше не спешить. Посыл был понятен и без дополнительных пояснений — Грециона послали куда подальше, но он задерживаться и не собирался. Еле-еле поднявшись обратно в храм, уже заполнявшийся первородными лучиками утреннего, гранатового солнца, профессор плюхнулся на каменный пол, схватившись за голову. Тошнота и боль почти отступили, и как только они сошли на нет, оказалось, что сил идти прямо сейчас особо не осталось. Психовский разлегся на каменном полу храма, потом сел и, несколько минут сверля взглядом пустоту и белые исписанные стены, наконец-то встал, уже почти не шатаясь, и неспеша пошел к колоннам, плюнув на статую пернатого змия — образно говоря, конечно, хотя не против был сделать это буквально. Улица дышала утренней свежестью, постепенно просыпаясь — туман почти отступил, солнце врезалось в древние камни и неспешно, подобно плохой электрической плитке, подогревало воздух. Профессор, в отличие от друга-художника, не курил, но любил затягиваться теплым воздухом, особенно рано-рано утром, и ради такого мог встать ни свет, ни заря — просто чтобы с чашкой кофе в погожий летний денек выйти на балкон. Такой теплый воздух был полон жизни, и тело наполнялось каким-то неподдельным счастьем просто оттого, что ты — здесь, ты — живой, ты — встречаешь этот рассвет; а Грецион Психовский до боли в суставах любил жизнь, какой бы стороной она к нему ни поворачивалась — и осознание того, что в каких-то оттисках его уже давно нет на этом свете, начинало пугать так сильно, что доставало до самых глубин сознания, туда, где живет леденящий ужас. Другой вопрос в том, что в этих оттисках все было по-другому, и даже Грецион был слегка другой — чуть более строгий, чуть более сдержанный, чуть более безответственный, чуть более грубый. Но профессору все равно почему-то казалось, что это все он сам, то есть это и был он сам, но только слегка отличный от самого себя… Да, терминология конечно хромает, но, говоря совсем просто: Психовский не видел особой разницей между собой во всех оттисках. Смерть она и есть смерть, не важно для кого. И точка. Задним числом профессор слегка завидовал лемурийцам, застывшим между оттисками, под тринадцатым знаком Зодиака, едиными для всех оттисками — они-то хотя бы знали, что если живы — то всегда и везде, а если мертвы — то раз и навсегда. Утро придало профессору новых сил, словно сказав: «Давай, дружок, возрождайся, нас ждут великие дела». Тело Психовского, тем временем, дошагало до прямой дороги к дому Бальмедары, а мысли вновь вернулись к чертовым змеям в архитектуре — нет, никто не отрицал, что это все влияние гигантских ящериц, но слишком много набиралось совпадений, и слишком сильна была кричащая от тревоги эмоция, чтобы игнорировать ее — по крайней мере, для чуткого и проницательного Рака-Грециона в этом оттиске. А разговор с Заххаком только подлил догадок в огонь. Если дверь возможности не открывалась сразу, Грецион пытался выломать ее. Если же она оказывалась слишком прочной и не поддавалась, то профессор ждал, пока ее кто-нибудь не откроет изнутри, и только потом сдавался — да и то, поглядывал, не появилась ли где щелка или тайный лаз. Сейчас профессор Грецион Психовский находился на стадии «попробовать открыть по-человечески».
Рассвет упивался лиловым. Красно-желтые лучи солнца градом падали на кроны деревьев, проносились свозь них и наполняли вековечный лес туманным свечением, киселем растекающемся по земле и прогоняющим кусачие сизые тени. Сунлинь Ван тонул в утреннем потопе — но ему нравилось. Ночью он задремал где-то среди светящихся грибов, чего ни один нормальный человек не сделал бы в настолько старом и не самом-то дружелюбном лесу, но старый китаец знал, что делает. Он умел быть едиными с природой, и природа — какой бы дикой, необузданной и жестокой она ни была, почти всегда отвечала взаимностью. По необъяснимой науке причине, ни одна тварь — даже голодная и не брезгающая человечиной — не подобралась к алхимику. Возможно, простая удача, возможно — грибы отпугивали зверей, а возможно Сунлинь Ван просто облил себя какой-то алхимической дрянью, от которой несло, как от стаи диких потных кабанов. Но теперь, утопая в бархатном утре, алхимик продолжал путь, внимательно вглядываясь в ветки деревьев — он как-то недовольно морщился и шагал все дальше и дальше, периодически позволяя пестрой тропической бабочке сесть на руку или на гладкую голову. В конце концов, бабочка — не голубь. Достопочтимый алхимик Сунлинь Ван искал, а деревья, будто догадываясь, что ему нужно, прятали ветки куда подальше. А поодаль, всегда следом и немного в стороне, в том же направлении и к той жецели, следов уже не оставалось, но трава приминалась, а ветки хрустели под ногами — казалось, что сами по себе.
Брамбеус пошел на третий круг. Не то чтобы его желудок был бездонным (в таком случае давно бы пылиться барону в кунсткамере), просто рацион лемурийцев состоял практически полностью из фруктов, овощей и какой-то, цитируем барона, «травы» — гостям местные предлагали то же самое. Так вот, будь Брамбеус в своем фамильном имении, его бы с лихвой хватило на один круг — потому что даже в грандиозного барона не влезло бы больше одного печеного поросенка, трех жареных карпов, парочки куриных окорочков, бочки селедки, тарелки тушеной капусты, ножки утки с яблоками, пирога с яйцом и мясом, торта с заварным кремом и кружек пяти хорошего, наваристого, домашнего пива. Угощение лемурийцев же щелкалось, как семечки, и голод пропадал где-то кругу к пятому, если не к шестому, уж тем более — за завтраком, где мясных блюд набиралось на пол-укуса. Брамбеус сделал глоток напитка — на этот раз медово-фруктового и не алкогольного — и вытер рот кружевным платочком, который всегда носил в кармашке. Манеры, в конце концов, никто не отменял. — А, профессор! — загремел тот, завидев Психовского. — Прошу к столу! Завтраки тут, конечно, не такие сытные, как на нашем почившем лайнере и уж тем более в моем имении, но эти фрукты прекрасны! Главное — съесть достаточно. — Спасибо, барон, — улыбнулся Психовский и уселся за каменный стол. Грециону показалось, что даже голос Брамбеуса, подобный раскатам грома, не так ударяет по голове, как разговоры вполне себе тихо изъясняющегося магуса Заххака. В этом определенно что-то было. Съев нечто наподобие фруктового салата и обильно запив, профессор помотал головой: — А вы не видели Аполлонского? — Как же не видел! Видел, и завтракали мы вместе. Ну, если считать первый заход… Он проворчал, что сигареты отсырели, что здесь нет кофе, слопал что-то жутко сладкое — даже я к такому не притрагиваюсь! — и убежал куда-то… в город. Это же город, да? — Город, барон, город. Город без названия и с таким количеством непонятного, что у меня мысли путаются. — Ну, это повод хорошенько поразмыслить и поспекулировать! Но, — Брамбеус поднял указательный палец, — только после хорошего завтрака! — Пойду поищу моего ненаглядного Феба, — Психовский встал. — А вам приятного аппетита. — Эх, ничего вы не смыслите в завтраках! — в шутку проворчал борон и пошел на четвертый круг.
Немного поплутав по близлежащим улочкам, профессор дошел до лемурийского рынка, который ничем не отличался от какого-нибудь древнеримского, древневавилонского, да пусть даже современного. Под тканевыми тентами — чаще всего, конечно же, фиолетовыми — покоились россыпи ларьков, где лемурийцы торговали практически всем, от мала до велика: начиная фруктами, заканчивая — драгоценными побрякушками. Психовскому почему-то представился Кортес, с восхищением смотрящий на такие же торговые ряды ацтеков; с таким же наслаждением, как Брамбеус, поедающий угощения местных жителей — а потом нещадно вырезающий всех вокруг мечем и огнем, прикрываясь верой, хотя его вера, надо быть откровенным, местами была столь же жестокой, что и кровавое жертвоприношение — да и то, сам Кортес видимо верил в деньги и только в деньги, а благочестье — так, превосходный фасад. Грецион порой воображал, что было бы, если б ацтеки до сих пор жили и процветали — сколько бы древних тайн и секретов можно было узнать, но жестокий путь оказался самым простым и надежным, а оттого всевозможные открытия канули в небытие. И так, думал Психовский, раз за разом, от народа к народу — мы сами хороним свое же прошлое под пеплом истории, пачкаем руки в крови, а потом долго сидим и удивляемся: «почему же так сложно узнать, что происходило в далеком прошлом, чем славился тот век, каким был тот народ?». Возвращаясь к рынку — Федор Семеныч, покуривающий, нашелся именно тут. — Я ни капли не сомневался, что ты просушишь свои сигареты и будешь курить получившеюся дрянь, — Грецион решил подойди к художнику со спины — для пущего эффекта. — Грецион, твою то ж… — Аполлонский закашлялся от неожиданности. — Любитель сюрпризов, черт, я чуть не подавился. Может мне на тебя тоже поорать, как вчера вечером? Нет, удивительно, но ты не прав — это какие-то местные сигары, и то без табака. Но хотя бы сладковатые на вкус. — Если это что-то вводящее в транс, выводить я тебя оттуда не буду. — Я выкурил вторую, в астрал пока что не ушел, — Федор Семеныч затянулся. — Кстати на шутку ты не обижайся. — С чего я должен обидеться? — С того, что ты постоянно это делаешь, просто всем своим видом виду не подаешь — вот так-то. Вас, Раков, разок уколешь — и все, словно мечом в сердце. — Да не обиделся я, пока, — всем своим видом Грецион показал, что виду не подает. — У меня к тебе два вопроса: как ты перенес храп Брамбеуса и где ты достал эти папиросы, хотя я бы скорее сказал очень дешевые самокрутки? — Первое — элементарно, Грецион! Если я усну, меня пушечным выстрелом не разбудишь. Второе не менее элементарно — я их купил на рынке. Удивительно, правда? — художник хихикнул, вновь закашлявшись. Дым от сигар-самокруток, как показалось Психовскому, был каким-то сладко-острым — смесь меда и красного перца. — И на какие, позволь узнать, шиши? Аполлонский потряс блокнотом. — На художественные! Я просто нарисовал весьма, кстати, симпатичный портрет хозяина лавки и его сынишки. — И этого хватило на мешочек папирос? — Грецион показал на тряпичный мешочек, привязанный к ремню художника. — Не только! Еще мне вручили в благодарность аметистовый медальон. — Так много за рисунок? — Сам удивился. Но они сказали… что согласно Духовному Пути, должны дать мне больше, чем я могу предложить. Я так понимаю, тут все так работает. — Духовный Путь, Духовный Путь… Как те самые книжонки, да. — А? — Ну ты сам про них давеча вспомнил. Или лемурийские сигареты способствуют потери памяти? Аполлонский махнул рукой — мол, ну тебя, старый приколист. — Зато я кое-чего узнал о Лемурии и о старых богах — ну, от которых отказались. — Я вот тоже кое-чего, — Грецион спародировал художника, — узнал. Совершенно не планируя этого делать. — Да давай, рассказывай, я ведь вижу, у тебя это так и рвется. И ты просто держишь себя, чтобы не ухмыляться. Оставь Грециона Психовского одного в темной комнате, подсунь туда нечто фантастическое, и он обязательно что-то, да учудит. — А ты будто лучше, да? — прищурился профессор. — Конечно, — Аполлонский с важным видом поправив соломенную шляпу. — Я просто буду стоять в сторонке, есть тортик, покуривать и пить кофе. Грецион рассмеялся, но не очень искренне, показывая, что шутка его задела, и рассказал о своем разговоре с Заххаком. — М-да, — присвистнул художник. — Интересное кино получается. Ну, тогда у меня — ерунда, достойная упоминания лишь в сноске. — Да рассказывай давай. — В общем, — протянул Федор Семеныч и достал блокнот — он часто сопровождал длинные разговоры зарисовками, даже навесу. — Ситуация примерно такая. Когда вчера ночью нам сказали, что лемурийцы отказались от религии, в принципе, не солгали. Когда-то у них было всего пять богов — очень, надо сказать, компактный пантеон. На пять богов — пять жрецов, ну, точнее, магов, включая Бальмедару. А потом, когда правителем стал Заххак, он устроил всем реформам реформу — ввел этот их Духовный Путь. И богов стали постепенно забывать, местные закончили жертвоприношения, как я понял, совсем не кровавые, прекратили ритуалы, службы ну и так дале… — А любой бог остается богом, лишь пока в него верят, — добавил Грецион. — Да-да-да, это твоя епархия, я не сомневался, что ты подхватишь. Так вот, они отказались верить в своих богов — постепенно, и с подачки своего правителя стали верить в Духовный Путь. Конец истории. Все. — Действительно, зачем верить в богов, когда можно заставить людей верить в человека, который придумал новую догму, видимо, только для этого. И теперь они верят только в Заххака, — профессор почесал бороду. — Знаешь, я думал твоего рассказа хватит хотя бы на введение к курсовой, а тут и вправду — только сноска. — С чего такие выводы? — Про сноску? — ухмыльнулся Психовский. — Да нет, ты все прекрасно понял. Про их магуса, или как его там. — Ну, он сам сказал нам, что Духовный Путь прокладывает он, а это все равно, что верить в него вместо Духовного Пути, а в Духовный Путь — вместо богов. Если какой-нибудь Людовик сто тридцать пятый придумал бы «Библию правильного поведения», люди бы верили не столько в эту библию, сколько в самого Людовика — точнее в правильность того, что он написал. Ведь это написал именно он, а не кто-то другой. — Ну они же не ставят ему статуи… — Это просто очень умелая подмена понятий — Духовному Пути статую не поставишь, если только ты не воспитанник модной арт-школы современного искусства, где и из писсуара можно сделать шедевр на века. — Но он же не заставляет их поклоняться себе… — Вот сейчас я правда обижусь на то, что ты споришь со мной, — непонятно было, шутит Психовский или нет, особенно учитывая его нынешнее душевное состояние. — Он говорит им как жить, мой среброкистый Феб. А это почти одно и то же. Почти как фараон Эхнатон[17], но ты прав, да, не заставляет поклоняться себе… — Ну и что тут такого, все правители — чудаки. А жители выглядят счастливыми. И не похоже, что тут устраивают геноцид несогласных, — Аполлонский закурил еще одну самокрутку. — И все равно, мне это не нравится. Духовный Путь… представь, что Библию заменили книжечкой «как жить так, чтобы все успевать» или «как жить так, чтобы быть счастливым». — Ну, с учетом того, что Библия — это по сути «как жить так, чтобы попасть в рай» … — Когда ты стал так цепляться к деталям? — Не знаю, — пожал плечами Федор Семеныч. — Может, тогда же, когда ты, мой дорогой Рак, стал столь эмоционален, обидчив и спонтанно зол. В этом, как его там, оттиске. Под новым созвездием. Художник затянулся. Грецион хотел было что-то сказать, но в нос вновь ударил запах сладко-острого дыма. — Слушай, а дай-ка попробовать эту дрянь, — попросил Грецион. — Ты же не куришь, — глаза Аполлонского превратились в блестящие алмазные булавки с блошиного рынка. — Это будет научный эксперимент! — О! — звук вылетел пробкой из бутылки. — Ну тогда, держи. — Но, знаешь, больше всех этих Духовных Путей, ладно с ними, меня беспокоит Вавилонский Дракон. Слишком много возни вокруг него, и мне как-то слишком дурно рядом с ним… Художник передал профессору дымящуюся самокрутку — тот сильно затянулся. На вкус, как и на запах, оказалось остро и сладко, но тут горло словно посыпали острым перцем: Грецион закашлялся грозно, как извергающийся вулкан, глаза заслезились, дышать стало тяжело. Перед тем, как все для Психовского окончательно потемнело, он увидел космос звериных глаз, жалобный и хватающий, уносящий туда, где нет ничего, нет себя — только тогда профессор почувствовал легкую сладость лемурийской папиросы, но сознание к тому моменту отключилось. И Грецион Психовский умер.
Лев. Глава 8 Аметистовые слезы
— Кажется, это где-то уже было, — попытался сказать Грецион Психовский, но вместо этого у него получилось «кхе-кхе-ЭКХЕ-кхе». Перед глазами ходили цветные пятна, а в голову словно посадили обезьянку с двумя стальными тарелочками, которая не уставая делала громкий «бамц». — Какая же дрянь, — все еще кашляя, профессор вернул папиросу Аполлонскому — та чуть не свалилась, потому что рука профессора тряслась похуже, чем во время десятибалльного землетрясения. — Ты что, опять помер? — хихикнул Аполлонский. — Тогда уж точно будем считать, что твой научный эксперимент прошел успешно. Профессор побелел, в глазах мелькнул первозданный ужас, а потом на лбу вздулась маленькая венка. Грецион проговорил дрожащим голосом, активно потирая переносицу: — Еще хотя бы один гребанный раз ты так по-идиотски пошутишь, хренов Арлекин… — Так, понятно, у нас опять кризис среднего возраста. Курить я тебе больше не дам. В профессоре словно щелкнул рубильник скоростей и настроений — смена быстро отразилась и на лице. — Боже, Феб, прости. Это все дежавю и… смерть, — Психовский сглотнул, мысли постепенно вновь вставали на нужные рельсы, и профессор наконец-то вспомнил о причине своего визита на рынок. — Кстати, а где Бальмедара? — Ой, — тут закашлялся уже художник. — Ой-ей, она просила вернуться после завтрака и выслушать ее, там что-то важное. И, по-моему, нам надо бежать… Черт, как же неудобно, когда часы не работают. Психовский бросил взгляд на часы Федора Семеныча — стрелки на них хаотично крутились туда-сюда, как пьяные лошади. — Что-то важное, — подумал Грецион. — Интересно, то ли важное, о чем говорили другие маги ночью? Когда друзья вернулись обратно в дом, Брамбеус как раз вставал из-за стола, вытирая рот кружевным платочком. Похоже, круги завтрака окончились. — Барон, — приподнял шляпу художник. — Федор Семеныч! Жалко, что вы так быстро убежали и не попробовали те штуки, похожие на апельсины… — Барон, Бальмедара не повалялась? — Грецион понял, что в разговорах с Брамбеусом нужно очень четко прокладывать тропки, по которым беседа пройдет — иначе огромный барон-бульдозер будет без умолку говорить. Не важно, о чем, но о чем-то, к теме явно не относящимся. Фраза вылетела сквозь сжатые зубы так же стремительно, как стрела арбалета со стальным наконечником. Грециону уже стали надоедать разглагольствования барона, ему хотелось лаконичных ответов, и все это начинало злить профессора до чертиков, будя внутри дремавших крылатых бесов. И не сказать, что Психовскому такой расклад особо нравился, но осознавал он это слишком поздно: — Простите, что так резко, барон, — извинился Грецион, поняв, что опять сорвался. — Да ничего, — махнул рукой Брамбеус. — Ни слуху, ни духу с раннего утра. — Так, — вновь подумал Психовский. — То есть она была здесь утром? Значит, на небольшой тайный междусобойчик магов она либо не явилось, либо опоздала… — Господа, — слово прозвучало как-то неуклюже, потому что в языке лемурийцев звучало совершенно по-другому, с другим оттенком смысла, но гости услышали то, что должны были услышать — саму суть слова. Магиня застыла в дверях. — Я рада, что вы собрались вовремя. Надеюсь, завтрак вам понравился? Брамбеус отвесил поклон — все равно, что бочка скатилась в винный погреб. — Великолепно! — Да, спасибо, — подтвердил Грецион. — Угу, — брякнул задумавшийся художников. Бальмедара вновь улыбнулась своей странной улыбкой — Грециона опять передернуло. Как же ему не нравилась эта улыбка, и вовсе не потому, что от нее веяло, допустим, лицемерием — нет, таких улыбок профессор повидал сотни, даром что два раза в год принимал экзамены. Те были наигранно-смазливыми и приторно-сладкими, а здесь в улыбке содержалось больше грусти, чем в сборнике рассказов печально улыбающегося Чехова, и это выглядело неестественно — такие же эмоции вызовет внезапно попавший в малиновый пирог кусок мяса, ведь точно знаешь, что он тут не к месту. Это была такая улыбка, о которой точно знаешь одно — сотри фасад, сдери штукатурку, и за ней появится нечто большее и невероятно важное. И профессор Психовский, в этом оттиске вечно и до разбитого лба уверенный в своих силах, просто выходил из себя оттого, что не мог понять, что же кроется за этой улыбкой, отчего она выглядит так неестественно, так печально и обреченно — но все же, черт бы ее побрал, улыбчиво. Пока профессор держался, чтобы не высказать все это вслух — хотя еще пару дней назад ему бы и держаться не пришлось, он бы и не подумал такого делать. — Я очень рада. Ваш хороший досуг — такая же важная часть Духовного Пути, как и… все остальное, — тут она слегка замялась. — Если вы не против, я хотела бы позвать вас на одну… церемонию. Снова заминка, но недолгая. — Уверен, вы очень хотите поближе познакомиться с нашей жизнью. Особенно вы, профессор. Грецион даже не успел ничего сказать — вместо него это сделал Аполлонский: — О да! Профессор обожает всякую муть, связанную с древностью, простите, если задел ваши чувства. Да и в азарте ему не занимать — помню, пришли мы как-то в казино, так я его оттуда еле вытащил, пока он не проиграл наши деньги на обратный билет. И вот теперь, мне, к слову говоря, интересно — а в других оттисках он вел себя бы так же, где он уже не Лев… Так, я отвлекся от вашего приглашения — Грецион точно будет за, а у меня заодно наберется столько материала для пейзажей, только, одну секунду… Федор Семеныч залез рукой во внутренний карман и, высунув язык — эту привычку из него раскаленным молотим было не вышибить, — порылся там. — Да, простите, мне просто надо проверить, сколько карандашей у меня заточено… Говоря откровенно, в карманах Аполлонского — если обшарить их все — можно было найти товара на небольшой художественный магазинчик. Федор Семеныч протер вспотевший лоб — художник специально не дал Психовскому ответить, потому что боялся, что в нынешнем своем состоянии тот ляпнет чего не надо. Грецион не очень-то по-доброму посмотрел на Аполлонского. Здесь и сейчас он и так не выносил критику, а тут еще его не до конца отпустило грохнувшееся дежавю, которое с каждым разом все четче ощущалось именно что смертью. — За меня уже все сказали, — пожал плечами профессор, посмотрев Бальмедаре прямо в глаза — но ее взгляд оказался крепче, чем Грецион думал. Зеркало души очень умело прикрыли стальным чехлом. — А я считаю, что прогулка после сытного завтрака — залог здоровой и долгой жизни! — барон подтянул штаны. — Я бы не сказала, что прогулка, барон. Скорее… поездка. — Вы что, хотите сказать?.. — глаза Аполлонского зажглись. — О нет, вы только что разбудили зверя… — нашел в себе силы пошутить Психовский.…месяц Огонь, Стрела НинутрыЖаровни зажжены, Ануннаки факелы поднялиГирра с неба нисходит, с солнцем равняетсямесяц Гильгамеша[18], девять дней юношив борьбе и атлетике по кварталам своим соревнуются…Из «Астролябии В»
Прежде, чем все четверо уселись на огромных фиолетовых ящериц — по двое на зверя, — Федор Семеныч долго стоял рядом с рептилиями и просто визжал от счастья, изучая их со всех сторон. Ящерицы, вполне резонно, грешным делом подумали, что это какой-то сумасшедший, и решили просто не обращать на художника внимания, спокойно шипя раздвоенным язычком и греясь в лучах солнца. Когда минутка спонтанного припадка кончилась, Аполлонский взял себя в руки и, сияя от радости, все же забрался на рептилию — не без помощи Психовского. Из-за того, что Брамбеуса и Федора Семеныча одна ящерица просто бы не выдержала, пришлось делиться на пары: Бальмедара-барон, Аполлонский-Грецион. Поскольку художник слегка опьянел от радости, ему управление рептилией все же решили не доверять, хоть штрафов никто выписывать и не собирался. Извозчиком — подумать только, извозчиком на ящерице — был Грецион. Бальмедара, конечно, объяснила профессору, как управляться с вожжами — технология не сильно отличалась от лошадиной, или, скажем, верблюжьей, правда ящериц не стоило слишком сильно лупить по бокам — во-первых, чешуя у них не столь прочная, а во-вторых, они, со слов магини, куда умнее всех других ездовых животных. Но профессору все равно было как-то не по себе ехать на здоровенной ящерице хоть, надо сказать, поездка выходила себе вполне комфортной — не все такси эконом-класса могут такое предложить, тут хотя бы дорогу на каждом повороте можно было не подсказывать, никто не начинал раздражающих разговоров и не включал еще более раздражающего радио. Оттого Психовский вцепился в вожжи и напряг руки, лишь изредка позволяя себе поглядывать по сторонам — в основном профессор смотрел или на дорогу, или на торчащую костяную шапку-митру Бальмедары. Грецион смотрел и думал, что же такое она могла натворить, и почему вокруг — змеи, змеи, змеи… И почему, в конце концов, он начал срываться на людей и чувствовать кипящую внутри злобу. В любом случае, голова рано или поздно затекала, и тогда профессор смотрел по сторонам — гости уже покинули город-храм, название которого Психовский все забывал спросить, и теперь шли… точнее, ехали верхом на огромных ящерицах (Грецион поймал себя на мысли, что звучит это как картина пьяного Сальвадора Дали) среди вековечного леса, еще более величественного, чем вчера. Правда на этот раз их вела тропинка из древних, как и все вокруг, белых камней — так выглядела бы дорога в Изумрудный Город, не хвати у его обитателей креатива и желтой краски. Лемурийцев здесь встречалось немного, и чем дальше все четверо отъезжали от храма, тем меньше становилось местных. Хотя кто-то все же шел вглубь леса: тощие и высокие, слегка смуглые лемурийцы — а они все были такими — постепенно оказывались позади. Ящерица встрепенулась — Грецион резко перевел взгляд на дорогу и сильнее сжал в руках кожаные вожжи. Магиня рассмеялась — тихо, как осенний листопад. — Не бойтесь, профессор, он вас не скинет. Ящеры — не кони. — Не переживайте, ему очень тяжело без помощника, а меня он управлять, кхм, не пустил. Такие уж они, Львы, что с них взять — самоуверенные эгоисты, горы свернут, а в такой рутине вязнут, как в болте, — посчитал важным повозмущаться художник. — Мой дорогой Феб, иногда твои зодиакальные замечания кажутся мне совсем выбивающимися из всего вокруг. — Ты просто не переносишь критики, — пожал плечами Аполлонский и слишком поздно вспомнил, что сейчас даже такая фраза может задеть профессора и содрать предохранитель самоконтроля. — Подумай: ты говоришь мне это после того, как мы оказались в древней Лемурии, которая не испытывает дежавю и покоится под тринадцатым знаком Зодиака? Аполлонский полез было за папиросой, но передумал. — А я сказал, что не верю тебе? — ухмыльнулся Психосвкий, но художник, глядевший по сторонам, этого не увидел. — Все твои газеты и журнальчики-гороскопы — это, знаешь ли, осколки Шумеров… — И сейчас ты снова начнешь свою песню, да? — фыркнул Федор Семеныч. Грецион хотел было еще раз сказать, что не верить в Зодиак — это то же самое, что не верить в тайны древних цивилизаций и, допустим, Атлантиду — просто скучно. И здесь лишь нужно знать меру и отделять плевела от зерен: потому что, одно дело — купленный у местный гадалки «Гороскоп, который точно, на все 100 % работает!» где расписано, сколько подарков вы получите в каждый день месяца, а другое — тайное знание древней и, безусловно, мудрой цивилизации, суть которого нам не всегда понятна, а порой вообще кажется ерундой. Вместо этого, профессор сказал: — Не начну. Похоже, мы приехали. Они спешились — Бальмедара почесала ящерицу, прямо как котенка. Психовский тоже хотел попробовать, но художник опередил его. Перед прибывшими раскинулся еще один храмовый комплекс, но не такой огромный — контраст примерно такой же, как между готическим собором с горгульям и маленькой церковной деревушкой. Строение все из того же опутанного растениями и корнями белого камня состояло из одной вытянутой башни с куполом и двух небольших пристроек поменьше — если приводить пресловутую аналогию с овощами-фруктами, которая почему-то работает всегда, то можно представить питахайю (она же — драконий фрукт) в центре и два артишока по бокам. Вход в центральную башню подпирало несколько колонн — даже отсюда Грецион видел, что они овиты каменными змеями. Опять. Ну и, что более важно, вокруг собралось много людей — лемурийцы не то чтобы толпились, но стояло их предостаточно. — Это наш храмовый комплекс, — объяснила Бальмедара. — Для малых церемоний и ритуалов. — Но вы же отказались от своих богов, — заметил Грецион. — Я не говорю о религиозных ритуалах, — вновь улыбнулась Бальмедара — на этот раз еще страннее обычного. — Впрочем, сейчас вы все увидите сами. А мне надо отлучиться. — Вы участвуете в ритуале? — уточнил профессор. — Да, — сказала магиня. Грециону показалось, что она хотела добавить «к сожалению», но не сделала этого, а просто направилась в сторону храма. Психовский помотал головой и наткнулся на барона, который завороженно оглядывал древнее строение и раскинувшийся вокруг лес. — Эх, а вот устроить бы здесь охотничье угодье… — мечтательно протянул он, когда к нему подошел профессор. — Грецион, — окликнул Психовского Федор Семеныч. — Ты обратил внимание на этот лес? — Честно — обратил, но не то чтобы какое-то особое. Меня больше напрягает состояние Бальмедары и грядущая церемония. — А твое состояние тебя не напрягает? — между делом заметил художник. — Слушай, я только пришел в себя… — Но внимание на лес ты все же обрати, — художник показал, куда надо смотреть. — Они эти деревья сами высаживают. И правда — лес здесь отличался от всего остального, его даже можно было бы назвать парком, если бы лемурийцы не пытались высадить именно что лес. Ближе к храму росли совсем небольшие деревья, постепенно разрастающиеся, за ними пристроились те, что повыше, и так — в геометрической прогрессии, до тех пор, пока эти посадки не сравнивались с исполинами вековечного леса. — Искусственный лес у храма, — на всякий случай произнес Грецион вслух. — Хорошо, что не сад камней — все интереснее. Потому что когда мы с тобой ездили в Японию[19]… Договорить профессор не успел — его перебил звук храмового гонга. В нос ударил запах смешанных благовоний, послышалось ритуальное бормотание — и на этот раз вовсе не из-за зачарованного храма. Процессия лемурийцев в фиолетовых капюшонах с золотистыми узорами вынесла из центральной башни храма что-то деревянное, умело отделанное тонкими костяными пластинами, своим видом напоминающее какой-то религиозный алтарь. Те, чьи руки не были заняты, несли местный аналог лампадок — аметистовых, с позолотой, украшенных костями, — которые и источали благовонья, расползающиеся невидимым дымом. Процессию возглавлял Заххак, по правую руку шла Балмьедара, по левую — другой маг. Остальные трое стояли где-то в толпе прочих лемурийцев. Визирь Духовного Пути что-то шептал, и его слова, даже такие тихие, кололись раскаленными иголками. — О, — потирая лоб, протянул Аполлонский. — А вот и твой друг. — Да уж, с таким другом… — пробормотал Грецион, ожидая продолжения процессии. Говоря откровенно, ожидания профессора не оправдались: все участвующие в ритуале продолжали невнятно бормотать что-то, зачастую — нараспев, разве только Бальмедара, с абсолютно безучастным лицом, вскоре поменялась местами с Заххаком и окропила деревянное подобие алтаря каким-то маслами. Профессор, конечно, знал, что самое настоящее заклинание как раз и будет выглядеть обыденно — никаких искр, мерцающих огней и прочего, по крайней мере, с этой стороны реальности. Ведь любая магия, особенно древняя, направленна на то, чтобы взбудоражить находящееся за гранью нашего бытия, где-то в другом пласте мира — вот там-то все мерцает, взрывается и шипит. Но эта процессия не была похожа на магический религиозный обряд — оно-то и неудивительно, подумал Психовский, с учетом того, что лемурийцы отказались от богов. Что, Грециону, кстати, тоже не нравилось. И вот началось долгожданное шевеление — процессия направилась куда-то за храм, в сторону странного леса. Все остальные лемурийцы медленно зашагали следом. Грецион решил воспользоваться ситуацией. Поскольку почти всегда и везде профессор чувствовал себя, как дома, его мало что смущало — особенно, если дело касалось древних артефактов, тайн и странного вида правителей. А тут ему еще повезло родиться Львом, редко считающимся с приписанными нормами. Ну и он же не за девушкой в душе собрался подглядывать, правильно? Правильно, поэтому профессор не увидел ничего такого в том, чтобы незаметно юркнуть в храм, пока остальные были слишком заняты не очень-то интересной процессией. Храм оказался на удивление маленьким, хотя количество каменных змей — даже, пропади они пропадом, не ящериц! — словно и не уменьшилось. Грецион быстро дошел до каменного алтаря, ожидая хотя бы чего-то интересного, но там стояло только пять благоухающих аметистовых сосудов. Психовский, не стесняемый ничем, сунул в один из флаконов пару пальцев — словно был у себя на кухне и пытался найти крахмал в череде одинаковых красных жестянок в белый горошек — и растер жидкость. В сосуде оказалось масло, по запаху — одно из тех, которое залили в лампадки. В поисках чего-нибудь интересного, Грецион обшарил все, что только можно, ненароком свалил один сосуд, поставил на место, поправил — словно бы это могло спасти пролитое масло — и вышел прочь, с одной стороны — слегка расстроенный отсутствием интересностей, а с другой — все так же слегка успокоившийся. Когда Психовский вынырнул обратно в солнечный свет, лемурийцы уже расходились. Профессор очень вовремя отбежал подальше от храмовых колонн, потому что участники процессии в капюшонах уже несли «алтарь» обратно. Профессор помотал головой, разыскивая среди высоких, худых и смуглых лемурийцев Брамбеуса и Аполлонского, которые выделялись как два шара — побольше и поменьше — среди пирамид. Именно по этой причине, поиски продолжались недолго. — Ну и как оно прошло? — начал Психовский, приближаясь к художнику. — Все так же скучно и неинтересно? Культурные традиции, конечно, надо уважать, они бывают разные, но… Федор Семеныч просто всхлипывал, неся соломенную шляпу в руках — на глазах навернулись слезы. Грецион опешил. Он, конечно, ничего не имел против плачущих мужчин, потому что гендерные стереотипы надо разрушать с обеих сторон, а не с какой-то одной. К тому же, лишний раз пореветь — хороший способ эмоциональной разрядки, когда в себе держать этот океан из водянистых эмоций уже решительно невозможно, да и профессор сам недавно ненароком на друга наорал. Грецион в этом оттиске, конечно, старался практически никогда не давать слезам выбраться наружу — и то, получалось не всегда — и в других людях этого особо не поощрял, но на сто таких Психовских придется еще сто других, в иных ксерокопиях, которым только повод дай выпустить эмоциональное напряжение. Просто профессор никак не ожидал увидеть Аполлонского плачущим прямо здесь и сейчас — вот так с бухты-барахты. — Мой дорогой Феб… — прошептал Грецион. — Почему ты плачешь? Неужели, они посмели разрушить Дельфийскйи храм, или Оракулы опять забыли подмешать сахара в твой кофе? Аполлонский хотел было рассмеяться — но получился какой-то болотный «хлюп». Связного ответа у художника тоже не вышло, и на помощь пришел барон, положивший мощную руку на плечо художника. — Профессор, — проговорил Брамбеус, из последних сил сдерживая скупую баронскую слезу. — Вы знаете, что это был за ритуал? — Судя по тому, что Федор Семеныч ревет навзрыд, то что-то не самое приятное. — Это были похороны, профессор. Вот тут тонкая струнка дернулось внутри Грециона и, будь он слегка в более преклонном возрасте и худшей форме, инфаркта было бы не избежать, как и последующего скачка в другой оттиск реальности — но у профессора просто задрожали руки от неожиданности. Обычно стойкого и непреступного профессора этого оттиска таким было не взять, но произошел тот редкий случай, когда Грециона одолели эмоции. Одно дело — балагурить в древних храмах, разбрасываясь сосудами с маслами, а другое — вот так вот… Шоковая волна прошла, и Психовский отругал себя за то, что не догадался — а какой еще может быть общедоступный ритуал в Лемурии, отказавшейся от богов? Мистерии — если они и остались — наверняка проводились в тайне от всех, а здесь… — Судя по всему, это был гроб, да? — вполголоса спросил Грецион. Приходящий в себя художник кивнул, вытерев слезы рукой. — Грецион, это было так красиво! — задыхаясь, просипел Федор Семеныч, уже запустивший руку во внутренний карман в поисках папиросы. — Таких красивых похорон я еще не видел… Аполлонский, то всхлипывая, то затягиваясь, принялся описывать, как все было: как они дошли до леса, как открыли крышку гроба-алтаря и вытащили бездыханное тело девушки с замотанным лицом, как ее облили маслами, осыпали каким-то порошком, потом прошептали несколько слов, от которых затрещало в голове, а потом подожгли — и тело исчезло в вспышке фиолетового дыма и искр, как от старого, слегка отсыревшего китайского фейерверка, а в нос ударил концентрированный аромат масел… — …а потом, — продолжил художник, — Они собрали пепел в аметистовую урну, украшенную костями, закопали ее в землю и посадили там небольшое деревце… Тут Федор Семеныч не выдержал и снова зашмыгал носом, разрыдавшись. Грецион совсем не хотел плакать, хоть такой поворот событий его и выбил из радостного состояния исследователя, спокойно шарящего по чужим сосудам с маслами — просто профессор, по крайней мере, в этом оттиске, считал, что сейчас далеко не место для слез. Вместо этого Грецион смотрел на высаженный руками лемурийцев лес-кладбище и думал, позволяя призрачным поездам-мыслям проноситься мимо сознания: профессор и сам задумывался о том, что давно пора заменить все уродливые и страшные кладбища с мрачными надгробьями, темными крестами и жуткими заборчиками на леса, высаживать цветы и деревья вместо могильных камней, чтобы кладбище стало похоже не на врата ада, а на место, где жизнь возрождается и разрастается с новой силой. И можно было бы гулять по тропам средь деревьев, в ветвях которых жила бы настоящая, неподдельная память — и не было бы страха, не было бы уныния, только приторно-сладкая грусть и вера в лучшее, в завтрашний день, который обязательно наступит. Часть Грециона Психовского очень радовалась, что хотя бы лемурийцы додумались до такого подхода. — Я вот только не совсем понял… — нарушил общее молчание Брамбеус. — Да? — выполз из панциря раздумий профессор. — А кого хоронили-то? — Мою дочь, — ответила подошедшая Бальмедара. — А, — вылетело у барона. — О, — выдавил художник. — Мои со… — начал было Грецион. — Не стоит, профессор, — магиня опять улыбнулась, и опять — той странной улыбкой. Теперь Психовский чуть больше понимал, почему Бальмедара улыбается так грустно и чудно́, но что-то все равно не давало ему покоя, у этого Ящика Пандоры приоткрылась лишь крышечка[20]. — Жизнь продолжается, жизнь меняется и… возрождается в иных вещах. Магиня показала в сторону леса. — Так говорит Духовный Путь, профессор. — Только Духовный Путь? — прищурился Грецион. — Не только. Конечно, не только… — добавила она чуть тише. Они помолчали. — Нам пора обратно, — подытожила Бальмедара. — Вам, Федор Семеныч, наверняка захочется еще раз прокатиться на наших ящерах? — Да как-то даже теперь не знаю… — промямлил поникший художник. — Не берите на себя мое горе, — вздохнула Глас Духовного Пути. — В конце концов, это не ваша вина. — А чья же? — невзначай уточнил профессор. Бальмедара промолчала. И тогда Грецион понял, что запутался во всем происходящем окончательно.
Огромная змея дремала на ветке, никого не трогала, примус, правда, тоже не починяла — в общем, грелась на солнышке под разноцветным небом, которое днем выглядело слегка выгоревшим, не столь ярким и контрастным, как ночью. Поэтому, когда змею резко схватили за свисающий хвост и потянули вниз, она даже не успела зашипеть, а лишь с шорохом пронеслась сквозь ароматные лисья, эластичные ветки и отнюдь не столь эластичные сучки́ и, набив пару-тройку шишек, увидела своего обидчика. Змеи, по природе своей, очень милые животные — по крайней мере те, что не владеют гипнозом и не заключают сделок с тиграми-гордецами. Пока вы не трогаете рептилию, она — за исключением не евшей уже пару недель — не трогает вас. Ну а уж если змею кто-то побеспокоит, то реакция ее будет молниеносной, и нужно молиться, чтобы смерть наступила мгновенно, а не от бесконечно изнуряющего, иссушающего тело яда. Вот и эта змея, бронзовые чешуйки которой монетами блестели на солнце, среагировала быстро — уже раскрыла пасть, зашипела и накинулась на обидчика, но на полпути остановилась перед добрым старческим лицом с козлиной бородкой так резко, словно бы за личиной этого милого дедули скрывался сам дьявол, в средние века больше предпочитавший черных пуделей. Но что поделаешь, времена меняются, и даже силам тьмы приходиться меняться вместе с ними. Но дедулечка был самым обычным — просто он прошептал что-то, отчего рептилия мгновенно успокоилась и уползла восвояси, искать другую ветку. Могла бы — пустилась прочь со всех ног. Достопочтимый алхимик Сунлинь Ван улыбнулся. Змеиному языку его никто не учил, но пару других фокусов — эксклюзивно для китайского общества алхимиков — он все же знал. Старый китаец вновь поднял тоненькую ручку вверх, к гибким, но довольно толстым веткам. Ветка хрустнула и отломилась, свалившись на землю. Сунлинь Ван поднял получившийся посох и разломал еще на четыре части, каждую из которых привязал к поясу. Позади шуршала высокая трава и хрустели ветки, но на этот раз их ломал не китаец. Внезапно, звук прекратился. — Не переживайте, — вдруг сказал Сунлинь Ван в пустоту, будто бы спятив — но пустота отнюдь не была такой пустой, какой могла показаться. В лесу пространство чудесным образом расширяется, и порой тяжело заметить даже шагающего рядом. — У меня к вам много вопросов, но идите своей дорогой — вы идете давно, с самих островов Комодо. Идите, там, куда вы спешите, вы куда нужнее. А мне нужно… закончить одно дело и понять несколько вещей. Почему-то старик знал, что его обязательно поймут — вскоре трава снова зашуршала. Алхимик опять улыбнулся, подняв голову и посмотрев в глубь леса. Прикинув, что до наступления ночи еще далеко, китаец присел прямо на землю, прикрытую огромными листьями какого-то папоротника, и тут же вспомнил, что у него с собой нет ножика — а ножик был необходим. Сунлинь Ван огляделся. Змея, недавно скинутая им с дерева, все еще неспеша ползла прочь, оставаясь в зоне видимости. Достопочтимый алхимик не любил жестокости, даже по отношению к самым подлым людям, а уж к животным, пусть и норовящим сожрать тебя — тем более. Но никогда не знаешь, что ждать от милого старичка.
Бальмедара налила всем сладкого нектара, но он как-то не шел — даже барон с его практически бездонным желудком тянул напиток неохотно. Всем было неудобно, что они не выразили должных почестей — хоть магиня и уверяла, что все в порядке, и ей стоило предупредить их самой, она просто не хотела портить впечатление от ритуала. Настроение — в случае Брамбеуса, аппетит — стало медленно, но верно возвращаться, и все трое лемурийских гостей разбрелись кто куда: барон отправился искать съестное, чтобы не смущать хозяйку, художник пошел рисовать на пленэре, а профессор устроил прогулку меж древних строений в сторону рынка — того самого, где ранним утром он встретился с Аполлонским и, похоже, умер, но не здесь и сейчас. Раздумья Грециона, говоря откровенно, не приводили его ни к каким выводам — он дрейфовал, как корабль без навигации посреди бушующего шторма, а где-то под бортом поджидал затаившийся змий-Ёормунганд. Профессор поймал себя на мысли, что даже в метафоре — играющей в голове картинке — ему снова привиделась рептилия, а это пахло уже какой-то паранойей, с учетом того, что колонны, фасады домов и даже места под скосами крыш были украшены этими каменными тварями. Психовского, привыкшего в этом оттиске оказываться правым, раздражало, что он не может прийти к даже малюсенькому выводу, не понимает, как связать все накинутые на него нити в одну паутину, в центре которой поджидает паук — хотя нет, погодите, змий, конечно же. Древние строения из белого камня — то рельефные башни с будто чешуйчатыми куполами, то дома с открытыми крышами, на которые можно было спокойной вылезти — давили на сознание, заставляя его работать и скрежетать, но по сусекам как-то особо не наскребалось. Профессор не заметил, как дошел до рынка, где лемурийцев, по сравнению с ранним утром, прибавилось — люди покупали… нет, точнее, обменивали товар на товар. Как сказал Аполлонский, так работал Духовный Путь — и, раз это место существовало одно на все возможные версии реальностей, так он работал везде. Вот тут в голове Психовского что-то щелкнуло, но он этого не заметил. Пока что. Грецион вглядывался в лица лемурийцев — худые, с ярко выраженными скулами, но счастливые, не изнуренные ни голодом, ни каким-то рабским трудом. Люди смеялись, или просто улыбались, или ходили задумчивыми, а может слегка грустными — парад эмоций не скупился на разнообразие. Профессор подумал: а почему его так беспокоит этот Духовный Путь? В конце концов, почти любая религия — нынешняя или былая, — любая идеология, любой набор ценностей — этот тот же Духовный Путь, только под другим соусом. Грецион припомнил пословицу, как оно там говорится? Хоть горшком назови, только в печь не ставь. Ну вот что-то из этой оперы. Второй щелчок в голове оказался чуть громче, но Грецион отвлекся на один из прилавков и из любопытства решил прогуляться до него — мимо каскадом плыли древние колонны. Профессора затянула их гипнотическая привлекательность, и он даже не заметил, как кто-то резко схватил его за руку и утянул в сторону, в тень, в один из бесконечных коридоров-продолжений храма. — У нас очень мало времени, — Психовский даже не успел прийти в себя, а его уже атаковали вопросами. — Да что б вас, — не выдержал профессор. — Мне и так хреново, а вы меня еще решили похитить и закружить. И вообще, кто вы, черт вас подери… Приступ злости, спазмом сжавший мозг, сошел на нет, когда Грецион наконец-то смог сосредоточиться и разглядеть утащившего его человека. Профессор обомлел — в тени длинного храмового коридора перед ним стояла стройная девушка с сединой в по-чудному остриженных волосах, в перепачканной, мокрой и порваннойодежде. И она почему-то показалась Грециону одновременно такой знакомой и незнакомой, словно он видел ее своими, но чужими глазами. — Боги, это сейчас не столь важно, потому что Дракон… — девушка замялась. — Вы тот, кто погнался за Вавилонским Драконом, а я та, кто выпустила Вавилонского Дракона. И слишком поздно поняла, что натворила. — Грецион Психовский, очень приятно, — ничего умнее профессор сказать не придумал. — Если вам так важно, и если вам это что-то скажет… Меня зовут Инара, я дочь Бальмедары… Профессор попытался нащупать опору — в голове загудело. — От черт, от черт, от черт… Да почему же все происходит через одно место… — Что-то случилось? — не поняла девушка. — Случилось, да, — нахмурился Психовский. — Несколько часов назад мы похоронили вас и сожгли, вот что случилось. — А, — девушка вообще не удивилась, словно бы ей сказали прописную истину: например, что нагретый лед становится водой. — Неудивительно. — Неудивительно? Неудивительно?! — крикнул Грецион и тут же начал тереть виски. — Так, спокойно, спокойно, бросай эти припадки, что это с тобой… — Я ведь собиралась просто сказать вам самое важное, но вы сами начали. — Моя голова, конечно, народное достижение, она вообще достойна премии и полки в музее, — профессор постепенно пришел в себя, но для уверенности по-турецки уселся на каменный пол коридора. — Но даже для меня сейчас слишком много секретов и недоговорок. Просто объясните мне, что произошло, и почему ваша мать думает, что вы умерли. — Потому что я освободила Вавилонского Дракона, — вздохнула Инара. — И они должны были убить меня за такой проступок, за нарушение Духовного Пути, но я успела убежать. И они решили убить кого-то другого, сказав, что это была я — и, видимо, даже не сказали об этом самому Заххаку, который первым бы потребовал моей смерти. — Опять этот Вавилонский Дракон, да что ж это такое — все за ним носятся, и только я не могу погладить, потому что мне дурно, — Грецион рассмотрел трещины в камне, а потом уставился прямо в глаза Инары, такие же по неземному невероятные, как у Бальмедары. — Что такое Вавилонский Дракон, Инара? — Вместилище всех царей… — Что-что? — напрягся Психовский. — Боже, но почему надо обязательно говорить загадками?! Грецион опять стал выходить из себя, но сделал несколько глубоких вдохов и выдохов — очень полезная практика, особенно когда нужно восстановиться после атак самых невыносимых студентов. Сейчас помогало хуже, но все же помогало — и на том спасибо. — Неважно, профессор, у меня очень мало времени, и я верю в вашу благоразумность — мне не очень хочется попадаться на глаза кому-то… лишнему… — Инара настороженно огляделась. — Вавилонский Дракон всегда должен быть взаперти, но мне было так жалко. — Просто скажите мне уже наконец, почему. Иннара замялась и по-детски захлопала глазами — будто ребенок, понимающий, что дергать собачку за хвост — это очень плохо, но не понимающий, почему. — Я не знаю до конца, не считая того, что Дракон нужен еще и Заххаку, но… Мне кажется, что Вавилонский Дракон сохраняет Зодиакальную эклиптику… — Так, — профессор подпер голову рукой. — А вот это уже интересно. — Мне кажется, что пока Вавилонский Дракон здесь, взаперти, знак Змееносца не покидает Лемурии. Зверь словно держит его на привязи, притягивает… а если Змееносец уйдет — уйдет и единство для всех оттисков. Я слышала, когда маги убили другую девушку, чтобы не попасть в просак и отчитаться перед Заххаком, как они говорили, что случится нечто ужасное. Поэтому, Вавилонского Дракона надо поймать обратно, и у нас не так много времени… — Боюсь, что ваш Дракон уже в клетке, так что можно не суетиться. — Его поймали?! — Ага, ваши маги сработали оперативно, — пожал плечами Грецион. — И, кстати, они говорили о другом, о иной жуткой причине. Они говорили, что оно, только не спрашивайте, что, пробуждается. — Вы говорили с магами?! — Инара сделала два шага назад. — Ну, как сказать, говорил. Скорее слушал — или даже подслушивал, чего уж в моем возрасте стесняться. Просто понимаете, я очень люблю приключения на одно место. — Но то, что он опять оказался взаперти у них и у Заххака, еще хуже. Они снова начнут… На рынке раздался грохот, абсолютно точно не имевший отношения к беседе. Но девушка вздрогнула и обернулась, закопошившись: — Мне лучше бежать, потому что дракон не должен снова быть в руках Заххака. Представьте, что этого разговора не было, и, прошу вас, никому не говорите обо мне. Я верю, что вы не просто так погнались за Сирушем, а почувствовали… — Это был научно-авантюрный интерес, хотя кто знает, в каком оттиске и настроении я тогда был, — наконец-то встал Психовский. — И я обязательно разберусь с Драконом в руках Заххака, но как-нибудь потом, когда вообще пойму, что происходит, и когда мне перестанет до невозможности дурнеть рядом с этим зверем. Инара уже не слушала, а убегала в сторону леса, там, где можно было спрятаться среди молчащих вековечных деревьев и томных камней, которые никогда не выдадут ни одной тайны. Выходя из тени колонн на сверкающий проголодавшимся солнцем рынок, Грецион, думая о запертом Вавилонском Драконе, пробубнил: — В чем же причина… Профессор бродил между палаток, терзаемый мыслями, содержание вопросительных знаков в которых после разговора выросло еще больше — будто до этого было мало. Сейчас Грецион ментальной ложкой мешал странный суп, где плавало такое количество непонятных ингредиентов, что хотелось поскорее разобраться, что же за блюдо приготовил таинственный повар, и не станет ли оно для него — Психовского — последним. Что-то вторглось в мысли назойливым жужжанием — Грецион отогнал этот ненужный компонент прочь, но он не хотел уходить, вновь плюхаясь в поток мыслей. Тогда профессор, всплыв в реальность, понял, что это обращаются к нему: — Доброго дня тебе! — улыбнулся лысый лемуриец в простенькой фиолетовой робе за прилавком напротив. — И вам не хворать, — выдал Грецион одну из своих любимых фразочек. — Что же гость, рожденный не под Змееносцем, желает приобрести? — У меня что, на лбу написано, что я не под тем знаком родился? Лемуриец рассмеялся. — Конечно не на лбу, но мы просто чувствуем это! Как наш магус Заххак чувствует Духовный Путь и его изменения, так и все мы… — Ваш магус, — перебил Психовский. — Чем он угрожает вам за то, что вы сойдете с Духовного Пути? — Визирь Духовного Пути никогда не угрожает! — развел руками торговец. — Мы верим нашему Визирю Духовного Пути, потому что он один знает, куда нам идти и кем нам надобно быть, что прийти туда. Он лишь говорит, что, сойдя с Духовного Пути, мы перестанем быть собой, потеряем себя навсегда. — И, возможно, буквально, — подумал Грецион, чуть не сказав вслух. Тут слова лемурийца эхом отразились в голове. — Погодите, — пробубнил Грецион. — Вы верите Заххаку, или в Заххака? Торговец вновь рассмеялся. — А ты еще спросил, как я узнал, что ты рожден не под Змееносцем, — лемуриец развел руками. — Мы верим в Духовный Путь, а Духовный Путь и Заххак — едины. Одного нет без другого. И тут в голове щелкнуло, словно в отложенном режиме, третий раз — после щелка, наконец-то, завыла сирена. — Так, — сказал профессор. — Так… — Надумали ли вы о покупке? — Что? — вернулся в реальный мир Психовский. — А, нет, простите, я передумал. И похоже… о, нет, нет, нет. — Не извиняйтесь! — крикнул вслед уже убегающему Грециону торговец. — Духовный Путь говорит, что нельзя держать обиду на мелочи… Профессор, конечно, уже не слышал. Все осколки, до этого разбросанные в голове, наконец-то собрались в мозаику — в ту самую, из цветного глазурованного кирпича, в центре которой красовался Вавилонский Дракон. Грецион начинал догадываться — догадка, правда, ему совсем, совсем не нравилась. Каменные змеи словно бы хищно глядели в сторону бегущего профессора, который прямо по дороге складывал картинку и промазывал логические швы, попутно припоминая, куда пошел Федор Семеныч. Но рынки — удивительное место для самых курьезны случаев, особенно те рынки, на которых торгуют бананами, прямо как в Лемурии. Бежавший профессор оказался слишком занят своими мыслями, чтобы заметить банановую шкурку под ногами — Грецион поскользнулся, упал на каменную дорогу, позвонок нехорошо хрустнул, а мир поплыл тающим льдом. И Грецион Психовский умер.
Дева. Глава 9 Тринадцатый месяц — дурной месяц
— Кажется, это где-то уже было, — пробубнил профессор и чуть замедлил бег — голова затрещала, а после пришло осознание, что где-то в бесчисленном множестве ксерокопий он умер, хотя сейчас — жив. Это легонечко, как шепот спящего древнего бога, сводило с ума, и сейчас довело профессора до очередного обрыва, с которого, разбежавшись, хотелось прыгнуть со скалы — Грецион просто ужасно крикнул, резко затормозив. Мир завертелся, вместе с ним — мысли, ударяющиеся друг о друга шарами для боулинга. — Ненавижу, — сплюнул Психовский, оскалившись. — Как же я все это ненавижу… Профессор тут же понял, что эти слов, определенно точно принадлежавшие ему, словно сказал кто-то другой — и начал искать внутри себя самого, пробираясь сквозь потемки души наощупь. — Так, — промямлил Грецион. — Не дрейфить. Потом разберемся, что это за чертовщина из меня полезла. Сейчас срочно к Фебу…. Сейчас, действительно, все остальное было не столь важно — Грецион мчался на поиски Аполлонского.…месяц Служба: в небе Лук Инанны Эламскойматери Инанны в Реке Ордалий очищаются,ежегодно сияют…Из «Астролябии В»
Федор Семеныч находился где-то на грани миров: художественного и реального. Карандаш в его руках совершал невероятные трюки, то оказываясь в одном углу листа, то — в совершенно противоположном. Художник напоминал обезумевшего паука, использующего все восемь лапок для скоростного плетения паутины — но вот только из-под руки Аполлонского постепенно выходил портрет сидевшей напротив лемурийки — чуть полноватой, — приправленный, конечно, вымышленными деталями. Федор Семеныч как минимум зачем-то добавил девушке карандашных веснушек, как максимум — наворотил с задним фоном такое, что страшно. Там теперь гуляли какие-то здоровые рептилии, ни то драконы, ни то динозавры — короче говоря, художник разошелся. Карандаш остановился — Федор Семеныч подумал, чего бы еще интересного добавить, чтобы портрет выглядел совсем по-героически. В голове вылупилась какая-то светлая мысль, и рука вновь задергалась. — Среброкистый Феб, — раздался крик. Лемурийка обернулась, а вот Аполлонский — отнюдь, проигнорировал восклицание. Когда художник уходил в работу с головой, он даже не замечал телефонных звонков — как-то раз студенты целый день трезвонили ему, потом раздобыли адрес в деканате, приехали домой, звонили в дверь, но никто все равно не открывал. Так они и подумали, что их преподаватель, стало быть, склеил ласты, и уже обрадовались, что рубежный контроль отменяется, но закончивший работу Федор Семеныч как раз в это время открыл дверь, сказав: — Я все прекрасно слышу. Потом он оглядел кислые лица студентов и добавил: — Если вы подумали, что я помер и рубежного контроля не будет, не дождетесь. А после Аполлонский пригласил всех на чай и долго травил самые непристойные байки о художниках, которых знал в достатке: одного Дали и Ван Гога с Гогеном хватало на добрых три часа, а уж когда начинались приключения Тулуз-Лотрека в кабаре… — Феб… — на этот раз Грецион потряс художника за плечо — это возымело эффект. — Я работаю, — промямлил Федор Семеныч и вновь склонился над блокнотом. — Это важно, — не мог угомониться Психовский. Художник тяжело вздохнул, вспомнив недавные перепады настроения профессор. — Только прекрати трясти меня, — выпалил тот и посмотрел на сидящую напротив лемурийку, потом — обратно на блокнот. Снова вздохнув, Аполлонский выдрал лист и вручил его девушке. — Прошу меня простить, — улыбнулся он и, недовольно заворчав, повернулся к Грециону. — Я бы ни за что не отвлекся, не зная, что ты можешь на меня снова наорать, и у тебя будет рациональная и не пустяковая причина дергать меня — как и всегда. Вот будь ты каким-нибудь там Близнецом… — Занимательную астрологию мы отложим на потом, — профессор отвел друга в сторону, слишком уж сильно дернув и схватив за плечо, словно таскал мешок с картошкой. — Потому что сейчас начнется еще более занимательная астрология. — Мне готовиться к лекции, о любитель учить всех и вся? Уже полез за зачеткой… — Ну, почти, — Психовский хотел ухмыльнуться, но у него не вышло, недобрый оскал почему-то никуда не сошел до конца. — Я понял, почему меня беспокоят все эти змеи. — Ты имеешь в виду, ящерицы? — Аполлонский поправил шляпу. — Нет, змеи. Каменные, — словно в доказательство, Грецион ткнул в сторону ближайших колон — художник прищурился, потом кивнул. — Ты же в курсе, что почти ни в одной архитектуре цивилизаций древнего мира этих гадин не использовали? — Тебе честно сказать? Более-менее в курсе. — Отлично. И ты, наверное, знаешь, почему. — Ну, потому что… — договорить Федор Семеныч не успел. — Потому что змеи, — продолжил вместо него Грецион. Художник не обиделся — он знал, что, если его друг пустится в объяснения и лекции, его даже летящий навстречу паровоз, груженый динамитом, не остановит. Грецион в этом оттиске учился сам и учил других всю жизнь, — всегда были на плохом счету, за редким исключением. Змеи живут в земле, они для многих олицетворяют смерть, приход из подземного мира. Давай с тобой вспоминать религии. В Древнем Египте огромный змей Апоп — воплощение тьмы и зла, готовое пожрать солнце, добавим туда еще немного демонов-змей из мира мертвых Дуата. В Вавилоне чудовище Тиамат — дракониха, но считай, почти змея, было тем же воплощениям зла и мрака, после убийства которой сотворили привычный нам мир. — Георгий Победоносец, — подсказал Аполлонский. — Именно! Даже если мы идем в веру в одного бога — тут тебе и драконо-змий, которого пронзают копьем, и сам змий-искуситель. Да даже Греки не особо любили этих чешуйчатых, думаю, про Гидру особо вспоминать не надо будет, и злому лику бога Диониса приписывали змею, связь с миром мертвых. А еще там же у Тифона ноги змеиные, в мелких поселениях у Черного моря змей считали символами смерти, про Василиска я вообще промолчу… — Но? — протянул художник, догадавшись, что за всей этой чередой последует не просто «но», а большое и жирное «НО». — Но есть один народ, который использовал змей в архитектуре, — Грецион сделал паузу. — Майя, ну и Ацтеки потом, не суть важно. У них тоже по колоннам ползли каменные змеи, и там-то как раз божество-рептилия было отнюдь не плохим, а вполне себе крутым парнем. Кетцалькоатль, дорогой Феб, пернатый Змий. — Тот же, статуя которого стоит в здешнем храме? — Я не уверен, что это он, но самое интересное начинается сейчас. Тринадцатый знак Зодиака — Змееносец. Как оказалось, знак вполне реальный, и опять эти чертовы рептилии. Ты ведь знаешь, откуда вообще эти названия пошли? — Всю жизнь думал, что это греки, — Федор Семеныч потянулся за папиросой. — Но оказалось, что это шумеры, ты мне как-то сам рассказывал. — Бинго! — по привычке профессор хлопнул в ладоши, слегка напугав сидящих неподалеку лемурийцев. Психовский отвел друга еще дальше. — Самое забавное, что в шумерском календаре был тринадцатый, добавочный месяц, который вставляли из-за неточности в расчетах. И, похоже, к нему тоже прицепили свой знак Зодиака. А теперь разбираемся в значениях — первый месяц после шумерского Нового Года, первый Зодиака, Овен. Говоря проще — ритуальный барашек. Давай вернемся к мифам — согласно Вавилонской вере, верховный бог Мардук до начала времен сразил то самое драконо-змеевидное чудовище Тиамат, отделил небо от земли и создал мир. Вот тебе и первый месяц, начало всего. А ритуальный барашек, он же Овен, символизирует акт этого жертвоприношения. Профессор сделал паузу, давая информации усвоиться. — А теперь, мы с тобой вспоминаем про тринадцатый добавочный месяц, тринадцатый знак Зодиака. Про Змееносца, мой дорой Феб. Тринадцатый месяц идет впритык к первому, и что если… что если Змееносец символизирует не акт жертвы, а саму жертву? Ту самую Тиамат. Или любого другого злобного божественного змия-дракона. — О, — только и выдавил Аполлонский. — То есть мы сейчас находимся прямиком под Зодиака, который посвящен злющему змеиному существу — в дань уважения, что ли, ведь без его гибели не было бы мира. И при этом здесь полно ящериц, в архитектуре — змеи, в храме — статуя пернатого Змия, а в клетке сидит чертов Вавилонский Дракон, который, как заявил Заххак, был создан здесь. А, чуть не забыл — лемурийцы отказались от пяти своих богов, заменив их Духовным Путем. Который работает точно так же, как любая религия. Только вместо того, чтобы верить в божества, ты веришь в фантомную дорожку и свод правил, а точнее — в человека, который все это диктует и, видимо, придумывает… Да все мировые религии только это и пытались воплотить, только каждая — по-разному. Федор Семеныч понял, что пора подводить черту. — И к чему ты это все рассказываешь? — К тому, дорогой мой среброкистый Феб, что Вавилонский Дракон сидит взаперти именно здесь, — Грецион посмотрел на цветное небо, перламутром переливающееся над головой. — И к тому, что он должен оставаться здесь, к тому, что связан с Тиамат или пернатым Змием, к тому, что играет какую-то роль в Духовном Пути и связан тринадцатым Зодиака и к тому, что вся эта змеиная хтонь не приведет ни к чему хорошему. В голове у профессора, как на потертой кассете, зазвучали слова одного из магов об «оно», которое пробуждается. Художник только присвистнул. — Вот это нам везет на приключения на пятую точку. И что дальше, Грецион? У меня есть предложение убираться отсюда… — Ну уж нет, — если игра начиналась, профессор, внутри которого азарт кипел на невозможных температурах, не останавливался. Правда здесь и сейчас он любил выстраивать четкий план действий, хотя бы их цепочку, а не метаться туда-сюда обезумевшим сусликом — Дальше мы будем задавать вопросы. — А у нас есть, кому? Психовский задумался, стоит ли рассказывать другу об Инаре, но вспомнив, что та просила не говорить никому, решил промолчать. Вместо этого Грецион ухмыльнулся — по-кошачьи хищно — и сказал, почти пропев: — У нас есть Бальмедара.
Инара брела среди густых кустарников вокруг главного храма Лемурии, стараясь быть незамеченной — ветки драли платье-мантию, но девушка не обращала внимания, потому что над ней нависла куда большая проблема — она не успела поймать Вавилонского Дракона сама, позволив магам и Заххаку пленить его самостоятельно. Девушка знала, что все эти годы дракон служил определенным целям, должен был находиться здесь по причине, от нее скрытой, но когда к власти пришел Заххак, человек, жалящий простыми словами, у Дракона появилась еще одна функция, словно в старом механизме с барахолки внезапно нашли новый режим, который до этого никто не замечал, а даже если и замечал, то считал бесполезным, или находил ему совсем другое применение. Заххак придумал свою собственную причину, почему Вавилонский Дракон не должен покидать Лемурии, а еще лучше — клетки в храмовом подвале. И причина эта не обошлась без Духовного Пути. Инара кралась к храму и вспоминала глаза Вавилонского Дракона — бесконечно глубокие, с бушующей внутри пустотой, заполнить которую казалось невозможным, ведь чем больше ей отдаешь, тем больше она просит — космос глаз зверя цеплял и утягивал, захватывал, не позволяя дать заднего ходу. Инара, как и любая лемурийка, знала секрет этих глаз. И почему-то, она сама не могла понять, почему, девушка доверилась профессору, не рожденному под знаком Змееносца — не только оттого, что тот погнался за Вавилонским Драконом, а потому, что ощущала что-то, какую-то странную связь… но не могла объяснить себе, в чем же дело. Инара подобралась вплотную к храму и сделал глубокий вдох.
Один лемуриец, имя которого потеряно в веках, посчитал, что выдался прекрасный денек для пешей прогулки, а потому шел, насвистывая мелодию под нос, в вековечный лес — не по дремучим, неизведанным тропам, а по дороге из древних белых камней. День для прогулки выдался действительно приятным, и все бы ничего, если бы именно в такие моменты вселенная не любила подкидывать сюрпризы — а поскольку лемуриец был един для всех оттисков, то черт из табакерки ждал его во всех возможных версиях развития событий. Густые пятна древних деревьев, постепенно смыкающиеся над головой, уже показались впереди. Мужчина жадно, с удовольствием глотал свежий воздух, но тут перед ним, выйдя прямо из леса, оказался достопочтимый алхимик Сунлинь Ван, в глазах лемурийца выглядевший вовсе не как достопочтимый алхимик, а как обычный милый старикашка — ну, мужчине хотелось верить, что старикашка милый. Сомнения закрались в душу, когда лемуриец взглянул на пояс незнакомца — точнее, на змеиный клык, привязанный к нему, и четыре толстых, продырявленных обрубка ветки. Мужчина инстинктивно шагнул назад. Старый китаец — вперед. Они долго могли бы играть в эти оборотные кошки-мышки, но Сунлинь Ван оглядел громоздящийся впереди город-храм, маячащих вдалеке ездовых ящеров и маленькие пятнышки-фигурки людей. А потом достопочтимый алхимик спросил, практически как в анекдоте: — Вы не видели барона, профессора и художника?
Каменные стены казались белоснежными, ведь солнце не уставая умывало их, окропляло своим сиянием, обнажая даже самые древние швы-морщины — оттого все внутри домишки сияло, будто бы широкое поле ясным утром, после снегопада. Ни трещины в старых камнях — маленькие и огромные, — ни корни и ветви, пробравшиеся прямо в дом, не портили картины — наоборот, придавали такого шарма, который другим местам, не настолько древним и мистическим, даже не снился. Но так все выглядело с точки зрения случайно забредшего в домик гостя, а для Бальмедары — вполне себе обыденно. Правда, солнце действительно разыгралось. Магиня, не обращая абсолютно никакого внимания на толстые корни прямо у основания каменой стены и ружье, которое барон оставил, накрывала на каменный стол: уже раскинула фиолетовую с золотыми узорами скатерть, а теперь расставляла вазочки и фрукты, аметистовые, с костяными и золотыми ободками. И хотя рядом не было никого, кроме дремлющих корней деревьев и вездесущего солнечного света, Бальмедара улыбалась — все той же улыбкой. В дверях кто-то откашлялся. Иная хозяйка могла и разбить аметистовую вазу в своих руках, но магиня лишь сильнее вцепилась в нее и повернулась — в дом, конечно же, входил Грецион. — Вы меня почти напугали, — призналась женщина. — Надеюсь, вы хорошо отдохнули? — Более чем, — признался профессор, походя к столу. — Я даже успел прогуляться по рынку. — Могу предположить, что вы были впечатлены. А если вы заходили к старику Сквейгу… — Бальмедара опустила вазу на стол. — Увы, но нет. Зато я вновь убедился, что рынок — отличное место, чтобы добыть информацию. Оттиск оттиском, а языки у торговцев без костей, по-моему, везде. Бальмедара улыбнулась — без какого-то страха быть раскрытой, обычно тенью появляющегося на лицах закулисных злодеев. — Сквейг… а это не тот, — проговорил вдруг Федор Семеныч, что-то зарисовывая в блокнот, — который выглядит как молодая мумия? Магиня рассмеялась. — Он и есть почти молодая мумия, — ответила женщина. — Лемурийцы спокойно доживают до ста лет, но Сквейг — долгожитель даже среди нас. Психовский, покручивая в руках аметистовую склянку и смотря на дом сквозь нее — как школьники на первом уроке химии, — спросил: — А разве ваш Визирь, Заххак, не долгожитель? Бальмедара ничего не ответила. Грецион любил бить сразу в цель и редко церемонился, особенно, когда дело касалось экзаменов, но там его выпады компенсировались профессиональным преподавательским разгильдяйством. В других же случаях — когда дело было серьезным — компенсации не полагалось, поэтому, и так позволив себе непозволительную роскошь, Психовский, выработав план, без которого в том оттиске жить не мог, спросил в лоб: — Расскажите нам, Бальмедара. Расскажите. Ее яркие глаза, чуть потускнев, кольнули его. Грецион поставил склянку. — Расскажите нам о Вавилонском Драконе, — продолжи профессор. — Расскажите, что он такое. Расскажите… о вашей дочери. Грецион предпринял попытку пулеметного обстрела, надеясь, что хотя бы одна его словесная пуля попадет в цель — но по чистой случайности, как оно часто бывает, все три снаряда угодили прямо в яблочко. И уж непонятно, в этом ли оттиске, или во всех возможных. А Бальмедара опять улыбнулась. — Профессор… на что надоумили вас сегодняшние прогулки? — На то, что зверь всегда должен быть взаперти, на то, что вашу дочь убили за то, что она выпустила его, на то, что творит Заххак с Духовным Путем и что вообще происходит здесь, в Лемурии — вы же не просто так не ответили на мой вопрос о тринадцатом месяце при нашей первой встрече, да? Это место связано со Змием — чем бы он ни был. Аполлонский стоял в сторонке, решив не вмешиваться — просто тихонько зарисовывал что-то в блокнотик. Магиня села и опять улыбнулась. Вот тут Грецион, в этом оттиске верх спокойствия и победы разума над чувствами, вновь не выдержал, к горлу подступила жгучая злоба, сопровождаемая тошнотой: — И почему вы всегда, всегда, вашу ж мать, так странно улыбаетесь?! — Чуть тише, Грецион… — промямлил Аполлонский, ненавидевший конфликты. — Потому что мне больно, профессор, — сдалась Глас Духовного Пути. — И потому что так всегда улыбалась она. Психовский застыл, весь во внимании — тяжело было держаться и не ляпнуть, что он совсем недавно говорил с Инарой. — Моя дочь сошла с Духовного Пути, — призналась магиня. — Но она не хотела оступаться, хотя совершила то, за что уже нельзя было заслужить прощения и вернуться обратно. Она… — Выпустила Сируша, Вавилонского Дракона, — подсказал Грецион. — И он пустился разгуливать по оттискам. Бальмедара кивнула — профессор увидел, что она плачет. Тихонечко, будто бы стараясь, чтобы никто не заметил и не отругал. — Она оступилась по доброте душевной, ей стало жалко этого… зверя, и она открыла клетку, она послушала себя, свое сердце, а не Духовный Путь, совершила непоправимое — магиня тяжело вздохнула. — У них не было выбора, и магам пришлось убить ее. И теперь она… она часть Вавилонского Дракона, она потеряла себя. Федор Семеныч прекратил рисование, замерев и сняв шляпу. — Стала частью Дракона? — в голосе профессора послышались нотки антарктических ледников. — Да что же вокруг происходит?! Просто скажите мне, Балмьедара, скажите, что такое Вавилонский Дракон, почему он должен быть здесь всегда, и почему мне так плохо, так плохо… Грецион сжал кулаки, хоть как-то сдерживая себя. Бальмедара не нашлась с ответом. — Вы хотите знать о Вавилонском Драконе, — перевела тему магиня. — Вместилище царей… и подспорье Духовного Пути. — И все же, не пернатый Змий, — пробубнил Аполлонский. — Почему. Нельзя. Говорить. Прямо?! — чуть не взвыл Грецион, тяжело задышав. — Я не знаю, что со мной, но сейчас у меня в голове столько острых осколков загадки, собрать которые в единое зеркало я не могу, просто потому что… мне страшно смотреть в треклятое зеркало! — Смотри-ка, метафорами заговорил, — безуспешно попытался разрядить обстановку Федор Семеныч. — Точно не в порядке старик. — Это убило мою дочь, — магиня вытерла слезы — она будто и не плакала вроде, а просто промочила глаза. — Все это убило мою дочь… и Духовный Путь… — Да в чем тогда хоть какой-то здравый смысл?! В Драконе, в Духовном Пути, в оттисках и Змееносце, в каких-то там царях. Просто прекратите это, прошу вас, прекратите, и мне должно стать легче… Профессор схватился за голову и скрючился. — Грецион, — насторожился Аполлонский. — Эй, эй, Грецион… — Вы не понимаете, — привстала Бальмедара. — Вы ничего не понимаете. — Конечно, мы ничего не понимаем! — с трудом выпрямился Психовский. — Никто же ничего не говорит… — Духовный Путь говорит все и разом, профессор. — Духовный путь — фальшивка! Обычная стекляшка… — Нет, он не дает оступиться. — Но вы хотите, как и ваша дочь. Потому что вы видите, что это неправильно, — Грецион дошел до финальной стадии разговора. Бальмедара почему-то улыбнулась, хотя на глазах опять навернулись слезы — теперь профессор знал, что таится за этой улыбкой, такой странной и напрягающей. — Простите, профессор. — За что? — не понял Грецион, перестав сжимать лоб рукой. Дальнейшие события развернулись молниеносно, если не быстрее: послышался какой-то странный глухой «бум», Грецион обернулся и увидел, что на землю свалился оглушенный Федор Семеныч. Профессор чудом успел увернуться от второго удара, предназначавшегося ему, развернулся и взглянул на Бальмедару, явно не получавшую удовольствия от происходящего. В каком-либо другом оттиске реальности этот взгляд продлился бы на пару секунд меньше, но здесь времени замешательства Психовского хватило, чтобы маг дал ему по голове. Перед тем, как получить удар, Психовский крикнул, но слишком неразборчиво: — Бальмедара! Ваша дочь… И тогда профессор провалился во мрак, объятия которого терпеть не мог — там всегда было холодно, как в скандинавской преисподней.
Когда Брамбеус вернулся с прогулки, довольный и румяный, то дом Бальмедары был пуст, и на стол, к тому же, не накрыли — чему барон очень расстроился, ведь свежий воздух раззадорил аппетит. Чуть приуныв, Брамбеус уже хотел было уйти обратно, но заметил в углу ружье, о котором и позабыл — бодрость духа вновь вернулась к нему. Рыжий барон схватил ружье — порох уже должен был просохнуть — и, понадеявшись, что оно еще работает, решил устроить себе небольшую охоту. Тем более, что в глубине дикого и древнего леса навряд ли кто-то станет ругать его за стрельбу в пару-тройку птичек или, что более вероятно, ящерок. Одной больше — одной меньше, вот он, девиз любого заядлого охотника или браконьера, главное не перепутать (хотя в случае со вторыми чаще актуальна фраза «сотней больше — сотней меньше»). — Без гончих, конечно, не то, — подумал Брамбеус, схватив ружье под мышку, — но как-нибудь выкрутимся. Не успел он даже выйти из центральной части города-храма, как какой-то лемуриец дернул его за рукав. Барон обернулся. Рядом с местным стоял достопочтимый алхимик Сунлинь Ван. Несмотря на грозное и огромное тело, мыслительные процессы в голове Брамбеуса протекали со скоростью размножающихся кроликов — короче, без особого удовольствия, но и без устали, — а долгие годы охоты выработали молниеносную реакцию. Барон узнал китайца почти моментально. — Ха-ха, старина! — Брамбеус обнял Сунлинь Вана так, что тот аж запищал — как игрушка для собак. Пара косточек ненароком хрустнули. Поняв, что это перебор, барон, даже слегка приподнявший алхимика, поставил его на землю. Пока китаец прощался с лемурийцем, барон посетовал: — И где же вы пропадали! Мы то-то думали, что вы уже того, как ваш переводчик. Или он тоже с вами? — взгляд барона упал на пояс Сунлиня, увешанный все теми же обрубками палки с дырками и змеиным клыком. — О, смотрю, вам бы вести курс по выживанию! Я тут собрался на охоту, не хотите ли?.. Алхимик схватил Брамбеуса под руку и отвел в сторону, хоть рядом никого и не было. — Профессор и художник не с вами? — спросил старый китаец. — Нет, точнее, да, то есть… — Брамбеус призадумался. — Они были со мной еще утром, но больше я их не видел. Китаец наморщил лоб. — Полагаю, достопочтимый профессор Психовский обо всем догадался. — Догадался о чем? — не понял Брамбеус. — Послушайте, барон, — Сунлинь Ван отвел собеседника еще дальше. — То, что я вам сейчас расскажу, очень важно. Нам нужно найти профессора и художника, и, возможно, еще одну девушку, иначе нам всем придется… скажем на ваш, западный манер, то есть мягко — придется нам несладко. — А как это будет на восточный манер? — загорелся Брамбеус. Достопочтимый Сунлинь Ван откашлялся и начал ругаться на родном языке такими страшными словами, что деревья, казалось, задрожали — Брамбеус и рад был бы не понять, а просто посмеяться над чужой бранью, но в Лемурии слова обнажали свое нутро, и барон все понимал, отчего его энтузиазм все угасал и угасал. Когда китаец закончил, Брамбеус просто тихонько поаплодировал ему. Старый алхимик поклонился и почесал бородку. — Так вот, дорогой барон, дела обстоят так…
Грецион тонул во мраке. Где-то в леденящем бассейне бессознательного он — всего лишь яркая точка в этой пучине — падал вниз, даже не сопротивляясь, потому что сопротивляться не было сил. Иглы холода пронизывали со всей мощью, но не так, как в сильный мороз — лед закрадывался в саму душу, отчего холодело все вокруг, покрывалось белоснежной корочкой, и не видно было даже намека на просвет… Сознание профессора плескалось в небытие, лишь иногда сталкиваясь с обрубками мыслей и обломками образов — оно натыкалось на гигантских Змиев, на аметистовые камни, на мелькавшие картинки созвездий, на воплощенные чувства страха, тревоги, непонимания и просветления… а потом оно напоролось на огромные, во всю бездну отключенного сознания, глаза, внутри которых болтыхался космос, а в нем утопал Психовский, как далекий астероид, сгорающий в белом пламени. Нужно было сделать лишь небольшой рывок, чтобы перестать тонуть и рвануть вверх, вернувшись обратно, но сил даже на такой трюк сознанию профессора не хватало — а потому Грецион продолжал находиться в отключке. Сквозь густой, стеклянный мрак доносились какие-то искаженные подобия слов, словно обращенные к профессору — но светящаяся точечка, который и был он сам, все тонула и тонула, ближе ко дну, ближе ко дну, ближе… Всего один рывок мог вернуть обратно. Но его не произошло. Когда сознание профессора утонуло, светящаяся точка погасла, и на смену черноте пришел лишь серый шум, не пугающий, не раздражающий, а просто… пустой. Если это и есть смерть — такого врагу не пожелаешь. И Грецион Психовский умер.
Часть 3 Дыхание Змееносца

Весы. Глава 10 Двое в заточении, не считая шляпы
— Кажется, это где-то уже было, — глухо прозвучало в сознании Грециона Психовского, и оно сделало спасительный рывок. Скорлупа обморока резко треснула, профессор очнулся. Во рту пересохло, тошнило пуще прежнего, по голове словно с периодичностью били молоточком — сначала Грецион подумал, что это говорит Заххак, но потом разобрал пение такого качества, что любой концертный зал лучше бы провалился под землю со всеми зрителями, чем слушал бы это. — Сижу за решеткой в темнице сырой, — скрежетал Аполлонский, покачиваясь из сторону в сторону. Соломенная шляпа лежала на коленях. Грецион не был бы Греционом, если бы, даже находясь в полусознании, не ответил, откашливаясь: — Прямо под кладбищем, мы гниющие кости[21], — пропел профессор. — Как оптимистично, — хмыкнул художник, продолжив: — Вскормленный в неволе орел молодой… — Да заткнись ты, а?! — Грецион нащупал камень и обессилено кинул в художника — булыжник, ясно дело, не долетел, но Аполлонский так и застыл с открытом ртом. — Тэк, а вот это уже тянет на покушение на убийство. Я, конечно, понимаю, что ты только что помер, но не надо и меня тянуть за собой. Что с тобой вообще твориться? — Не знаю, — проскрежетал Грецион, попытавшись сесть. — А ты не орел, а скорее куропатка в неволе. — Только очнулся, а уже язвит, — рассмеялся Аполлонский. — Спасибо, что хоть сейчас без камня. Уже больше похоже на типичного тебя. — Я уже не знаю, какой я — типичный, а какой — нетипичный и совсем не-я. Профессор осмотрелся — вокруг, конечно же, были сплошные древние белые камни и могучие корни. Никаких окон, что неудивительно, ведь вероятнее всего они с Федором Семенычем находились в одном из подвальных помещений центрального храма — об этом догадаться несложно, ведь в ушах звенело религиозное бормотание, а нос наполнял запах забродивших ягод. Грецион позавидовал художнику с его журчанием воды и лакрицей — все-таки, это какая-то несправедливость, он и так себя нормально чувствует, так еще и ощущения приятные. В лучших традициях тюремных камер, была тут и решетка — с очень, очень толстыми прутьями, ни то металлическими, ни то — каменными. Свет, нарезанный полосками, пробивался сквозь нее, не давая утонуть в полнейшем мраке заключения. Профессор прикинул шансы к побегу классическим путем, то бишь в обход охраны (которой не было видно), прямиком через решетку — ну, говоря откровенно, шансы ровнялись нулю. И никаких ведь окошек для бедных пленников… Грецион Психовский тяжело вздохнул, стараясь не обращать внимания на продолжающего петь художника, хотя внутри подергивались цепи, готовые спустить злобных псов, в последнее время так легко вырывающихся на волю. Да, конечно, стоило догадаться и просчитать, что после его первой вылазки Заххак не будет сводить с профессора глаз и попытается что-нибудь предпринять при первой же возможности, но Грецион — не Наполеон, гениальным тактиком он никогда не был. Психовскому просто все всегда казалось до ужаса интересным, особенно — совать нос в такие странные, древние, мистические дела. О последствиях он задумывался лишь тогда, когда получал по голове — образно, конечно, но, как показала практика, иногда вполне буквально. Пока решений не находилось, но чутье подсказывало Грециону, его ноющим костям и стонущему затылку, что с Визирем Духовного Пути они еще увидятся. Мысль эта, как камень, брошенный в воду, тут же дала круги. В глубинах храма послышались шаги, легким эхом катившиеся к пленникам. — Поздравляю с пойманным Вавилонским Драконом, балластом Зодиакальной Эклиптики — хмыкнул Психовский, встав прямо около решетки, как только шаги затихли. — Зодиакальной Эклиптики, — воздух натянулся тугой струной. В слабом свете различалось белое, как призрачная простыня, одеяние Заххака. Грецион еще раз отметил про себя, что аскетизм в окружающей роскоши — либо признак слабоумия, либо чего-то недоброго. — Звучит красиво. Визирь Духовного Пути облизнул сухие губы. — И почему Вавилонский Дракон должен сидеть взаперти? — решил попытать удачу Психовский. — Потому что я не могу позволить ему разгуливать, — хмыкнул Заххак. — Да и зачем мне рассказывать слишком много? Но исходя из правил нашего… Духовного Пути, так уж и быть, я проясню слова Бальмедары. Замечание о Духовном Пути из уст правителя Лемурии звучало особо иронично, но вот только ирония эта перекрывалась гулом в голове — каждое слово Заххака словно дрелью проделывало дыру в черепе, проникая глубоко в сознание, проделывая дыры и в без того уже дырявом от дежавю решете. И даже сейчас, в игре тени и света (по большей части, конечно, тени), Психовский, потирающий виски, различил черные письмена на языке Визиря. — Это все из-за них, да? Заххак облизнулся — на этот раз специально. — Заклинания, профессор, имеют большую силу — незримую здесь, среди людей, но большую. А любые заклинания — это слова. А когда любые твои слова сразу становятся заклинаниями, многократно усиливаясь… Я благодарен египтянам, которые додумались до этого — в остальном же эти глупцы не поняли, к какой силе прикоснулись. — Пахнет промывкой мозгов, — между дела добрался Аполлонский и принялся насвистывать какую-то мелодию. Визирь Духовного Пути еле-заметно улыбнулся. — Зачем Лемурии нужен Вавилонский Дракон? Зачем он нужен Духовному Пути и Змееносцу — профессору надоело идти окольными путями, и он решил включить осадные машины — правда, шанс, что они взяли бы стены этой обсидиановой крепости, сводился к нулю. — Вы сами уже ответили на этот вопрос — эклиптика ломается. А никому, особенно никакому правителю, не было бы приятно, если бы он начал понимать, что теперь в других оттисках его действия могут нести иные последствия. Ну и к тому же, нельзя ломать правила небесного свода — это к добру не приводило никогда. — Но это не главная причина, — буркнул Психовский. — Я слышал разговоры ваших магов, и они… — Конечно, это далеко не единственная причина. Это было бы слишком глупа. — Так расскажите мне о других причинах — о том, зачем Дракон нужен Духовному Пути. Заххак криво улыбнулся. — Это залог того, что в Духовный Путь будут верить — вздохнул Визирь Духовного Пути. — Потому что люди бояться потерять себя, и страх этот не фантомен, он не берется из воздуха. — Знаете, Эхнатона это ни до чего хорошего не довело — заставлять верить в себя, лишь подменив понятия… — Эхнатон был глупцом, который понял все совсем не так, — в слова эти было вложено столько силы, что даже художник схватился за голову и прекратил свистеть. — Ему не хватило ума, что нельзя поставить себя на место бога, заставив верить в себя — это ничего не даст. И то, что стать богом в буквальном смысле нельзя, до него, да и до многих других, тоже не дошло. Увы, не в природе человека взять и превратиться во всемогущую сущность — даже заручившись верой, а ведь только это держит богов на плаву. — И вы решили поставить себя не на место бога, а на место вашего Духовного Пути, который и гроша медного не стоит… —вставил Грецион, прильнув к решетке и с приливом спонтанной злости сжав прутья. — Для моего пленника вы соображаете быстро, но не слишком метко, — развел руками Заххак. — Я и есть Духовный Путь — такой подход куда более эффективен, чем тот, что придумал дурак-фараон. Надо же, свести всех богов до одного, а потом сказать — что ты и есть этот бог, какая глупость. Впрочем, мы отошли от темы — вас ведь так интересовал Вавилонский Дракон. Заххак ухмыльнулся. — Сама его суть, его природа мне помогает. И я, скажу вам честно, очень удивлен, что правители до меня не додумались до этого. При этом так приятно осознавать, что твоя судьба будет едина для всех возможных вариантах, она не расщепится на тысячу «если». Да, профессор? Грецион промолчал. Дождавшись, пока Визирь Духовного Пути оближет высохшие губы и вновь покажет письмена на языке, Психовский все же сказал: — Но вы так и не сказли, что это за суть… Почему Вавилонский Дракон должен быть взаперти только здесь? Какая главная причина? И старостью лицо Заххака оказалось совсем рядом. Визирь Духовного Пути наклонился к уху профессор и прошептал: — Всему свое время. Фраза хлынула в мозг взрывной волной, и Грецион вновь схватился за виски́ — как раз в этот момент запах скисших ягод усилился, а религиозное бормотание в голове залилось эхом. — Черт, почему нельзя ответить нормально! — Психовский со злостью дернул за прутья и осел на каменном полу. А вот теперь Заххак рассмеялся — смех его гремел в голове то грохотом далеких камней во время сильнейшей грозы, то звенел весенним бризом в просыпающемся лесу. Профессору пришлось отступить от решетки. — Всему свое время, — Визирь Духовного Пути завернулся в свою простенькую белую мантию. — Но я дам вам совет, профессор — возможно, он утолит ваше любопытство. Поменьше смотрите в глаза Вавилонского Дракона, ведь тот, кто взглянет в них, и умрет — потеряет самого себя в их глубине. Вы же не хотите, что бы вас постигла та же судьба, что постигла дочь Бальмедары по ее же глупости? Психовский выудил из головы обрывки фраз: Инара ставшая частью Дракона, вместилище царей… Все это связывала какая-то общая красная нить, но профессор не мог ухватиться за нее. Зато теперь Грецион точно удостоверился, что Заххак не знает об истинной судьбе Инары. — Просто скажите мне причину, — прошептал Грецион. — Просто скажите! Меня рвет, я не знаю, откуда берется вся боль, вся тошнота, так что просто скажите уже, что б вас! — Воспримите мой совет, вот и все, хотя он вам, боюсь, и не понадобиться — прошептал Заххак. — Прощайте, профессор. — А я пустое место, — проворчал Федор Семеныч вслед уходящему правителю. — Ни здрасьте, ни до свиданья, все профессор и профессор… Грецион повалился на каменный пол и обхватил голову руками — нахлынула волна невероятной усталости, словно бы весь день он таскал на себе телегу, потому что коней в кабаке на перекрестке кто-то очень удачно стащил. Разговаривать с Заххаком было все равно, что принимать на себя удар боеголовки. Ушедшие во имя Духовного Пути боги, подумал Психовский. Боги, от которых отказались насильно, которых лишили веры. Откуда-то профессор знал, что с исчезновением народа, с исчезновением веры, погибают и боги, чтобы переродиться в новых — это что-то на подобие утилизации мусора, когда из никому не нужного учебника по физике 1819 года делают новенький справочник по миру маркетинга, очень востребованный, надо сказать. Но чтобы насильно заставить всех отказаться от своих богов… Надо сказать, что профессор вовсе не был атеистом — он очень даже верил в реальность богов, и жизнь постоянно подкидывала дров уверенности в эту топку. Загвоздка состояла в другом: разнообразия этих божеств было столь велико, что Психовский разрывался, в кого именно верить — поэтому, просто верил в существование всех богов. А уж канули они в Лету, или продолжают сидеть где-то на горах Олимпа или в джунглях Южной Америки — вещь не столь важная. Голова снова заныла, и Грециону вдруг отчетливо привиделось, как гибнут боги Лемурии — их огромные туши не выдерживают собственного невероятного веса и тогда божества падают, продолжают столетиями немощно лежать средь увядающих даров, задыхаясь, пока жизнь и вера постепенно покидают их, а тела — пусть и сотканные из чего-то эфирного — сохнут, скукоживаются, теряют былую славу. Медленное мучение длиною в вечность, вспыхнувшее в голове профессора чередой ярких, пугающих и завораживающих одновременно образов, где — почти как в доме Облонских, будь они религиозными фанатиками — смешало в сознании божеств разных народов, ведь лемурийских Психовский никогда не видел. И ведь все это лишь ради того, что жители стали верить в одного человека, в его Духовный Путь… А потом, когда не осталось ничего, в сотканную из чистой черноты картинку в голове ворвался Вавилонский Дракон с его огромными глазами, а вдалеке, отделенный звонкой перегородкой, на фоне Змееносца колыхался таинственный Змий, вобравший в себя черты всех страшных мифических Змиев других народов. Вдруг посреди этой мрачной картины ни с того ни с сего появился Аполлонский. — Эй, Грецион, — услышал профессор, вернувшись в реальный мир. — Так и будем сидеть? Психовский, вынырнув из размышлений, сперва посмотрел на пол — и только сейчас разглядел на белых камнях изображения четырех ни то пернатых змиев, ни то драконов, своими телами составляющих кольцо — затейливая композиция, ничего не скажешь. — Грецио-о-о-н, — настойчивей протянул Федор Семеныч. — Да закрой ты ж рот на минутку! — гаркнул профессор. — Дай в себя прийти. — Нет, ты приходи на здоровье, только не кричи, это я, старый-добрый Аполлонский. Но мне вот лично надоело сидеть и насвистывать песенки. А ты приходи, приходи — только давай на свободе, а? Грецион посмотрел на явно раздраженного сложившейся ситуацией художника — тот зачем-то встал и теперь крутил в руках соломенную шляпу. — Я бы с удовольствием, но если ты забыл, то мы немного в чертовой темнице, хоть без железной девы — и темницу эту явно строили не на отвались. А у меня все, как обычно, трещит и шатается внутри. Если у тебя есть идеи… — Грецион, — хмыкнул Федор Семеныч. — У меня есть опыт в этом деле. Профессор вздохнул. Опыт Аполлонского сводился к тому, что однажды его посадили в изолятор на двое суток — а ведь все началось с вечера пятницы: в каком-то даже не кафе, а скопище хипстеров и художников, Федор Семеныч пообщался с одним джентльменом (так он думал до того рокового дня) о творчестве… казалось бы, что страшного может произойти? Беседа извилистыми тропами дошла до работ российского авангарда, и Аполлонский начал доказывать, что картины Кандинского гроша медного не стоят, это просто какие-то треугольники с черточками, и динамики в этой его геометрии — ноль. И все бы ничего, да только собеседника это так задело, что начался жаркий спор, раскалившийся до сумасшедшей драки — бедного джентльмена пришлось увозить на скорой. Соль истории в том, что каким-то неведомым образом Аполлонскому удалось просидеть двое суток, а не пять, как было положено — но Федор Семеныч мог прикинуться белым ангелочком, если очень уж прикипало. — Если ты сейчас опять вспомнишь ту историю с дракой… — протянул Психовский. — Грецион, а ну-ка посмотри на меня, — с неестественной для себя суровостью чуть ли не рявкнул художник. — У меня всегда есть идеи. Но конкретно сейчас у меня есть идеи, как нам выбраться, а тебе так плохо, что ты срываешься на людей. Так что просто сиди и слушай, хорошо? Пока профессор задумчиво смотрел на друга, тот достал лемурийскую самокрутку-папиросу и закурил. — О боги, — вырвалось у Грециона, но он тут же поправился: — Точнее, о Духовный Путь! И что ты на этот раз придумал, Феб? Надеюсь, нас вызволят музы. — О нет, — в воздух рванула струйка остро-сладкого дыма. — Все куда и куда прозаичней.…месяц Холм: в небе Ярмо Эллиля, эмблемы освещаютсяимена людей и властителей сияют,священное ежегодное возлияние Ануннакм совершаетсяврата Абзу отрываются,поминки по Лугальдукугу устраиваются;месяц предков Эллиля…Из «Астролябии В»
Барон Брамбеус не привык скрываться. Нежелание и неумение скрываться — при таких-то габаритах — в некотором плане даже было его отличительной особенностью, фишкой. Брамбеус привык входить в любые места шумно, громко и так, словно бы дверей перед ним не существовало — в общем, о появлении барона обычно узнавали минут за десять до его прихода, потому что сложно не услышать басистый, раскатистый смех, от которого даже несчастные куры несут яйца (поговаривают, что раз такое случалось и с петухами). А теперь барону пришлось почувствовать себя в роли, как ему думалось, ниндзи (да, он склонял это слово) — бедный Брамбеус так разнервничался, что вцепился в ружье с отсыревшим порохом обеими руками, как гимнаст за свой шест. Выслушав достопочтимого алхимика — с каждым словом которого глаза барона становились все шире и шире, — Брамбеус понял, что всему действительно может настать самый настоящий каюк, и Психовского с Аполлонским надо найти. Очень деликатно поспрашивав местных, алхимик с бароном все же узнали, что двоих друзей без сознания тащили в храм — тогда китаец выругался, но на этот раз хотя бы шепотом. Барона, к слову, поразило, как легко достопочтимый Сунлинь Ван общается с незнакомыми людьми, даже не просто незнакомыми, это еще полбеды, а с представителями древней цивилизации! Но алхимик, похоже, умел находить ключик от любой дверцы — с таким навыком иди людей обдуривай, а не Философский Камень ищи, рассудил барон. Брамбеус замер — под ногами предательски захрустел древний белый камень, и кусок ступеньки раскрошился. Сунлинь, ступающий впереди — бесшумно, словно бы вообще паря над землей, — повернулся и приложил палец к губам. Барон кивнул. — Нет, — подумал он, продолжая спускаться — выглядел барон ровно как медведь, идущий по канату. — Все же надо было Сунлиню одному идти вниз, а я бы просто приложил его преследователей по голове, уж что-что, а это… Брамбеус сильнее вцепился в ружье. Они спускались в глубины старого храма в поисках темницы — как подсказывала барону практика европейских замков, эти места не столь отдаленные обычно находились на самых, самых нижних ярусах. Сунлинь Ван сперва поспорил, но потом согласился, посчитав, что лучше начинать снизу, постепенно возвращаясь наверх — Брамбеус углядел в этом какую-то восточную мудрость, от него, варвара, ускользнувшую. Когда они спустились в самый низ, барон выругался — темно там было хоть глаз выкали, и слабенькие синеватые «фонари» не спасали. — И что теперь? — прошептал Брамбеус. Но шепот его, и без того слишком громкий, чтобы считаться таковым, отразился от стен и рыком пронесся по подземельям. — Постараться быть тише, — ответил алхимик. — То, что нам повезло спуститься без приключений, не значит, что приключений не будет совсем. Про себя старый китаец добавил вот что: «Скорее всего, приключения только начнутся». Сунлинь Ван вглядывался в черноту, пытаясь сосредоточиться, да вот только ему постоянно мешали звуки, издаваемые Брамбеусом. Тот, как какая-то старая развалина со свалки металлолома, то кряхтел, то сипел, то прочищал горло. Так что спокойный спуск в подвалы храма алхимик считал чистой удачей. А еще Сунлиню Вану абсолютно не нравилась темнота вокруг. Она была какой-то неживой, колючей и застоявшейся — в принципе, рассуждал алхимик, любая темнота должна отталкивать человека, но конкретно в этой таилось нечто до ужаса противное. Даже запах клубничной зубной пасты и соловьиное пение, которые своими чарами впечатывал в голову храм, не помогали справиться с дискомфортом. И тут в воздухе что-то заискрилось. Достопочтимый алхимик даже не успел понять, что конкретно, потому что в эту же минуту барон ненароком споткнулся и шлепнулся на землю, как огромный шкаф, да вот только чугунный снаружи и набитый этим же чугуном. Грохот, ясно дело, был грандиозный. Покалывание усилилось, а в голове словно застучали молоточки. Вот теперь Сунлинь Ван понял, кто идет им навстречу. — Наверх, — шепнул алхимик. — Нам срочно нужно наверх. — У меня есть ружье, — возразил встающий барон. — Да, оно не стреляет, но я могу приложить… — Наверх, — повторил старый китаец и положил одну руку на змеиный клык, привязанный к поясу. В отличие от Брамбеуса, ничего не смыслящего в мистицизме и магии, Сунлинь Ван знал, что иногда словом можно убить. А в случае с идущим им навстречу Заххаком — вполне буквально.
В другой стороне, никем не замеченная, по мрачным подвалам Лемурийского храма лучиком лунного света скользила Инара. Девушка неслась вперед, как нож по маслу, радуясь, что внутрь она проникла незамеченной. Клетка с Вавилонским Драконам, по ее соображениям, должна была находиться относительно рядом, в одном из многочисленных соседних подземных помещений, но Инара шла не туда. Она знала, что профессор попал в темницу, поговорив с ее матерью, и спешила к темнице, молясь всем богам, чтобы Психовский не проболтался о ней ни Бальмедаре, ни Заххаку. Голову, как ветер пустой дом с открытыми окнами, сквозил запах корицы и стрекотание сверчков, ее личные ощущения от этого места. Камни здесь, под землей, давили на сознание, заставляя шагать быстрее, чтобы сделать дело и уйти. Девушке становилось дурно в темноте, потому что Инара до невозможности любила свет, неважно, какой — лунный или солнечный, главное, чтобы это был просто свет. Инара писала стихи — лишь иногда, когда было настроение, в особенности, когда ей не хватало света, не хватало пространства, чтобы вдохнуть, когда ей казалось, что тиски свободы сжимаются и сплющивают — девушке, как и многим другим в легкой, порхающей юности, казалось, что мир сам по себе — место свободное и светлое, а тьма и дискомфорт приходят откуда-то оттуда, со стороны, и ты можешь справиться с ними в одиночку, сделать мир лучше — как получиться. Когда Инаре хотелось сделать мир капельку справедливее, капельку свободнее, капельку правильнее, словно открыв окно и пустив сквозить горную утреннюю свежесть, девушка всегда писала стихи, пахнущие для нее душистыми цветами: розами, пионами, лилиями и теми огромными, фантастическими, что росли только в Лемурии. Инара услышала чудной грохот вдалеке. Потом, ближе, шаги, а после почувствовала, как воздух накаляется — девушка тут же замерла, прижавшись к стене и догадавшись, на кого сейчас может наткнуться. Но покалывание в воздухе становилось все слабее, а звук шагов затухал — Визирь Духовного Пути шел в другую сторону. Инара выдохнула и, отойдя от стены, в которую чуть не впечаталась, поспешила дальше. В коридоре появились новые звуки, не заглушаемые сверчками в голове — голоса двух мужчин, скрежет и пыхтение. Девушка ускорила шаг. Вскоре Инара добралась до толстых прутьев темницы и загремела толстыми ключами, которые очень удачно захватила, еще сбегая из Лемурии в погоне за Вавилонским Драконом — девушка привыкла готовиться ко всему заранее. — Профессор, — шепнула она, прильнув к прутьям. — Профессор, скорее, у нас не так много времени — это Инара, я пришла выпустить вас. Ответом ей была тишина. Девушка вгляделась во мрак темницы — там было пусто, и лишь соломенная шляпа с широкими полями одиноко валялась в стороне. — Ну нет, только не это, — вздохнула Инара. — Старые авантюристы.
План Аполлонского, реализованный чуть ранее, оказался проще пареной репы, да что уж там — даже пареная репа казалось верхом сложности по сравнению с родившейся в голове художника идеей. Сначала Федор Семеныч просто забегал по темнице, надавливая на белые камни, словно надеясь, что какой-то из них окажется картонным и порвется. Подустав, художник передохнул пару минут под внимательным взором Грециона и продолжил. — Понимаешь, — сказал Аполлонский, надавливая на очередной камень. — Мне подумалось, что мы не первые люди, которые здесь сидели. И кто-то должен был выбраться отсюда до нас — посмотри, какие ломаные линии между камнями, я уверен, что это место переделывали. Уж не знаю, чем они пробили дыру… Психовский оглядел стену — да, камни действительно стояли вкривь и вкось, но профессор даже не обратил на это внимание. Подумаешь, они тут все такими были, древность не идет зданиям на пользу. Но у художника глаз был наметан. — К тому же, — Федор Семеныч безуспешно надавил на еще один кирпич, — здесь как-то слишком много растительности. Значит, за камнем — пустое место, вот корни и разгулялись. — Если бы это мне говорил не ты, — Грецион тоже надавил на какой-то камень, — я бы даже слушать совета не стал. Профессор здесь и сейчас привык взвешивать не только все решения, но и советы — правда слова Аполлонского обычно моментально склоняли чаши весов в нужную сторону. Психовский с его принципом «доверяй, но сто раз сам проверяй» тоже принимал участие в поисках тайного лаза — а так, в другом оттиске, может и не стал бы. — Но это я! — с гордостью заявил художник. — Ты, Феб, ты. Что-то хрустнуло. Друзья замерли и переглянулись. Один из камней действительно оказался просто тонкой плитой, достаточно было лишь вытащить ее из стены — хоть не с первого раза, но это удалось. За фальшивым камнем вправду раскинулся тоннель, поросший корнями и прочей растительностью. Пока Аполлонский сиял от гордости за себя самого, профессор взглянул на обратную сторону плитки и увидел надпись — она, ясно дело, выглядела понятной, хоть и была выцарапана на лемурийском. — Все тем, кто задумает сбежать. Не благодарите, — прочел Грецион. — И подпись в конце, которую я просто не выговорю. — А я ведь говорил! Кстати, не ожидал, что надписи тоже будут понятны. — И я тоже. Ну спасибо, милый человек, — Психовский театрально поклонился. — Феб, а об этом проходе тебе муза напела? Федор Семеныч хихикнул. — Я слишком часто ходил на экскурсии в средневековые замки и простукивал камни. — И что? — В каждой крепости есть по такому проходу, гарантировано. Аполлонский посмотрел во мрак тоннеля, потом — на свой живот. — Чур ты первый, если я застряну, хоть не случится пробки. Аполлонский еще внимательней вгляделся во мрак тоннеля, потом посмотрел на свою шляпу. — О нет! — саркастически заметил Грецион, всплеснув руками и в кои-то веки за последнее время ощутив не омраченную дурным состоянием радость. — Ты же не пролезешь туда со своей самой дурацкой на свете шляпой! — Иди к черту, Грецион. — Чувствую, что именно туда мы и поползем. Психовский продолжал шутить и подкалывать, хотя с каждым разом ему было все тяжелее оставаться в таком тонусе, равно как и держать себя в руках в тяжелых, или даже просто выбивающихся из привычных событий ситуациях — профессору просто хотелось упасть в землю лицом и лежать, проклиная все и вся, но надо было держаться, стремиться к гармонии, хоть она постепенно и улетучивалась. Федор Семеныч покрутил в руках соломенный головной убор. — А, гори они все синем пламенем! — шляпа улетела в другой конец темницы. Психовский ухмыльнулся, натужено, но рассмеялся и, сопровождаемый легкими пинками художника, полез в тоннель. Аполлонский, с трудом, но все же пролезший, пополз следом. Неведомый беглец постарался — в тайном лазе было не так уж узко, правда движение затрудняли корни, слегка царапающие лицо. Борода Грециона так вообще иногда застревала в них, отчего все движение замедлилось. — Вот тебе и плюс существования вне оттисков, — подумал профессор, крутя головой, чтобы выпутать бороду из какой-то колючки. — Один тайный лаз на все возможные варианты событий. Тоннель начал идти вверх. Теперь приходилось впиваться руками в землю и каменные выступы, чтобы продолжать ползти. — Зачем рыть тоннель вверх, — возмущался художник. — Когда можно делать это прямо… — Полагаю, потому что прямо только земля. Мы же были в подземелье… В ответ Федор Семеныч пробубнил что-то невнятное. Спустя некое время, впереди засиял долгожданный свет. — Прозрение, наконец-то! Я вижу свет! — пошутил Аполлонский, пыхтя. — Никогда не думал, что увижу свет в конце тоннеля настолько буквально. Еще несколько рывков вперед — и вот уже показалась дыра, то бишь конец тайного лаза. — Твои ставки, — сказал Психовский. — Прыгать вниз или спокойно вылезать на твердую землю? — Надеюсь, вылезать. — А я ставлю на то, что прыгать! Но оба ошиблись. Стоило друзьям подползти к краю тоннеля, как земля и редкие ненадежные камни под ними обвалились, не выдержав веса двух тел — одно из которых, к тому же, было слегка упитано. Грецион и Федор Семеныч полетели вниз. Радовало две вещи: падали они уже не в тоннеле, и Грецион, если подумать, пари все же выиграл.
— Почему мы вообще понеслись как угорелые? — отдышавшись, поинтересовался Брамбеус. Сунлинь Ван настоял, что храм нужно срочно покинуть, притаившись где-нибудь рядом. Устроив мини-марафон по лестнице, алхимик и барон наконец-то остановились у одной из стен — рядом с вытянутой башеней. — Там даже не было никакой охраны, — возмутился Брамбеус. — А у меня в руках было увесистое ружье… Старый китаец посмотрел на барона как на ребенка, просто не обратившего внимания на десять сигнализаций и пять постов вооруженных до зубов охранников, дубинки в арсенале которых показались дитю просто игрушкой. — Охраны им и не нужно. У них есть мистерии, уважаемый барон, у них есть слова, магия, маги-жрецы, и собственный… осколок божества. Draco ex deus[22]. — Знаете, против магии можно и с ружьем, — уперся Брамбеус. — Что есть волшебная палочка против этой штуковины… Сунлинь Ван жестом заставил его замолчать — в воздухе послышался странный, нарастающий свист. Алхимик повернул голову в сторону звука, барон — следом. — О, — гортанный глас Брамбеуса упал на землю гирей. — А вот это уже deus ex machina[23], — заключил алхимик.
Грецион со свистом летел вниз. Не сказать, что от земли было уж слишком-то высоко, но падение всегда ощущается намного дольше, чем оно есть на самом деле — может, время в полете действительно замедляется так же, как в процессе ожидания еды в микроволновке, когда минута длится все пять. Но этот факт физикам еще предстоит выяснить, с почестями отправив теории Эйнштейна на свалку научного знания, как когда-то сделали с Ньютоном. Сейчас же неоспоримый факт состоял в том, что Психовский — а следом и Федор Семеныч — достиг земли. Падение оказалось неудачным, кости пронзила резкая боль, все вокруг потемнело, и, как это водится, сознание сказало «аривидерчи». И Грецион Психовский умер.
Скорпион. Глава 11 Draco ex deus™
— Кажется, это где-то уже было, — просипел Грецион Психовский, потирая поясницу. В этой ксерокопии профессор свалился в какие-то густые и удивительно мягкие кусты. Рядом бухнулся Аполлонский. — Похоже, в какой-то другой версии мира сего ты грохнулся на меня и раздавил, — протянул Грецион, массируя лоб, хотя это хотелось сделать со всем телом — навязчивое дежавю с пришедшей тошнотой и ноющей головой помножилось на боль в костях, суставах и мышцах. — Слушай, ну я же не мешок с кирпичами, обидно, знаешь ли… — Да когда ж да тебя, тупого идиота, дойдет, что у меня дежавю, — не выдержал профессор. — А, — раздалось из соседних кустов. — Тогда да, хоть мешок с кирпичами, хоть с цементом, ты только успокойся. — Не указывай мне, что делать! — проскрежетал Психовский и застонал. — Феб… — Да-да? — Что, опять, да? — Если ты имеешь виды, начал ли ты опять на меня спонтанно орать — то да, Грецион, именно так. — Черт возьми, ну почему… Психовский попробовал встать, но тело очень непрозрачно намекнуло, что без посторонней помощи не справится. — Это вы? — раздался вдруг голос. Профессор, лежащий лицом к цветному небу, не увидел говорившего, но узнал — потому что голос Брамбеуса невозможно было не узнать. — А кого ты, идиот, еще ожидал увидеть?! Фею-крестную?! — рявкнул Грецион. — Ой, снова-здарова, — зажмурился художник. — А, профессор, это вы! — зарокотал борон, но потом резко стал говорить тише. Грубость Грециона профессора, видимо, вообще не смутила. — Какая удача! — Я, конечно, ничего не имею против солнечных ванн на свежем воздухе в кустах, — заметил Психовский, вернувший самоконтроль. — Но не поможете встать? — А, точно! — с этими словами, если смотреть глазами Грециона, откуда-то сверху спустилась рука спасения и вытянула профессора наверх — надо отдать Брамбеусу должное, хватка у него была как у строительного крана. Психовский с трудом, но удержался в вертикальном положении. Профессор отряхнул темно-зеленую толстовку, потер исцарапанное лицо, пригладил желтоватую бороду и посмотрел на красные кроссовки, которые стали скорее коричнево-черными. — Да, — вздохнул Грецион. — Их точно придется выкидывать. Будь проклята вся это грязь, все эти непонятки, вся эта… — А про меня там никто не забыл? — дал знать о себе Федор Семеныч, остановив возмущения снова выходящего из себя профессора. — Да возьми ты и просто встань! Неужели, Феб, это настолько сложно?! — Да я так, отдыхаю, не обращайте внимания. Психовский потер переносицу. — Ну… как скажешь… — профессор, успокоившись и чуть не свалившись, сделал пару шагов в сторону. — Грецион, хватит издеваться! Я не такой старый, как ты, но все же больной человек! — Ах ты ж… — ухмыльнулся Психовский. В нынешнем его состоянии очень сложно было понять границу между шуткой и выплеском злобы. Совместными усилиями художник был поднят. Очки, что удивительно, остались целы — их преследовало какое-то катастрофическое везение. — Господа, — Брамбеус почти вытянулся по стойке смирно — с таким же успехом можно заставить слона маршировать, — у меня для вас отличное известие! — К нам приехал ревизор? — не выдержал Психовский, найдя силы на шутку. — Нет! — не поняв литературной игры, серьезно возразил барон. — Я… — Ох, какие люди! — вдруг всплеснул руками Аполлонский. — И где же вы пропадали? Грецион повернулся и увидел подходящего к ним алхимика. — Да, это и есть то самое известие, о котором я собирался сказать, — пробубнил расстроенный барон. — Достопочтимый Сунлинь Ван, — поклонился профессор. — А ваш переводчик… бедный парень. — Увы, — откликнулся старый китаец. — Но у нас совсем нет времени… Сунлинь оборвал фразу, взглянув на усталые и слегка пожелтевшие глаза профессора. — У вас глаза цвета Королевского Золота… — Да? И сколько за них дадут в ломбарде? — Это не шутки, профессор. Психовский подметил обрубки веток с дырками и змеиный клык на поясе алхимика, но решил все же осветить более насущную и важную тему: — Если вы про изыскания Заххака и Вавилонского Дракона, то мы в курсе. — Боюсь, что вы в курсе не до конца. — Тут вы правы, — подтвердил Федор Семеныч, ощупывая лицо на предмет переломов и рваных ран, хотя там были только царапинки, царапины ну и, ладно, большие царапины. — С нами не захотели делиться всем злодейским планом. — Вы знаете про Вавилонского Дракона, но гадаете, что он такое, и почему должен быть взаперти — продолжил Сунлинь Ван. — Ну наконец-то! — всплеснул руками Грецион. — Неужели хоть один человек даст внятный ответ на вопрос, которым я задавался миллион раз? Потом Психовский задумался. — Погодите, — не дал старому китайцу ответить профессор. — А вы откуда знаете, что тут происходит, да и еще то, чего мы не знаем? Сунлинь Ван было открыл рот, но Психовский снова не дал ему ответить: — Только не говорите мне, что у вас есть еще какое-нибудь Китайское Общество Современных Магов. — Вообще-то, вы правы, оно действительно есть, но я в нем не состою, — открестился достопочтимый алхимик. — Они вправду практикуют магию, только вот не столь успешно на деле, сколько на словах… Хотя обычно они ударяются в шарлатанство и продажу абсолютно бесполезных оберегов, но это другая история. Правда, алхимия и магия порой пересекаются — а потому мы делимся знаниями и устраиваем чаепития по пятницам. — С печеньем? — уточнил Аполлонский. — Да, с печеньем, с шоколадным. — А, ну тогда все в порядке. — Так вот, — вопрос не сбил Сунлинь Вана, словно бы был обыденным и задавался на каждом дне открытых дверей Алхимического Общества, которые почти наверняка проводились. Тайны тайнами, а маркетинг и имидж бренда никто не отменял. — Они кое-что поняли о том, как работает настоящая магия, настоящие заклинания, видные лишь по ту сторону бытия. Они поняли механизм, но пока не слишком хорошо овладели им на практике — тяжело вернуться к практике, когда твои предки тысячи и тысячи лет не помнили о таком полезном решении, как магия древних. Ну так вот, мы кое-что докрутили, кое-что додумали и… — Вы хотите сказать, что на нашей стороне какие-то древние заклятья? — уточнил Брамбеус. — Барон, я алхимик, а не маг. Я этой ерундой не занимаюсь, по моей части — ерунда другого рода. Профессор, — вновь обратился к Грециону старый китаец, — вы ведь знаете, что такое Василиск? Психовский присвистнул. — Обижаете! — Да, — подтвердил Федор Семеныч. — Мы тут с Греционом как раз недавно о нем вспоминали. — Отлично, — кивнул алхимик. — Тогда вы точно знаете, что Василиск — в некотором роде епархия алхимиков, и мы в нашем обществе, вместе с коллегами, теми самыми, изучали природу этого существа и его взгляд. Потому что любая тайная древности может стать ключом к Философскому Камню. Мы с коллегами подняли архивы, и после долгих дней размышлений пришли к выводу, что взгляд Василиска и взгляд Вавилонского Дракона идентичны по своей природе. — Заххак говорил не смотреть в его глаза, чтобы не потерять себя, — вспомнил Грецион, а потом перед глазами всплыла картинка бесконечно глубокого взгляда. — Черт, зачем вы мне об этом напомнили! Грецион закашлялся. — Взгляд Вавилонского Дракона что, тоже убивает? — дрожащим голосом прощебетал Аполлонский, а такие моменты жалевший о том, что у него нет своего персонально панциря, желательно бронированного. — Не совсем там, — продолжил Сунлинь Ван, настороженно смотря на трущего виски Психовского. — Я говорил о том, что природа взгляда похода — взгляд Василиска отбирает, утягивает жизнь, а Взгляд Вавилонского дракона… как нам кажется, утягивает саму суть человека, его я, или, если хотите, душу. — Потерять самого себя… — пробубнил профессор. — И нам кажется, что… Договорить алхимик не успел — соседние кусты зашуршали. Китаец замолчал и настороженно развернулся на звук, барон же крепко схватил ружье и поднял его над головой. — А ну выходи, подлый трус! А ни то я… — прорычал барон, как Король Джунглей, увидевший лесопилку в своих владениях. Но дальше угрожать не пришлось — из кустов вышла Инара. — О, это леди, — опешил Брамбеус. — Здравствуйте, — поклонился Сунлинь Ван. — Здравствуйте и спасибо, — поклонилась Инара. Грецион, проморгавшись, чтобы лучше видеть, спросил, не прекращая массировать виски: — Вы что, знакомы? — Мы все в каком-то роде знакомы, потому что все видели те следы на палубе лайнера… — Ах ты ж старый хрен, — к горлу снова подступил комок злобы, и Психовский чуть не кинулся на алхимика — сил не хватила. — Почему же ты, тупица, не сказал этого раньше… — Раньше я и сам этого не знал, а в Лемурии мы с вами разделились, — абсолютно спокойно, словно выпив до этого десять чайников чая с ромашкой, ответил старый китаец. Психовский задумался на секунду. — А, кстати! Знакомьтесь, Инара, дочка Бальмедары… У Аполлонского аж челюсть отвисла. — Но мы же похоронили вас… — Долгая история, — отозвалась девушка. — Надеюсь, что у нас будет время выслушать ее полностью. — Инара, — Грецион наконец выпрямился. — Вы слышали предположения достопочтимого Сунлинь Вана? Вавилонский Дракон и есть то, что он говорит? — Да, профессор, я же говорила вам, что Дракон — вместилище царей. — Это был хренов ребус! — пошатнулся профессор. — Простите, простите, вдох-выдох, я в полном порядке. — Вавилонский Дракон, как нам всегда рассказывали, и был создан с той целью, чтобы хранить души — давно, когда не было ни меня, ни вас, ни Духовного Пути, ни Заххака. Последний, кто посмотрит в глаза зверя, и умрет после этого — становится частью Вавилонского Дракона, его душа оказывается внутри его. — Поэтому ваша мама и думает, — догадался Федор Семеныч, — что вы внутри Вавилонского Дракона. Но это не вы… — Да, — кивнула Инара. — Но Вавилонский Дракон — вместилище царей, потому что перед тем, как наш, или Вавилонский правитель умирал, он специально смотрел в глаза зверя, попадая в его нутро. Вавилонский Дракон и есть помесь всех душ, попавших в него — и где-то на затворках его сознания живет то самое звериное «я», которое мне так стало жалко… — Конечно же, — вдруг хлопнул себя по лбу Грецион. — Ритуал подменного царя! Художник и барон непонимающе уставились на него. — Вавилонский ритуал подменного царя. Как же вам объяснить… Во время праздников, в частности, Нового Года, когда царь совершал ритуал унижения и очищения, его место занимал либо другой человек, либо статуя — таким образом, трон не оставался пустым, а все порчи и заклятья скапливались на подменной фигуре. В магии такое тоже практиковали — чтобы снять сглаз, использовали фигурки, подменяющие человека на время ритуала. А Вавилонский Дракон… получается, апогей подменного царя — умирающие цари подменяли себе смерть, если хотите, смерть забирала их тело, а их суть, их я, оставалось внутри Дракона, в этом безумном котле… Я ведь прав, Инара? Девушка, дивясь догадливости Грециона, кивнула. Потом прищурилась — посмотрела в его глаза. — Ваши глаза, профессор… — Да что ж с ними не так! — сорвался Психовский. — Что, тоже скажете, что цвета Королевского Золота?! Ну давайте, давайте! — Но Заххак, — Инара решила проигнорировать всплеск Грециона, — нашел этой способности еще одно применение. Все, кто оступаются с Духовного Пути, теряют свое я — они все становятся частью Вавилонского Дракона, умерев, перед этим посмотрев в его глаза. — Прам-пам-пам, — кашлянул Аполлонский. — Вот тебе, бабушка, и Духовный Путь. — Геббельс сейчас завертелся у себя в гробу, — бросил Психовский. — Да и пусть себе вертится на здоровье, — сплюнул Федор Семеныч. — То есть это и есть главная причина, по которой дракон должен быть взаперти? Зодиакальная Эклиптика отходит на второй план? — профессор взмахнул рукой. — Просто скажите, коротко и ясно, да или нет? — Нет, — неожиданно для всех проговорил Сунлинь Ван. Поймав непонимающий взгляд Инары, он продолжил: — Вы не знали? Я догадывался, что всем об этом не говорят, но, — он набрал воздуха. — Вавилонский Дракон создан, помимо прочего, из остатков Змия, чудовища, убитого на заре времен, чудовища, которому и посвящен тринадцатый Зодиака. — А я ведь говорил! — ободрился профессор, в этом оттиске всегда сияющей от своей правоты. — Говорил, что это место связано с Тиамат, которую разорвал Мардук, или с ацтекским Пернатым Змием — не важно, с любым из воплощений, видимо, одной сущности. — Тиамат, как вы говорите, профессор, — продолжил мысль старый китаец. — Это воплощение первозданного зла — того зла, того дракона, если хотите, который живет внутри каждого из нас, ведь всякое зло приходит изнутри, а не извне… — И поэтому Вавилонский Дракон — тоже воплощение зла внутри нас? — предположил Федор Семеныч, голова которого пухла от мифологической информации. — Да. Можно сказать, что это последний осколок Тиамат, или любого Змия — поэтому Дракон должен быть взаперти. Потому что его природа может взять верх, и тогда… — Оно пробуждается, — пробубнил Грецион. — Вот про что говорили маги. Как же все оказывается сложно, столько причин, а я до сих пор не пойму, почему мне так дурно около этого зверя! — Это тогда получается, — у Федора Семеныча кончились силы стоять, и он просто плюхнулся на кусты — порвать и без того рваные штаны еще больше уже совсем не беда, — что Дракон всегда живет внутри человека, а тут внутри Дракона живет… человек? Точнее, люди — я про этих ваших царей. — Получается, что так, среброкистый. Вавилонский Дракон — мы, вывернутые наизнанку. — Звучит не очень поэтично. — На деле — еще хуже.…месяц ПлугМотыга и Плуг спор в степи затеваютакиту для пахоты устанавливаетсямесяц Адада, смотрителя каналов Неба и Земли…Из «Астролябии В»
Бальмедара смотрела на сидящего в клетке Вавилонского Дракона, глаза которого были полны чересчур человеческой грусти. Он перестал бороться, пытаться сбежать и даже брыкаться — понимая неизбежность своей судьбы, Сирруш все же подчинялся. Даже когда клетку иногда открывали, существо просто вяло выползло из нее, не предприняв никаких попыток к спасению — в чем смысл, если цепь с ошейником и так не дадут уйти далеко. И даже если убежать совсем далеко отсюда — в другие оттиски, даже начав прыгать по ним, — все обернется точно так же, вновь будут холодные металлические прутья, цепи и гнетущее одиночество. Эти мысли, выраженные, конечно, нечеловеческими словами, теперь полностью захватили сознание Вавилонского Дракона. Бальмедаре показалось, что Сируш плачет, прямо как ее дочь — потому что она теперь тоже где-то там, она внутри, она — часть Дракона. Его большие голубые глаза сияли звездами, словно бы он зрел прямиком в бесконечные просторы вселенной, или же видел над собой потолок Вавилонской Башни, полный неба и усеянный звездами. Будто бы эти далекие воспоминания не были его собственными, кто-то просто поделился ими, и в глазах навеки застыла картина великолепия, могущества и вечного неба — а этот Вавилонский Дракон видел своды башни лишь однажды, когда прощался со своим собратом, точно таким же внешне, от драконьей головы до львиных пят, сухие кости которого теперь пылились где-то на зачарованном Востоке… Бальмедара, испытав на себе всю глубину этих глаз, увидела перед глазами Инару, как живую, и поняла, почему ее дочь не выдержала, оступилась. Магиню держала на плаву лишь вера в правильность Духовного Пути, который стал спасательным жилетом для женщины, не давал возненавидеть все вокруг и, что важнее — возненавидеть саму себя. Но этот столп треснул — трещинка оказалось маленькой, но, как известно, малые трещины способны обрушить самые великолепные храмы и сравнять с землей непревзойденные империи. Теперь же у магини был выбор — здесь, в подземелье, в одиночестве, рядом с клеткой. И выбор этот, как водится в Лемурии, стал бы одним и единственным — не оказалось бы других его вариантов в иных ксерокопиях. Бальмедара сделала свой выбор. И отвернулась от космического взгляда существа.
Кроны деревьев нависали, бросали густую день и перешептывались. Перешептывался весь вековечный лес, тонущий в лучах солнца, постепенно клонившегося к горизонту, растворяющегося в пестроте цветного неба. Конечно, это лишь фигура речи — ветви скрипели, листья шуршали, но ни о чем конкретном они не говорили. Хотя никто не отрицает, что деревья — тем более, такие древние — не могут почувствовать что-то грядущее и отозваться на него по-своему. Разговор древ прервал истошной вопль птицы. Пестрое пернатое существо, похожее на попугая, да вот только размером в пять таких попугаев, село на ветку слишком близко к земле, за что и поплатилось — огромная фиолетовая ящерица цапнула птичку за хвост. Та, заорав, взмыла вверх, пробилась через ветви и в свистящих потоках воздуха понеслась под лоскутками аляпистого неба, почти сливаясь с ним. Случилось так, что птица пролетела мимо самой верхней точки храма — святилища под куполом, где вместо окон были просто арки, подпираемые резными колоннами. Случилось и так, что бедное пернатое решило спуститься ниже, подумав, что угроза миновало. Случилось, в конце концов, так, что птица слишком расслабилась и подлетела чересчур близко к земле. Поэтом, когда раздался истошный рык иного рода, шокированная птица без сознания свалилось вниз. Упала она прямо в ноги Аполлонского. — Что это было? — захлопал глазами художник. — Это была птица! — радостно поднял ружье барон — инстинкт охотника заставил глаза Брамбеуса загореться при виде падающей с неба просто так дичи. — Нет, вот это птица! — трясущейся рукой Федор Семеныч ткнул в ноги, а потом ткнул мертвую птичку ногой. — Я говорю про истошный крик. Судя по тому, сто наш Грецион опять схватился за голову, а он вроде не такой нежинка, это… — Это был Вавилонский Дракон, — сглотнула Инара. — Он сбежал… — Скорее, его выпустили, — поправил алхимик. — Опять двадцать пять, — вдохнул Психовский. — Поймай Вавилонского Дракона, дубль десять. — Не до смеха, профессор, — нахмурилась Инара. — Если он и есть осколок Змия-Тиамат, и если оно внезапно возьмет верх, то город, и Лемурия… Истошный вопль повторился, за им последовало режущее слух сухое шипение, словно камень терли о песок. — У нас ведь есть шанс его остановить и снова поймать? — Грецион устало посмотрел на старого китайца. — Все, что еще не случилось, всегда обратимо, — ответил достопочтимый Сунлинь Ван авторской мудростью, которую хорошо бы запатентовать. — Но только это опасно, да и времени у нас мало. — Ну как всегда, хоть раз бы наткнуться на что-то не опасное, — проворчал художник. Впитывающий информацию Брамбеус наконец-то приподнял ружье и сказал: — Если мне и придется сегодня умереть, то я хочу сделать это, как король: либо в бою, либо от сифилиса! Снунлинь Ван и Психовский почти одновременно улыбнулись, а Федор Семеныч, похоже, прослушал замечание барона. Инара шутки не поняла. Грецион еще раз посмотрел на пояс алхимика. — Ладно, — подумал профессор, рассматривая китайца. — Ты ведь определенно что-то задумал. Не хочешь говорить, и не надо. Главное, чтобы у нас все вышло, а я просто не свалился рядом со зверем… Грецион Психовский посмотрел вдаль — туда, где копошились лемурийцы, занимаясь своими делами и ничего пока не подозревая. На горизонте мелькало раскрасневшееся дневное солнце, матовым стеклом утяжелявшее горизонт. Сквозьфоновое религиозное бормотание на заднем плане сознания профессор расслышал, как шуршат листья в потоках теплого ветерка, как скрипят могучие ветви деревьев далеко в вековечном лесу, как высоко в небе крякают птицы… Все напомнило Психовскому маленькие деревушки Японии, где ты, проводя отпуск, готов вставать с восходом солнца просто для того, чтобы день стал дольше, чтобы побольше просидеть на маленьком рыбацком причале, свесив ноги, смотря на играющие друг с дружкой волны и вдыхая безумный коктейль липового аромата и водной свежести. И пускай доски причала скрепят, пускай на улице слишком прохладно, чтобы сидеть в одной футболке, а бороду смачивает еще не растворившийся в желтой стене света туман — все это отходит на второй план, потому что там, в этих деревушках, тебе хорошо и прекрасно. И здесь могло быть так же хорошо и прекрасно — если бы не бесконечные змеи и какие-то таинства, если бы лемурийцы хотя бы краем сознания догадывались, что Духовный Путь — пустышка, осколок битого стекла. Но они не слишком задумывались. Дай людям идею, хорошую, грамотную и морально правильную — или просто умело замаскируй ее, — и за тобой пойдут сотни, тысячи, миллионы, потому что не увидят в этом ничего плохого, ведь разве Духовный Путь — это ужасно? И совсем не важно, что диктует его один человек, слова которого почему-то нужно воспринять как догму жизни, как нечто предписанное самой моралью — ох, если бы эта мораль жила где-то, кроме как в человеческих умах, и умела говорить, она бы точно сказала свое «фи» и устроила взбучку. Но когда к этой грандиозной идее добавляют магию, под видом изучения фольклора практикуют ужасное волшебство Скандинавских Великанов[24], пытаясь сделать идею абсолютной и вечной, втемяшить свой Духовный Путь в головы так, чтобы не было возможности избавиться от него… то вся прелесть этих маленьких Японских деревушек, куда готов вернуться даже на один выходной, летит в тар тартары, потому что людей там больше нет, есть лишь пустые и гулкие оболочки, которые становятся носителями чужой воли. И кто знает, каким бумерангом вернется потом практикованная в немецких подвалах магия Сверенных Великанов, какие шрамы от нее остались с той стороны бытия — ведь то, что произошло с этой, и так все знают. Профессор однажды принял для себя решение, что все человеческие страхи и фобии сводятся к одному — к страху умереть, ведь пугает нас лишь то, что может убить или покалечить, начиная высотой и заканчивая ядовитыми пауками. Это все было винтиком в механизме самосохранения, без которого глупостей люди совершали бы куда больше, чем обычно — а их и так, если посчитать общее количество, не мало. Но сейчас Грециону плевать было на все — если надо, он еще сотню раз испытает идиотское дежавю, сотню раз умрет в других оттисках, переживет лезущую наружу злость, но своего добьется, ведь борьба до победного конца — его кредо здесь и сейчас, в этом оттиске, под знаком Скорпиона. Потому что есть вещи, как думал профессор, ради которых приходится идти на жертвы, даже если нет сил и тебе так плохо, что уже готов самоуничтожиться; надо идти на жертвы, просто потому что понятия «справедливости» во вселенной нет, и только люди — по чуть-чуть, как получается — могут по крупицам собрать эту справедливость, чтобы хотя бы раз показать всему бытию огромный кукиш. — Нам нужно обратно в храм, — заявил Психовский. — Или в город, если дракон уже сбежал. Алхимик, внимательно наблюдавший за думавшим Греционом, кивнул. Барон нахмурился, взял ружье под мышку. Федор Семеныч сказал: — Ну так всегда! У него в одном месте шило, он женат на своей работе, а в передряги мы попадаем обязательно все вместе. Если меня сожрет Вавилонский Дракон, осколок древнего божественного Змия, или как бишь его там, знай, Грецион, что я буду всю жизнь осуждающе смотреть на тебя с небес, хотя скорее взирать из глубин ада, туда у меня шансов опасть больше. Психовский рассмеялся. — Я буду очень рад твой компании даже с того света. Истошный крик Вавилонского Дракона повторился вновь: на этот раз, с примесью гремучей злости, лезущей из первобытных, холодных и сокрытых от глаз глубин — рык и шипение стали громче и рассеянней, так, будто их пропустили через рупор прошлого века, пылившийся в коробке. Аполлонский даже зажал уши, а профессор… Ни то в силу возраста, ни то по иным причинам, сердце екнуло — и то ли случился инфаркт, то ли тромб оторвался, кто его знает, а пригласить докторов для экспертизы возможности, увы, не было. Профессор упал — перед тем как отключиться, он увидел золотые созвездия словно бы на небосводе-потолке, утягивающие в бессознательное глаза, испещренные звездами, и подумал: «Молодцы, конечно, были Шумеры, только на кой черт они придумали Змееносца…» И Грецион Психовский умер.
Стрелец. Глава 12 Когда уснут Вавилонские Драконы
— Кажется, это где-то уже было, — промямлил Грецион Психовский, борясь с приступом тошноты, головокружения и нарастающей злобы. Профессор смог собраться, и, чтобы не терять времени, коротко и ясно повторил мысль: — Нам нужно обратно в храм!Из «Астролябии В»…месяц gan: изобилие и процветание насыпаны;могучий герой Эрра Великий из Подземного мира выходит —сокрушительное оружие богов-близнецовмесяц совершенного героя Нергала[25]…
Конечно же, он все знал. Конечно же, Заххак увидел Брамбеуса с Сунилинь Ваном, конечно же пошел им навстречу и, конечно же, спокойно дал им уйти. К чему было преследовать их, все равно они ничего не смогут сделать. Не в их силах спорить с догмами Духовного Пути, не в их силах бороться с самой сутью слов и заклинаний, не в их силах противостоять Зодиакальной Эклиптике, и не в их силах поменять что-то в единой для всех оттисков Лемурии. Не в их силах решать судьбу Вавилонского Дракона. Визирь Духовного Пути точно знал, что вариант развития событий для него и Лемурии будет только один. Заххак, сидящий в центре просторного зала на верхних ярусах храма, посмотрел на статуи былых богов, кости и аметисты которых бликали в лучах красного солнца — нигде в Лемурии не осталось ни одного символа хоть какого-то старого бога. А потом Визирь Духовного Пути услышал истошный звериный рык — Заххак привстал, и именно в этот момент в святилище на вершине храма ворвались два испуганных мага. — Визирь… — начал первый. — Вавилонский Дракон опять сбежал? — Заххак все уже понял, и слова его содержали в себе миллиарды обжигающих мегаватт каждое. — Да… и оно, — по лицу мага пробежала холодная змейка ужаса, — оно берет в нем верх. — Сируш не сбежал, — сказал вдруг второй маг — голос его тонким полотном трепыхался в пространстве. — Его выпустили, магус. Заххак прикрыл глаза. — Она выпустила его! — добавил второй. — Ну так сделайте с этим что-нибудь! — Визирю не нужно было кричать, чтобы его слова произвели эффект обжигающего клейма, таблички с божественным законом. — Верните Вавилонского Дракона. Верните его. Маги отвесили поклон и удалились вниз по бесконечной лестнице, а Заххак подошел к одной из арок, заменяющих в верхнем святилище окна, и посмотрел вниз, на раскинувшийся город-храм из белого камня с его длиннющими коридорами. — Бальмедара, — проговорил магус так, словно каждый звук был каплей концентрированного яда. — Вы оступились с Духовного Пути, как и ваша дочь…
Грецион резко сменил пункт назначения, потому что в посещении самого храма нужда резко отпала — кипел уже весь город, как муравейник, в который бросили гранату, или даже ядерную бомбу. Вавилонский Дракон, недолго думая, ринулся прочь из подземелья, тут же метнувшись на волю, на улицы — и тогда лемурийцы запаниковали не столько от самого вида Дракона на воле, сколько от ощущения, что он несет за собой нечто настолько злобное и ужасное, что не описать словами — словно комета тащит следом хвост из непроглядной черноты. Зверь зашипел и рванулся в город, куда глаза глядят — лемурийцы кричали и рассыпались в стороны, а Вавилонский Дракон сбивал всех, кто попадался ему на пути, врезался в каменные своды, невероятным образом оставляя в них пробоины, словно сделан был из десятитонной скалы. Зверь шипел, и шипение его отражалось в головах страхом древнего человека перед грозой и огнем — страхом перед тем, что еще не успел укротить. — Вот оно, настоящая охота начинается! — рассмеялся барон так сильно, что по округе будто пронеслось торнадо. — Чур трофей забираю себе я! Повешу рог над камином… — Это же ужасно, — не выдержала Инара. И непонятно, то ли она говорила о ситуации в целом, то ли конкретно о словах Брамбеуса. — Нам надо что-то делать со всем этим! — Барон, только не трогайте глаза и сердце, — сказал вдруг достопочтимый Сунлинь Ван, потуже привязывая змеиный клык и обрубки веток к поясу. — Оставьте это мне. — Какое живодерство! — закипела Инара. — Профессор, что нам со всем этим делать? Надеюсь, вы не планируете забирать себе лапу Дракона на удачу? — Боюсь, что профессор… немного не в зоне доступа, — кашлянул Аполлонский. Психовский стоял на коленях, опустив голову вниз и уперившись руками в землю — теперь Вавилонский Дракон был совсем рядом, и голова набухла, превратилась в намокший кусок ваты, весящий, как целая планета, тошнота внутри заштормила с силой, способной потопить Атлантиду, а уж захлестнуть профессора — тем более. И из всего этого безумного катарсиса, апокалипсиса внутри отдельно взятого Психовского, наружу лезло нечто, прокладывающее свой путь острыми, но бесформенными когтями — нечто, смешавшее в себе желчную агрессию, черную злобу и кроваво-алую ярость, постепенно рвущее профессора изнутри и растекающееся по венам. — Ну почему так каждый чертов раз! — крикнул Грецион, сплюнув. — Каждый долбаный раз, когда я хотя бы смотрю на треклятого Дракона, что б ему пусто было, каждый раз… — Профессор… — прошептала Инара. — Заткнись! — снова рявкнул Психовский. — Вы все, боже, заткнитесь, вы, сборище идиотов, ничего не смыслящих в древности имбецилов, бегущих за своими тупыми амбициями, которые даже рядом не стоят с моими, да что там, даже с какими-то более-менее внятными целями! Просто прекратите, вы ничего не понимаете, идиоты, вы даже не можете мне просто, черт бы вас побрал, объяснить, что это такое происходит. Сказать коротко и ясно: почему, вашу мать, почему?! — Честно, — шепнул Аполлонский на уши обалдевшему Брамбеусу. — Сам не знал, что он знает столько дурных слов. — Профессор, — Сунлинь Ван как призрак возник перед Греционом, все еще скрюченным. — Посмотрите на меня, профессор. Психовский еще раз сплюнул и поднял голову. Старый китаец тут же влепил ему пощечину такой мощи, что Психовский пошатнулся — шоковая терапия во всей ее красе. — Ого, — присвистнул Федор Семеныч. — Так работает вся китайская медицина? — Только для вашего друга, — хмыкнул алхимик. Грецион выругался, сказал что-то несвязное, а потом заговорил уже в привычной манере: — Все в порядке, спасибо за первую медицинскую, — за голову профессор все же схватился. — Голова у меня конечно сейчас треснет, но не просто же так я пару лет назад вывел всех студентов из горящего здания, а много лет назад заманил рыцарей на лед. Понимаете, подвиги… — Твоя сильная сторона только на словах, — отрезал Аполлонский, помогая Грециону встать. — В обеих случаях, поверь, это был не ты — надеюсь, у тебя не горячка, а просто обострение натуры Стрельца. — Твои Зодиака, Феб, сейчас, не к месту. Я, между прочим… — Психовский потер виски. — Ладно, ладно, проехали, может я и вправду чуть-чуть хвастаюсь, имею право. Инара, так что вы собирались делать… Ответа не последовало. Фокусируя взгляд, профессор заметил, что девушка, замерев, смотрит на крыльцо храма — Психовский посмотрел туда же. Из-за огромных колонн, пошатываясь, выходила Бальмедара с разодранной щекой. — Мама! — вскрикнула Инара. — Нет, это что, ты… Фраза оборвалась на громком «Эй!». Для Грециона, голова которого ходила кругом, а любая мысль о еде могла стать спусковым крючком не самого приятного рефлекса, события происходили чересчур стремительно — поэтому профессор слишком поздно заметил, что девушку схватили под руки два мага. — Наконец-то мы нашли тебя, — сказал первый, усиливая хватку. — Теперь еще и твоя мать оступилась с Духовного Пути. — И теперь мы исправим нашу ошибку, сделаем то, что должны были еще тогда… — Раз! — один маг повалился на землю, а шапка-митра свалилась рядом. Второй маг непонимающе огляделся. Последнее, что он увидел — упитанное, злое и пыхтящее лицо Брамбеуса. — Два! — крикнул барон, занеся руку с ружьем. Второй маг свалился без сознания. — Вот что значит хорошее ружье на все случаи жизни! — вытерев пот со лба, довольно пропел Брамбеус. Психовский, уже разобравшийся в ситуации, добавил: — Вот теперь я точно понимаю, как выстреливают сюжетные ружья. — Даже с отсыревшим порохом, — продолжил Аполлонский. — Так вот, Инара… — начал профессор, но увидел, как девушка уже несется ко входу в храм. — Вот ведь их не поймешь, то никому не говорите о том, что видели меня, то я сама побегу в гущу событий… — С каких пор ты начал бегать за студентками? — ухмыльнулся художник. — Я хотел спросить еще тогда, когда мы встретились с Сунлинем и этой девушкой, но как-то не до того было. — С тех пор, как студентки начали бегать за мной, — махнул рукой Грецион. — И стали просить помочь с Вавилонскими Драконами… Грецион опять схватился за голову — стрельнуло. — Нам надо разделиться, — предложил профессор, почти не размыкая губ — гнев снова просился наружу. — Очень плохая идея в таких ситуациях… — пощипывая подбородок, заметил Федор Семеныч. Вавилонский Дракон вновь закричал — громче прежнего, так сильно, что казалось, будто он здесь, за спиной. — Мы с бароном отправимся усмирять Дракона, — как ни в чем не бывало решил Сунлинь Ван. — Прелестно, а мы с Фебом побежим к Бальмедаре — тем более я сейчас навряд ли чем-то вам помогу. Старый Китаец кивнул и посмотрел в глаза профессора — желтизна так и не прошла. — Королевское золото… — подумал алхимик. — Отлично, охоте наконец-то быть! — вцепился в ружье Брамбеус. И они разбежались — вглубь города и в сторону храма. Только Федор Семеныч какое-то время стоял на месте, не желая вообще никуда идти, просто теребя в руке блокнот. Но одиночество оказалось еще хуже и, тяжело вздохнув, Аполлонский сказал: — Да что б вас всех! Если я не привезу отсюда хотя бы одну более-менее цельную зарисовку… Федор Семеныч побежал — вернее сказать, шариком запрыгал — за Психовским.
Бальмедара дотронулась до глубокой кровоточащей царапины на щеке, оставленной птичьей лапой Вавилонского Дракона. В голове все еще мелькала картинка недавних событий: глаза зверя, глубокие и утягивающие, полные внеземного и в то же время человеческого, даже смутно знакомого, внезапно вспыхнули белоснежной, чистейшей злобой, и существо полоснуло ее по щеке, закричав и ринувшись прочь. Сейчас по телу магини слизнем ползла изнуряющая слабость, и Бальмедаре хотелось упасть прямо здесь. Она посмотрела на город — туда, куда убежал Сируш, куда убежала ее дочь, ставшая частью Дракона, и магиня увидела размытую точку, приближающеюся к храму. Бальмедара тут же подумала, что Дракон возвращается — без сил, магиня упала на белые камни, приготовившись посмотреть в бесконечные глаза и потерять саму себя. — Мама! — крикнула Инара, подбежав к магине и схватив ее за руку. — Мама, он, он… ранил тебя! Бальмедара, услышав такой знакомый голос, улыбнулась. — Инара, дорогая, — протянула магиня, будто засыпая. — Я отпустила тебя, чтобы ты не была там, взаперти, во мраке. И ты… — Нет, мама, это я! Настоящая я! Я не умирала, я просто сбежала… — девушка затрясла магиню. — Но мы сожгли твое тело в аметистовом пламени… — Это было не мое тело, мама! Я здесь, я не часть Дракона, я — это я! И тут Бальмедару как холодной водой облили. Она проморгалась — туманная дымка перед глазами постепенно начала таять, и магиня увидела отчетливое изображение своей дочери. — Инара… — прошептала она. — Так ты жива?.. Бальмедара подалась в сторону дочери, стоявшей на коленях — та подхватила ее. — Да, да, да… — Инара всхлипнула. — Мне просто стало жалко его, и я слишком поздно поняла, что наделала, попыталась все исправить, но сделала только хуже… боги, ну почему так происходит всегда! Каждый раз, когда ты пытаешься сделать мир лучше, он дает тебе пощечину! Аполлонский и Психовский молча смотрели на семейное воссоединение. Тишину нарушил художник: — Почему это всегда так трогательно, — Федор Семеныч шмыгнул носом. — А у меня даже нет ничего, чтобы остановить кровь и щеку перевязать… Грецион промолчал — он смотрел на Инару, к слову, довольно привлекательную, и думал, что, если бы о нем снимали фильм, волей са́мого шального сценариста между ними могла бы вспыхнуть романтическая линия, и Психовский не был бы против, грех отдавать красивых девушек кому попало, а он — в этом оттиске профессор свято верил в такую истину — уж точно не кто попало. Но все это казалось таким абсурдом и глупостью здесь и сейчас, в стальных рамках настоящей жизни, что хотелось смеяться в голос: Грецион воспринимал Инару как бедную студентку, которая во имя фантомной справедливости натворила дел, завалила сессию и пошла просить о помощи преподавателей, а они, все как один, просили поднять ее юбку — вот она, отчаявшись, и обратилась к первому встречному профессору в университетском коридоре, веря, что хотя бы он ничего не попросит взамен. Этим первым встречным и оказался Грецион. Только вот так вышло — вселенная любит пошутить и повыпендриваться, — что у профессора, похоже, нашлась аллергия на Вавилонского Дракона. Все равно, что позвать друга на конкурс поедания хот-догов, а потом узнать, что его тошнит от сосисок. Поток ясных мыслей снова взбаламутил спазм боли. Грецион, пошатываясь, наклонился к всхлипывающей Бальмедаре. — Бальмедара, вы знаете, что нам делать? — Снимать штаны и… — начал было Аполлонский, но профессор показал кулак. — Понял, молчу. — …но его глаза, — не услышав профессора, продолжила магиня. — Почему они были такими знакомыми, почему… — Бальмедара, — сжав зубы проскрежетал Психовский. — Скажите мне, черт бы вас… Грецион закрыл рот руками. Нет, это началось снова, нет, только не здесь, только не сейчас. Магиня повернула голову — кровоточащая рана от острых когтей стала видна Психовскому в полной красе, порез оказался глубоким. — В храм, — сказала она. — Зверя нужно вернуть в храм. Но Заххак… — Погадите-ка, — вдруг вклинился Аполлонский, со скоростью швейной машинки листая блокнот. — Сколько всего было магов? По-моему, не считая вас, я зарисовывал четверых… Инара и Бальмедара почти одновременно кивнули. — А скольких приложил Брамбеус? Двоих? — Да, — ответил Психовский. — И к чему ты вспомнил эту абсолютно бесполезную, идиотскую и тупую… Федор Семеныч за последние пару дней понял, что в таких случаях Грециону главное не давать договаривать — обрывать пулеметную очередь горящих ругательств еще до того, как спустят курок. Так художник и сделал, напомнив всем о важности арифметических вычислений: — А куда делись еще двое?
— Три! — заорал Брамбеус так громко, что его услышали бы и на дне морском, тут же прекратив все вечеринки и объявив немедленную эвакуацию. Маг свалился без сознания. Барон протер лоб запачканным платочком, радуясь, что не потерял его в гуще событий — не то чтобы Брамбеус слишком часто потел, даже при его магистральных размерах обычно нужно было очень постараться, чтобы лоб превратился в филиал городского бассейна с постоянно мокрым полом. Просто сейчас все осложнял один нюанс, который барон воспринял как дополнительное препятствие в самой захватывающей охоте в его жизни — рынок вокруг полыхал. Языки пламени вздымались вверх и, голодно шипя, переливаясь красно-бурым, накидывались друг на друга, становясь единым целым пожара. Выслеживать Вавилонского Дракона оказалось не так сложно, Брамбеусу даже не пришлось использовать свои охотничьи секретики, а старому китайцу — алхимическое чутье. Достаточно было просто идти по следам разрушения, ориентируясь на паникующих лемурийцев — так Сунлинь Ван с Брамбеусом и добрались до рынка, где впервые увидели Сируша вблизи, чуть не утонув в глубине его глаз. Барон, питаемый азартом, решил выстрелить, но слишком поздно вспомнил, что ружье не работает — Дракон зашипел и кинулся на торговые палатки, раздирая ткань и разнося все вокруг. А потом начался пожар — существо, видимо, задело то ли лампадку, то ли что еще, и голодное пламя принялось бушевать, превратив и без того напряженную охоту в еще более интересную и опасную — Брамбеус все не мог нарадоваться. Черный дым жалил глаза. Барон с алхимиком решили, что им нужно разделиться и каждому, как сказал Брамбеус, «охотиться так, как он привык» — ведь это вовсе не было соревнованием, скорее общим делом, желанием целой своры охотников поймать зверя, разделив добычу— каждому нужен был свой трофей. Возникший из неоткуда маг не смутил барона — Брамбеуса вообще ничего не смущало, пока в руках было ружье. — Достопочтимый алхимик! — крикнул барон. — Вы меня слышите?! — Да, — ответил Сунлинь Ван откуда-то с другой стороны огня. — У меня тишина, но я приложил одного их мага! — Брамбеус кричал с такой силой, будто бы они с алхимиком находились по разные стороны огромного карьера, или, того пуще, залива Ла-Манш. — Иду глубже. Стараясь не подпалить своих старинных одежд — не из соображений безопасности и возможных ожогов, а для того, чтобы не раскошеливаться на новенькую одежку от личного портного, — Брамбеус пошел глубже в пожар. Все лемурийцы благоразумно разбежались, и барон внимательно вглядывался в каждое движение, ведь любое слишком резкое могло означать, что охотнику пришло время стать добычей. Поэтому, когда Сируш, сверкая птичьими когтями, прыгнул на Брамбеуса, тот моментально уклонился, даже успев ударить тварь ружьем. Та зашипела — на мгновение барону показалось, что за Вавилонским Драконом тянется огромная холодная тень, она одновременно шлейфом тащится по земле и колышется в воздухе, вздымаясь к небесам, извиваясь, как огромная змея, и раскидывая в обе стороны гигантские крылья. Списав это на игру света и тени от палящего пламени, барон принял боевую стойку. — Ну давай, — поманил он Сируша свободной рукой. — Иди к папочке. Как оказалось, подготовился к бою Барон напрасно — зверь зашипел и, не желая больше иметь дела с ружьем, рванул дальше. Брамбеус закашлялся — пожар разошелся не по-детски. — Господин Сунлинь Ван! — позвал барон. — Оставляю зверя вам, будьте осторожны! Прищурившись и слезящимися глазами глядя сквозь черный дым, Брамбеус увидел, что огонь подбирается к телу отключенного им лемурийского мага. Беда барона — как ему самому всегда казалось, — заключалась в том, что, несмотря на огромные размеры тела, сердце его было еще больше — а потому всегда перевешивало.
В хаосе погони и пожара, достопочтимый алхимик Сунлинь Ван потерял две деревянные палочки, привязанные к поясу — теперь старый китаец еще сильнее цеплялся за две оставшиеся. Мантию подпалило, но алхимик каждый раз не давал ей загореться полностью, хоть языки пламени и становились все сильнее. Сунлинь Ван настороженно всматривался в огонь, каменные своды и разрушенные палатки, но постоянно сбивался, соскакивал с нужных рельс — алхимик не переносил хаос и не мог сосредоточиться, его стихией был порядок, где даже самое незаметное изменение реальности, ее дрожь, можно почувствовать. Старый китаец вновь вспомнил слова своего отца в их простеньком доме с протекающей крышей, слова, которые тот говорил на каждой чайной церемонии, ради которой отец не поскупился купить дорогой чайник, в три его зарплаты, и такие же чашечки. Отец всегда говорил Сунлиню, что порядок — залог всего, но если случиться так, что вокруг сомкнется непроглядный хаос, и от него не будет спасения, надо просто научиться превращать его в порядок, хотя бы внутри себя. Потому что не существует одного без другого, и железным усилием стальной воли можно обратить врага в друга, произвести ту самую, как уже теперь понимал алхимик, трансмутацию. Потому достопочтимый Сунлинь Ван закрыл глаза, крепко держась за обрубки веток. Внутри наступала гармония, посторонние шумы перестали беспокоить, и тогда… Тогда алхимик почувствовал, как на него прыгает Вавилонский Дракон — еще за секунду до самого прыжка. Старый китаец уклонился и открыл глаза — взглядом, полным далеких звезд, на него смотрел зверь. — Королевский зверь, царский зверь, — будто бы нашептывая заклинание, заговорил Сунлинь. — Вместилище царей, последнее пристанище Змия, источник золота королей, камня королей, Философского Камня… Зверя, видимо, подбор эпитетов не очень впечатлил — Вавилонский Дракон зашипел. Сунлинь Ван только снял с пояса обрубок ветки, как тут зверь кинулся на алхимика, на этот раз повалив на землю — продырявленная ветка укатилась в голодное пламя. Змеиный язык чуть не касался лица алхимика, когти исцарапали руки, но Сунлинь Ван, сам дивясь себе, снял с пояса змеиный клык и полоснул тварь по брюху — чешуя не позволила нанести серьезную рану, но Дракон отпрянул. Алхимик поднялся с земли, взглянув на исцарапанные руки — их жгло, но рана была не смертельной, даже кричать от боли не пришлось. Только морщится. Дракон зашипел — Сунлиню, как и Брамбеусу, тоже показалось, что он видит за зверем огромную, словно бы заполняющую все пространство вокруг, тень. Сируш приготовился к новой атаке — но передумал. Старый китаец не разобрал, какую фразу крикнул подоспевший маг, последний из четырех, но Вавилонсому Дракону достаточно было увидеть лемурийца. Внутри зверя щелкнул инстинкт, сменивший тактику действий, и Сируш, прыгнув с места с неожиданностью бьющей молнии, налетел на мага, полоснув лапой по горлу. Зверь отчетливо помнил тех, кто держал его в плену, и теперь пробудившаяся его часть — часть Змия-Тиамат — захотела убивать, выпустить наружу всю злобу, потому что она и была этой самой концентрированной злобой. Если бы сейчас кого-нибудь приспичило поискать значение слова «злость», можно было бы не лезть за словарем — Вавилонский Дракон сам по себе воплощал это слово, его истинное значение. Зверь взглянул в сторону храма — в глазах отражалось кусающееся пламя. И, забыв о старом китайце, Сируш рванул обратно в храм — у него появилась цель, даже целых четыре, и начать он хотел с самой важной. Тут как в математике — лучше приступать сначала к сложной задаче, ведь те, что полегче, потом будут щелкаться, как орешки. Сунлинь Ван, вернув себе равновесие, нащупал откинутый в сторону змеиный клык. У него остался лишь он и один привязанный к поясу продырявленный обрубок толстой ветки. Что же…
— То есть вы хотите сделать из меня живца?! — всплеснул руками Федор Семеныч. — Значит я тут рисую им всем портреты за даром, увековечиваю в мире искусства, а они… нет, простите, я так не играю! — Ты больше всех похож на приманку, Феб, — пожал плечами Психовский. — Ты среди нас самый упитанный! Главное яблоко в рот не забыть, яблоко… — Черта с два, Грецион! Знаешь, когда у тебя случаются приступы злобы и агрессии, ты хотя бы такого не предлагаешь. В этот момент Грецион схватился за голову. — Так, нет, — отпрянул Федор Семеныч. — Я не имел в виду, что тебе снова нужно срываться, вот прямо сейчас. — Радуйтесь, наживкой вам не быть, — Инара посмотрела в сторону города. — Проблема решилась сама собой. — В каком смысле?.. Аполлонский развернулся — со стороны горящего вдалеке рынка бежал барон Брамбеус, держа в руках мага без шапки-митры. Чуть в стороне пытался бежать Сунлинь Ван, развивая ту скорость, какую мог — чуть быстрее улитки, но чуть медленней черепахи. Необъяснимым для современной науки образом, эти двое поравнялись, и ко входу в храм вернулись вместе — барон повалил мага на землю и выдохнул, даром что ураган не начав. — Вот вам ваш маг, делайте с ним что хотите. — Одного он убил, а теперь… — начал Сунлинь Ван, но закончить не успел, потому что в разговор встрял художник. — И про это вы говорите, что проблема решилось сама собой? Как здорово, конечно, что все мы здесь сегодня собрались, но… Художник передумал, когда мимо пролетел Вавилонский Дракон, чуть не сшибив Федора Семеныча с ног. В этот момент закричал Грецион. — А, о, беру слова обратно, — Аполлонский пытался сохранить равновесие. — Мама? — Инара прильнула к магине. — Иди, иди… — Бальмедара взяла дочь за руку. — Со мной все будет в порядке. — Да хватит вам уже трепаться! За ним, черт возьми! — вскрикнул Психовский, не выдержав. — Просто… за ним…
Заххак сидел под сводами святилища на вершине храма, окрашенными в насыщенно-синий и усеянными золотистыми звездами. Визирь Духовного Пути чувствовал, что Дракон идет сюда, что именно здесь все решится. Магус понимал, что не даст остальным добраться до Вавилонского Дракона раньше, потому что это — его царский зверь, его… Губы правителя зашевелились, а воздух вокруг призрачно заискрился и замерцал, словно терзаемый жаром костра. Слова электрическими облаком стали разрастаться…
Письменам не было конца. На секунду Грециону показалось, что он находится в древнеегипетской гробнице, стены которой традиционно от потолка до пола исписывали заклинаниями, помогающими усопшему найти путь в жизнь после смерти. Здесь же, между лестничными проемами и в тех залах, что бледной тенью виднелись в темноте храма, изредка испещренной солнечными лучами, «фонарями» или лампадками, заклинания причудливыми узорами ползли по стенам, но вот только понять их было невозможно. Вернее, не так: можно было понять письмена, но только не их суть. Психовский пытался разобраться, что же надписи означают, но сдался — это был просто набор каких-то слов и звуков, которые мозг отказывался собирать во что-то внятное. — И почему святилища, или как они правильно называются, всегда находятся наверху, — возмутился запыхавшийся Аполлонский. — Да еще и так высоко. — Нормальная практика, — пожал плечами профессор, говорить которому не хотелось ничего — любая сказанная фраза отзывалось болью. Вавилонский Дракон скрипел лапами далеко впереди, с шипением поднимаясь по лестнице. Шествие вел Сунлинь Ван, а замыкал Брамбеус с ружьем наперевес. К удивлению Федора Семеныча, которое тот уже высказал, они как-то слишком просто и беспрепятственно шли в святая святых, и вообще, храм без стражи — это как-то неправильно. На что алхимик и Инара с Психовским парировали: мол, могущественному магу, жалящему словами, будет просто незачем останавливать каких-то жалких человечков из другого оттиска, а в страже нет смысла, когда есть Духовный Путь и все та же магия, сила слов. Вдалеке глухо скрипели когти Сируша, работая своеобразным путевым клубком. Отсутствие минотавра и как такового лабиринта компенсировалась огромными лестничными пролетами и не желающем ничего хорошего Заххаком не вершине храма. Аполлонский с важным видом поднял палец и хотел, видимо, заметить что-то еще, но не успел — упал, закрыв руками уши. Грецион, Инара и Сунлинь Ван только успели переглянутся прежде, чем тоже свалиться. Голову рвал какой-то неприятный, высокочастотный звук, помешанный со скрежетом метала — словно бы в сварочном цехе решили провести мелом по доске. Ноздри заполнил едкий запах гнили, пришедший на смену лакрице, скисшим ягодам, зубной пасте и корице — храм внезапно стал действовать на всех одинаково, а в воздухе, словно усиленные чем-то, заискрились далекие, произносимые шепотом слова. — Чертовы письмена, — заорал Психовский про себя. Он хотел озвучить мысль, но у него не вышло — звук и запах были так сильны и отчетливы, что приносили какую-то неслыханную боль. — Это Заххак… Барон Брамбеус стоял, хлопая глазами и вообще не понимая, что происходит. — А чего вы все вдруг попадали? — спросил он. Грецион еле-еле поднял руку и ткнул в сторону исписанных стен. — А, опять какая-то магия. Это те запахи и звуки, о которых вы говорили еще тогда? Я-то уж думал, что все просто сошли с ума, а я один тут остался в здравом уме… Брамбеус начал соображать, как бы ему спасти ситуацию. В таких далеких от привычных, без примеси магии и фантастического ситуациях, мыслительный процесс в голове барона всегда проходил медлительно и не торопясь, словно вельможа, преспокойно собирающийся на пир и не знающих никаких других дел. Колесо сознания крутилось, а взгляд бегал от стен к валяющимся попутчикам. Пока Брамбеус думал, профессору совсем поплохело — звуки в голове стали металлическими, острыми лезвиями начали резать нутро, вторгаться в сознание, словно заставляя его испытывать боль насильно, превращать фантомные страдания в физические. Грецион не выдержал — его организм сдался, уступив место сладкому забвению, где нет ни боли, ни страдания, ни звуков, от которых сводит мозг… В сознании всплыли два огромных глаза, манящих за собой, на недосягаемую глубину — два глаза, которые профессор увидел, когда Дракон пронесся мимо, там, внизу, около храмовых колонн, два глаза, полные невозможной бесконечности… И Грецион Психовский умер.
Змееносец. Глава 13 Пути Духовные вполне исповедимы
Грецион-Змееносец, так удачно оказавшийся под своим Зодиака, дежавю не испытал — оно прокатилось по другим оттискам, но только не по этому. Только привычная дурнота никуда не делась — только сделалось сильнее от скрежетания в голове и запаха гнили. Брамбеус все еще соображал, даже в этом оттиске. Вариантов-то было не так много — если он правильно понял знак профессора, что надо было учудить какую-то пакость с письменами. Только вот стену барон даже при всем желании не разломал бы, тем более что надписи оказались повсюду. Замазать заклинания было нечем, а ружье — вот так подстава — в этой ситуации никуда не годилось. Вдруг на Брамбеуса снизошла идея, в голове слабым огоньком замерцала та самая лампочка прозрения. Если он понял ситуацию правильно, то все дело в том, что кто-то где-то шепчет какие-то слова, из-за заклинаний на стенах они становятся сильнее, а звуки в голове причиняют боль… — Что ж, — рассудил барон. — Тогда ситуация решается на раз-два. Нет звука, нет заклятий, нет и проблем. Брамбеус набрал в грудь воздуха и заорал, что есть мочи. Древние камни словно бы задрожали и скукожились, ведь по храму понесся рык великана, клич предводителя викингов, пропущенный через сотни рупоров — Барон кричал, не останавливаясь. Голос громом катился по коридорам, не видя препятствий, проходя сквозь стены и даже снося незадачливых насекомых, не ждавших никакой беды. Не переставая орать, схватив ружье под мышку, Брамбеус потащил все еще лежавших попутчиков вверх по лестнице, возвращаясь то за одним, то за другим. Тут барон обратил внимание на какой-то невнятный писк, но не стал особо задерживаться на этом нюансе. Писк повторился — оказался голосом Федора Семеныча. — Барон, хватит! — кричал тот, но его голосочек просто млел по сравнению с каменным ором Брамбеуса. — Хватит, все кончилось! Барон остановился, только когда Аполлонский не выдержал и пнул его. — Спасибо, а то последние две минуты мы страдали не от заклятий, а от вашего крика. — Ого, — обалдел барон, дивясь результату. — У меня что, получилось? — Как видите, — кивнул художник, — вы заглушили эти отвратные звуки, а потом все вернулось на круги своя. Надо же, эти письмена работают почти как колонки — весь храм в динамиках, ого. — Тогда нам бы поторопиться, пока этот Визирь Духовного Пути, или как его там, не очухался и не начал шептать заклятия снова, — предложил барон. — Да, хорошо бы, — Аполлонский оглядел попутчиков — все, кроме профессора, поднялись на ноги. — Грецион? Ты опять помер, что ли? Профессор, продираясь сквозь боль, ставшую невыносимой, помотал головой: — Дежавю нет… но… У Аполлонского была хорошая память, которая работала подобно русской рулетке — выстреливала нужной информацией спонтанно. За разговором в баре художник мог внезапно вспомнить пари, проигранное собеседником десять лет назад, и ничего не оставалось делать, как залезть на стол и кукарекать — нет, это не метафора. Вот и сейчас Федор Семеныч подметил: — Ты уверен, что родился Стрельцом? Просто если дежавю вроде должно было случиться, а вроде — не случилось, то у меня предположение, что ты Змееносец. То самое исключение из правил, ну, помнишь, когда знак выходит из Зодиакального центра. Инара задумчиво переводила взгляд с художника на скрюченного профессора. На лице отображалось словно тиканье слегка проржавевших часов. — А ведь вы правы… — Плевать, плевать, — Психовский резко обхватил затылок руками. — Как же на это сейчас плевать! Зодиака, не Зодиака… — Тогда, — Брамбеус внезапно ухмыльнулся, обведя взглядом всех остальных, — как насчет пробежки, а? В здоровом теле… — Мертвый дух, — закончил Аполлонский. — Мой уж точно: лестницы, пробежки… вы видимо и вправду решили меня убить. — Да какой нам к чертям толк от вашего здорового тела и духа! — снова не выдержал профессор. — Пусть это все быстрее закончится, и прекращай ныть, Феб, хватит, просто закрой свой рот и беги! — Мда, совсем плох, — присвистнул Аполлонский. Грецион пропустил замечание мимо ушей. — Кто последний, — выпалил Брамбеус, не обращая внимания на все остальное, — тот берет на себя этого гадкого Дракона-Змеюку! — Надеюсь, до этого не дойдет, — буркнул художник, когда барон понесся — ладно, покатился чугунным шаром — вверх по лестнице. Федор Семеныч все же улыбнулся, подумав, что и Грецион сделал бы так же — даже перед лицом катастрофы, барон не терял энтузиазма. С улыбкой в самую гущу событий, навстречу неизведанному, из полымя в еще одно полымя, потому что огня было уже предостаточно. Вот это, подумал художник, по-нашему.В каждом дремлет дух дракона,Все мы с ним рождены.Власть и жадность — вот законы,Что играют людьми.«Ария»
Грециона просто рвало на части — за последние пару дней, здесь, в Лемурии, ему было невыносимо плохо, но настолько отвратительного состояния еще не наступало. Чем выше профессор поднимался, тем хуже ему становилось — и он уже не держал ту дегтевую злобу, все это время раз от раза вылезающую наружу. Эта чернота, гнев, агрессия, обычно запертая глубоко внутри так надежно, что даже сам о ней забываешь, наконец-то вырвалась наружу, расположилась под Змееносцем и все бурлила, кипела, отражаясь в глазах густой краской. Ступени кончились, но профессор даже не заметил — его вовремя остановил Федор Семеныч. Грецион с силой отпихнул художника, только потом догадавшись поднять взгляд, работавший, как разбитое кривое зеркало. Святилище храма оказалось пятиугольным. В каждом углу стояла словно бы понурая статуя одного из забытых божеств с аметистами в головах: кто-то был мускулист, кто-то — худ как трость папоротника, а кто-то вообще напоминал скопище песчинок, но все божества, замершие в образе каменных изваяний, лишь отдаленно напоминали людей. Скорее смесь растений и животных с намеками на человеческие формы. В лампадках, подвешенных к колоннам и потолку купола, горели масла, разлетавшиеся в хаотичном танце. Своды святилища украшали золотые созвездия, практически не потускневшие за столько тысяч лет. По стенам карабкались письмена-заклятия, плотно прижимающиеся друг к другу. В центре святилища без сознания валялся Заххак, сбитый Вавилонским Драконом — сам зверь гордо восседал рядом, занеся лапу и отбрасывая слишком густую и длинную тень… — Стой! — крикнула Инара, тут же закрыв рот рукой, но зверь отвлекся и повернулся. Девушка растерялась — она знала, что обязана вновь найти Вавилонского Дракона, вновь запереть его. Столько раз Инара прокручивала в голове, как будет проходить этот момент, прогоняла призрачный спектакль и была уверена, что справиться, повторит продуманный порядок действий — а сейчас, столкнувшись с проблемой наяву, розовый мыльный пузырь планов лопнул. Инара замерла, не зная, что делать. Ругала себя за то, что ввязалась во все это — за то, что с самого начала запустила цепочку событий просто потому, что тогда ей казалось, что она горы может свернуть, может изменить мир в лучшую сторону, облегчить страдания — Сируша и ее собственные. Теперь, в святилище, девушка смотрела в упор на Вавилонского Дракона, на пробудившегося внутри него Змия-Тиамат, и понимала — ничего ты, глупенькая, не можешь с этим поделать. Ничего. Федор Семеныч, тем временем, вжал голову в плечи, барон засучил рукава и сжал кулаки, а Сунлинь Ван просто стоял в стороне, смотря на Сируша. Инара перевела взгляд на профессора — он был ее последней надеждой, хотя она сама до конца не понимала, почему. — Профессор… — протянула она. Грецион стоял на коленях и тяжело дышал, не выдерживая взгляда Вавилонского Дракона. Зверь оказался слишком близко, и сознание профессора взрывалось цветным конфетти, а его осколки впивались в душу… — Дура, — крикнул он. — Тупая дура! Психовский поднял пожелтевшие (или, как сказал бы алхимик, позолотевшие) глаза на девушку — в них плясали черти. — Зачем, ради чего ты вообще начала все это?! На кой черт ты выпустила Дракона, ведь если бы ты хотя бы на секунду подумала своей пустой башкой, задумалась о чертовых последствиях, не было бы этой боли, не было бы этого гнева, не было бы ничего этого! Какая же дура, дура… Грецион схватился за голову. Инара, не видя другого выхода, решила повторить попытку: — Профессор, я… Психовский чересчур резко встал и метнулся к девушке, прижав руками к стене — он встал рядом с ней лоб в лоб. — Ты заткнешься или нет! — затряс Грецион девушку. — Я, я, я… я все это ненавижу! Я вас всех, бесполезных болванчиков… Аполлонский хотел было оттащить профессора от Инары, но этого не понадобилось — Психовский сам рухнул на колени, начал массировать виски. А потом Грецион поднял голову и столкнулся взглядом с Вавилонским Драконом. Профессор опять смотрел в эти глаза, которые манили, протяжным ангельским пением звали к себе, но на этот раз Грецион не умирал, видел их наяву, где они оказались еще более глубокими, еще более затягивающими и знакомыми, как отражение в черном зеркале, как вывернутая наизнанку душа. Спазм боли сдавил голову, словно прессом. Профессор закричал — Дракон зашипел в ответ и сделал осторожный шаг. — Давайте я просто приложу его ружьем по голове, — напрягся Брамбеус. — Вы Грециона хотите жахнуть? — не понял художник. — Дракона! Он уже раз получил от меня… — А. Я, пожалуй, все это дело зарисую, — предложил Федор Семеныч. — В таких ситуациях всегда нужен либо бард, либо художник. — Нет, — вмешалась Инара, взяв барона за руку. — Это должна сделать либо я, либо профессор… — Почему? — Потому что мы рождены под Змееносцем, — прошептала девушка. — И то, что мы совершим сейчас, будет едино для всех оттисков — а у нас всего одна попытка, барон. Надо остановить Дракона здесь и сейчас, и если Дракон возьмет над нами верх, то… — Ясно, каюк, — не выдержал Аполлонский. Сируш взревел. Сунлинь Ван положил руку на пояс. Всего одна попытка… — Профессор, — крикнула Инара. — Профессор, вы Змееносец. Вы должны справиться с ним, обязаны… Грецион слышал, но не хотел слушать — он просто мечтал отключиться, упасть в сладкое забвение, где нет боли, а наружу не рвется гневное пламя, но они хотели, чтобы он столкнулся с Вавилонским Драконом, но Дракон постепенно убивал его, делал боль невыносимее, и Психовский не понимал, почему, почему так происходит, в чем причина… — Я ничего не обязан вам! Проклятье, Змееносец, не Змееносец, да разве есть разница?! Я не могу, мне плохо, Дракон делает все это невыносимым… я, черт вас дери, столько раз умирал, и каждый раз понимал, что умираю! Знаете, какого это, чувствовать, что тебя только что не стало, ты сдох как собака в подворотне, но вот он ты, живой, а где-то в другом месте валяешься мертвый!? И каждый раз вновь приходил в себя с тошнотой, с болью, с дежавю, черт, нет, черт… И каждый гребаный раз я видел эти проклятые глаза, они тянули за собой, а боль не прекращалась, боль только… сильнее! Последнее слово Грецион выкрикнул так громко, что его не грех напечатать огромными буквами, которые, весом в несколько тон, упали на пол святилища. Сируш, внимательно наблюдавший за профессором, придвинулся вплотную к нему. Инара замерла. Зверь, мелодично шипев, глядел на Психовского. — И ты, чертова тварь, ненавижу, ненавижу, что погнался за тобой!.. Профессор, не убирая рук от головы, поднял взгляд и посмотрел в безумно глубокие глаза Вавилонского Дракона, полные бесконечного космоса — они потянули профессора за собой, к сотне царей, ко всему тому, что было частью дракона, к мерцающему сизой ненавистью огню Змия-Тиамат внутри, и тогда Грецион увидел в этих глазах… Грецион увидел самого себя внутри Дракона. Новый спазм оказался сильнее всех остальных, но Психовский не помнил, закричал или нет — потому что с этой болью, на уровне бреда, помутнения сознания, пришло понимание. Все осколки собрались воедино, мучительная загадка рассыпалась пеплом ясности, потому что там, внутри Вавилонского Дракона, был он — он, последним посмотревший в глаза зверя в стольких оттисках и умерший там, отдав свою душу, отдав самого себя Вавилонскому Дракону. Все это время профессор бежал, гнался за самим собой, сталкивался с собой, и от этих встреч ему становилось дурно, потому что он смотрел будто бы на изнанку себя: так много Грециона из разных оттисков оказалось внутри, что дракон и был Греционом. С каждым дежавю, с каждой смертью, с каждой близостью к исковерканному себе самому, Дракон внутри Грециона, эта первобытная злоба, дремлющая внутри каждого без исключения, просыпалась — профессор, сам того не ведая, будил своего Дракона. Ведь, вопреки предрассудком, убив Дракона, мы не становимся им — лишь будем своего внутреннего, так и ждущего хотя бы тени возможности, чтобы вырваться наружу. И теперь они смотрели друг на друга: человек внутри Дракона, и Дракон внутри человека. Воплощение первозданной человеческой тьмы, и первозданная человеческая тьма, взявшая верх. — Это я… — просипел профессор, вставая — ноги почти не держали. — Ты, проклятая тварь, что б тебе пусто было, это и есть я. Дракон, вырвавшийся наружу, гребаный Змий, ты… я, я, я… И тут профессор, падающий обратно на каменный пол, понял, что должен — что должен был сделать все это время. Победить самого себя — забавно, какой извращенной и реальной может оказаться метафора. Упав, Психовский схватил зверя за птичью лапу и потянул вниз. Существо зашипело, забрыкалось, и полоснула Грециона по руке второй лапой. Профессор застонал. — Нет, я так больше не могу, — не выдержал Брамбеус. — Это и моя добыча тоже! Барон ринулся вперед, занося над головой ружье. — Как хорошо, что я просто бедный художник, ля-ля-ля, — напевал несуразицу прижавшийся к стене Аполлонский. Брамбеус увидел, как зверь отвлекается на него, и улыбнулся. Сируш зашипел — и тень за ее спиной стала еще гуще, еще явственней, еще чернее, вырастя, казалось, до мерцающего цветным неба. — Теперь не уйдешь… Вавилонский Дракон занес свободную лапу, чтобы покончить с профессором, но… …все остановила легкая трель флейты. Мелодия весенним ветерком неслась от достопочтимого китайского алхимика, снявшего с пояса последнюю из своих веток с дырками — очевидно, полых внутри — и игравшего мелодию так, словно бы вся жизнь его стремилась к этому моменту, к прекрасной партии, достойной места в оркестре. Звук флейты переносил куда-то далеко-далеко, в края, где нет печали, в маковые поля, утопающие в красном цвете или же в пестро-желтые одуванчиковые опушки, а может и вовсе в бесчисленные ряды душистого и нежного шалфея. Мастерство Сунлиня завораживало, но это все отходило на второй план, потому что… Вавилонский Дракон замер, а непропорционально большая тень поблекла. Отец, старый мастер, всегда говорил юному алхимику — обращай внимание на детали, даже если они кажутся тебе незначительными, и обязательно верь своим предчувствиям, поскольку они срабатывают раньше разума. С того момента, как на палубе «Королевы морей» алхимик увидел следы, потом зеленый свет на горизонте, он послушал свое предчувствие — а как только попал в Лемурию, тут же почуял нечто змеиное, неуловимое, витавшее в воздухе. Что-то такое, что ум пропускал, считая лишь незначительной пылинкой. Тогда Сунлинь Ван и решил сделать несколько флейт. Теперь он наконец играл, перебирая пальцами, и внимательно смотрел за замершего предметом его поисков, изысканий и исследований, на вместилище царей, источник царского золота, царского камня, или, как его называли чаще — Философского. Инара глядела на достопочтимого Сунлинь Вана с восхищением, достойным Зевса, наблюдающего за виртуозной работой Гефеста в кузне, пока тот кует громовержцу молнии. Грецион, поняв, что Дракон замер, с трудом поднялся. Еле стоя на ногах, он вновь посмотрел в глаза зверя, и опять увидел там себя, блеклую тень, искаженное рябью отражение… Голову как топором раскололи. — Плевать, плевать, плевать, — сморщился профессор. — Путь все это, черт возьми, кончиться! Эта злоба, этот Дракон, этот Змий, этот Змееносец… Психовский чувствовал, что начинает нести несвязный бред. Боль и ненависть постепенно вытесняли сознание на второй план, но профессор собрался и из последних сил, вложив в себя всю вылезшую наружу злость, став единым с тьмой и внутренним Драконом, пихнул зверя в сторону. Сунлинь Ван продолжал играть. Вавилонский Дракон не сопротивлялся, и Грецион толкал зверя к обрыву — размером Сируш был больше варана, но почему-то казался невыносимо тяжелым, словно вобравшим в себя весь вес вокруг; словно вобравшим в себя всю тьму и злобу вокруг, высосав из каждого человека и тянув за собой длинной тенью. Грецион оказался у обрыва. Последний раз он взглянул в глаза Дракона — те тянули нескончаемым космосом, и из глубины смотрел он, Психовский, один, но разбитый на многих. Профессора передернуло, и он столкнул зверя с обрыва, громко выругавшись. Грецион Психовский убил себя внутри Дракона. Старый китаец перестал играть. Сируш, летевший вниз, очнулся, и истошно зашипел — когда зверь свалился вниз, тень его, все еще застилавшая пол святилища, тянувшаяся шлейфом за падающим Вавилонским Драконом, потускнела и будто истлела. Но профессор этого уже не видел — Грецион Психовский отключился, видя, как злость постепенно укутывает сознание. Грецион начал падать, летя в тугую бесконечность с холодным дном на недосягаемой глубине — полетел вслед за Вавилонским Драконом, Змием-Тиамат, злобой мира и каждого отдельно взятого человека.
* * *
Он вынырнул из холодного гипнотического небытия, где звуки звучали наоборот, а цвета раскрывались с обратной стороны, оттого чернота забвения казалось ему белой. А потом он понял, что снова стал собой, что чужие мысли не царапают его голову, хотя от чего-то — пока что не до конца понимая, чего именно — он все же не избавился. Вавилонский Дракон снова ощутил себя собой. Чувство тревоги, терзавшее его, рвущее звериную душу в клочья, кривой мелодией волынки заставляющее бежать, дрожать и бояться, пропало. Оно уступило место спокойствию — размеренному и бархатному. В сознании всплыли два образа, два взгляда, полных сочувствия, таких похожих друг на друга и родственных… Вавилонский Дракон наконец-то понял, что счастлив, и вполне по-человечески. И тогда его накрыло холодное одеяло смерти.* * *
Грецион Психовский открыл глаза. Падение, продолжавшееся вечность, кончилось — и никакого дежавю, никаких головных болей, а значит и никакой… смерти. Лишь легкая тошнота. Профессор лежал на чем-то мягком, и сейчас ему было вообще без разницы, не чем: будто это хоть королевская перина, хоть стог сена, хоть просто муравейник. Главное, что он лежал, и ему было не так плохо, как до падения. Глаза слезились, но Грецион разглядел белые древние камни. Профессор успокоился — хорошо, что это не стены лечебницы, а все та же Лемурия. Но тот же это он? Воспоминания прокручивались в голове, и Грецион вспомнил долгое падение, во время которого холод злобы резал его изнутри. Психовский разозлился — но понял, что злиться ему совсем не хочется. — С добрым утром, соня-Змееносец, — раздался до боли знакомый голос. Грецион прищурился — рядом сидел упитанный мужчина в круглых очках, такой знакомый… — А, точно, Феб, — протянул профессор. — Так, ну амнезии у тебя точно нет, одной морокой меньше. Грецион увидел в руках у друга блокнот — в принципе, ничего удивительного, да только вот Федор Семеныч не рисовал, а записывал. — Ты что, пишешь в блокноте? Аполлонский замер. — Ну да. А что такого? — Нет, ты обычно… — Я составляю свой точный гороскоп на тринадцатый Зодиака! Пока у меня есть ты в качестве подопытного кролика. — Я бы побоялся быть твоим кроликом… — У тебя нет выбора, — пожал плечами художник. — И, кстати, ты уже как несколько минут ни на кого не срываешься. Прогресс! — Срываюсь? Но почему… Грецион вспомнил обжигающе-горькую злобу внутри него. — Да, точно… Феб, я не знаю, что это было… — Все ты прекрасно знаешь — обычная злоба, темнота внутри нас. Я свою иногда даже подкармливаю, — рассмеялся художник. — А вообще, лучше всех знают Инара с Бальмедарой. Грецион включил мыслительную машинку на полную катушку — она работала туговато, но постепенно сводила концы с концами. — А Заххак… что с Заххакм? — О, тебе внезапно стала интересна его судьба, ха, — Аполонский послюнявил карандаш. — Значит, мы посчитали, что хватит с нас и всех остальных его жалящих слов и Духовного Пути, и… в общем, если тебя затошнит, тошни куда угодно. Барон вырезал его язык клыком, который таскал с собой Сунлинь. — Жестоко, но справедливо, — хмыкнул Психовский, попытавшись перевернуться — не очень-то получилось. Перед глазами все еще ходили пятна, и мир воспринимался скорее одним большим очерком, наброском самого себя. — Грецион? — позвал вдруг художник. — Что такое, среброкистый Феб? — Ты теперь у нас убийца Дракона, — загадочно протянул Аполлонский. — Не забудь убить Дракона в себе, ладно? — Обычно ты убиваешь своего внутреннего дракона, а это оказывается, черт возьми, гидра, — Грецион почесал бороду. — Поэтому мне с ним проще уживаться. К тому же, он у меня маленький — совсем крохотный драконишка, гекончик от мира огнедышащих. Профессор задумался. — А большого… я и так сегодня уже убил. И себя вместе с ним — себя, ставшего драконом. Боже, как двусмысленно, а. — Тем паче, — чудновато хрюкнул художник. — Ладно, собирай свои старые кости. Хотя, зная тебя, ты через пару минут уже вскочишь и побежишь искать новые приключения, похлещи этих, хотя, казалось, куда уж там. На этот раз, надеюсь, без Драконов — и внутри, и снаружи… — Без драконов, и ты? Что с тобой, Феб… — Иди к черту, а? Они рассмеялись. Когда художник ушел, Психовский задумался — он вспомнил о Духовном Пути, так рьяно диктуемым Заххаком, и ухмыльнулся. Иногда, промелькнуло в голове у Грециона, когда пути Духовные оказываются уж слишком исповедимы, лучше убраться с них сразу, потому что ни один из них никогда еще не принес ничего хорошего, а лишь заставлял натыкаться на одни и те же грабли, но в разной обертке и с разными бантиками. И каждый раз, когда кто-то начинал диктовать правила или учить, говоря, что лишь он знает, как должно быть, что успеха, или прозрения, можно достигнуть, слушая лишь его слова… каждый такой раз Духовный Путь оказывался той еще скользкой тропинкой, лишь поткал желаниям и целям его диктующего. Такой Путь всегда кто-то, да диктует. Сам по себе, с бухты-барахты, взмахом жезла, он не появляется… Духовные Пути, как и рукописи, все же горят. Каждый раз один сменяет другой, вытесняет его и вновь захватывает умы, пока не появится третий, или же пока люди сами не посчитают, что пора сбросить гнет этой дороги, на деле мощенной костями и ведущей в никуда — к са́мому краю бездны. Теперь же Духовный Путь, как ему и положено, вдребезги разбился, а сомнения разлетелись обсидиановыми осколками.А что же касается правителя Лемурии, то… …цепи тянули его вниз, до самого дна нижнего мира, окунали в пучину колючего страдания. Сознание уже не понимало, что есть реальность, а что — галлюцинация, потому что в голове металлическими дисками носился ужасный скрежет, слишком громкий, чтобы быть настоящим. Ноздри забило запахом тухлых яиц, гнили и серы. Заххак хотел облизнуть иссохшие губы — но не смог, никогда и нигде, ни в каком из оттисков. Ему достаточно было выиграть один раз, чтобы победить. Но и одного проигрыша хватило, чтобы единый для всех версий реальности Визирь, родившейся под знаком Змееносца, проклял Духовный Путь, по милосердию которого — так сказала ему Инара, прежде чем оставить здесь — все еще был жив. Но проклятие Заххака не возымело никакого эффекта — лишь легкая тень страшных мыслей легла на древние камни, которым такое наваждение было, что с гуся вода.
Фиолетовый туман закручивался воронкой, пока ночь насыщалась темно-темно синим, пахнущим шафраном и корицей, и чем гуще становилась темнота, тем ярче принимались светить крупицы-звезды, а монотонные планеты томно пошатывались на цветном, расплескавшемся оттенками небе. Лемурийская ночь пленила, подхватывала и несла куда-то на границу между сном и явью: несла сквозь вековечный лес, мимо светящихся в темноте ящеров, несла над морским прибоем, над вечном в своем изумрудном сиянии горизонтом, над медовым венцом луны. Ночь западала в душу, какими-то окольными дорожками внедрялась в человека, и он уже не мог забыть ее, каждый раз ждал нового наступления тьмы, новых потоков фиолетового туманы — и какой бы цвет утра мир не выбирал, увидевшему лемурийскую темноту был симпатичен лишь ночи цвет. Грецион Психовский, пьющий из аметистового кубка в костяной рамке, понял, что ночь пленила и его — теперь уж точно появится соблазн жертвовать рассветами ради закатов, а луна начнет припекать сильнее, чем самое раскаленное добела солнце. Сейчас профессор был един для всех оттисков, был собой, и это его безумно радовало. Больше не маячила на краешке сознания назойливая мысль о том, что где-то есть миллиарды других Греционов, периодически умирающих, и они, эти чужие Греционы — тоже ты, хотя и не ты вовсе. И их больше нет в Вавилонском Драконе, потому что и никакого Дракона нет. Этот концепт, в общем и целом, взрывал голову, постоянно приходилось напоминать себе, что есть только ты здесь и сейчас, ты это ты, да и вообще — никаких иных оттисков для нынешнего тебя нет, они вспоминаются, лишь когда по башке ударяет дежавю. Но дежавю теперь тоже не было. — И что вы будете делать? — спросил профессор у сидящей рядом Инары и Бальмедары с заживающей щекой. — Вавилонского Дракона больше нет, нет вместилища царей, да и вся Зодиакальная Эклиптика, получается, пойдет коту под хвост? Они устроил застолье, и каменный стол просто ломился от изобилия, в основном — овощного-фруктового, на что уже успел посоветовать Брамбеус, но посчитав, что правило: «дают — бери, бьют — беги» его еще никогда не подводило, после произошедшего в святилище накинулся на угощения с пятикратной силой. Достопочтимый Сунлинь Ван с бароном согласился, и предложил свою версию знаменитой поговорки: «Лучше фрукт во рту, чем пустота в желудке». — Мы сохраним его останки, — ответила Инара. — И посмотрим, достаточного ли будет этого крючка Тиамат, чтобы удержать созданного в ее честь Змееносца над нами. Ну а если этого не выйдет… думаю, мы переживем несколько дежавю. — А если это как-то сломает… вселенную в целом? — напрягся Федор Семеныч. — Вселенная как-нибудь залатает эту дыру, она всегда так делает, ей не привыкать, — улыбнулась Бальмедара, потом повернулась к Грециону и спросила: — А что вы будете делать, профессор? — А что мне нужно делать? — покрутил бокал в руках Психовский. — Вы теперь Змееносец, — уточнила магиня. — И если вы останетесь в Лемурии, то жизнь ваша станет едина для всех оттисков— навсегда. Если, конечно, останки будут работать… — А если нет? Если не останусь? Бальмедара пожала плечами. — Тогда дежавю, и все версии в иных вариантах реальности, вернутся — единый канат распутается до ниточек. Психовский опустил голову и призадумался — быть единым для всех оттисков это, конечно, здорово, и никакого тебе дежавю, и частью Дракона без своего же ведома точно не станешь. Да и в Лемурии тепло, чудные ночи, а о снеге никогда не слыхали — это отдельна радость. Но все же… чем больше его, Грециона Психовского, в разных оттисках, тем больше приключений и тем насыщенней жизнь на всех Греционов вместе взятых, а на месте профессор усидеть не мог дольше положенных университетских занятий. — Что я буду делать? — улыбнулся Грецион. — Пожалуй, вернусь обратно — у нас с Фебом еще турне не закончено, да и с моей одеждой надо что-то делать, устрою себе хороший шоппинг. После борьбы с собой внутри Дракона, и с Драконом внутри себя, это то, что нужно. — И пара сладких вафель, — мечтательно отозвался Аполлонский который, вместо того, чтобы есть угощения, зарисовывал их. — И пара сладких вафель, — хмыкнул профессор. Бальмедара кивнула. — Господин Сунлинь Ван… А вы что будете делать? Помните, вы говорили, что Вавилонский Дракон — ключ к Философскому Камню, — профессор сделал глоток из кубка. — И эти ваши глаза насчет королевского золота моих глаз… теперь я понимаю. — Да, — добавила Инара. — Вам нужны были глаза и сердце…. — Буду искать этот самый ключ, если вы не против — я алхимик, а не вивисектор, так что никаких печеней, селезенок и других интимных органов по началу. Это же вам не олень, — рассмеялся китаец, почесывая бороду. — Для начала, я просто изучу предмет моих долгих поисков. Боюсь, что он уже далеко не вместилище царей — а представить себе царский камень без царей…. А еще, почаще стану играть на флейте. Инара посмотрела на мерцающее цветным небо и на нескончаемый парад планет. Вот мир и стал капельку лучше, капельку справедливее, капельку добрее — и, ирония судьбы, это случилось не благодаря девушке, хотя она и стала той, кто кинул с заледенелого обрыва камушек, постепенно превратившийся в снежный ком. Но главное, думалось Инаре, что все в конце концов стало лучше. А уж кто тому причина… Девушка вздохнула и мечтательно протянула: — И только розы, только запах.
Пьянящий мир и небеса… — Красиво, — отозвался Грецион. — У меня студенты тоже такое пишут. Неисправимые юные романтики… — А ты — неисправимый старый, — хихикнул Художник. Они рассмеялись и выпили. — Мне вот интересно, — вдруг отвлекся от рисования Федор Семеныч. — А где Лемуры? В Лемурии я скорее ждал их, чем ящеров… Бальмедара рассмеялась, улыбнувшись — Грецион подметил, что улыбка магини стала нормальной, больше не смущала. — Хотела бы я знать ответ на этот вопрос сама. По сознанию Психовского шепотом прокатилось религиозное бормотание, запахло кислыми ягодами. Профессор вспомнил еще один вопрос, так и оставшийся незаданным: — Барон, а вы до сих пор ничего особенного не слышите и не видите? — Не-а, — с набитым ртом отозвался тот. — Спасибо вот этому. Освободив руку, Брамбеус постучал по голове. — Устойчивая психика? — предположил Аполлонский. — Металлическая пластина! — рассмеялся барон. — Меня как-то убедили сделать операцию, и, надо же, она мне помогла! Грецион не выдержал и залился хохотом. — Кстати, Федор Семеныч, вы обещали мне портрет… — Помню-помню, — отозвался художник. — Как вам с ружьем на фоне храма? — И на ящере! — вскинул руку Брамбеус. — И на ящере, — не стал сопротивляться Аполлонский, уже пожалев бедную рептилию. Внезапно в зал — а застолье устроили прямо в храме, где от статуи пернатого Змия остались лишь обломки, которые хотели заменить статуей Вавилонскому Дракону — влетела фурия, что-то очень размытое, нечеткое и громко вопящее не пойми что. Грецион напрягся. Брамбеус, будто переключивший скорость и режим действий с «есть» на «бить», выставил кулаки и вскочил из-за стола. — Ну давай, давай, — дожевывая, протянул тот. Фурия упала в ноги Сунлинь Вана — когда она замерла, то на поверку оказалась тощим и длинным молодым человеком. В зал вбежало два запыхавшихся лемурийца, хотевших схватить нарушителя спокойствия, но алхимик жестом остановил их. Ноги старому китайцу чуть ли не целовал переводчик. — Достопочтимый Сунлинь Ван, достопочтимый Сунлинь Ван… — Ну и ну, — свистнул Психовский. — Возвращение блудного переводчика. — Господин Сунлинь Ван, — повторил молодой китаец. — Я видел такое… — А уж что мы видели, сынок, — хихикнул Федор Семеныч. Тут загремел барон — ударил кулаком по столу так, что тот того глядишь, и раскололся бы, окажись удар хотя бы на йоту сильнее. — А знаете что? — прогремел Брамбеус. Рыжая борода его запылала. — За это нужно выпить! Крик этот, казалось, слышала вся Лемурия. Барон схватил кубок, остальные — за ним. В ту ночь профессор запьянел — он потом долго искал сладкий хмельной нектар, налитый их в бокалы, уже не в Лемурии, но не находил ничего кроме каких-то экстравагантных хмелеваров с их жалкими экспериментами, стоящими как квартирка в центре мегаполиса. Грецион Психовский — ладно, и Аполлонский заодно — напился так, как никогда, чуть ли не до потери памяти, и случилось это разом во всех оттисках реальностей. Чтобы запьянеть везде и сразу, надо уметь ковать железо, пока горячо — в смысле, пока находишься под нужным Зодиака. В небе, маячившее средь парада планет и цветных лоскутков, искрилось созвездие Змееносца — а профессор горланил пьяные песни. Но, в конце концов, разок такое себе можно позволить — какая же жизнь без спонтанных удовольствий?
Приложения
Из дневников Грециона Психовского
Запись от [хх. хх. хххх] /// Япония и камни
Когда мы с моим драгоценным Фебом прибыли в Японию, то первым делом — несмотря на его уговоры пойти и закупиться мангой — надели кимоно, после чего шатались по Токио, как два идиота, или участника какого-то традиционного парада. Поскольку парадов в то время в городе не проводилось, то нет сомнений, что выглядели мы натурально как два идиота — но разве нас это когда-то останавливало? Мы дошли до известного сада камней, уселись и принялись смотреть на это… даже слов нет, как сказать. Тут мы опять были как два идиота, только теперь сидели, сверля камни взглядом так, словно они сейчас станут горсткой троллей (на что Феб, видимо, искренне надеялся, ведь приготовил свой графический планшет). Но ничего не случилось — к нам не спустился никто из богов, внезапное прозрение не снизошло, а тролли так и подавно не показались. Расстроенные, но не сломленные, мы просто зашли в ближайшей ресторан, наелись до отвала (Феб чуть не задохнулся, решив попробовать местный деликатес, живого осьминога) и пришли к выводу, что сады камней — это либо исключительно для японцев, либо для философов, либо для дураков. Но поскольку подошедший официант-японец деликатно подметил, убирая тарелки, что тоже не представляет, зачем нужны эти сады камней — остались только философы и дураки…Запись от [хх. хх. хххх] /// Дон, он же Кихот
Когда мне говорят, что на земле перевелись рыцари, я делаю удивленный вид и возражаю — нет, они не перевелись, просто вокруг остались одни спятившие Дон Кихоты. А жизнь от этого стала только веселее и безумнее.Запись от [хх. хх. хххх] ///АнтиНаука
Есть такая дурацкая научная привычка — постоянно обрубать на корню какие-то суждения и теории, которые кажутся невозможными, фантастическими, к которым пока не нашлось доказательств. Надо просто вспомнить, что так уже делали — говорили, что «вот это вот — бред сивой кобылы», а лет так через — цать оказывалось, что теория верна. Кто там верещал, что Трои не существовало, а Шумеры — плод больного воображения? И я это пишу вовсе не потому, что через пару дней будет #ГлавнаяНаучнаяКонференцияГода, где лицемеры будут делать свою работу — лицемерить. Нет-нет, что вы, я пишу вовсе не поэтому…Запись от [хх. хх. хххх] ///Вавилонская блудница
Есть у многих религий такая странная черта — они приходят, обвиняют другую религию в распутстве, гедонизме, кровавых жертвоприношениях… А потом говорят: «Вот мы-то совсем другое дело, мы вам предлагаем добродетель!». А дальше эти благоверные сами тонут в омуте разврата, гедонизма и жестокости, просто кровавые жертвы сменяются крестовыми походами. Почти политика. И я не ругаю религии, я ругаю людей — потому что это им свойственно иметь горем из проституток и упиваться неразбавленным вином, а вовсе не божествам.Запись от [хх. хх. хххх] /// [без названия]
Дай человеку огонь — и ты согреешь его, дай воды — избавишь от жажды, а дай интернет — и получи записи вот такого толка. Принесите-ка мне лучше стаканчик воды, пожалуй…Запись от [хх. хх. хххх] /// С лекции
Я: ну что, светлые умы человечества, как ваши успехи? Студент 1: да так, потихоньку. Мы как Жанна Д’Арк — слышим голоса профессуры в голове и свято верим, что делаем все правильно. Студент 2: не, как Коперник — работаем под гнетом деканатовской инквизиции. Я: короче, как Сократ — знаете, что ни черта не знаете. P.S.: Если на свой выпускной мои любимые бездельники не подарят мне сборник моих цитат, я обижусь и уйду в монастырь, вот так и знайте, все три группы!Гороскоп Змееносца, составленный Федором Семенычем Аполлонским по его личным наблюдениям
Качество: неугомонный. Управляющая планета: Сатурн (почти не виден!). Управляющий дом: понятия не имею. Карта Таро: Дурак (полный). Цвет: мультикалор. Камень удачи: аметист. Цветы: репейник, лотос (обязательно завянут). Лучшая совместимость: все и сразу, чего там мелочиться?Змееносец — невозможный, невыносимый, неугомонный. Чувствуете, какая концентрация «не», да? Потому что Змееносец — знак сам по себе почти не существующий, но все-таки довольно реальный. Так, как там правильно начинать, кхм… Знак подвижного креста шила в заднице. Обладает таким сильным характером, что горы свернет, но вот только обратная сторона этого умения — невозможность усидеть на месте, зачастую не думает о последствиях. Добр, горд и благороден, но иногда Змеиное берет вверх — может сорваться. Если дело совсем плохо, выхода два: либо зовите экзорциста и просто молитесь, либо ищите поблизости Вавилонского Дракона. Либо просто уберите от него бутылку. Интересный и эрудированный собеседник, с которым почти невозможно разговаривать, потому что рот у того не закрывается. Живет легкой жизнью, втягивает других в авантюры (не спрашивая их разрешения). Терпеть не может бюрократию и глупое начальство. Обеспечивает бессонные ночи, болящие суставы кипу проблем. В качестве компенсации угощает кофе.
Несколько стихотворений Инары в память о древности (публикация с разрешения автора, в переводе проф. Психовского)
Граду градов Вавилону…Пепел ложится на мертвые губы,
Ветром разносит стон гордеца
Кончился век милосердный и грубый
От мира осталась только зола
Как воздвигали колонны до неба
Звезды подвесив на купол дворца
Так же горели папирусов груды
В прах обращалась утра заря
Саваном песчаным прикрыв мирозданье
Память в руинах давно схоронив
Сотканный образ коснулся сознанья
К жизни на миг Вавилон возвратив.
* * *
Долине слов и царей…По горячим пескам белоснежным
Шел он в Мемфис дорогой Богов
Накрывал его зной, слишком нежный
Для земель магических слов
Он ступал, как по шелковым тканям
Что из шерсти соткали волов
И шагал вслед за солнца лучами
Уходя далеко на восток
За ладьей лучезарного бога
Что дарила медовый закат
Он спускался в обитель, где воды
Омывают мира уклад
И увидев потоп обелисков,
Знойной дымкой стоявших в ночи
Он растаял стремительно быстро
Обрамив изумрудный прилив
Став с эфиром единым потоком
Возвратившись в безнравстиве вод
Утеряв свою форму и сущность
В черноте начинал свой полет
А пурпурное зеркало мира
Отраженья дарило в ответ:
Невозможного — что уже было
Что прошло, и чего уже нет
* * *
Об уходящем…Брызгами солнца испачкав десницы
Боги уходят под своды небес
С ними святые идут вереницей
С уст их — молитвы, на макушке — венец
Мирно ступают босыми ногами
В рясах потертых, друг за другом подряд.
Над бытием возвышаются длани
Всем предрекая конца сей обряд.
Иль не конца — лишь другого начала
Лишь отраженья в кривых зеркалах
Что бы то ни было, что бы не стало
Мир на кругах остается своя
Последние комментарии
1 день 22 часов назад
2 дней 3 часов назад
2 дней 4 часов назад
2 дней 6 часов назад
2 дней 7 часов назад
2 дней 8 часов назад