

УДК 82(1-87)
ББК 84(4Вел)
Х24
Andrew Hussey
PARIS: THE SECRET HISTORY
© Andrew Hussey, 2006
Перевод с английского Д. Ищенко
под редакцией К. Королева, Е. Кривцовой
Оформление серии А. Саукова
Все права защищены. Ни одна из частей настоящего издания и все издание в целом не могут быть воспроизведены, сохранены на печатных формах или любым другим способом обращены в иную форму хранения информации: электронным, механическим, фотокопировальным и другими, без предварительного согласования с издателями.
Хасси Э. Париж: анатомия великого города / Эндрю Хасси; [пер. с англ. Д. Ищенко под ред. К. Королева, Е. Кривцовой]. — М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2010. — 640 с.: ил.
© Д. Ищенко, К. Королев, Е. Кривцова, перевод, 2007
© ООО «Издательство «Эксмо», 2007
© ООО «Издательство «Мидгард», 2010
Я так хотел запечатлеть подлинные «Картины Парижа», что, следует отметить, немало заставил-таки потрудиться собственные ноги. Но сколько бы я ни ходил по мостовым столицы, всюду неизменно ощущал ее живой, вольный и бодрый дух. В этом заключена некая тайна, которую следует постичь каждому.
Луи Себастьян Мерсье.
Картины Парижа (1782–1788)
Взорвать Париж…
Иван Щеглов. Интернационал ситуационистов (1957)
Моей матери Дорин и моему отцу Джону Хасси — замечательному flâneur
Введение Аутопсия старой шлюхи
Париж в каждом провоцирует сильные чувства. «О, как же отличалось первое мое впечатление от Парижа от ожиданий, — писал один из первых исследователей города Жан-Жак Руссо. — Я думал, что красота города окажется под стать его величию. Но увидел замусоренные вонючие аллеи, уродливые черные дома, грязь и нищету. Отвратительный привкус первого впечатления до сих пор не покидает меня». Я, приехав в Париж, сошел на станции метро «Барбе» и, подобно Руссо и многим другим, не встретил того, чего ожидал. На улицах царил непонятный чужаку хаос — бунтовали незнакомые цвета и шумы. И все же, даже спустя годы, Барбе остается моим любимым местом в Париже благодаря именно этому беспорядку, порой грубому и бесконтрольному. Пока я был новичком, он меня интриговал, а сегодня вызывает мое любопытство тем, что одновременно принадлежит нескольким столетиям. Я осознал это, лишь совершив бессчетное число прогулок по городу. За свою долгую литературную историю Париж был назван тюрьмой, воспет как рай и заклеймен как ад. Столицу Франции сравнивали с прекрасной женщиной, ведьмой и демоном. Эти сравнения не просто рефлексия, они — точное определение характера повседневной городской жизни: Париж — это сумма мест и персон, контрастирующих друг с другом, вступающих в шумные перепалки. И так продолжается уже почти две тысячи лет. Париж изображали на плакатах, открытках и фотографиях, разошедшихся по всему миру, но они лишь пустышки, подменяющие эротику, искусство, гастрономию, культуру. Массовая культура примитивным языком мультфильмов Диснея рушит и искажает истинное значение всего прекрасного, эксплуатирует образы Эйфелевой башни, церкви Сакре-Кер и собора Парижской Богоматери. Пошлость жадно пожирает Париж: не только церкви и исторические памятники, но и картины Дега, Мане, фотографии Робера Дуано и Вилли Рони, фильмы Марселя Карне и Франсуа Трюффо — все вырвано из истинного контекста, унижено до клише, превращено в сувенирный товар. Нет ничего удивительного в том, что в последние годы воображение жителей планеты захватили непредсказуемые, дышащие жизнью Сидней, Нью-Йорк и Лондон. В сложившейся ситуации даже такой преданный почитатель Парижа, как англичанин Ральф Рамни[1], которому невыносимо унижение города властями и государством, имеет полное право уподобить город «трупу старой шлюхи». И все же, мертвая она или живая, чары старой распутницы неодолимы. Эта книга не претендует стать точным изложением истории Парижа. Миллионы слов, посвященных городу за века, стали подтверждением того, что полной истории мировой столицы в природе не существует. Скорее, книга «Париж: анатомия великого города» стремится рассказать о нем с точки зрения «опасных классов», мнение которых зачастую противоречит официальным версиям. Термин «опасные классы» придумали историки, чтобы описать маргинальные и овеянные опасными тайнами городские типы: бунтовщиков, бродяг, иммигрантов, гомосексуалистов, преступников. Своим появлением эта книга обязана труду Питера Акройда «Лондон. Биография», а точнее, мысли автора о том, что история — это не законченный рассказ, но продолжающийся диалог. Опираясь на это суждение, я строил книгу как панораму Парижа и его окрестностей, как описание его роли в истории общей и частной истории улиц. Книга, которую вы держите в руках, не путеводитель и не туристический справочник, однако она написана для того, чтобы ею пользовались. Это исторический труд, который можно взять с собой в бар, в метро, в лабиринт улиц, чтобы использовать как переводчика и общаться как с собеседником. Так же изучает город тонкая изящная книжица Эдмунда Уайта «Фланер». Точным будет замечание, что Уайт обратился к практике модного в XIX веке flânerie: бесцельного шатания по Парижу, во время которого настроенные в духе ироничной отчужденности господа фланеры старательно коллекционировали разнообразные городские удовольствия — общение с кокотками, вечера в кабаре, грезы в опиумном притоне. Уайт отличается от фланера тем, что не только ищет развлечений (хотя я нисколько их не чураюсь!), а стремится подчеркнуть значение городских достопримечательностей. Автор пускается в авантюры, намеренно путая себя, стремясь заблудиться в городе, чтобы затем найти выход. Когда перестаешь узнавать знакомые прежде улицы, то здания, дороги, уличные указатели и площади обретают новое содержание и одновременно раскрывают старое значение. Немецкий критик Вальтер Беньямин составил собственное суждение о Париже 1930-х годов, он утверждал, что разглядеть подлинные исторические элементы мы можем именно в бурлении повседневной жизни города. Беньямин искал действа, бродил по улицам будто бесцельно, пил кофе и алкоголь, «снимал» мальчиков и девочек, но все не просто так, с тайным умыслом. Не он один полагал, что настоящая жизнь города открывается в бесконечном мелькании мгновений (всегда эфемерных, подчас загадочных), из которых и складывается настоящая история. Беньямин считал Париж городом тайных, невидимых непосвященному приключений. При свете обычного дня можно разглядеть намеки на секреты столицы: улыбка незнакомца в metro, бар, где ты никогда не был, давно забытый уголок города, куда ты забрел во время прогулки. Столичные развлечения также зачастую скрыты, недоступны и даже опасны. Париж — извечный карнавал света и ужаса. Краеугольным камнем мифологии Парижа является идея о том, что городская архитектура — идеальные декорации любовного романа. В XIX веке французскую столицу даже называли «королевой мира», подчеркивая стремление к чувственности и роскоши города, определяя его женское начало пассивного объекта наслаждений. Гибель принцессы Дианы, ее роковой последний маршрут от элегантного Вандомского дворца до хаоса аварии в тоннеле под мостом Альма, куда и сегодня совершают паломничество многочисленные туристы, могла случиться только здесь. Но парижане не сентиментальны. Они считают, что миром правит не Бог, а ироничное отношение к жизни. Обычный parigot[2] — это коренной парижанин, чей сухой мрачный сарказм постоянно и неуклонно обращен на правительство и государство. Да, любовь является центральным элементом как мифа, так и реальности Парижа, но она неотъемлемо сосуществует с едой, выпивкой, религией, деньгами, войной и сексом. Эта книга — путешествие, череда экскурсий в бары, бордели, служебные помещения, на запущенные городские окраины, в элегантные salons и кабинеты власти, экскурсии, пускаясь в которые читатель задается вопросами, расследует происшествия или просто поддается чарам мифов Парижа. Париж — безжалостный соблазнитель. Принцесса Диана — лишь последний и самый известный пример того, сколь велика цена жестоких соблазнов города. Злой парадокс состоит в том, что сети старой шлюхи могут обернуться смертельным проклятием. Диана осознала это внезапно и слишком поздно.Изобретая парижан
История Парижа — вовсе не сказка о королях и принцессах, а скорее напротив. Все-таки это тот самый город, где в результате кровавых столкновений, продолжавшихся веками, родилась народная революция. Город — политическая, религиозная и культурная столица, но не стоит забывать, что историю в нем кровью и потом творили так называемые petites gens (обыватели). Поэтому, чтобы отделять миф, легенду и фольклор от настоящих поступков парижан, важно познакомиться именно с ними. Множество историков указывали на то, что слово «парижанин» не случайно стало синонимом слову «агитатор». Эту близость можно проследить в обывательской оценке горожан провинциалами: парижан вплоть до Средних веков называли «trublions» (смутьянами) или «maillotins» (майотенами, молотобойцами, боевыми молотами). Эти термины можно толковать и буквально, и политически. Слово «maillotin», например, произошло от названия тяжелых молотов — «maillets», которыми в XIV веке была вооружена толпа, крушившая статуи и человеческие головы (обычно — головы менял и сборщиков налогов, в основном евреев и ломбардцев). Термин «trublions» родился во времена неорганизованных, часто спонтанных восстании или «jacqueries»[3] против короля или правительства, против голода и несправедливости. Самую известную и успешную из жакерий в 1357 году возглавил Этьен Марсель, поднявший рабочих на бунт и лично убивший принца, забрызгав себя его кровью. Статуя Этьена по сей день обозревает Сену у стен ратуши Отель-де-Вилль. За пределами столицы бунтующих парижан высмеивали и опасались. В середине XVI века Рабле назвал парижанина «gros maroufle», бессовестным, вульгарным и бесчестным дворовым котом. Писатель был уверен, что меткость сравнения повеселит всю Францию и даже Париж. С течением времени французы стали называть «парижанином» модные сигареты, обозначали так различные сексуальные позиции (как правило, содомитские, хотя в разных частях Франции термин мог иметь и другое значение), синие брюки, печенье, безработных моряков, способы приготовления еды, типографские гранки. «À la parisienne» для провинциала означало незаконченную или недобросовестно сделанную работу. А внутри Парижа долгое время признаком дифференциации горожан служило исключительно классовое происхождение. Луи Себастьян Мерсье в XVIII веке насчитал больше дюжины классов и признался, что при этом особенно даже не утруждался. Бальзак в 1834 году обозначал термином «parisiénisme» (впервые использован в 1578 году) систему поступков и иерархию общества, присущих исключительно самовлюбленному Парижу и достойных сомнения. Парижане высших сословий словом «parisiénisme» называли нечто модное, сложное, изящное, полное шарма, элегантное и умное. То были горожане, которые говорили с «accent pointu» (умышленно утрировали в речи шипящие, ставили ударение на специально оборванные краткие гласные в конце слов) — акцент, который провинциалы считали отличительной чертой гордецов и павлинов высшего парижского общества. «Accent pointu» можно слышать и сегодня: он продолжает сильно раздражать непарижан, как некогда Бальзака. Улицы Парижа породили особую речевую интонацию, живую по сей день. Этот говор сложился из наречий Пикардии, Фландрии, Нормандии и Бретани[4]. Скорее всего, впервые он появился в 1100-х годах, когда упрощенная форма латыни Соломенной улицы (где кипела университетская жизнь молодого города и велись богословские дискуссии) растворилась во французском языке. В XVI и XVII веках парижское наречие обогатили рабочие (по большей части лодочники и торговцы) из Берри, но в основе своей оно осталось нетронутым внешними влияниями. Привычной нормой была (и есть) рокочущая «р». «El» или «ег» часто произносят протяжно или как «аг» и «arl». Эта особенность произношения была известна уже в XV веке: поэт Франсуа Вийон постоянно рифмует «Merle» (дрозд) с «Marie». В комической пьесе времен Людовика XIV существует персонаж по имени Пиаро[5], названный так с намеком на эту фонетическую особенность. В XIX веке парижский выговор был распространен в Бельвиле и Менильмонтане («консьерж», например, произносили как «консиарж»). Тогда же термин «parigot» закрепился за парижанами-мужчинами, представителями рабочего класса. Изначально, чтобы унизительно и издевательски отозваться о «низших», этим словом пользовалась аристократия. Parigots высмеивали в литературе, изображали как карикатурных персонажей, сексуальных извращенцев. Parigots были настоящими злодеями: «Parigots уже рождаются плохими, — писал журналист, — они обожают преступать закон, при первой возможности участвуют в злодеяниях и ищут выгоду, где только можно». Чуть-чуть менее агрессивной и унизительной, чем «parigot», была кличка «titi» — детское словечко, вошедшее в обиход в XIX веке и определявшее рабочую молодежь; ее представители обычно гордо носили кепи и шарфы и курили трубки. Эту манеру быстро и с легкостью переняли непокорные молодые люди из состоятельных семей, стремившиеся шокировать своих приятелей. Однако одеваться по моде titi было опасно, притворщика могли поколотить настоящие рабочие. Парижанки низших сословий были таинственны и опасны не в меньшей мере, чем мужчины. Женщине из рабочих кварталов доверять было нельзя ни в коем случае, хотя для секса она подходила, как никто. Parisienne низших сословий в XIX веке превратили в parigote, таких считали не иначе как каргами, которые без колебаний обругают и оскорбят всякого почтенного буржуа, попавшегося им на пути. В то же время еще с середины Средних веков бытовало мнение, что эти женщины — невероятно искусные любовницы. Франсуа Вийон, большой поклонник шлюх, написал посвящение Толстухе Марго (La Grosse Margot):Париж подземный
Летом 2001 года, когда я сел за написание этой книги, а большинство парижан спасалось от жары бегством в горы или на побережье, бар «Ла Палетт» на улице Сены был одним из немногих, не закрывшихся на мертвый сезон. Несколько лет назад благодаря рекламе пива «Кроненбург» это кафе прославилось на весь мир: затюканный печальный отец семейства из рекламного ролика скрывается от оскорблений жены за стойкой бара и утешается бокалом знаменитого французского холодного пенящегося лагера. Для миллионов телезрителей, не знавших названия бара, деревянная стойка, зеркала и смешные столики «Ла Палетт» стали олицетворением французского идеала отдыха во хмелю. В действительности же завсегдатаями этого бара являются арт-дилеры, литературные агенты, издатели, владельцы художественных галерей. Сюда приходят художники, считающие бар на улице Сены наилучшим местом для совершения сделок и обмывания гонораров. Бар выглядит как большинство других на левом берегу реки: претенциозно и обшарпанно, эксклюзивно и пугающе. Официанты обмениваются шутками с завсегдатаями, все остальные за приемлемую цену получают свою порцию еды и сарказма. Летом 2001 года даже в «Ла Палетт» витал дух покоя. Толстый официант в короткой кожаной тужурке, специальностью которого было унижать чужаков, подтрунивал над иностранными посетителями, не понимавшими французского. Арт-дилеры, агенты и прочие «вечные двигатели» то ли отсутствовали, то ли маскировались под обычных посетителей, раздавался смех, царило доброе расположение духа. По неведомым мне причинам лето 2001 года казалось одновременно карнавальным, незамысловатым и праздничным. Многие заметили этот странный феномен. Даже бразильские трансвеститы, обитатели Булонского леса, говорили, что дела у них идут хорошо, хотя лето, рассказал «Le Figaro» один из них, всегда было провальным сезоном. Разглядывая обтекающую меня городскую жизнь, я не мог отделаться от мыслей о книге Луи Шевалье «Убийство Парижа». Особенно мне нравилось, что Шевалье замечал такие вещи, которых не видели даже те, кто долго изучал город. Я воспользовался картами и инструкциями автора и посетил уголки города, которые, как он утверждал, ото дня на день утрачивают волшебство и теряют значение. Но убежденность автора в том, будто старый Париж умер и похоронен навеки, я не разделял ни на секунду. Убедиться в обратном можно, даже расслабленно сидя за столиком кафе на набережной Сены. Когда Шевалье говорит, что мы затаптываем историю Парижа, он противоречит сам себе. Разве подземный Париж — metro, например, — пусть и невидимо, не существует под землей? Разве он не живет в устных рассказах, литературе и музыке, в канализации и катакомбах? Луи Селин описывал Париж как «métro émotif», подземное движение света и тьмы, от одного места к другому, течение времени и изменение материи. Теперь эта метафора обрела смысл. Я положил книгу на столик «Ла Палетт», допил остатки пива и решил опровергнуть идею Шевалье, доказать, что Париж продолжает жить и меняться, меняться непредсказуемо. И не важно, что старая шлюха Париж умирает или даже уже мертва — ее неотразимое обаяние и смертоносные чары все еще витают в вечернем воздухе. Следуя за Вийоном, Мерсье[11], Ретифом де ла Бретоном[12], Андре Бретоном[13], Вальтером Беньямином, Жоржем Переком[14] и прочими авторитетными фигурами, я решил создать собственную картографию столицы.ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ДРЕВНИЙ ОКЕАН От древнейших времен до 987 г. н. э
О древний Океан, твоя вода горька… Привет тебе, о древний Океан! Лотреамон. Песни Мальдорора (1868)[15]Глава первая Грязная вода
Старый город все еще жив. Римское поселение появилось в месте, ставшем центром нынешнего Парижа, на острове Ситэ, и со временем распространилось на левый берег Сены вплоть до нынешнего холма Святой Женевьевы. Даже сегодня, ориентируясь на остатки римских сооружений, можно прочертить прямую линию: арена, храм Юпитера, вомиторий[16], развалины форума, бани, городская стена. Стены, кирпичи, фрески и древние площади — не самые старые свидетели жизни в этой округе, но самые очевидные. В намывных землях Сены и ее притоков сегодня находят топоры, схожие формой с алжирскими и марокканскими инструментами. Сложность конструкции и орнаменты топоров позволяют предположить, что кочующие племена Северной Африки пересекли Гибралтар вскоре после изобретения письменности (французские историки называют этот период предысторией) и задолго до первых европейцев сумели воплотить произнесенное слово в письме. Находят также наконечники стрел асимметричной формы, неизвестной остальной Европе. Археологи и историки согласны в одном: не проходило и года, чтобы на этих плодородных землях не поселился кто-либо. Люди обосновались здесь задолго до кельтов. А через тысячу лет сюда прибыло племя паризиев. Более всего паризии чтили воду (часть этого племени осела у залива Хамбер близ города Халл в Великобритании по той же причине). Останки их длинных лодок, рыбацких баркасов и торговых кораблей по сей день находят близ Берси и в департаменте Сены, Уазы и Марны. Паризии были умелыми купцами и вели торговлю с племенами, проживавшими по всему течению Сены: сенонами, секванами и мельдами, чьи монеты также находят в центре Парижа. Ко времени правления Тиберия кельты-кораблестроители образовали сильную гильдию на Сене и контролировали прибыльную речную торговлю (которой римляне ошибочно пренебрегали). Они расширили и укрепили налаженные торговые связи с Южной Италией, которые существовали еще до завоевания римлянами в 53 году до н. э. нынешнего Парижа (после завоевания город назвали Лютецией). Паризии явно обладали коммерческой жилкой и успешно использовали сей талант в изменчивом мире. Предметы искусства работы паризиев редко изображали крестьян или торговцев; героями выступали боги, демоны, правители и герои. Средоточием всей жизни стала (это и сейчас так) серо-зеленая, извилистая, словно змея, ползущая сквозь город река. Паризии наделяли реку магическими свойствами, ведь именно она привлекла племя, решившее поселиться здесь. К реке обращали молитвы земледельцы и охотники. К 250 году до н. э. Лютеция стала торговым центром и главным портом речной навигации. Едва оперившийся город был далек от грядущего очарования: здесь кишмя кишели болезни, вызванные близостью воды и изменчивым климатом. Главным преимуществом была легкость обороны поселения: Лютеция стояла на воде. Однако город не привлекал внимания воинственных племен, селившихся к северу и югу от него. На первых картах города, составленных паризиями, были отмечены все опасные места на реке, обозначены разливы и отмели. Река часто выносила на берег трупы, и вызванные разложением болезни наводили на поселенцев панику. В последний раз такое случилось уже в 1962 году: сотни тел алжирцев всплыли у набережных. После того как политическая демонстрация вылилась в бойню, полицейские сбросили трупы погибших в реку, по глупости своей уверенные, что река похоронит содеянное (см. главу сорок вторую).От паризиев к парижанам
 Лютеция времен римского владычества (с 50 г. до н. э. до 400 г. н. э.)
Лютеция времен римского владычества (с 50 г. до н. э. до 400 г. н. э.)
Кельты-паризии были народом весьма практичными. Они чеканили собственную монету и смогли создать экономически устойчивую, развитую «сверхдержаву» задолго до появления здесь римлян. При этом паризии верили, что практические преимущества острова — ничто в сравнении с важностью магических свойств окружающей его воды. Тела принесенных в жертву трехликому богу Диспатеру[17], которому поклонялись паризии, обычно развешивали на деревьях, но бывали случаи, когда их опускали в грязно-зеленую воду реки. Когда же трупы, подобно убитым в 1962 году алжирцам, всплывали на поверхность, народ считал, что боги гневаются на город и его обитателей. Население впадало в печаль, и люди начинали подумывать о бегстве. Сена тех времен была вдвое шире нынешней. В центре течения зеленой мутной реки лежал архипелаг из десятка островков, общая площадь которых составляла 8 гектаров (площадь Ситэ сегодня — примерно 17 гектаров). За столетия, по естественным причинам и человеческими усилиями, острова объединились в нынешние Ситэ и остров Людовика Святого. Архипелаг островов тянулся от нынешней улицы Библиотек де ла Арсенал (на восточном берегу Сены) до Дома Инвалидов (остров Виноградных Лоз) и Лебяжьего острова (его раньше называли островом Большого Камня), лежавшего в священном для кельтов месте опасных мелей, занятом ныне известной каждому Эйфелевой башней. Во времена паризиев единственный путь по реке до Лютеции и мимо нее был известен только местным лоцманам. Город зарабатывал, предоставляя услуги навигации всем нуждающимся. Римляне, появившись в городе, в первую очередь связали между собой северный и южный берега Сены: построили мосты, которые позднее стали мостом Менял и Малым мостом. Они проложили начало пути из города в большой мир — выходу к северным портам, к Орлеану и Риму. До прихода римлян жизнь паризиев протекала в теснившихся бок о бок хижинах и среди пристроенных к ним сараев для скота. Общество было клановым, семейственность служила его основой. Верные наследию кочевников паризии долго и неохотно привыкали к городской жизни, не строили храмов, не планировали улиц. Римляне жестоко и быстро покорили «народ паризиев» (так они называли туземцев). Это завоевание стало вехой в истории Римской республики. К 54 году до н. э. Юлий Цезарь покорил большую часть Галлии, граничащую на юге с долиной По в Северной Италии (Цизальпинская Галлия), а на севере — с Бельгикой, Римские походы в Галлию начались в 121 году до н. э. как карательные экспедиции против банд кельтов, грабивших римские поселения. Позже Цезарь объединил разрозненные походы в единую кампанию по захвату галльских земель и серией гениально спланированных сражений успешно ее реализовал. Решение Юлия завоевать Галлию заложило фундамент развития империи в грядущих столетиях. Более того, Цезарь сосредоточил в Галлии силы собственной власти, и отсюда в 49 году до н. э. повел войну с Римом, где позднее стал диктатором. В 53 году до н. э. сильнейшие галльские племена — тревиры, карнуты и сеноны — все еще не покорились Цезарю. Они открыто презирали его власть и отказались принять участие в съезде племен, созванном Юлием. Шпионы Цезаря донесли, что племя паризиев слабое и по этой причине не принимает участия в общем сопротивлении. Основываясь на этих сведениях, Цезарь созвал общий сбор племен в Лютеции; он планировал напасть на обезглавленные непокорные поселки в то время, когда их вожди присутствуют на племенном сборе. В конце концов Лютеция превратилась в северную военную базу римлян. Цезарь приказал своему лучшему полководцу Лабиену захватить Лютецию, бывшую в то время столицей и центром сопротивления нескольких кельтских племен. Лабиен был знаменит стремительными маневрами, благодаря которым римляне уничтожили галльские оборонительные рубежи. Он и в этот раз перехитрил кельтов: на пятидесяти лодках спустил вниз по реке несколько сот тяжелых пехотинцев. Галлы под предводительством Камулогена буквально жгли за собой мосты, берег на протяжении нынешней набережной Гренель весь пылал. Историки и политики именно из-за этого эпизода часто называют Камулогена первым парижским революционером. Но все усилия пошли прахом: Лабиен захватил Лютецию и, если позволите, парижан. Цезарь не считал паризиев врагами и даже выражал свое восхищение ими, что для военачальников Рима тех времен совсем нехарактерно. В большинстве своем римляне считали галлов антиподами римской цивилизации, из чего следовал единственный вывод: их следует подчинить Риму. Хуже того, рассуждали римляне, варвары не соблюдают суровых ценностей Рима: industria, gravitas, Constantia и severitas[18]. Все римляне, писавшие о жизни галлов, включая остроглазого современника Цезаря Диодора Сицилийского, утверждали, что жизнь варваров «проста и полна суеверий и предрассудков… они хвастливы, но если побеждены — легко пугаются». Первые свидетели рисуют галлов, обожающих рядиться в яркие одежды, похваляющихся по поводу и без, склонных к высокопарной болтовне, обожающих секс, обильную еду и регулярно напивающихся до бесчувствия. Цезарь лично засвидетельствовал, что галлы, подобно другим кельтским племенам, поклоняются сонму богов. С равнодушием колонизатора Юлий приплюсовал галльских богов к римскому пантеону, но галлам по сердцу пришелся лишь покровитель коммерции Меркурий. Будущий император упоминает также об изображениях и статуях, беспорядочно разбросанных вокруг поселений. Эти идолы не были, как у римлян, образами богов, а служили магическими амулетами, созданными с целью концентрировать в себе сверхъестественные силы и направлять их в мир материальный. Паризии мало чего страшились в мире материальном, готовы были выступить против землетрясений и штормов с мечами и луками в руках. Их сильно волновала эсхатология: они верили, что небо буквально упадет им на головы (вспомним коллективный страх жителей деревни галла Астерикса). Как и все кельтские племена, галлы хранили свою историю в разнообразных устных легендах, передававшихся от друидов к обычным людям. Римляне принесли с собой собственные мифы и переписали историю города в свою пользу. Самое известное римское историческое изложение утверждало, что Лютецию основал семнадцатый потомок Ноя, пришедший в эти места, чтобы поставить на реке город. Другая легенда гласила, что, желая основать здесь Парадиз, из Малой Азии в эти земли Геркулес привел племя пархассиев. В Средние века по городу бродила молва, что в действительности Париж основан беженцами из Трои: горожане мечтали видеть свой город древнее, чем на самом деле, а заодно избавить его от основателей-язычников, римлян и галлов. Были легенды, созданные с политическими целями: вплоть до XIX века жил миф о том, что паризии Лютеции были пусть неотесанными, но «свободными союзниками» и «друзьями Рима». Эта версия превращала Лютецию не в колонию, а в город-побратим Рима и предрекла многовековое противостояние Парижа и Рима, убедив мир в том, что город никогда не находился в зависимости от нынешней столицы Италии. В действительности же паризии избранным народом не были, да и особых отношений с Римом не имели. Этот народ всего-навсего был достаточно умен, чтобы понять: отсутствие войн несет процветание. Именно поэтому римляне так быстро и легко завоевали Лютецию. Кельтское название города жило долго и после завоевания римлянами, и когда оно пропало, нам неизвестно. Однако мы можем проследить медленное угасание самосознания галлов, увлекшихся подражанием римскому образу жизни, языку и манерам (это подражание проявлялось даже в XIX веке в слепом доверии к «империи»). И все это произошло вслед за подменой галльской реальности римскими мифами.
Остров Крыс, Коровий остров
Римское название поселения скорее всего восходит к кельтскому. Известно, что кельты в названиях отмечали характерные признаки местности. Затхлые и грязные берега островов, где, казалось, люди жить не могли, они назвали Лук-тиер (Louk-tier) или Лук-тейг (Louk-teih): местом грязи, болотом или заболоченной низиной. Галлам приписывают имя Лутучези: «стоящая меж вод». Последнее название вплоть до конца XX века охотно использовали историки. Писатель Ги Бретон в захватывающем исследовании тайных обществ современного Парижа «Les Nuits secrètes de Paris» («Тайные ночи Парижа») описывает встречу с группой своеобразных «друидов», отправлявших службы в лесах Медона. Они пели гимны, в текстах которых встречались «мужи из Лутучези» и их «мужская и космическая сила» (парижане мужского пола во все времена хвалились ею, хотя у парижанок на сей счет бытовало собственное мнение). Римляне не толковали названий поселков. С истинно имперским снобизмом они не потрудились даже выучить язык покоренных народов. Кельтское название «Лук-тейг» они преобразовали в Лютецию, не оставив будущим историкам и писателям никаких зацепок в поисках истинного имени города. Страбон называл город Лукотоцией (Lucotocia), а Птолемей, поменяв гласную, Лукотецией (Lucotecia): и то и другое есть греческие варианты одного имени. Некоторые историки считают, что название «Лук-тейг» породили еще предшественники галлов и что оно означает «остров ворон», «остров крыс», «убежище от воды» (валлийское слово «llygod» и ирландский термин «luch» — «мышь», «крыса» — сыграли свою роль в создании этой версии). Иные считают, что название переводится как «остров белого цвета». Эта версия опирается на греческое слово «левкое»: неподалеку от поселения для дальнейшей переработки в штукатурку добывали гипс. Особенно на тему «острова белого цвета» разыгралась фантазия Рабле: он предположил, что греки имели в виду белые ляжки женщин Лютеции. Римляне же считали, что название «Лютеция» произошло от слова «lux» («свет»), хотя жизнь в городе не была такой уж «светлой», напротив, полнилась опасностями. Имя «Лютеция» задержалось на несколько столетий, как и само галло-римское поселение. Посланный в Лютецию в 360 году будущий император Юлиан увидел столь цивилизованный город, что позабыл о Среднем Востоке, куда направлялся изначально.Зиму я провел вблизи от милой Лютеции, — писал он в тот год. — Так кельты называют город, основанный паризиями. Хотя это и не город даже, а окруженный водой остров, от которого к берегам реки протянуты мосты. Река разливается редко: всегда остается на одном уровне, и зимой и летом… Зимы здесь мягкие, оттого, говорят местные жители, что остров согрет теплом океана… земля хороша для виноделия, паризии выращивают даже фиги, оборачивая деревья соломой на зиму.
Имя «Лютеция» (часто во французском смягченное до «Лютесии») в современном Париже встречается повсюду: его взял себе дорогой отель (гостиница «Лютеция» служила приютом коллаборационистам во времена Второй мировой войны), этим именем назвались бесчисленные бары (шикарные и ободранные) и даже солодовое пиво, производители которого утверждают, что это старейшее пиво Франции (варят его в Брюсселе). «Парижем» город стал при Юлиане, назвавшем его «Civitas Parisiorum» — городом паризиев. Причина смены названия носила чисто политический характер. До того имя города указывало на его относительную независимость и, следовательно, слабую защищенность, а окружающие племена не гнушались набегами на поселения, которые римляне защищали лишь для видимости. Город пережил несколько разорительных атак варваров, прежде чем Юлиан решил повысить его обороноспособность. Он назвал город именем населявшего его племени (что было привычным делом в империи), чем дал всем понять, что отныне город находится под защитой императора. Решение Юлиана отразило еще один процесс: город, изменив имя, наконец завершил переход от pagi к civitates (эти термины римляне использовали, обозначая племенную деревню и город соответственно). Юлиан продемонстрировал всем соседям, что грязная деревушка галлов стала частью сложного мира Римской империи, что она играет в имперских делах немаловажную роль. Более того, именно здесь, в этом поселении, он принял титул императора. Юлиан был не только командиром римских легионов, но и философом, приверженцем неоплатонизма и, следовательно, противником христианского монотеизма, завоевывавшего все больше последователей. Указом о веротерпимости Юлиан стремился возродить языческие ритуалы первой религии города. Объявив поселение «городом паризиев», император заодно отдал приоритет дохристианским, языческим его корням. Юлиан стремился придать городу статус священной столицы, утраченный ею однажды. План удался лишь отчасти: языческие ритуалы просуществовали до Средневековья, чего нельзя сказать о кельтском языке. Происхождение имени Парижа скрыто под пластами мифов и метафор. Существует версия, слепленная из римских, эллинских, египетских и греческих историй, которая утверждает, что великая пророчица волшебница Исида посетила это место и зачаровала духов воздуха и воды. Первым в конце первого тысячелетия упоминает об этом мифе епископ Аббо Флерийский[19]. Он, как и многие литераторы, любил ради красного словца слукавить и назвал грязную долину «самым прекрасным портом на земле». Рассказывая об Исиде, он использовал галльское имя Ик-кия (в действительности — имя землевладельца, унаследованное пригородом Исси-ле-Мулино). И даже после таких манипуляций миф прожил очень долго. До XVI века женщины молились небольшой статуе Исиды, привезенной в Париж из Исси и поставленной при входе в церковь Сен-Жермен-де-Пре. Каламбур епископа Аббо насчет Исиды — Исси дожил до середины XX века, когда полуслепой Джойс возродил его в диалоге «Поминок по Финнегану», когда Шем в беседе с Шаумом произносит: «Пари-зий, говоришь ты, принадлежит тому, кто паризьянин сам». В конце Средневековья Франсуа Вийон назвал город Паруаром, воспользовавшись словечком из жаргона воров и отверженных: так те называли тайный город борделей и таверн. Через четыреста лет после этого поэт Артюр Рембо прибыл в Париж, влекомый вдохновением, выпивкой и содомией, процветавшей в темных закоулках рю Месье-ле-Пренс. Париж не произвел на Рембо особого впечатления, показался полным болезней, воняющим день и ночь. К концу XIX века, через шестнадцать столетий после того как Юлиан даровал городу новое имя, парижане прозвали Париж «Панамом». Термин родился из названия знаменитого Панамского канала и сонма финансовых скандалов, окружавших строительство и окончательно парализовавших правительство в 1890-х годах. Кличка «Панам» отражала возмущение общества грязными сделками и финансовыми аферами и заодно намекала на воды, что текли сквозь омертвевший центр города, словно трансконтинентальный канал. «Воды» — это не только Сена, но и новые каналы, и умирающая река Бьевр: узкий грязный поток, пробирающийся извилистым руслом сквозь восточные пределы левобережья. Кличку «Панам» можно услышать и сегодня: в СМИ и в рекламе с ее помощью пытаются возродить почивший совсем недавно парижский фольклор; проскальзывает «Панам» и в обычной речи горожан. Чаще всего кличкой этой пользуются рэпперы, муллы, торговцы наркотиками и жители захолустных северных предместий города — Сена-Сен-Дени. Все они — люди общины, не мыслящие себя вовне. Для них Париж, или «Панам», — город достатка и коррупции, стоящий на темных, грязных водах. Тот факт, что кличка «Панам»остается в ходу и по сей день, пусть используется не так широко как раньше, намекает, что прошлое древнего города отнюдь не забыто.
Тайны Лютеции
Исследователи вплоть до Ренессанса пренебрегали древней историей Парижа. О существовании Лютеции не забывали лишь оттого, что в этом городе погиб самый известный из парижских мучеников. Практичные жители острова Ситэ и других районов Парижа, стоящих на останках римского города, привыкли растаскивать древние постройки для своих нужд. Но к XVI веку появились энтузиасты-изыскатели, обратившиеся к древней истории города. Не будучи профессиональными историками, они тем не менее добились многого; среди них были антиквар Жиль Коррозе, мечтатель-священнослужитель Пьер де Брейль и (во второй половине XVII века) фантазер, юрист, политик, историк и филолог Анри Соваль. Однако величайшим исследователем Лютеции стал простой человек, живший в XIX веке и всю жизнь пестовавший мечту явить римский город современному Парижу. Друзья Теодора Вакера рассказывали, что он был «тихим, но упрямым». Впервые о нем услышали в 1844 году, когда двадцатилетний Вакер удостоился чести занять должность директора по историческим исследованиям при парижском муниципалитете. В его обязанности входила инспекция всех строительных объектов в окрестностях Парижа с целью регистрировать значимые археологические находки. Подход Вакера к исследованиям был весьма рациональным: «Факты мы ценим выше всего, — писал он, — текстам почти не доверяем. До сего дня историю Парижа писали, сидя у камина». Все без исключения сотрудники Вакера не позволяли себе полагаться на фантазию и гнались за доказательствами, которые могли обеспечить лишь археологические раскопки. Вакеру невероятно повезло в том, что пик его деятельности пришелся на 1850-е годы — период, когда барон Осман воплощал масштабную градостроительную программу преобразований в лабиринте средневековых кварталов города. Чтобы возвести новый блистающий город широких бульваров и открытых улиц, мегаполис великих развлечений современности, которому будет завидовать весь мир, Осман рушил и копал, копал и рушил. В своих тщательно отредактированных мемуарах барон, оправдывая содеянное, не случайно толкует имя Лютеция как «грязное болото». С одержимостью и страстью фанатика Вакер рыскал по раскопам в поисках следов скрытого подземного города и только здесь находил покой. Возможно, величайшим его достижением стало обнаружение римской арены на левом берегу Сены, неподалеку от Монжа. О существовании арены парижане знали с XIII века, но Вакер был первым, кто провел сложные работы и создал карты почти полностью сохранившегося архитектурного сооружения римской эпохи. С 1869 года он трудился, словно не замечая великих событий, вершившихся вокруг: франко-прусской войны, Парижской коммуны и бедствий, причиненных ими городу. Вакер стремился найти и показать миру древнее поселение. Он желал понять, когда и как поселок кельтов превратился в древний город, и догадывался, что поселение было основано на Ситэ и лишь позднее разрослось, в основном на юг, в сторону Пантеона и Люксембургского сада. Интуиция помогла исследователю определить местоположение площади Лютеции: город действительно простирался от улицы де Риволи до перекрестка Гобеленов. Единственное, что Вакеру не удалось узнать, это как, куда и по какой причине мигрировало население Лютеции. Этим вопросом уже в XX веке озадачился Мишель Флери. Подобно Вакеру, он был одержим до фанатизма. Историк по образованию, одиночка по складу характера (студенты и последователи называли его «Le Grand Fleury» — Великий Флери), он мог часами заниматься любимым делом: прочесть, например, всего Гюго только ради того, чтобы доказать правоту своей точки зрения. Флери был педант и эксцентрик и такой англофоб, что писал не «weekend», a «ouikènde»[20]. Его ближайшие ученики благоговейно шептались между собой о том, что Флери «на короткой ноге с потусторонними силами». Большинство открытий Флери родилось из догадок и предположений. Стремясь доказать, что в галло-римском городе уживались две культуры, он выискивал следы язычества, рыская по старейшим кварталам Парижа XX века (по улицам Рато, Фельянов, Арбалета и Ломон в Латинском квартале). Доказать слияние двух древних культур — вот к чему всю жизнь стремился Флери. Самое радикальное его предположение заключалось в том, что в период между римским правлением и приходом Капетингов в 987 году город практически не изменился, следовательно, истинные корни города — кельтские. Именно Флери во время своих экскурсий между языческими могилами Валь де Гра, размышляя о том, почему захоронения здесь прекратились внезапно, определил изменения уровня населения и миграцию жителей левого берега Сены тех времен. Флери был убежден, что жизнь в этих краях сосредоточивалась вокруг гаваней, куда корабли свозили товары; существование галльского поселения зависело от воды и речной торговли. Первый деловой квартал Парижа вырос на заболоченном правом берегу Сены близ Гревской площади (где сегодня стоит ратуша). На левом же берегу, где когда-то проживал Цезарь, строились монастыри, церкви, а позднее появился Университет Парижа. Итак, деление города на правый и левый берега произошло еще в древности: правобережье стало центром мирской торговли и ремесел, а левый берег — средоточием духовной жизни и философии. Флери открыл своим современникам факт, в котором жители древнего города были убеждены поголовно: река являлась основой жизни Парижа. Сена изменчивыми течениями, приливами и необъяснимыми настроениями превращала Париж почти в портовый приморский город. Выводы Флери объясняют традицию говорить о столице Франции как о приморском городе. Бальзак писал: «Но Париж — это настоящий океан. Бросайте в него лот, и все же глубины его вам не измерить». Бодлер считал Париж «черным океаном» — глубоким и бездонным. Возможно, самый гротескный и страшный образ нарисовал современник и полная противоположность Вакера — Изидор Дюкас. Он приехал в Париж в 1860-х годах из Монтевидео, взял псевдоним Лотреамон и умер, скорее всего, от пьянства. В длинной поэме Дюкаса «Песни Мальдорора» главный герой, убийца, импотент и поклонник Люцифера, изливает по поводу «древнего океана» потоки негодования. Автор так и не открыл нам значения метафоры «древний океан»: то ли это глубины Парижа, то ли смерть, вечность или бездонное море алкоголя, сводящее Мальдорора с ума, — нам неизвестно. В любом случае этот образ рисует картину опасных темных вод.Глава вторая Отрубленные головы
Скопление первых деревенек и поселков, получивших название «Лук-тейг», появилось в изгибе Сены, в долине, укрытой с севера и юга холмами. Холмы служили естественным убежищем от жестоких ветров, дувших с востока и севера, и своеобразной крепостной стеной, защищавшей жителей долины от нападений соседних племен. Первые поселенцы пришли на эти земли из Центральной Европы и с юга. Они принесли развитую систему земледелия и уже сформированный порядок расселения деревнями, в которых проживали от пятидесяти жителей (остатки таких поселков найдены в Медоне, Корнель-эн-Париж и Шуази-ле-Руа). Эту модель унаследовали паризии, осевшие на землях, плодородных благодаря близости реки, удобному ландшафту и мягкому климату. Местный ландшафт — это известняковое плато, покрытое почвой с отличной влагоемкостью, благодаря которой накопленная дождевая вода спасает растения во время внезапной засухи. Нивы эти легко поддаются обработке и распашке; еще первые поселенцы обнаружили, что земли Боса, Бри и Суассона богаты плодородным илом. В галло-римские времена взгляд, брошенный с холма Монмартр, открывал взору возделанные поля, сады абрикосовых деревьев и фиговых пальм, делянки со спаржей и множество виноградников. Винограда здесь росло так много, что об этом напоминают названия современных улиц, сбегающих вниз по холму Монмартр: рю де Кло, Кло-Бретон, Кло-Брюно и так далее («clos» в этом контексте означает виноградник). Провинциальный диалект и старинные предрассудки живы и по сей день: взять, к примеру, улицу ле Абревуар («улица Водопойного Желоба»), рю де Терр-о-Кюре («улица Земель Священника») или рю дю Пут де ла Эрмит («улица Колодца Отшельника»). На холме Сен-Женевьев в давние времена стоял алтарь богу виноделия Бахусу, и Юлиан отметил, что паризии «свободно и в достатке пользуются дарами этого бога». Об этом свидетельствовали и первые римские поселенцы Лютеции: скептически настроенным соотечественникам они слали вести о том, что поселились в гастрономическом раю, что галлы, оказывается, весьма искушены в культуре пития. Языческое наследие долго помнилось христианскому городу: например в кличке Святой Бахус, данной городу, или в учреждении праздника 7 октября — дате, когда язычники праздновали сбор урожая винограда. Изначально поселок Лук-тейг в Лютецию преображался крайне неохотно, но в результате галло-римскому городу удалось стать богатым и влиятельным и удерживать власть на протяжении 300 лет. Уже к 100 г. н. э. неприязнь местного населения к римлянам сошла на нет (восстание, поднятое двумя родовитыми галлами, паризии проигнорировали, так как решили, что оно экономически невыгодно). Ко II веку Лютеция находилась в стадии уверенного роста: у холма Сен-Женевьев воздвигли здание форума, у нынешней улицы Расин — амфитеатр и арену на 18 000 зрителей. Вокруг города возвели крепостную стену, тянувшуюся до северного и южного пределов современного Парижа. Источником городских богатств стала дорога (обнаруженная Вакером), бежавшая по двум мостам с севера на юг, через нынешние Фобур Сен-Мартен и Фобур Сен-Дени. Кстати, это была первая дорога, проложенная за пределами острова Ситэ. К тому времени истинные римляне (по рождению и гражданству) не могли не восхищаться парижскими галлами. В 125 году презиравший пресыщенное римское общество поэт и историк Луций Флор в своей «Эпитоме» хвалил галлов за талант к коммерции, даже называл их спасителями империи. Галльские аристократы заняли ключевые позиции в магистрате Лютеции, государственном и военном управлении; они организовали сбор налогов, слегка «подправив» систему, учрежденную Римом. Со всех точек зрения эта провинция стала успешной, превратилась в настоящий экономический двигатель империи. Древняя традиция наделения римских военачальников (часто галльского происхождения, но обязательно урожденных граждан империи) даже малой толикой власти и полномочий в Лютеции не прижилась.Гора Мучеников
Пока священники не начали истерично насаждать культ святого Дионисия, его считали всего лишь одним из множества христиан, погибших на потеху публике на арене Лютеции: все они остались неизвестными или были позабыты, как святой Луций. Миф о Дионисии разрастался прямо пропорционально волне страха перед угрозой нашествия варваров с востока, которая к концу VIII — началу IX века уступила место беспокойству по поводу агрессии мусульман, дошедших до Пуатье и Тура. В легенде об этом святом не прослеживается никакой связи с варварами или мусульманами, однако церковь воспользовалась ею, чтобы привести пример христианской стойкости перед лицом жестоких испытаний. Жители Лютеции II и III веков н. э. не чувствовали особой угрозы с какой-либо стороны. Но позднее набеги франков и алеманов заставили их забеспокоиться и искать заступничества в христианстве. В те времена культ Христа в Галлии был внове и проповедовался лишь в небольших грекоговорящих общинах Лиона и Марселя. Когда в III веке в этих краях появился Дионисий, первый святой покровитель Парижа (скорее всего, около 250 года), христианство было малораспространенной и непопулярной религией[21]. В это время над Галлией нависла угроза нападения соседей-варваров и восстания недовольного местного населения. Впервые в истории галл и римский воин Постум стал императором Галлии. Ему удалось отбить нападения германских племен и удерживать мир на протяжении восьми лет — отчасти благодаря пропаганде и рассказам об ужасных варварах. Изначально легенды о святом Дионисии утверждали, будто он был послан в Лютецию из Афин для того, чтобы обратить в христианство галло-римских язычников-парижан. Обращал язычников Дионисий тем, что громил статуи языческих идолов. Такими поступками он быстро исчерпал терпение жителей и был схвачен неподалеку от нынешнего бульвара Данфер-Рошро, в каменоломнях пригорода Сен-Жак, куда тоже попал не случайно: здесь добывали гипс, из которого создавали статуэтки и лики идолов. Дионисия и его соратников Элевтера и Рустика перевезли в тюрьму Главка, стоявшую на месте цветочного рынка острова Ситэ. По приказу префекта Сициана Фецения схваченных миссионеров несколько дней пытали, а затем повели на Монмартр (ученые расходятся в этимологии названия холма: то ли это исковерканная «гора Мучеников» — Mons martyrum, то ли «Меркуриева», названная так в честь храма, посвященному этому богу, то ли «Марсова» — в честь храма Марсу). Солдаты, конвоировавшие заключенных по заболоченным землям правого берега Сены, поленились идти на самый верх холма и обезглавили христиан у его подножия, у храма Меркурия, стоявшего близ нынешней улицы Ивонн-ле-Так. Вот тогда-то, утверждает легенда, святой взял под мышку собственную голову, перешел вброд источник на углу современных улиц ле Абревуар и Жирардон и зашагал по склону холма. В конце концов он упал, его похоронила близ Католука богобоязненная вдова-христианка Катулла. Безголовый мученик долго «недотягивал» до звания святого. Говорили, что он явился Дагоберту, «королю Парижа на час» (который завещал похоронить себя в базилике Сен-Дени), и защитил его от демонов. Грядущие поколения запомнят этого монарха лишь как героя антимонархической песенки времен Великой французской революции 1789 года, в ней пелось, что Дагоберт по-королевски надел бриджи задом наперед: типичная революционная песенка о монарших особах, которые глупы, неуклюжи и походят на клоунов. (Был ли Дагоберт глуп, мы не знаем, но убийцей был точно: в 631 году именно он отдал приказ об уничтожении в одну ночь тысячи или около того болгар, пришедших к нему с жалобой, что их изгнали из родных земель.) Как святой Дионисий обнаружил свою полную несостоятельность. Его долго путали с греческим богом виноградарства Дионисом и философом из числа первых христиан Дионисием Ареопагитом. Однако сегодня он занял пусть не первое, но достойное место среди святых покровителей, его «специализацией» и основной обязанностью считается исцеление от собачьих укусов и, что само собою разумеется, от головных болей. В Германии он исцеляет и сифилис, болезнь, которая в 1870 году во время оккупации Парижа получила название «Le Mal Français»[22]. Мало кто из богословов чтит деяния Дионисия достойными пристального изучения. Действительно, представители всех конфессий в один голос твердят, что «Париж — город не христианский». Да таковым он никогда и не был. Последний путь Дионисия сегодня пролегал бы по центру услуг секс-индустрии столицы, а названная в его честь улица (рю Сен-Дени) спускается к реке, где языческие плотские утехи продаются на каждом шагу по 40 евро сеанс.Дар языков
Большинство жителей Лютеции еще задолго до прихода в эти земли христианства и Дионисия до определенной степени владели и галльским, и латынью. Торговый люд говорил на языках, полезных для ведения дел: греческом, диалектах древнебриттского (хотя бретонский появился во Франции только в VI веке и был «импортирован» из Британии) или на германских языках. Еще до появления римлян галлы использовали греческий алфавит, и долгое время после завоевания торговые договоры оформлялись на греческом языке, которым владели не только аристократы. Факт распространения греческого языка поддерживает теорию историка Камилла Юлиана, утверждавшего, что если бы Цезарь не одержал победы в галльских войнах, то большая часть Галлии, включая Лютецию, уподобилась бы современному Марселю и стала неотъемлемой частью эллинской цивилизации Средиземноморья. Поначалу римляне насаждали свои язык и религию против воли галлов, но гибкие паризии быстро приняли то и другое. Если говорить о культуре и языке, то первый свой столетний юбилей Лютеция встретила настоящим двуязычным и мультикультурным городом: языком торговли, религии и политики стала латынь; разговоры о сексе, пище и сельском хозяйстве велись в быту на родном древнем языке и в высших кругах, и между простыми людьми. Лютеция, можно сказать, вопреки всем препятствиям была городом-рынком, развивающимся деловым центром. Хотя паризии чеканили собственные монеты, вплоть до прихода римлян торговля велась посредством натурального обмена и бартера. Потому римские монеты легко вытеснили галльские. Но еще долго после покорения этих земель римлянами галльские мужчины одевались в национальные наряды, носили длинные усы и волосы, а на плечи накидывали капюшон (cucculus). Женщин также не увлекла мода Рима: они по старинке заплетали волосы на кельтский манер, носили галльские броши, амулеты и блузы. Несмотря на живучесть кельтских традиций, к IV веку в стенах города язык галлов был полностью забыт. Сегодня почти невозможно установить хоть сколько-нибудь точный момент, когда язык галлов вышел из обихода. Хотя в 363 году был зафиксирован диалог на латыни, во время которого командир римских войск, галл по происхождению, предлагал: «Можно поговорить на кельтском, если так удобнее». В провинциях язык использовали до V века: Сидоний Аполлинарий, въедливый и строгий историк, писавший о галлах, говорил, что крестьяне из Оверни довольно поздно избавились от «безграмотной грязи галльского языка». Официальным языком империи была латынь, но это не повлияло на традицию друидов передавать легенды кельтов из уст в уста на родном языке. Центробежные силы изменили и язык римлян: латынь дожила до VII–VIII веков, однако разговорная речь города, построенная на латыни, неологизмах, заимствованиях из галльского и прочих языков, уже к VI веку ничем не походила на язык Римской империи. К концу первого тысячелетия сформировался дальний предок современного французского языка. Однако в Париже по сей день можно услышать слова, принадлежащие первому языку города — галльскому. Взять, к примеру, древнефранцузское слово «сейн» (seine), «сенн» (senne) или «сейм» (saime) — рыболовецкие сети. Впервые оно встречается в «Книге ремесел» Этьена Буало, вышедшей в свет в 1269 году и перечисляющей все парижские профессии. Галло-римляне переиначили это слово в «сажена» (sagena), обозначающее корзину или сеть рыболова; другой производной стало слово «син-ан» (sin-апе) или «сожан» (sôghgane) — «медленная река». Бальзак использовал слово «сейн» в значении «рыбацкая сеть». В буквальном значении это слово встречалось в литературе XIX века, но главное, именно этим словом с древнейших времен называли парижскую реку. Другие продравшиеся к нам сквозь ассимилированную латынь и современный французский язык слова (филологи насчитали их около четырехсот) имеют отношение к одежде, пище, инструментам, животным, птицам, средствам передвижениям и к оружию — красноречивое свидетельство практичности языка кельтов. Издревле горожане называли непарижан словом «плук» (plouc). До сих пор это слово имеет значение «пентюх, деревенщина» — тот, кто рожден не в столице.Опасно острый край мира
Первые парижане — кельты и римляне — были людьми глубоко суеверными. Благоговение и страх у них вызывала не только река, но и лес. На западе и юго-западе между ле Гатине и ла Лей леса были особенно густыми, но даже им далеко до чащоб Бьера, Брийе и Сенли. Уже при римлянах острова и южный берег реки застроили городскими кварталами, и прежде дикие земли стали походить на любой другой город империи. Галло-римляне проживали либо на виллах, либо в insulae, многонаселенных городских домах. Сразу за римским городом поднимались грозные дебри, полные волков и разбойников. Эта внешняя угроза обостряла чувство незащищенности, что и заставляло ранних кельтов, а затем и паризиев, селиться скученно — появились первые деревни. Галло-римский город рос, раздвигая пределы ager и laboratorium[23], и лес постепенно перестал быть источником угрозы, но остался олицетворением необузданного дикого мира, раскинувшегося вокруг жестко организованного иерархического города. В литературе лес и чаща считались иным миром, населенным духами, варварами, насилующими молодых дев, храмом отправления черных месс, где днем темно, словно ночью. Считалось, что всякий, кто путешествует по лесу ночью, сходит с ума или же является отъявленным злодеем. Вопреки всем страхам окружающие Лютецию леса играли важную роль в экономике города: давали земли для выпаса, листву (в основном дубовую) на корм скоту, когда не хватало сена, набивку тюфякам и удобрения полям. Лес был источником дров для очага, топливом для приготовления пищи, обогрева и работы множества пивоварен, кузниц, стеклодувных мастерских, лавок бондарей. Из бревен возводили дома, крепостные стены, делали лодки и телеги. Цена на древесину являлась своего рода термометром экономического состояния города. Более того, лес стал поводом для политической борьбы, особенно действенным в голодные или смутные времена. Страх горожан перед внешним миром был очевиден и имел множество подтверждений. Примерно до 330 года н. э. считалось, что основная угроза Лютеции исходит со стороны галльских провинций, непокорных племен, заговорщиков-христиан и бунтующих рабов. Однако, когда в IV веке Римская империя начала разваливаться, оказалось, что политически и географически Лютеция находится между молотом и наковальней — между Римской империей и остальной Европой, в нескольких днях пешего марша от земель германцев. Признаки распада империи стали очевидны еще в III веке. Рыба загнила с головы: с 180 года н. э. за девяносто лет в Риме сменились более восьмидесяти императоров, и ни одному из них не удалось обуздать разрастающийся хаос. Варвары совершали набеги все чаще, становились все смелее и захватывали все больше земель и добычи. В 268 году н. э. падение Афин, словно брошенный в воду камень, вызвало круги нестабильности, разошедшиеся по всей империи. Основанная романизированным галлом Постумом в 258 году н. э. Галльская империя добавила проблем к растущей смуте. В политические волнения свою лепту вносили голод и мор, гниющие на корню урожаи, мародеры, грабившие мирное население, отсутствие порядка в городах, неорганизованное налогообложение. Более того, монета, имевшая хождение на всей территории империи, упала в цене. Еще одной проблемой имперских властей стала крайняя бюрократизация (к примеру, все документы, подтверждающие присвоение военных званий от центуриона и выше, вне зависимости от места службы воина, заверялись и хранились в Риме). Во второй половине III века в борьбе с бюрократизмом император Диоклетиан даже поделил империю надвое. На какое-то время управление империей и военными делами улучшилось, однако экономическое положение продолжало ухудшаться. При императоре-сербе Константине Великом поделенная империя воссоединилась вновь, а столица была переведена в Византию, переименованную в Константинополь. Основание в 330 году н. э. «великого Константинополя» на проливе Босфор, учреждение в нем столицы Римской империи и престола христианства (331) установило порядок на землях, веками катившихся к хаосу. Смена центра власти лишь отдалила Лютецию от имперской столицы и ослабила ее оборону. Одновременно с этими событиями на севере и юге пришли в движение германские и славянские племена. Готы с берегов Вислы направились к Днепру, франки закрепились на Рейне. Процессы, позднее разрушившие имперскую провинцию до основания, быстро набирали силу.Глава третья Боги моря
К концу IV века Галлия безостановочно и безоглядно скатывалась к хаосу. Правители городов были слабы, их раздирали ссоры из-за прав на сбор налогов, жители страдали от голода и волны восстаний, которые, казалось, не прекратятся никогда. Бунты были такими частыми, что их участники даже заслужили собственное имя — «Bagudae» («бойцы»: термин восходит к кельтскому слову «baga» — драться, от него произошло французское «bagarre»[24]) и славились тем, что не защищали ничьих интересов, кроме собственных. Хуже того, главари восстаний частенько приглашали на галло-римские земли варваров: саксов, бургундцев, вестготов и франков; продавали им поля, скот и платили за антиимперские выступления. Так называемое «великое нашествие» 406 года, когда вестгот Радагайс привел в Галлию полчища варваров, было отчасти вызвано именно подобными отношениями. Так что рассчитать точную дату падения римской власти в Галлии невозможно. Для парижских галлов, к примеру, Рим пал к концу V века, когда город захватили франки. Убийца и разбойник франк Хлодвиг напал на Париж в 486 году. Имя его произносилось с «с» на конце[25] (в отличие от «Chlodovech» от которого произошло имя будущих королей Франции — «Людовик»). Хлодвигу было всего двадцать лет отроду, но он успел уже одержать победу над римским губернатором Галлии Сигарием, унизив затем всю его армию (у франков в обычае было веселиться, насилуя пленных солдат). В 481 году отец Хлодвига умер, и право командования всеми салическими франками перешло к сыну. Ему было всего шестнадцать, но он успел поучаствовать в ряде кровавых стычек. Теперь же Хлодвиг стал хозяином города. Хлодвиг провоцировал возмущение в окрестных городах и деревнях, разорял церкви, крал женщин. Его жена Клотильда была христианкой, однако Хлодвиг презирал ее веру, уверенный в том, что магия языческих богов превосходит силу христианского Бога. Смерть двух сыновей в младенчестве лишь ожесточила Хлодвига и усилила его ненависть к религии, проповедующей смирение. Есть история о Хлодвиге, придуманная графом Анри Буленвилье в XVII веке, которая широко известна и преподавалась поколениям французских школьников как антимонархическая притча. Легенда гласит, что некий воин упрекнул Хлодвига, мол, тот после битвы присвоил себе вазу, известную как Суассонская чаша; а ведь добытое в бою принадлежит всем. Хлодвиг затаил злобу и позднее отыгрался сполна. Кульминацией служит рассказ о том, что Хлодвиг расколол топором голову недовольного прямо на Марсовом поле. Легенда эта призвана символизировать дикие нравы и спесь франков. Также ее толкуют как пророчество о будущем Парижа, власти которого настойчиво стремились уравнять собственное влияние со значением армии. Легенда точно предсказала абсолютизм грядущих режимов. Однако общественный строй тех времен назвать цивилизацией нельзя, скорее это была хрупкая структура, жившая, как сказал Флобер, «между смертью старых богов и приходом Христа». Поворотным моментом в судьбе Хлодвига стала битва с ненавистным ему врагом — алеманами: несмотря на подавляющее большинство алеманов, франкам удалось победить. Перед битвой Хлодвиг принес обет святому Реми из Реймса, пообещав обратиться в христианство, если одержит победу над противостоявшей ему огромной армией. Под влиянием супруги он обратился не к религиозной атрибутике, но к самому Богу и стал первым христианским королем Парижа. Первым предпринятым им на посту христианского правителя значительным шагом стало провозглашение всех франков свободными людьми, а всех свободных людей — франками. Именно с тех пор термин «франк» стали ассоциироваться не только с территорией под названием Франция, позднее оформившейся в страну, но и с любым свободным человеком. Именно это значение несет название улицы, которую пьяница Джек Керуак в книге «Сатори в Париже» назвал «улицей отъявленных буржуев» — улицы Фран Буржуа, идущей вдоль Сены сквозь нынешний Марэ. Улица получила свое название в XVI веке из-за многоквартирного дома № 48, жители которого были освобождены от налогов. Хотя, быть может, трактовка Керуака более точна со смысловой точки зрения. Хлодвиг также учредил «Салическую правду»[26], запрещавшую женщинам наследовать земли и, следовательно, трон Франции. При франках Париж не стал мегаполисом, но столицей страны Хлодвиг его все же сделал. С тех пор город играл главную роль в истории этих земель.Первые руины Парижа
Изначально франки представляли собой довольно пеструю толпу варваров родом из Западной Германии. Впервые римские историки упоминают о них в 241 году н. э., варварской столицей называют город Диспарг, нынешний Тонгр в Бельгии. В римских летописях франки — буйные и яростные воины, носившие длинные волосы и чтившие своего праотца, морского бога[27]. Короли франков Меровинги приняли свое имя от деда Хлодвига — Меровея. Основанная Хлодвигом династия правила до смерти Дагоберта в 638 году. После 638 года власть над Парижем и землями франков перешла в руки майордомов, управлявших монаршими домами и фактически правивших страной. Меровинги занимали трон вплоть до правления отца Карла Великого, Пипина Короткого, но ввиду того, что реальной властью не обладали, звались «les rois fainéants» — «королями-бездельниками». Политику террора франки освоили в совершенстве. Убийство в 613 году в Австразии (тогда Франция состояла из королевств с довольно странными названиями) Брунгильды, жены короля Зигберта, еще раз подтвердило жестокость законов франков. Королева была повинна в попытке взять на себя роль полновластного правителя земель, окружавших Париж. В конце концов собственные подданные предали ее, привезли в Париж и осудили, признав виновной в убийстве десяти королей. По приговору Брунгильду любой желающий мог избить или изнасиловать, а затем ее на три дня привязали к верблюду. Приговор привели в исполнение в районе перекрестка нынешних улиц Сент-Оноре и Де-ла-Арбр, изобилующих кофейнями, банками и магазинами. Уклад города буйных франков оставался в основе своей языческим. Популярный торговый центр посещали сирийцы, евреи и жители Северной Африки. Римский епископ Григорий в 586 году жаловался королеве франков, что, по свидетельствам путешественников, «парижане все еще не подчинились порядку Церкви. Им следует прекратить поклоняться деревьям и развешивать повсюду головы безбожно принесенных в жертву животных. Еще нам донесли, — ужасается епископ, — о богопротивном! О поклонении демонам!» В христианство франки обращались неохотно, с куда большим удовольствием они примешивали собственные предрассудки к бульону из галльских и римских верований, уже закрепившихся в сознании горожан. Они верили в симпатическую магию, носили амулеты, творили колдовские обряды и гадали на внутренностях убитых врагов. Когда Хлодвиг пришел к Григорию Турскому как к служителю культа с просьбой предсказать будущее, епископ побоялся упрекнуть правителя в глаза в языческих практиках, однако позднее возмущался «варварскими ритуалами». Трусливые священники перестали проповедовать франкам религиозные ценности и свели христианство к соблюдению нескольких ритуалов, более или менее схожих с языческими обрядами. Франкские короли были известными лентяями и неучами. Некий ученый, не знакомый с нюансами грядущего французского колониального наследия, писал, что властители франков «тупо подражали римской помпезности, как ныне негритянский король рядится в европейские одежды». Лютеция уходила в небытие. Великие римские сооружения превращались в руины, а мрамор и кирпич, из которых они были построены, растаскивали строители франкских церквей и домов — город расползался во все стороны и поглощал окрестные деревни. Древние боги стирались из людской памяти, умирали под напором христианства; закон франков творился в старой римской базилике и во «дворце правосудия», стоявшем напротив Отель-Дье. По мере роста города древние римские крепостные стены сносили — так город лишился последней защиты.Кормилица Парижа
Хотя это было время нестабильности и насилия, стоит заметить, что именно тогда появились первые тексты на французском языке. Обычно это были жития христианских мучеников, которые, подобно святому Дионисию, прошли через пытки и приняли смерть за веру. Изначально эти легенды в пропагандистских целях распространяли проповедники. Медленно возрождающийся на пепелище угасшей цивилизации город выказывал особое пристрастие к таким историям, — прекрасное свидетельство желания перепуганных горожан найти успокоение хотя бы в мифологии. Женевьеву, позднее главную патронессу Парижа, не пытали, она не принимала мученической смерти. Она талантливо манипулировала людьми и умело управляла событиями, была искушена в «теневом» искусстве дипломатии, могла запугать слабых духом политических оппонентов-мужчин и одновременно успешно поддерживала мистическую ауру святой. Позднее историки и теологи создали миф о святой Женевьеве, опираясь именно на эти качества ее характера. До прихода франков самой большой угрозой для города были гуннские всадники Аттилы, дошедшие в 441 году до Рейна и разбившие лагерь на расстоянии дневного перехода до стен Парижа. Спасителем города в то тяжелое время стал не воин и не правитель, а хрупкая благочестивая Женевьева. Ей было Божье откровение, из которого она узнала, что город будет спасен. Паникующие горожане нуждались именно в таких новостях, и Женевьева сделала все, что в ее силах, чтобы предотвратить панику и остановить массовое бегство из города. Женевьева совершила политический и духовный подвиг: предотвратила падение города в условиях, когда победители, несомненно, разрушили бы его до основания. Самая известная картина, изображающая Женевьеву, называется «Sainte-Geneviève gardant ses moutons» («Святая Женевьева, охраняющая овечек»). Сегодня это произведение XVI века работы неизвестного художника висит в галерее музея Карнавале. Лицо Женевьевы источает материнское тепло, фигура полная, линии фигуры гладкие, что вовсе не похоже на типажи начала Средневековья. Она окружена «стоячими камнями» — дольменами (еще одна выдумка художника). На заднем плане — Париж, замерший в ожидании спасения. Более того, святая изображена этакой крестьянкой и наследницей кельтов, лишенной грязной примеси кровей языческого, разлагающегося Рима. В действительности Женевьева родилась в 420 году в галло-римской аристократической семье неподалеку от Парижа, в Нантерре. Легенды представляют Женевьеву бившейся в конвульсиях и страдавшей лихорадкой крестьянской простушкой. Однако происходила она из состоятельной, обладавшей серьезными политическими связями семьи. Хотя галло-римский Париж исчезал на ее глазах, Женевьева была достаточно хитра и упряма, чтобы продолжать бороться за политическую власть. Женщина тех времен могла подняться только на религиозной ниве. Так что Женевьева еще в раннем возрасте начала строить свою репутацию, замешанную на мистицизме. Тем самым она стала наследницей своего отца и заняла место одного из главных советников городских властей. Поначалу парижане ее не любили и не верили ей: далеко не все подпали под влияние полных мистицизма речей худой девочки с пронзительным взглядом. Ее высказывания больше пугали, а подчас даже ужасали. Но Женевьева обращалась к темам, волновавшим многих: Римская империя хрупка и вот-вот падет под напором внешних врагов. По мере приближения армии Аттилы в Париж на привал по пути на спокойный и богатый юг волна за волной прибывали беженцы. Они рассказывали истории о кровавых побоищах, о том, как варвары вырезали всех в городах и селах, как насиловали девственниц и убивали тысячи людей. Парижане тряслись от страха. Это гнев Божий, утверждали беженцы, это конец всему. Женевьева слышала эти истории, видела, как голодные и изможденные беженцы возносят молитвы о спасении. Она решила голодать (ела только зерно и бобы и лишь дважды в неделю), вследствие чего ее душевное равновесие нарушилось. Анорексия превратила ее бледный лик в почти сияющий, и когда стало очевидно, что приход Аттилы в Париж неизбежен, благородная девица Женевьева отправилась по улицам острова Ситэ, по заболоченным полям у реки, по опустевшим дворцам (римский префект Аэций давно бежал в Испанию якобы за помощью), повествуя о том, что открыл ей Господь: Париж будет спасен. Большинство парижан, особенно женщины, считали ее спесивой обманщицей или сумасшедшей. Однако Аттила чудесным образом свернул к более богатым землям на юге (циники утверждали, что Аттила не вошел в Париж только оттого, что ему донесли, мол, женщины города недостойны даже изнасилования). Но это не единственное случившееся чудо, ходили рассказы и о том, что епископ Орлеанский, например, плюнул в нападавших кипящей слюной, и те немедленно отступили. Однако ни одно из этих событий не шло ни в какое сравнение с историей девушки (даже не религиозной фанатички, как оказалось), спасшей город. Женевьеве поклонялись во всех церквях Парижа наряду со святым Дионисием. В опасении захвата и разграбления приходов, как это случилось с соседями на севере и востоке, священники молились ей о сохранении имущества. Одним из немногих доживших до наших дней зданий той эпохи является церковь Сен-Жюльен-ле-Повр на левом берегу Сены. Во времена набегов на город при Григории Турском эта церковь служила убежищем всем, кто опасался за свою жизнь. Парижские христиане уверяли, что Париж стоит, пока существует Сен-Жюльен-ле-Повр. То было туманное время многочисленных знамений и видений. Первый поборник парижской церкви Григорий Турский со страхом вспоминал, как в заброшенной римской канализации были найдены две золотые статуи, изображавшие змею и льва. Вскоре после этого пожар спалил южную часть города почти дотла — и никто не удивился. В сознании укоренялась мысль: языческого прошлого стоит опасаться, но при этом нужно уважать его таинства. Самым важным достижением Женевьевы на ниве религии стало то, что она указала горожанам такой путь от язычества к христианской цивилизации, с которого возврата к прошлому не было. Этим она заслужила звание «кормилицы и возлюбленной Парижа».Грандиозные видения
Однако самое значительное из достижений Женевьевы было политическим. Будущая святая прожила удивительную долгую жизнь (умерла в возрасте восьмидесяти лет). Она встретилась с Хлодвигом, когда ей было 46 лет. К этому возрасту Женевьева выросла в опытного и волевого политика, привычного к жестоким интригам франков и прочих опасных личностей, отиравшихся в городе. Женевьева не просто убедила Хлодвига принять крещение, но и внушила ему мысль сделать Париж столицей его владений. Более того, грубый и кровожадный франк поддался ее уговорам и основал на холме, который мы сегодня называем холмом Сен-Женевьев, школу для обучения неимущих студентов (позднее это заведение войдет в состав Университета Парижа). Истории о Дионисии и Женевьеве послужили фундаментом мифа о «великой христианской цивилизации» Парижа. Подобно политическому отцу города Хлодвигу, эти святые соединяли в себе дар предвидения и талант проповедника, проявив их в момент политического кризиса. На деле они заложили основу мифа о городе, существующем вне религий, социумов и политических течений. Франки правили страной около двух веков. Объединив земли посредством грубой силы, в наследство потомкам они оставили общество, построенное в соответствии с жесткой иерархией. В этой структуре нижние «этажи» составляли последние представители грубого галльского мира (крестьяне, разнорабочие, ремесленники), а верхушку оккупировали бесполезные в управлении государством воины. Историков-антимонархистов очень устраивает это общественное устройство — есть что критиковать. При внимательном рассмотрении выясняется, что общество того времени было организовано куда сложнее: галлы, галло-римляне и франки со времен Хлодвига перемешались в браках так, что этнос стало невозможно определить. Одно можно сказать с точностью: часто трон занимали глупцы, сеявшие беспорядок и хаос. Свойства характера, присущие франкам, а точнее — отсутствие оных, подметил франкский ученый VIII века Эйнгард, составивший также жизнеописание Карла Великого на латыни. Работая в Фульдском монастыре, он по-своему перевел на латынь греческую поговорку: «Можно иметь франка другом, но соседом — никогда». Франк Зигберт, воюя против собственного брата Хильперика, в 574 году полностью подтвердил слова Эйнгарда: разрушил памятники древних времен, снес виллы, бани, колоннады и запалил пожары сразу в нескольких районах города. Нельзя, однако, утверждать, что все короли франков правили исключительно неудачно. Несмотря на кровавые распри князей и наследников, большую часть времени в стране царила стабильность: германцы не нарушали границ несколько веков. Товары, люди и имущество свободно перемещались по regnum francorum[28]; процветали рынки и ярмарки; на ярмарку Сен-Дени неподалеку от Парижа съезжались торговцы со всей Европы и Леванта[29]. Но в сравнении с оживлением и ростом экономики галльских городов политическая и культурная жизнь страны оставляли желать лучшего. Этот застой отразился и на Париже, который, несмотря на статус политической и военной столицы, за период правления франков почти не вырос в размерах. Ход истории влиял на соседние земли. При римлянах река исполняла роль границы между латинской цивилизацией и варварским севером. С приходом Хлодвига Галлия воссоединилась с Францией во всех областях жизни: в культуре, политике и исторических переменах. Париж в период правления Меровингов (490–640 гг.)
Париж в период правления Меровингов (490–640 гг.)
По мнению Мишеля Фуко, родившаяся при Хлодвиге нация франков, получившая в качестве столицы Париж, была не просто инструментом управления, но предопределила великое будущее, заявила мечту о великой державе. Ее конкретным воплощением стали активные военные действия франков, направленные на покорение только-только опомнившихся после распада Римской империи галльских племен. Фуко сделал вывод, что французское государство даже во времена Наполеона оставалось в том же состоянии, что и при франках, — как и прежде, рабы полностью подчинялись своим хозяевам. Очевидно, что поэтическая метафора совпадает с топонимической: небольшой холм на левом берегу Сены, названный именем страдавшей анорексией девственницы Женевьевы, обрывается улицей Хлодвига.Парижане по сей день обращаются к Женевьеве с молитвами о защите в церкви Сент-Этьен-дю-Мон, где святая дева похоронена. Напротив собора, на территории бывшего аббатства Святой Женевьевы, где в строгом окружении зданий Лицея Генриха IV покоятся Хлодвиг с супругой, обучаются будущие городские правители[30].
Глава четвертая Язычники
Ощущение устойчивости королевства франков всегда было зыбким. К VIII веку уклад и строй государства расшатались донельзя. Сначала эти земли называли «Невстрией», позднее «Западной Францией». Однако этому образованию далеко было до границ нынешней Франции. На юге, за границей, проходившей по Луаре, жили галло-римляне (франки назвали их Romani), мир которых кардинально отличался от франкского. Romani говорили на другом языке, но не чуждались достижений франкской культуры. На востоке границу очерчивала река Рейн, за ней жили не менее воинственные, чем франки, племена. Политическая нестабильность в этих землях заставляла беспрестанно ожидать худшего. На востоке бритты из Корнуолла захватили Арморику (нынешняя Бретань), принесли в нее собственный язык, общественное устройство по кельтскому образцу и поставили своих правителей[31]. Так что рубежи оставались неспокойными. Парижу и его жителям пришлось тяжело как в VIII, так и в IX веке. Европу охватили массовые миграции, происходили связанные с ними столкновения. Границу между древностью и средневековьем часто проводят по 331 г. н. э. — году утверждения города Константинополя столицей Римской империи. Император Константин, приняв это решение, намеревался связать христианство и империю воедино. Результат, однако, оказался более долгосрочным и непредсказуемым, чем ожидалось: цивилизация Римской империи рушилась и перерождалась в христианскую несколько столетий. В таких обстоятельствах и проходила христианизация франками галло-римского мира. После того как на правом берегу Сены, между позднейшими Лувром и Бастилией, были построены церкви Сен-Жермен л’Оксеруа, Сен-Колон и Сен-Поль, город изменился до неузнаваемости. Архитектура этих районов по сравнению со сложной системой левобережной галло-римской Лютеции была незамысловата, но именно она определила направление, в котором стал расти город: к сельским территориям Шаронн, Монмартр и Ла-Шапель-Сен-Дени. Город рос на восток, на западе земли оставались нетронутыми и заболоченными. На дороге в сторону Лиона и Италии, близ Сен-Марселя, появилось новое поселение. Остров Ситэ все еще окружала крепостная стена, и попасть на его территорию можно было лишь через огромные ворота — одни на севере, другие на юге. Жизнь на самом острове была тяжела и сложна, на грязных улицах толпились клирики, студенты, благородные господа, крестьяне, грузчики, проститутки и странствующие торговцы. Возможно, лучшее место, где можно прочувствовать атмосферу Парижа тех времен, — это церковь Сен-Жюльен-ле-Повр на одноименной улице. Само здание церкви датируется XII веком, однако под ним скрывается фундамент придорожной часовни, которая с VI века стояла на главной римской, а затем франкской дороге, проходившей сквозь город. На другой стороне реки, к северу, стоял собор Сент-Этьен (его развалины найдены на восточной стороне Паперти Нотр-Дам), в котором франкские короли поклонялись Христу и хулили умирающий Рим. Несмотря на мрачные предсказания современников, римлянина Боэция и Григория Турского, изливавших желчь по поводу франков, простой народ в распаде старого римского порядка не видел ничего страшного. Хотя христианство в те времена считалось религией знати, оно, по крайней мере, по словам проповедников, было утешением слабых и беззащитных. Более того, в Париже, где франки и галло-римляне рука об руку трудились, жили рядом и возносили общие молитвы, миф о расколе между «цивилизованным» Римом и якобы дикими «варварами» выглядел надуманным и преувеличенным. Спустя два века после воцарения в Париже франков все различия между ними и галло-римлянами стерлись начисто. Во времена Хлодвига представители двух этносов значительно различались по социальному происхождению, именам, одежде и, в определенной степени, языку. К VIII веку столетия межэтнических браков и союзов поставили бок о бок франкские и латинские захоронения в некрополях. Останки представителей обеих народностей покоятся сегодня под колесами автомобилей, несущихся по перекрестку Гобеленов: именно здесь, в большом некрополе, хоронили умерших парижан. В этих местах являлись чудеса, их посещали призраки, здесь в V веке видели чудовищ и драконов, позднее в некрополе христиане молились святому Марселю, девятому епископу Парижа, служившему в те смутные времена. В действительности же в мире уже два века разворачивались глобальные процессы. Их не могли остановить ни вся военная мощь мира, ни алчущие власти правители. Именно эти перемены, сильнее всех этнических столкновений вместе взятых, приблизили гибель Римской империи. Прежде всего речь идет об углублении на протяжении столетий политического и культурного разрыва между восточной и западной половинами империи. Разлад ослабил, а затем уничтожил остатки римского порядка. Затем — наступление на бывшие «римские» территории так называемых варваров (в роли мародеров или иммигрантов) из Восточной Европы и Азии. Оно было вызвано немощью местных правителей, ослабленных падением Рима под напором армии готов в 410 году н. э. Событие, сокрушительная сила которого напоминает о трагедии 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, повергло в ужас всех граждан империи, оказавшихся без защиты.Ислам у ворот
Одновременно с вышеперечисленными глобальными переменами в средневековой Европе появились представители нового вероисповедания, рожденного в песках Среднего Востока. Имя нового бога было Аллах, а молодой религии — ислам. Христианским и еврейским купцам из франкских земель, впервые столкнувшимся с исламом, он показался скорее хорошо отлаженной военной машиной, нежели вероучением. Пророк Магомет умер в 632 году н. э., и с тех пор армии арабов катились по Аравии и Северной Африке, огнем и мечом обращая местное население в свою веру. К осени 732 года мусульмане покорили огромные территории на Иберийском полуострове. Они стремительно пронеслись в глубь земель франков, угрожая Пуатье и Парижу. Но на их пути встали две преграды: резкие холодные октябрьские ветры и войска длинноволосых франков. Это были не просто захватнические набеги на Дар аль-Харб («область войны» — так арабы называют земли, не принадлежащие мусульманам), при этом насилие и грабежи были нормой поведения солдат армии агрессора. Этот поход был частью глобальной священной войны во имя Аллаха. Нападение арабов на Пуатье было целенаправленной атакой на христианское королевство франков. Истинной целью был захват священных городов страны и богатейших торговых центров — Тура и Парижа[32]. В 732 году Major du palais Парижа Карл вывел армию франков на место, известное сегодня под названием Moussais-la-Bataille (букв, «место битвы»), где они и встретили наступавших арабов. Карл выстроил пехоту в каре, превратив войска, по словам современника, «в непоколебимую стену» и «ледник». Искусством фехтования, тяжеловооруженной конницей и своей решимостью франки одолели мусульман, которым пришлось отступить после жестокой битвы, длившейся целые сутки. Военачальник арабов Абд ар-Рахман погиб. Исход этой битвы не упоминается ни в одной арабской летописи, термин же «франк» вошел в мусульманский фольклор за два века до начала первых крестовых походов. Это слово проникло даже в современный арабский язык: Европа по-арабски — «bilad al Firanj», что переводится как «владения франков». Карл по возвращении в Париж получил кличку Мартелл — «Боевой Молот». Битва при Пуатье имела огромное историческое значение. Конечно, до изгнания арабов из Европы и христианского «нового захвата» Иберийского полуострова в 1492 году должно было пройти еще семьсот лет. Однако победа при Пуатье стала не просто успешной операцией по обороне дороги на Париж, но поворотным моментом в истории западной цивилизации. В Париже XXI века, где политика и религия никак не могут ужиться, а радикальный ислам является доминирующей силой культурной жизни пригородов, найдутся многие, кто скажет, что древний конфликт цивилизаций далеко не исчерпан. Этого мнения придерживается и лидер мусульманской молодежи Франции Тарик Рамадан, довольно темная личность, которую по обе стороны Атлантики подозревают в связях с исламскими террористами. Сам Рамадан не идеолог, но проницательный наблюдатель жизни города и философ, а потому в глазах французских властей он особо опасен (в 2004 году ему запретили въезд в Соединенные Штаты из-за подозрений в связях с террористами). Взгляды Рамадана довольно прямолинейны: он считает, что мира на Западе не будет до тех пор, пока проповедь ислама не станет неотъемлемой частью «европейской» культуры. «Вопрос не в столкновении цивилизаций, — сказал он в магазине исламской литературы, штабе своего движения в Сен-Дени, — но в решимости мусульман противиться недоверию и предубеждению». Довольно интересно еще и то, что Рамадан провозглашает свои лозунги из магазинчика, расположенного неподалеку от базилики Сен-Дени — места захоронения монархов Франции первого христианского тысячелетия.Осада и избиение
Карл Мартелл не только спас Париж от угрозы ислама, он дал имя династии Каролингов. Сам он не стремился занять трон, но, опираясь на свой авторитет, завоеванный в бесчисленных сражениях, в 754 году провозгласил королем своего сына Пипина. Эта династия, или «вторая раса», правила Парижем и Францией до 987 года. Каролинги были менее жестоки к своим подданным, чем «первая раса» язычников-франков. Но, как и их предшественникам, Каролингам недоставало традиционных римских добродетелей, чувства долга и умения править страной. В том, что Париж стал их штаб-квартирой, главную роль сыграли военные, а отнюдь не культурные соображения. Молва о неодолимой военной мощи Каролингов родилась на полях сражений, где Каролинги успешно использовали тяжеловооруженную конницу. Римлянам такая тактика военных действий была неизвестна, и ужасное опустошение, которое конница Каролингов наносила в близком бою, позволяет сказать, что эта армия была оснащена эквивалентом современных бронемашин или бронированных крейсеров. Лучших лошадей разводили на севере, где рос овес, а логичным местом для размещения войск стал, конечно же, Париж. Многочисленные опасности, грозившие королевству франков и Парижу, отступили, когда в 771 году к власти в городе пришел Карл Великий. В мифологии города он занимает место одного из величайших героев. Как и множество легенд о короле, серо-зеленая статуя короля у собора Нотр-Дам ничуть не похожа на настоящего Карла. Статую водрузили на месте старого Отель-Дье в 1880 году, и изображала она всепобеждающего императора, объединившего своей волей весь христианский мир. Император Западной Римской империи и достославный король Каролингов Карл Великий на самом деле был невысок, широк в плечах и лыс. Париж он навещал всего два раза по поводу больших празднеств. Своей столицей в 800 году он назвал Экс-ла-Шапель (Ахен). Именно при Карле Париж начал терять политическое влияние, хотя укрепился в роли торгового центра; сам король и верные ему Каролинги лишь подстегнули эти процессы. Жюль Мишле писал, что пришедшие разрушить Париж варвары «трепетали» перед лицом великой цивилизации, воплощением которой город являлся даже в самые тяжелые времена. Но это не так: почти весь IX век городу угрожала осада и нападения как с севера, так и с запада. Сжавшись до размеров острова Ситэ, Париж вернулся в границы доримских времен — в границы столицы паризиев. Примерно в 808 году Париж подвергся первым нападениям с севера после периода относительной стабильности, установленной крепкой рукой Карла Великого. Великий монарх почил в 814 году, но жители Парижа и земель Западной Римской империи, раскинувшейся от Атлантического побережья до Дуная, какое-то время благоденствовали в обстановке остаточного экономического роста и политического единства, хотя к границам подтянулись армии мадьяр, аваров, сарацин и скандинавов, готовые напасть на земли франков. Викинги, уже два столетия совершавшие рейды на земли к северу от Парижа, постоянно проверяли на прочность защиту региона, где нарастал хаос. И в 820 году северные воины предприняли первый рейд на земли в пойме Сены. Напавшим никто не сопротивлялся, никто не пытался им дать отпор. В пасхальное воскресенье 845 года смертоносная армада из 125 черных драккаров из Англии и Руана под предводительством Рагнара подошла к Парижу. Содрогнувшиеся от ужаса парижане уповали на политическую и военную помощь своих торговых партнеров и соседних городов. Но они напрасно ждали поддержки. Оборонительных рубежей почти не существовало. Множество парижан в панике бежали из города. Первыми покинули стены Парижа спасавшие сокровища и реликвии церкви монахи и священники, которые временно укрылись в ближайших аббатствах, чтобы затем отправиться дальше на юг. Карл Лысый из рода Робертинов (позднее их станут называть Капетингами) заключил с викингами унизительную сделку: получив выкуп, захватчики подвергли разрушительным набегам Бургундию. Бургундцы не простили Парижу предательства и отплатили в Столетнюю войну тем, что во время оккупации города поддержали англичан. Сами же парижане, избавившись на сей раз от угрозы, благодарили всех святых подряд, каких только помнили. Правители города рассудили: нет ничего постыдного в том, что от скандинавов удалось откупиться 700 ливрами серебром (огромная сумма по тем временам) и посулами богатой поживы в Бургундии. Однако отсрочка длилась недолго. Уже в декабре 856 года викинги вернулись и на этот раз не собирались щадить Париж. В городе так и не была организована грамотная система обороны, аббат Сен-Дени Людовик и его брат Гозлин, епископ Парижский, оказались в плену, их пришлось выкупать. Ножами, копьями и мечами северяне в военном азарте прокладывали себе путь по островам. «Датские пираты напали на Лютецию и парижан, — записал в своих «Хрониках» де Сен-Бертен, — и предали мечу все, что не сожгли огнем». В январе 861 года грабители появились вновь, сожгли новые церкви Святого Венсана и Сен-Жермен-де-Пре и прилегающие здания, а на северной окраине Ситэ разрушили Большой мост. На сей раз они продвинулись в глубь страны и разорили Марн, Mo и Мелун, а на обратном пути к морскому побережью снова разгромили Париж. Карл Лысый пересидел набеги в Сенли. Однако он не желал видеть Париж разоренным в третий раз, а потому с помощью и под руководством епископа Гозлина предпринял ряд мер по укреплению городской обороны. Более того, Карл приказал восстановить и укрепить Большой мост, разрушенный викингами во время прошлой атаки. К 870 году мост, украшенный караульными башнями и оснащенный высокими стенами с укрытиями для лучников, встал на охрану реки и города. Целых 25 лет Париж пребывал в мире и покое. Оборонительные сооружения поддерживали дух горожан и обеспечивали сохранность церковных реликвий и богатств. Экономика наконец пошла на подъем, а население начало расти, в основном за счет иммиграции, которая подпитывалась посулами экономической стабильности и достатка. Викинги появились вновь в 885 году. Как и раньше, они спустились по реке в черных драккарах и, как и в прошлые набеги, потребовали разрушить Большой мост и дать им проход по реке в глубь страны. За это они обещали не причинять городу и его жителям вреда. И вновь парижане запаниковали, но Гозлин и граф Парижский Одо (очередной Робертин) держались твердо и отказались пустить северян в город. Парижане поддержали их и, вооружившись, взошли на стены города, целясь в захватчиков с крепостных башен изо всех видов оружия. 30 000 викингов, которыми командовал известный своей жестокостью и кровожадностью пират Сигфред, окружили Париж и взяли в осаду. Произошло это в ноябре, когда первый зимний морозец покусывал пиратские носы. Ожидая быстрой победы, Сигфред начал штурм с нападения на деревянную башню моста: ее строительство было явно не завершено, следовательно, это была прореха в обороне города. Северян ожидал неприятный сюрприз: осажденные оказались крепкими воинами. Более того, защитники отбросили викингов к самому лагерю. За следующие двенадцать месяцев пираты предприняли еще восемь атак на город. Во время одного из этих штурмов погиб Гозлин. Но парижане с неослабевающим упорством всю зиму обороняли крепостную башню, установленную на мосту. В конце концов весной 886 года оборона была прорвана. Все, кого викинги схватили внутри, были убиты. Хуже того, в феврале 886 года наводнение смело с лица земли один из малых мостов через реку, что чрезвычайно ослабило оборону Парижа. Казалось, спасение близко: в ноябре 886 года к столице прибыл Карл Толстый, и его армия стала лагерем у подножья Монмартра. Этот Карл походил на своего тезку Лысого не только непритязательной внешностью, но и трусостью. Он отказался подвести войска ближе к городу и заключил с северянами очередную постыдную сделку: в марте 887 года выплатил Сигфреду 1400 серебряных слитков. Сумма дани и позорный договор с бандитами, от разбоя которых горожане так упорно обороняли не только город, но и собственную честь, не способствовали популярности Карла. Не удивительно, что в самый разгар осады опозорившийся предатель Карл оказался смещен своим родственником графом Парижским Одо, истинным героем обороны Парижа. Викинги возвращались в 890 и 925 годах, но теперь им пришлось довольствоваться грабежом прилегающих земель и Бове с Амьеном. Вплоть до 978 года вокруг города вспыхивали мелкие и серьезные стычки, но с тех пор несколько столетий иностранные армии не входили в город.Восстановление города
Несмотря на то, что город находился в состоянии осады на протяжении всего IX века, X столетие жители Парижа встретили полными надежд и уверенности. Восстановительные работы начались сразу после осады 885 года, когда граф Парижский Одо поднял народ на защиту города против врагов и наполнил сердца парижан отвагой. Подъем самосознания горожан сильно помог Гуго Капету (прозванному в честь сарра[33], который он носил в знак веры), ставшему во главе Нейстрии (позднее эту территорию стали называть Западной Францией) и города Парижа. Коронация Гуго в 987 году поистине была поворотным моментом в истории города. Именно тогда Франция и Париж стали единым целым. В отличие от времен правления франкских королей Париж сделался не только официальной столицей. Именно рост авторитета Парижа навсегда изменил страну, которой до 1328 года предстояло править Капетингам. И хотя эта семья произвела на свет ряд простоватых королей, они тем не менее смогли создать двор хитрых политиканов, смелых и искусных солдат, умных администраторов, всемирно известных ученых и святых, выстроивших репутацию Франции XIV века как величайшей страны Западной Европы. Однако все эти величайшие свершения в то время не казались такими уж значимыми: с востока и юга на страну надвигалась военная угроза, решать проблему следовало незамедлительно. Самих парижан больше занимали перемены в обществе, происходившие, казалось, с невероятной скоростью. Кардинальный поворот в общественной жизни времен первых Капетингов обеспечило усиление власти королевских вассалов. За весьма короткий срок земли, не принадлежащие короне, оказались в руках придворных вельмож, которые учредили собственную систему правил жизнеустройства, налог на ловлю рыбы, на мельницы и на право разгружать товары в прибрежных деревнях. Жизнь низших классов общества (простолюдинов, servos, как их продолжали называть по латыни) в литературе практически не описана. Но именно крестьяне, солдаты, вольнонаемные работники, проститутки и бродяги стали источником потенциальной опасности для представителей правящего класса: оставаясь вне закона или влияния короны, отверженные создали собственное общество, живущее по своим правилам, не чтящее государственных законов. Париж, однако, все еще не был первейшим городом Европы, как назовет его некий монарх уже в недалеком будущем. Большую часть своей истории Париж в лучшем случае играл роль процветающего провинциального центра или военной штаб-квартиры двух королевских династий, представители которых были равнодушны к судьбе города. Пала Римская империя, настали худшие времена: Париж отдалился от всех цивилизационных центров и оказался на грани уничтожения. К началу нового тысячелетия город сосредоточил в себе экономические возможности и религиозную мысль страны. Примерно столетие прошло после нападений северян, и Париж снова начал расширять границы на юг и север. Были восстановлены городские мосты, по обоим берегам реки воздвигли новые церкви. Левобережье от нынешней улицы Галан до Сен-Андре-де-Ар было засажено виноградниками. Святые отцы высоко оценивали смелость и веру горожан, выстоявших перед лицом врагов, не забывая, конечно, благодарить Женевьеву и Дионисия за спасение города. Только послушайте, как поют парижане! Опасения парижан по поводу происходящего вне стен города, в чужом мире, объясняются беспокойной историей Парижа. В 891 году Сен-Бертен писал в «Хрониках», что жизнь вне Парижа полна бандитов и «ужасной анархии». Провинциалы же потешались над предрассудками жителей столицы и обвиняли их во всевозможных беззакониях и грехах, от кровосмешения до каннибализма. С древности, еще до времен Лютеции, население города составляли кельты, римляне и франки. Позднее в город прибыли бургундцы, бретонцы, овернцы, норманны, пикардийцы, бельгийцы, евреи, алеманы, греки и даже англичане. Они приезжали в столицу Франции в поисках любви, работы или истинной веры. Голод и войны провоцировали и сдерживали волны миграции. В раннем Средневековье появился новый тип парижан, значительно отличавшихся от провинциалов языком и манерой поведения. Наплыв иммигрантов способствовал тому, что парижане перестали отождествлять себя с местом рождения или прежнего жительства. Сегодня вне границ старого города, в banlieue, арабы, чернокожие африканцы, выходцы из Восточной Европы и азиаты наполняют французский язык новыми словами и смыслами, рождая новую тайную речь Парижа. Расисты и борцы за чистоту речи считают, что слова польского, арабского, румынского, турецкого, сербского и хорватского языков засоряют литературный французский, как идиш, пикардийское, фландрийское, константинопольское, сирийское, арамейское наречия и языки разрушали средневековый французский: под таким воздействием и родился современный сленг, на котором говорят улицы Парижа. На улице Бельвилль, например, беспрестанно звучит мандаринский диалект китайского, что неудивительно: в основном здесь живут выходцы из юго-восточной Азии. На улице Сен-Дени обосновались проститутки из Албании, Косово и африканских стран, окружающих великую Сахару. Но и сегодня, в XXI веке, можно встретить настоящих представителей племени «паризиев». Зимой и весной они собираются на Булонской трибуне R2 на стадионе «Парк де Пренс» на западе города, чтобы поддержать любимый футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ»). Подростки-арабы, такие же фанаты «ПСЖ», но представители другой культуры, собираются на противоположной трибуне, одетые в зелено-красные футболки команды Алжира или модные спортивные итальянские костюмы и противопоставляют себя «fils de Clovis» — «сыновьям Хлодвига» (так североафриканцы на сленге называют белых парижан). «Паризии» и мелкая экстремистская группировка бритоголовых «Lutèce Falco 91» высмеивают средиземноморскую европейскую сентиментальность. Они патриоты исключительно Парижа. Но главными своими противниками они считают не арабов, а марсельцев. «Allons enfants du Grand Paris… Qu’un sang Marseillais abreuvent nos sillons» — «Вперед, дети великого Парижа… и пусть кровь марсельцев потечет по нашим полям», — распевают они на мелодию «Марсельезы». Гимн подхватывают тысячи сочувствующих, даже когда марсельский «Олимпик» остается у себя дома, за сотни километров от парижского стадиона. Песня «Паризиев» — эхо прошлого: «Nous n’irons pas a Saint-Denis, C’est au Parc que l’histoire s’écrit, Nous sommes rouge et bleu pour la vie, Notre amour s’appelle Paris! Écoutez chanter les Parisiens!» — «Мы не пойдем в Сен-Дени, история пишется в Парке[34], мы красно-синие на всю жизнь, а любовь наша — Париж! Только послушайте, как поют парижане!» Сен-Дени, о котором поется в песне, — новый стадион в предместьях Парижа, где сборная Франции по футболу выиграла чемпионат мира 1998 года и где «ПСЖ» не выступал ни разу. Эта песня была написана как гимн поддержки футбольного клуба университета. В Париже нельзя запросто упомянуть о месте захоронения французских монархов — Сен-Дени: само имя этого городка напоминает о противостоянии города всей Франции, начавшемся с того дня, когда Хлодвиг назвал Париж столицей и оплотом власти. Капетинги укрепили политический статус города, но увеличили культурное размежевание столицы и остальной Франции. В то же время Париж как магнит притягивал корыстолюбивых, мятежных и амбициозных людей, которым для воплощения своих целей требовались ресурсы великой столицы. Племенная принадлежность никогда не являлась преградой между парижанами и провинциалами. Провинциалы даже упрекают горожан в том, что никогда в истории страны не было такого явления, как «парижская порода». Жители столицы, напротив, считают подобные ожидания признаком «деревенского самосознания», для которого важна территориальная принадлежность. Парижане гордятся тем, что в Париже со времен Лютеции, что бы там ни говорили провинциалы, романисты, художники и историки, такого типажа, как «средний парижанин», попросту не существовало.ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГОРОД РАДОСТИ 988-1461 гг.
Париж хорош для жизни, но плох для смерти. Это место, где попрошайки греют задницы у костров из костей мертвецов. Ф. Рабле. Гаргантюа и ПантагрюэльГлава пятая Место жестокое и прекрасное
Закончилось первое тысячелетие, а Париж так и не стал величественным городом выдающейся архитектуры. В 1051 году Анна Ярославна, дочь киевского князя Ярослава, прибыла из Киева в Париж, чтобы стать женой вдового и бездетного Генриха I, занявшего трон в 1031 году. Русская княжна была шокирована городской грязью и нищетой. Париж, убогий и неорганизованный город, был ничем не лучше, а иногда и проигрывал главному мегаполису Руси, покинутому Анной. Ее недовольство зафиксировано в киевских летописях: Анной написаны полные жалоб длинные письма на греческом языке, в которых она называет свою поездку ссылкой в «страну варваров, где дома мрачные, церкви уродливые, а обычаи противные». Не удивительно, что Анна была шокирована Парижем. Столица Хлодвига ко дню прибытия русской княжны превратилась в развалины: главные церкви (Сен-Жюльен-ле-Повр, Сен-Северен, Сен-Бак, Сент-Этьен-де-Гре) с IX века стояли разграбленными, так и не восстановленными; дома, лавки, проезды и улицы Ситэ изрядно обветшали. Короли франков предпочитали битвы и военные трофеи красивой жизни в столице. Остатки и обломки галло-римских построек все еще попадались на улицах Парижа: развалины стали частью стен и площадей города. Не осталось и намека на упорядоченное градоустройство Парижа, существовавшее пятьсот лет назад. Окраинные улицы (особенно левобережье) превратились в грязный лабиринт, кишевший домашними животными, заполненный фекалиями, что кучами скапливались между ветхими строениями. Вид Парижа в XI веке. Гравюра Адольфа Руарга (1810–1870). Библиотека иллюстраций Мэри Эванс
Вид Парижа в XI веке. Гравюра Адольфа Руарга (1810–1870). Библиотека иллюстраций Мэри Эванс
Начало второго тысячелетия от рождества Христова принесло столице Франции невзгоды и тяготы. Неурожаи стали причиной голода, крестьяне ради пропитания даже выкапывали трупы. Поколения безвольных королей лишили Париж последних признаков порядка и расстроили жизнь города. Жестокие законы Карла Великого продолжали действовать, на улице все еще можно было увидеть облаченных лишь в ножные кандалы преступников; обвиненных в распутстве женщин, раздев по пояс, секли плетьми, осужденным ворам, как баранам, перерезали горло. Но даже суровая длань правосудия не могла навести порядок в обществе, страдавшем от политической нестабильности и дорогостоящих войн. Историк Фернан Бродель назвал это время веком культурного и политического подъема Европы. Слова Броделя означают, что именно тогда «христианский мир» из религиозной доктрины превратился в политическую программу, объединившую культурный и жизненный уклад огромных территорий, раскинувшихся от границ северной Европы до восточного Средиземноморья. Начало процессу единения и развития земель было положено несколько веков назад, а пиком этого процесса стал союз франкского королевства Карла Великого и папского престола в Риме. Однако глобальные политические процессы не повлияли на жизнь улиц. Большинство парижан того времени были счастливы уже тем, что просто выжили: конец света, которого ждали на переломе тысячелетия, так и не наступил. Волнения в обществе не прекращались, новые церкви строились по всему Парижу, но не могли утешить страждущих. Горожане подавляли свои страхи, азартно и страстно предаваясь удовольствиям, музыке, вину и поэзии; мужчины и женщины, вспомнив древние традиции галлов, наряжались в одежды ярких расцветок, украшали себя золотом и серебром. Но вот регресс конца первого тысячелетия под аккомпанемент жалоб Анны Ярославны и гостивших в городе римских священнослужителей пошел на спад, и Париж начал свое превращение в великий город. Ключевую роль в этом сыграли таланты и политическая дальновидность аббата Сен-Дени и главного советника Людовика VI — монаха-бенедиктинца Сюжера. Под его руководством Парижу удалось наконец сконцентрировать всю государственную власть в своих стенах, были организованы профессиональные гильдии, установлены пункты оплаты прохода грузовых барж по Сене. Людовик был одаренным политическим и военным стратегом, он не упустил победу в войне с англичанами, не уступил политического преимущества феодалам Франции. Король доверил Сюжеру тридцать лет править Парижем в условиях относительной свободы принятия решений. Аббат стал первым из длинной череды волевых королевских министров Франции, ясно понимавших потребности внутренней политики страны и правивших твердой рукой. Сюжер, человек маленького роста и тщедушного телосложения, был весьма умен и гибок, умело приспосабливался к переменам и обстоятельствам. В 1137 году, не оставив наследника, Людовик VI умер от дизентерии. Сын Людовика принц Филипп погиб на улице из-за несчастного случая: его убила дикая свинья, одна из множества бродивших в те времена по улицам Парижа. В этой ситуации Сюжер позаботился и о троне: организовал выгодный брак Людовика Толстого (преемника престола) с Элеонорой Аквитанской, чем утвердил главенство Парижа над землями юго-западной Франции. Из-за всех этих политических маневров к 1165 году и к рождению Филиппа-Августа полуразрушенный и едва застроенный Париж уже обладал всеми задатками великой европейской столицы.
Король Божьей волей
Сразу после рождения Филиппа-Августа прозвали Le Dieu-donné, «даром Божьим». По одной версии, имя Филипп-Август означает, что принц родился в день двадцативосьмилетия правления его отца, когда всякая надежда иметь наследника покинула короля. Существует также легенда, которая гласит, что судьба новорожденного была предопределена: вечером дня рождения Филиппа у холма Святой Женевьевы две старухи подошли к студенту-англичанину и, смеясь, сказали: «Сей ночью Бог даровал нам королевского наследника, чья десница посрамит подобных тебе». К сказанному они присовокупили, что Филипп-Август пришел в этот мир, чтобы освободить Париж. В воскресенье 27 июля 1214 года пророчество старух сбылось: солдаты Филиппа разбили армию короля Англии Иоанна Плантагенета. До этой битвы англичане относительно свободно передвигались по Франции и даже добавили Гасконь и Гиень к списку своих притязаний во Фландрии и Нормандии. Битва при Бувине во Фландрии определила будущее Франции в той же степени, что и сражение, произошедшее здесь восемьсот лет спустя[36]. В том, что король Иоанн потерпел поражение, нет ничего удивительного: сражение 1214 года было кульминацией череды мелких столкновений, военных хитростей и уловок, к которым Филипп-Август годами прибегал в борьбе с Иоанном. В одночасье оказалась устранена угроза со стороны Плантагенетов важнейшим французским территориям, особенно Нормандии, расположенной в опасной близости от Парижа. Вместе с тем победа утвердила земли Франции в статусе страны, а Париж — в статусе столицы. По всему государству проходили празднества: горожане и селяне танцевали на площадях, в церквях звонили колокола и служили праздничные мессы. Крестьяне, никогда не покидавшие своих деревень, спешили в Париж, чтобы восславить короля и поглазеть на захваченных пленников. Эта победа стала гордостью нации, о ней помнили тысячу лет. Но еще задолго до знаменитой победы Филиппа Париж выглядел как державный город. Строительство мощной крепостной стены, задуманное Филиппом за двадцать лет до битвы, было завершено незадолго до сражения. Филипп очень гордился своей стеной и, несмотря на плотную занятость внешней политикой, принимал непосредственное участие в ее планировании, а когда бывал в Париже, посещал стройку, чтобы лично удостовериться, как идут дела. Оборонительное сооружение начиналось у моста Искусств на правом берегу Сены, полукругом охватывало Марэ, доходило до набережной де Турнелль на левом берегу и возвращалось к нынешнему Институту Франции, минуя бульвар Сен-Жермен. Сегодня хорошо сохранившийся обломок стены можно увидеть в Ботаническом саду в Марэ. Бастион длиной 120 метров или около того был найден в 1945 году, он лежал поперек детской площадки для игр. Сегодня остатки ограждения выглядят крепким, мощным и надежным укреплением, вечерами тень от него густа и черна. Опоясавшая город стена обеспечила Парижу сто последующих безопасных лет, во время которых на город не было предпринято ни единой атаки. Не менее важны для Филиппа-Августа были проекты строительства Лувра и крытого рынка Л’Аль. Филипп чувствовал себя стесненным старым дворцом на острове Ситэ, что и стало причиной начала строительства Лувра. Новый дворец был задуман отнюдь не помпезным, король вовсе не собирался поднимать свой престиж с помощью величественного сооружения. План Лувра предусматривал сооружение крайне практичное, призванное защитить город от набегов мародеров со стороны реки. Поперек течения Сены, с востока на запад, протянули тяжелую цепь, которую опускали, давая проход речному транспорту. На западной оконечности стены была поставлена внушительная башня тридцати метров в высоту: отсюда можно было наблюдать за подступами к городу и отражать нападения. Современники прозвали новостройку «louver», «крепость» на старофранцузском. Так появился форпост обороны столицы. Внутри стены Филиппа-Августа по разные стороны реки возвели две башни, Гран и Пти Шатле, обращенные фасадами друг к другу, они отмечали вторую линию обороны и надзора за прилегающими землями. Башни использовались как административные здания, а позднее — как тюрьмы (в качестве темниц они, собственно, и прославились). Древний louver сегодня можно наблюдать в подземном вестибюле современного Лувра. Идея построить рынок Л’Аль была вызвана необходимостью вывести хотя бы часть торговли с Греве — территории позади Гран Шатле. Долгие годы здесь размещались загоны для скота, кожевенные мастерские, красильни, живодерни и бордели под открытым небом, в этом месте царили жуткое столпотворение и антисанитария. Расчистка этой местности и снос древних окрестных кварталов предоставляли большее пространство транспорту, стекавшемуся на остров или двигавшемуся в сторону провинций. Загруженность речных транспортных путей также росла, пробки на Сене превратились в серьезную помеху торговле. Виноторговцам особенно сильно досаждали задержки поставок хмельного товара на городские рынки. Доки у берега, который позднее превратился в Гревскую площадь (сегодня — площадь Ратуши, Пляс Отель-де-Билль), реконструировали, но заторы у мостов, застроенных деревянными домами и лавками, стали почти непреодолимым препятствием движению по реке и даже создавали опасности на пути барж. Городские власти решили не строить новые мосты, а переместить столичную торговлю на север города. Мясники и торговцы рыбой расположились вокруг доков, чем продлили рынки до улицы Сен-Дени; набережную и мосты заполнили иностранные купцы, менялы и жулики. Король Филипп был человеком жестоким, и немало его почитателей-простолюдинов подражали ему в этом. В деловом и меркантильном Париже не было места для стариков, слабаков или немощных. Крестьяне боялись столицы, ведь, по их мнению, она кишела опасными преступниками и распутными шлюхами. Распродав товары на ярмарке, они со всей возможной поспешностью пускались в обратный путь к своим деревням. Филиппу-Августу удалось придать блеск политической репутации Парижа, продемонстрировать его военную мощь, вывести столицу Франции вперед всех конкурентов, не оставив городов-соперников даже в дальних странах. Столетие спустя после смерти Филиппа город все еще удерживал прочное положение, заняв достойное место в развернувшихся бурных событиях эпохи Возрождения.Изгои
Первой заметной переменой в городской жизни в новом тысячелетии стало вполне ощутимое ослабление пут жесткой общественной иерархии. Хотя у церкви и в миру существовало четкое представление о непреложной структуре общественного устройства (летописец Рауль Глубер определил общественную иерархию терминами «maximi», «médiocres» и «minimi»: король, рыцари, аристократия и их вассалы), в реальной жизни из-за политической раздробленности и наличия множества спорных территорий возникали неразбериха и произвол. Город был не так открыт миру, как могло показаться на первый взгляд. В столице к тому времени сформировалась еврейская община. Вернее, евреи населяли столицу уже в V веке (о евреях-парижанах упоминал и Григорий Турский), они веками торговали и селились на окраинах города. Именно евреи установили прочные торговые отношения с левантийскими странами, французскими городами и южными соседями. В 1119 году на Еврейской улице, которая, как и улица Лантерн, связывала Большой и Малый мосты, были заложены синагога и бани. Существовали еврейские общины также на улицах Скорняков и Вьей Драпери, а иудейские кладбища занимали дешевые земли левобережья, между улицей Лагарп и улицей Пьера Сарразена. Присутствие в городе евреев — еще одно свидетельство всемирной славы и богатства Парижа. Антисемитизм не заставил себя ждать. Уже рыцари первых крестовых походов, занятые сборами в Палестину, не доверяли евреям и опасались их влияния на экономику столицы: еврейские ростовщики ссужали деньги всем, кто был обязан жертвовать на «святые войны» — часто под грабительские проценты, — всем без разбора, даже каменщикам и виноделам. Недоверие быстро стало поводом для неприкрытого насилия: в 1180-х годах волна нетерпимости к иудеям прокатилась по всей стране. К концу века многие парижские евреи бежали из города, чтобы навсегда поселиться на юге, в Шампани, Бургундии или Эльзасе. Однако были и те, кто, несмотря ни на что, вернулся, вновь поселился в своих старых домах или нашел прибежище вблизи Гревской площади и рынков Шампо. Вот тогда, в начале XIII века, Париж и стал культурным центром французских евреев. Чтобы послушать великого учителя Иегуду бен-Ицхака, известного как рабби Сир Леон, властителя умов Еврейской школы Парижа, ученые евреи съезжались со всего мира. Крестовые походы, а затем святая инквизиция изрядно повлияли на умы христианской Европы, и антиеврейские настроения росли и воплощались в жестоких и исполненных ненависти выпадах. Кроме того, иудаизм смешивали с ересью катаров, охватившей всю юго-западную Францию. В 1242 году по приказу папы Григория IX на Гревской площади было предано огню двадцать четыре телеги талмудической литературы. Нередки были и убийства; в 1290 году еврея по имени Ионафан признали виновным в богохульстве и ростовщичестве и сожгли заживо. Евреев изгоняли, вырезали, оскорбляли, унижали, но они на протяжении всего столетия упорно возвращались в столицу. Париж нуждался в них, особенно в их финансовых талантах и деловой сметке. В поиске компромисса городские власти с разрешения монарха установили евреям ограничения на передвижения, сузив их мир до нескольких улиц: рю Сен-Мерри, рю дю Ренар, рю де Мусси, Сен-Бон и де-ла-Ташери. Позднее еврейская община заняла земли на востоке вплоть до рю Розье. В прошлом эта улица была внутренним бастионом стены Филиппа-Августа, а сегодня — сердце парижской общины евреев, этакий кусочек Тель-Авива в Париже. Это спокойный район, хотя порой и в нем поднимается волна напряженности. В памяти жителей частенько всплывают ужасы Второй мировой войны. В витрине ресторана «Дели Джо Голденберга» среди кулинарных рецензий со всего мира можно увидеть пожелтевшую газетную вырезку, датированную 1982 годом, с рассказом о том, как араб расстрелял семерых мирно обедавших здесь человек. Это лишь самый последний из антисемитских инцидентов, в целом же евреи за всю историю Парижа слишком часто страдали и были гонимы.Глава шестая Священная геометрия
В начале XII века в Париже существовало множество строительных проектов, но стало совершенно очевидно, что ему недостает большого храма. Город был полон паломников и священных реликвий, но так и не стал центромрелигиозной жизни страны. Громкие заявления священников и простых парижан о том, что столица является священным градом великой веры, без воплощения символа этой веры в камне были пустым звуком. Не менее серьезен был аргумент горожан о том, что без собора Париж не сможет стать настоящим оплотом христианства. Епископ Парижский долго добивался от властей решения построить новый собор; о том же мечтал «серый кардинал» Франции аббат Сюжер, который за год до собственной смерти, в 1150 году, передал строящемуся храму витражи (витражное окно с изображением Девы Марии случайно разбили в 1731 году). Решение построить собор имело и политическую подоплеку: Париж продолжал соперничать с Римом, и парижане не могли проигрывать в архитектуре. Следовательно, чтобы Париж воспринимали как религиозную столицу, ему следовало приобрести материальное воплощение статуса — новый собор. И вот за два года до рождения Филиппа-Августа, в 1163 году, на глазах крестьянского сына Сюлли, рожденного в долине Луары и ставшего епископом Парижским, в фундамент собора Нотр-Дам были заложены первые камни. Сюлли не только осуществлял надзор за стройкой, посещая ее ежедневно, но и из собственного кармана финансировал часть работ, тратил ренту, полученную от владений, разбросанных вокруг Парижа. Первым делом следовало разобрать развалины церкви Сен-Этьен, построенной еще при Меровингах, и прилегавшего к ней рынка. В 1180 году работы по расчистке территории и строительству начались и наконец появились очертания трансепта. Строители планировали возвести собор, который «станет над водами» словно огромный и величественный корабль». Внимательный взгляд заметит, что храм определенно возведен в парижском стиле, с акцентом на детали декора, а не на целостную монументальность образа (парижские мастера особенно гордились своим умением обрабатывать камень). В этом же стиле сооружены расположенные неподалеку храмы Сен-Дени и Сенли. Камень для строительства доставляли из Вожирара и Монружа. Для того чтобы обеспечить пути подвоза строительных материалов с берегов Сены, в лабиринте острова Ситэ проложили новые улицы. Лишь через десять лет Сюлли увидел алтарь, а сам собор строили два века, но с самого начала стройки жизнь на площади, на Паперти Нотр-Дам, и по сей день считающейся центром Франции, била ключом. Условия этой жизни были грубы и жестоки, не в пример строже условий конца Средневековья, описанных Виктором Гюго в романе «Собор Парижской Богоматери». Окрестности кишели проститутками, нищими и ворами, здесь часто вспыхивали эпидемии. Сена несла холеру, и болезнь частенько наведывалась в город, а запах мертвых тел разносился на десятки километров вверх по реке. Сюлли, однако, вопреки бедствиям, гордился своим достижением. В 1180 году сюда стеклись толпы, чтобы поглазеть на крестины Филиппа-Августа. Если говорить проще, то Виктор Гюго был прав: Нотр-Дам де Пари фундаментально изменил Париж. Самым примечательным стало то, что собор был самым высоким зданием, когда-либо возведенным в Париже: его было видно за несколько километров, — и слава о нем быстро разнеслась по всей Европе. Нотр-Дам стал эмблемой новой цивилизации. Парижане получили возможность подняться на галерею и впервые разглядеть свой город во всех деталях.Памятник концу времен
Один из сюжетов, развернутых в романе «Собор Парижской Богоматери», затрагивает мистическую ауру, присущую собору. Подобно прочим прогрессивным мыслителям XIX века, Гюго сочетал почти слепую веру в силу науки с интересом к оккультизму. В 1830-х годах к работам над собором привлекли архитектора Эжена Эммануэля Виолле-ле-Дюка. Под присмотром специально образованной комиссии, в которой состоял и Виктор Гюго, архитектор завершил реконструкцию к 1846 году. Несколько лет проект реконструкции критиковали за излишнее копирование средневекового готического стиля. Но справедливости ради стоит заметить, что средневековые фантазии пробуждаются при одном только виде древних камней[37]. Более всего Гюго занимала старинная легенда о том, что архитектура храма является примером воплощения сакральной геометрии. Так, молва утверждала, что окна, двери, главные входы и характер постройки в целом — это аллегорическая проекция тайн древней науки, которую иногда называют духовной алхимией или герметической философией. Воплощением зла в романе Гюго является священник Клод Фролло, попытавшийся разгадать тайну центральной части собора — символического портала. Здесь Фролло «даже поставил свою душу на карту ради того, чтобы принять участие в мистической трапезе алхимиков, астрологов и герметиков за столом, во главе которого в Средние века стояли Аверроэс, Гильом Парижский и Никола Фламель, а с другого края — затерявшийся на Востоке и освещенный семисвечником Соломон, Пифагор и Зороастр». Интерес Фролло к оккультной философии привел к трагедии, на примере этого персонажа Гюго показал беспомощность человека перед силами, движущими вселенной. Традиции подобного мировоззрения существовали на протяжении всей христианской истории и восходят к дохристианским временам, к эпохе греческих мифов, к поклонению почитавшемуся алхимиками Гермесу Трисмегисту, иначе египетскому Тоту, богу магии и письма, которому приписывалось авторство множества текстов, каковые маги Средневековья и Возрождения применяли в качестве наставлений для экспериментов и изысканий. Целью устремлений алхимика считалось получение философского камня, иногда именуемого также «зеленый лев». Говорят, что угол, под которым внутрь собора смотрит статуя ворона на левом портале, указывает точное местонахождение философского камня, якобы спрятанного в здании одним из первых епископов собора Гильомом Парижским. Огонь «алхимической философии» в XX век пронесли сюрреалисты под предводительством Андре Бретона. Это движение родилось на свет в Париже в 1924 году и стремилось возбудить «революцию умов»: изменить мировоззрение человечества так, чтобы мир вступил в новую эру. Сюрреалисты были религиозны, но питали ненависть к христианству: верили во Вселенную, где все противоречия сливаются воедино — в единую материю, описанную алхимиками. Пусть сюрреалисты не восхищались красотой собора, они были вынуждены признать, что Нотр-Дам наделен символизмом, и не только с христианской точки зрения. Языку алхимии сюрреалисты учились по самым разным источникам — весьма примечательно, что еще в юности Андре Бретон прочел Гегеля, Джордано Бруно и Рембо. Однако никто не был таким привлекательным и загадочным, как их современник Фульканелли. Существование реального Фульканелли не доказано, хотя достоверно, что карточка с этим именем появлялась в «Ле Шат Нуар»[38] на Монпарнасе и в других модных местах того времени. Самая знаменитая его книга, раскрывающая тайны собора Нотр-Дам, называлась «Загадки соборов» и была опубликована в 1926 году в Париже. Был ли Фульканелли выдуманным героем или ловким шарлатаном, мы не знаем, но его книги написаны весьма талантливо, полны туманных отсылок и таинственных намеков. Он стал легендой мира парижского оккультизма и психологических (духовидческих) экспериментов, культовой фигурой для сюрреалистов (ходили слухи, что Бретон тайно встречался с этой таинственной личностью и Фульканелли поведал ему о своей способности путешествовать во времени). Фульканелли сказал, что собор Нотр-Дам есть альфа и омега Парижа и «памятник концу времен». В современном Париже обитает небольшое, но заметное число парижан, завороженных языческой магией жителей Лютеции и Парижа, существовавшей на заре христианства в этих местах. Книжные лавки, торгующие оккультной литературой, сегодня процветают. Самые преуспевающие и всегда полные покупателей (например «La Table d’Erne-raude» на улице Юше в доме 21) расположены на левом берегу Сены, в тени собора Нотр-Дам. В глазах приверженцев магических учений это вовсе не выглядит случайностью. Земля, на которой воздвигнут храм, издревле почиталась как священная: здесь друиды творили свои таинства, язычники поклонялись богам. Образы древних богов и верований, продолжавших жить в предрассудках обывателей или практиках тайных обществ, нашли отражение на фасаде и в интерьере собора. Праздник Шутов — четырехдневная сатурналия, отголосок языческих ритуалов — носил явно оргиастический характер и проходил в соборе, при этом часто заканчивался убийством или групповым сексом, и власти терпели это вплоть до второй половины XVI века. Поэт Ален Жуффруа в 1992 году написал короткую работу о магической значимости Нотр-Дама, отдавая в ней должное Фульканелли. Жуффруа был секретарем Андре Бретона и хорошо знал нравы парижских сюрреалистов. Бретон и Жуффруа в компании приятелей ходили по церквям, чтобы посреди службы вслух засмеяться, оскорбив священнослужителей. Жуффруа в своей книге о Нотр-Дам вспоминает визит в старую церковь в Финистере в Бретани: престарелый Бретон сравнил ее с аквариумом. Через несколько лет после того, как Жуффруа выпустил свою книгу в свет, я встретил его и расспросил о том, какие рассказы ходили в среде сюрреалистов о соборе. Он ответил, что в городе, который кажется неизменным, перемены происходят ежесекундно. И нет тому примера лучше, продолжал он, чем Нотр-Дам: в зависимости от точки зрения в разные времена собор являлся то символом надежды, то знаком трансценденции, то Храмом Разума, служил то штабом инквизиторам, то приютом паломникам, то убежищем магам, то церковью императорам… …или обычной приманкой для туристов. Все зависит от точки зрения[39].Глава седьмая Любовники и ученые
К 1223 году, когда умер Филипп-Август, Париж стал культурной столицей Западной Европы. Репутацию эту город заслужил не высоким уровнем жизни, а интенсивной интеллектуальной работой. При короле о городе заботились, укрепив его оборону, но для чужаков он продолжал оставаться мрачным, полным болезней и распрей. Несмотря ни на что, город притягивал ученых, торговцев, политиков и поэтов, стекавшихся в прославленный Париж — столицу наук и искусства. Собрания городских библиотек, великолепные витражи, скульптуры и архитектура религиозных сооружений, разбросанных на Ситэ к югу от холма Святой Женевьевы и к западу от Сен-Жер-мен-де-Пре, были так же знамениты, как велики сами ученые мужи. Улицы были грязными, но архитектурные сооружения — величественными. Руины знаменитой церкви Сен-Поль-де-Шан, построенной в 1107 году на улице Сен-Поль в Марэ, — самого популярного религиозного сооружения XII столетия — можно видеть и сегодня. На площади перед Лувром можно лицезреть руины церкви VI века Сен-Жермен-л’Оксеруа, которая была скрыта под напластованиями пяти веков религиозного строительства. Прилегающие к площади улицы Претр-Сен-Жермен-л’Оксеруа и Арбр-Сек существуют с XIII века и более или менее сохранили изначальный облик. Они лежат на границе религиозного центра средневековой столицы Франции. Городу еще только предстояло стать великим мегаполисом, облеченным политическим влиянием, пока же этому мешали внешние факторы: в основном неуемная энергия англичан, в том столетии не раз приводившая островитян под парижские стены. Внутренний аппарат управления был испорчен излишней близостью к монархии, а восшествие на трон череды слабых королей Капетингов, одержимых религией, деньгами или собственной значимостью, ослабляло его все сильнее. Эти правители не считали нужным уделять внимание менявшемуся городу, его населению или бюджету. Филипп-Август, однако, приложил значительные усилия к улучшению повседневной жизни: образовал полицию, построил систему канализации. Выглянув из окна Лувра (ставшего к тому времени королевским дворцом), Филипп был столь шокирован ударившим в нос зловонием, что, по свидетельству его врача, немедленно решил вычистить Париж. Неподъемная задача для города, по улицам которого ходил домашний скот: системы канализации не существовало, а большинство жителей столицы избавлялись от нечистот, попросту выбрасывая их на улицу. Но это был священный город: в нем насчитывалось более двадцати церквей, собор и главный университет Европы. Взошедший на трон после Филиппа Людовик VIII умер в 1226 году в военном походе на юго-запад то ли от дизентерии, то ли от отравления. Его преемнику Людовику IX было всего двенадцать лет отроду. Своей набожностью и бесконечными молитвами король уже в том возрасте снискал славу самого благочестивого из рода Капетингов. Он часто постился и стал словно прозрачным от постоянного голода и воздержания, чем пугал приближенных. Его правление во многом отбросило Францию назад, а единственной «заслугой» стало введение в стране инквизиции. Людовик считал себя мистиком и был полным профаном в делах мирских. Его критиковали за уступку Англии огромных территорий согласно Парижскому соглашению 1259 года. Однако Людовика окружали талантливые и верные советники, чьими стараниями Париж и Франция достигли процветания. При Людовике начал формироваться эстетический образ Парижа. Например, в церковь Сен-Шапель, построенную Людовиком Святым, желавшим иметь возможность молиться в любое время дня и ночи, поместили самые важные реликвии Европы, в числе которых оказались терновый венец и частица креста, на котором был распят Христос. Церковь Сен-Шапель была образцом европейской религиозной архитектуры и церковного искусства. Парижская поэзия бурно развивалась, хотя, как правило, подражала, а иногда просто копировала песни поэтов Миди — Юга Франции. В обществе возродился интерес к классической литературе, особенно к Овидию. Умонастроения в культурных кругах Парижа тех времен весьма показательно отражаются в истории Абеляра и Элоизы. Строго говоря, хронологически события относятся к XII веку, хотя и стали известны всей Европе только к середине XIII столетия и считались предостережением от смешения возвышенной философии и плотских желаний. История эта преисполнена отвратительных оправданий жестокости и содержит множество мазохистских элементов, представляющих интерес для психоаналитика. Сюжет ее стал популярен во времена Ренессанса, да и сам Абеляр был портретом мыслителя тех времен, разрываемого страстными поисками истины, с одной стороны, и плотским вожделением — с другой. С назидательной целью легенду включили в длинную поэму «Роман о розе», которую начал писать Гильом де Лоррис, а закончил Жан де Мэн между 1275 и 1280 годами. Эта поэма явилась своего рода пособием по «искусству любви» (наследуя в этом отношении сочинениям Овидия) и философским осмыслением множества практических аспектов любви и брака. Чосер перевел на английский язык первую часть поэмы и большой отрывок второй, а подлинные письма Абеляра и Элоизы, по слухам, находились в Италии и принадлежали Петрарке. История любви Абеляра и Элоизы развивалась в относительно толерантном обществе Парижа 1100-х годов, но широкую известность обрела в 1250-х годах, когда Университет Парижа завоевал авторитет и определял, что есть вера, а что — ересь. Парижских интеллектуалов драма Абеляра и Элоизы привлекала сочетанием философских и теологических рассуждений с изощренными формами принуждения и запрета. Ее до сих пор считают точной картиной интеллектуальной жизни города во времена Людовика IX. Между тем вовсе не стоит называть ее историей любви.«Повесть слаще вина с медом»
Провинциал Пьер Абеляр приехал в Париж в 1106 году, чтобы изучать логику и философию. Париж только-только достиг пика славы интеллектуальной столицы. Со всей Европы стекались студенты в Парижскую соборную школу, чтобы постигать логику, философию и теологию под руководством архиепископа Парижского Пьера Ломабара, моралиста Пьера ле Шантре, богослова Пьера ле Ман-жера и прочих не столь ярких в тени холма Святой Женевьевы светил[40]. Абеляр уже изучал философию, будучи воспитанником Росцелина из Локминэ (местечко неподалеку от Бреста). И сначала Пьер увлекся росцелиновской номиналистической доктриной, согласно которой все происходящее на грешной земле является лишь слабым эхом совершенного разума Божьего. Прибыв в Париж, Абеляр начал свою учебу в Соборной школе у Гильома де Шампо. Вскоре, преисполнившись характерным для магистра наук снобизмом, Абеляр принялся вступать в дискуссии с Гильомом, критикуя как учение Росцелина, так и взгляды нынешнего учителя. Гильом де Шампо полагал, что все происходящее в мире материальном является сутью вселенной, а из этого следует, что личность формируется под воздействием стечения случайных обстоятельств. Абеляр, выступая против обеих точек зрения, создал собственную концепцию и стал преподавать сам, переманив учеников рассерженного и жаждущего отмщения Гильома. И в этот момент Абеляра настигла любовь. Священник собора Парижской Богоматери Фульбер нанял его в учителя богословия и философии для своей племянницы Элоизы. Молодой преподаватель еще до того снимал комнаты в доме Фульбера (довольно большом здании, которое можно и сегодня видеть на улице де ла Шануанесс на острове Ситэ) и не счел за труд таким способом отдать долг учтивости гостеприимному хозяину. Абеляр был самоуверен и тщеславен, не упускал случая похвастаться карьерой и блеснуть умом, был уверен, что производит неотразимое впечатление на женщин. Он был красив и знал толк в versi d’amore[41]. Элоизе было всего восемнадцать, почти на двадцать лет меньше, чем Абеляру, но девушкой она была лукавой, умной и, что особенно нравилось ученому, «полна того, чего ищет всякий любовник». Другими словами, девица была в соку и свободна. Дни проходили в любовных играх и беседах. Ипостась Абеляра-ученого отошла на задний план («поцелуи превозмогли слова разума», как писал сам влюбленный). Последовали жалобы студентов, что их преподаватель перестал готовиться к лекциям, не выдвигал новых концепций, а только перерабатывал старые идеи, да сочинял любовные стихи. Запутавшись, Абеляр на время забросил свои обязанности и увез Элоизу в Бретань, где вступил с ней в тайный брак, у них родился сын Астролябий. Однако подвижный и склонный к логическим абстракциям ум Абеляра-ученого не был готов к семейному быту. Фульбер уговорил его держать брак в тайне и вернуться к преподаванию. Что было противозаконно: в те времена брак рукоположенного клирика-ученого был делом неслыханным. Вернувшись в Париж, Абеляр совершил роковую ошибку: отослал Элоизу в монастырь Аржанталь на постриг. Фульбер, разумеется, решил, что Абеляр пытается избавиться от Элоизы навсегда. Дядя задумал месть: «Они сговорились против меня с яростной решимостью, — писал Абеляр, — и однажды ночью, пока я спал в своей комнате, подкупили одного из моих слуг и осуществили свою жестокую постыдную месть». Группа мужчин под предводительством Фульбера прижимала Абеляра к полу, а другие быстро отрезали оба его яичка. Даже для того жестокого столетия это было слишком. Исполнителей преступления (кроме Фульбера) быстро поймали и в наказание кастрировали. Абеляру это принесло мало утешения: да, он прославился, но благодаря «подпорченным» гениталиям, а не таланту и победам в дебатах. Стремительным взлетом к высотам интеллектуальной элиты Парижа молодой ученый нажил себе немало врагов, которые теперь получили повод глумиться над несчастным философом-кастратом. Сводя счеты с бывшим учеником, Росцелин опубликовал открытое письмо, в котором издевательски насмехался над увечьем Абеляра. «Определяющие мужчину органы отрезаны, — писал он, — и тебя нельзя называть Петрусом, теперь ты — Петрус с изъяном. Ты ставишь на своих гнусных письмах печать с изображением мужской и женской голов… Я собирался сказать про тебя много справедливых и очевидных истин, но, так как выступаю против неполноценного мужчины, не стану завершать и оставлю свой труд». Научный конкурент Абеляра Фулько составил для несчастного перечень плюсов кастрации: теперь он мог, например, спокойно пройти сквозь толпу замужних дам или играть даже с обнаженными девушками. Он советовал Абеляру держаться подальше от «тайных сборищ содомитов» и ерничал: «Блаженны кастрировавшие себя ради царствия небесного». Абеляр удалился в монастырь Сен-Дени, занял впоследствии пост аббата в обители Сен-Жильда в Бретани. Он снова обратился к изучению теологии и философии и, стремясь вернуть себе расположение высшего общества, принялся «заигрывать с интеллектуальным Парижем». В конце концов Суассонский собор осудил Абеляра за ересь: de jure за сомнения в хронологии церковного учения, de facto за то, что он умудрился сделаться врагом весьма влиятельного святого Бернарда Клервоского. Стараясь утвердить себя ученым мужем, вооруженным «орудием диалектического ума», Абеляр был повторно унижен личным приказом папы молчать. Абеляр так и не разлюбил Элоизу: в лесах Сен-Дени он воздвиг храм Духа-Утешителя, «Параклета», и посвятил его возлюбленной. Этот порыв раздул пламя скандала, на жизнь Абеляра даже покушались. В последние годы жизни злосчастных любовников их роман вступил в новый этап, отношения приобрели еще более пикантный характер, о чем свидетельствует их переписка. Первейшим же источником знаний о тех событиях является откровенная и горестная автобиография Абеляра «История моих бедствий», повествующая о философских спорах, путешествиях, страданиях, но больше всего о любви к Элоизе и «проклятой постели». Хотя произведение и адресовано загадочному «другу», оно явно обращено к Элоизе, которая, прочитав, взялась писать ответ. Повесть Элоизы бурлит сексуальностью, блещет интеллектом и выдвигает смелые мысли и идеи, за которые сто лет спустя ее сожгли бы на костре как еретичку. Интереснее всего то, что в ответ на холодные рациональные рассуждения Абеляра о святости и отречении от мирских утех Элоиза просит оставить женщинам «земные радости», которые Абеляр обещал лишь мужчинам. Девушка не желает возносить (или принижать, как она считает) женщин до статуса мучениц и святых. Она не побоялась назвать сексуальность двигателем любви: «Если звание жены священно или официально, — писала она, — я хочу занять место друга или, если не постыдишься того, наложницы, шлюхи». Откровенная сексуальность Элоизы — открытый вызов властителям дум той эпохи. Нет сомнения, что подобная женская смелость рано или поздно должна была столкнуться с мужским насилием. Элоиза была наказана вдвойне: она была лишена общества людей и — хуже того — искалеченного возлюбленного. Однако преступными отношения любовной пары сделал не секс (Париж того времени, образно выражаясь, сотрясался от наполнявшей его бурной сексуальной жизни), а то, что их поймали с поличным. Фульбер в глазах современников был неправ и излишне жесток, но, когда кастрировал Абеляра, в каком-то смысле поступил справедливо. История заставляла публику содрогаться от будоражащей смеси ужаса и пикантных деталей. Нет ничего удивительного в том, что история общества тех лет полна рассказами об отсечении гениталий. Некий Жильбер де Нога, например, в своих мемуарах повествует об ужасных пытках, которыми развлекался Тома де Куси, подвешивая жертвы за пенис, пока тот не отрывался от тела. Другая история рассказывает о том, как некая монахиня влюбилась и забеременела от молодого каноника. Ее заставили лично кастрировать любовника и лишь затем вернули обратно в обитель. Из фаблио[42] о распятом священнике мы узнаем о священнослужителе, которого некий скульптор застал в постели со своей женой. Пастырь бросился к распятию, раскинул руки и притворился Христом. Муж-рогоносец сделал вид, что не узнал священника и подправил «деревянную» статую Христа, отрезав несчастному «лишние» причиндалы — пенис и яички. Полную столь привлекательной для публики жестокости легенду об Абеляре и Элоизе поэт-современник с Юга, Жеан де Ниса, назвал «историей послаще вина с медом».Уличные бойцы и студенты
Менее склонные к романтизму современники вспоминали об Абеляре прежде всего как об отце-основателе Университета Парижа. Главным доказательством тому служит факт, что этот ученый первым обратился к диалектике, подкрепленной логикой. Балансируя на грани ереси, Абеляр отказался от всепроникающей примеси мистицизма в науке. Вторым доказательством служит то, что, оставив покой Нотр-Дама ради холма Святой Женевьевы, ученый привел философию из лона церкви в гражданское общество, где она прочно обоснуется на тысячу лет. Действительно, со смерти Абеляра пройдет совсем немного времени, а разрозненные группы интеллектуалов, собравшись вокруг холма Сен-Женевьев, сольются воедино и образуют гильдию — первый университет Парижа. В 1257 году капеллан Людовика IX Робер де Сорбонн создаст коллеж, давший имя Университету Парижа. К концу столетия Сорбонна была известна уже всей Европе. Изначально коллеж был основан для помощи неимущим школярам: на его территории проживало шестнадцать учеников разных национальностей. Однако очень скоро весь христианский мир начал финансировать учебное заведение, размах операций коллежа впечатлял. Сначала коллеж завладел зданиями на улице Перерезанной Глотки (как видно из названия, в этом районе промышляли воры и убийцы) напротив римских терм, позже занял улицы Дье Портес и де Макон, расположенные ближе к нынешней площади Сорбонны. Сначала репутация учебного заведения строилась на строгости, с которой студенты обличали ересь и противодействовали ей, как, например, влиянию монахов нищенствующих орденов на обывателей Парижа. Это мгновенно настроило против университета наживавшихся на легковерии и набожности прихожан аббатов и епископов как в Париже, так и в его округе. Антиклерикальные и бунтарские настроения Сорбонны проявились уже в дни ее основания. Но важнее всего то, что учреждение университета способствовало выдвижению столицы Франции на первое место среди городов Европы, как и постройка собора Парижской Богоматери, и обильные доходы городской казны от речной торговли. Мнивший себя главным конкурентом Риму, Париж завидовал влиянию папского престола. Мощь Рима составляла власть политическая, опиравшаяся на богословие, а Париж возвысился благодаря власти мирского интеллекта, главным образом бурлившего вокруг холма Святой Женевьевы. Именно здесь, в среде ученых мужей, собравшихся со всей Европы, формировалась мысль нового тысячелетия. Студентов и преподавателей университета интересовали отнюдь не постулаты, официально утвержденные церковью, а вопросы, ответы на которые еще не были найдены. В этом окружении, часто в горячих спорах и диспутах, рождались идеи и учения, определившие ход европейской мысли на века вперед. Становление университета шло неспешно и определялось более экономикой города и настроением общества, нежели развитием интеллектуальной жизни города. Абеляр, например, обрел популярность благодаря не доктринам, которые преподавал своим ученикам, а лекциям на открытом воздухе на рю дю Фуарр (в переводе «Соломенная улица» — намек на навесы, которые строили студенты) у подножья холма Святой Женевьевы. Но мысль об объединении всех школ и учителей не приходила тогда в головы ни студентов, ни преподавателей. Да и набор дисциплин мало отличался от того, чему учили во времена Римской империи: стандартный trivium — из грамматики, риторики и диалектики (ограниченной обычно одобренными церковью Платоном и Аристотелем) и quadrivium — из музыки, арифметики, геометрии и астрономии. Левый берег Сены почти полностью был отдан для жизни и учебы студентам и отделен от остального мира различными версиями разговорной латыни. Вместе с числом парижских интеллектуалов увеличивалось количество образованных ремесленных мастеров — mercatores, — проживавших в определенных районах города, в отличие от безграмотных ремесленников, чьи лавки были беспорядочно разбросаны по всему городу. Наряду с образованием братств, объединявших людей по общности интеллектуальных и профессиональных интересов, в гильдиях формировалось сознание горожан, отделявших себя от провинциального индивидуализма коллективным трудом. А когда мастера, объединившиеся в гильдии, расселились вокруг учебных заведений и монастырей, Париж начал обретать истинно городскую форму и сущность. Новый Париж стал городом-космополитом. Перенаселенная округа Кафедральной школы Парижа обозначила необходимость назначить studia generale, т. е. места обучения студентов разных стран — как это уже сделали образовательные заведения Болоньи и Салерно. Новые места встреч студентов и преподавателей образовали позднее Universitas magistrorum et scholarium, при котором в XIII веке существовало четыре факультета: богословский, церковного права, медицинский и гуманитарных наук. Студентов поделили на «нации». В XIII столетии студентами «Франции», помимо французов, считались испанцы и итальянцы; «Англии» — англичане и немцы; «Пикардии» — жители Голландии, Фландрии, Фламандии и Люксембурга. Университет стал прибежищем молодых интеллектуалов, часто вступавших в конфликт не только с простыми парижанами, но и с властями столицы. О горожанах студенты отзывались презрительно, прозвали их «Жак-Простак». Кличка намекала на то, что все горожане — глубоко провинциальны и стремятся удовлетворять лишь собственные животные прихоти. Первые известные историкам студенческие волнения зафиксированы в 1229 году в Сен-Марселе в пригородной таверне из-за высоких цен на вино. Возмущенные студиозусы были сильно биты соседями хозяина таверны, сбежавшимися на выручку товарищу. Школяры вернулись на следующий день уже вооруженные и с толпой, жаждущей расколотить пару голов. Драка переросла в широкомасштабное уличное сражение, охватившее весь район и изрядно напугавшее прохожих. В конце концов в драку пришлось вмешаться королевским гвардейцам, были убиты и покалечены многие студенты. Возмущенные студенты и преподаватели на время покинули город. Конфликт удалось уладить лишь после того, как власти обещали университету защиту. Студентов с трудом, но терпели: все-таки они везли в город деньги и поднимали престиж Парижа в Европе. Летописец Жак де Витри жаловался, что утомлен обилием иностранных лиц и манер, встречавшихся по всему Парижу, особенно вокруг университета на левом берегу Сены. «Англичане — хвастливые пьяницы, — описывал жизнь молодого университета де Витри, — французы, имея в виду всех, кто не рожден на острове Ситэ, — гордецы, слюнтяи и неженки; немцы сплошь дики и вульгарны; норманны суетны и хвастливы; пуатийцы — предатели; бургундцы глупы и жестоки; бретонцы ветрены и непостоянны; сицилийцы — тираны; ломбарды — жадины и злодеи; римляне — мятежники». Преувеличивал ли де Витри острого слова ради, мы не знаем, но улицы левобережья в округе университета были местом опасным и беспокойным, а объявивший себя столицей мира Париж — городом изменчивым и непостоянным.Глава восьмая Святые, поэты, воры
Тринадцатое столетие стало веком крайностей. С одной стороны, правление Филиппа-Августа благодаря военным победам, жесткому управлению и завоеванным территориям стало поворотным временем в истории Парижа и Франции. Никогда еще политический авторитет страны не был так высок. С другой стороны, то был век фанатичной веры в Бога. Общество начала XIII столетия, имитируя установившийся еще во времена Лютеции божественный порядок, делилось на высокородных господ, клириков и крестьян. Однако под напором среднего класса парижан, интересы которого разительно отличались от потребностей правящей верхушки, эта иерархия начала дробиться. Первым порывом монархии, столкнувшейся со смещением приоритетов в обществе, стало обращение к авторитету христианства, четко проявилось в правлении Людовика IX — Людовика Святого, канонизированного в 1297 году. Этот монарх был аскетом, его догматизм и жестокость (именно он ввел в Париже инквизицию и финансировал ряд кровавых и провальных походов в Святую Землю) более подошли бы современным серийным убийцам, нежели королю Франции. Несмотря на религиозный пыл монарха и демонстративное пренебрежение ко всему земному, Париж при Людовике IX процветал. В 1242 году король приказал построить Сен-Шапель, и Париж получил одну из самых красивых и загадочных церквей, поражающую воображение изящной работой по камню и росписью с изображением звездного небосвода. Взгляд, брошенный на низкий потолок нижней часовни, и сегодня заставляет почувствовать мистическую связь духовного и земного. Ничто так не являет связь материального и духовного миров, которая определяла умонастроения XIII века, как Сен-Шапель. После смерти Людовика Париж начал медленно терять былое величие. Отчасти это происходило из-за небрежения преемника Людовика Святого Филиппа III, прозванного «Le Hardi»[43]. Большую часть своего времени он проводил вдалеке от Парижа, участвуя в различных военных походах. Оскудение обострилось при Филиппе IV, взошедшем на трон в 1285 году и сильно унизившем город.Бунт среднего класса
К этому историческому моменту Сена делила Париж на три четко разграниченных района: Le quartier d’Outre — Grand-Pont (квартал за Большим мостом), Le quartier d’Outre-Petit-Pont (квартал за Малым мостом) и Le quartier de la Cité (Ситэ), названия вскоре сократились до La Ville, L’Université и La Cité (Ла Билль, Университэ[44], Ситэ). Районы существовали вплоть до разделения Парижа на 20 округов несколько столетий спустя. В Ла Билль находились торговые кварталы и дома самых состоятельных семейств Парижа: Барбе, Бурдонов, Попенов, Бонн-Филль, Пиз де О. Жили в Ла Билль и не самые богатые парижане, с менее звучными и более прозаическими и весьма распространенными фамилиями: Ле Гран, Ле Гросс или Буланже[45], но они не могли позволить себе арендовать больше одной комнаты или спали в одном помещении со слугами и домашними животными. Ла Билль входил в Фобур Сен-Дени, здесь и по сей день множество улиц сохранились почти неизменными — взять, к примеру, улицу Мале Пароле[46] (сегодня это улица Мовез Пароле — улица Скверных Слов) или рю де Ломбар (ломбардцы в те времена, как известно, были менялами). В Ла Билль работали около сотни итальянских банкиров (так называли ростовщиков, которых частенько изгоняли из города, если только они, подобно богатейшему человеку Парижа Гандольфо Арселли, не покупали себе право на постоянное проживание в столице). Район Университэ сильно отличался от Ла Билль. Правобережье перестраивали в соответствии с требованиями властей и торговцев. Здесь возводили солидные административные здания, везде, где возможно, прокладывали прямые дороги, строили перекрестки, облегчавшие движение транспорта и перемещение товаров. Левый же берег Сены развивался в соответствии с потребностями коллежей, церковных приходов, монастырей и монашеских орденов, здешних обитателей мало интересовал город, лежавший за пределами района. Даже торговля левобережья подчинялась академическим нуждам. Единственный в городе магазин чернил Асцелины де Ройе располагался на улице Сен-Виктор, а все восемь книжных лавок Парижа размещались на территории от улицы Нев-Нотр-Дам, пролегавшей буквально в тени великого собора, до улицы Скотобоен (нынешняя Муфтар) — главной улицы, ведущей к Латинскому кварталу. Считалось, что политический и религиозный центр города сосредоточен вокруг собора — на Ситэ. Величавое и роскошное здание Отель-Дье, знаковое для города место, стояло здесь же, напротив Нотр-Дам, а проживали в нем тридцать монахов и двадцать пять монахинь. Левый берег был соединен с островом Ситэ Малым мостом, а правый — двумя: Большим и де Мибрай (или «Половинчатым»), сходившимся с Малым мостом и обеспечивавшим прямое сообщение между левым и правым берегами Сены. Перебраться с одного берега реки на другой даже в эти времена было подобно переезду из одной страны в другую, от одного образа жизни к совсем иному. Бывали даже случаи, когда люди отказывались переселяться на другой берег, утверждая, что учиться на противоположной стороне нечему и смотреть не на что. В это время зародился так раздражавший благородное сословие Парижа класс буржуа. Впервые термин «буржуа» встречается в королевском документе 1134 года и определяет свободных бюргеров города, не подходящих ни под одну из ранее устоявшихся официальных социальных категорий: не подневольный крестьянин, не ремесленник и не аристократ. Париж населяли самые разные люди: нищие, крестьяне, ремесленники, студенты, торговцы, монахи, рыцари, аристократы — достаточно персонажей, чтобы наполнить целый мир. Буржуазия, таким образом, явилась новым феноменом в классификации королевской администрации. Более того, король и аристократия готовы были поделиться с народившимся сословием властью, так как буржуазия не была связана какими-либо клятвами верности и обязательствами. В эти годы буржуазия окрепла и развила сложную иерархическую структуру, различавшую членов общества по произношению, манерам и состоянию, а не по рождению. Тогда же в обществе определилась «высшая буржуазия» — класс, опасно приблизившийся к аристократии, подражающий ее манерам, но жестко отделявший себя от нее запросами и требованиями. Самые знаменитые семьи Парижа в определенной степени связаны с буржуазией того периода или произошли из ее среды. В столице в то время проживало примерно 100 000 человек, и приток мигрантов быстро переполнил город. Большинство новых домов были построены из дерева (потому оказались недолговечны, и сегодня их не осталось). Высокие, узкие и ненадежные здания были перенаселены, средняя площадь комнаты не превышала десяти квадратных метров, а все семейство буржуа, со слугами, животными и садиком перед домом, в среднем занимало около 80 квадратных метров. Большинство жилых помещений были обращены окнами не на улицу, а во двор, фасады зданий не превышали шести-семи метров в длину. В Париже было не больше двадцати влиятельных семей, но власть их была огромна. Все они искали сближения с расчетливой и состоятельной торговой буржуазией. Давшая свое имя нескольким парижским улицам семья Бурбонов, например, состояла с торговцами и речными купцами в союзе более тесном, чем с монархическим домом. То же самое можно сказать о семье Арроде, связанной матримониальными альянсами с Бурбонами и основавшей часовню своего имени. Даже богатейшая семья Парижа Жантьен, обустроившаяся в роскоши на улице Ламбер де Шиль (ныне улица Руа-де-Сисиль), считала необходимым наращивать и укреплять добрые связи с новорожденным средним классом, а не с королевскими лизоблюдами. Именно нелюбовью и страхом перед новым классом объясняются некоторые странные законы 1294 года Филиппа Красивого, запрещавшие буржуа владеть каретами, носить мех горностая и драгоценные камни, иметь больше одной перемены одежды в год и покупать иностранные продукты. Однако законы эти не соблюдались, и в Париже процветали винные рынки, торговцы специями, портные и ювелиры со всей Европы. Чувство зависти Филиппа Красивого по отношению к новому классу парижан не мешало ему, тем не менее, транжирить деньги, которые буржуа приносили городу. В своем «Трактате во славу Парижа» Жан Жанденский описывает великолепный пир, который в июне 1313 года Филипп устроил в честь короля Англии Эдуарда II. За два дня празднования королевские гости поглотили 380 баранов, 200 щук, 189 свиней, 94 быка и 80 бочек вина. Париж, по словам Жана, был «городом, полным чудес», равного которому нет во всей Европе. Нет ничего удивительного в том, что при Филиппе Красивом город почти полностью обанкротился. Король был одержим строительством зданий и памятников самому себе — чего стоит только крыло дворца Филиппа-Августа на острове Ситэ — проект, который, несмотря на вложенные в него средства, так и не был завершен. Грандиозные проекты обошлись городу в огромную сумму. Когда денег не хватало, Филипп конфисковывал частные владения, отказывался от своих личных долгов и учредил новый, крайне непопулярный налог на ведение дела в черте города (maltôte). И, словно этого мало, чтобы повысить доходы короны, он лично отдал приказ тайно уменьшить количество золота в монетах страны.Неотесанный бык
Отчет о переписи налогоплательщиков Филиппа «Le Livre de la Taille de Paris» («Книга податей Парижа») в деталях описывает столицу. Из этого компендиума мы видим, например, что на улице Кинкемпуа, проходившей неподалеку от собора Нотр-Дам, вполне гармонично уживались рыцари, смерды, слуги и ремесленники. Имена горожан звучат со старинным простодушием — здесь каждый определялся, как в деревне, по происхождению или профессии: например, Жанно де Нантерр (Жан из Нантерра), Жеан ла Норманн (Жеан-нормандец), Робер ле Макон (Робер-каменщик), Жюльен де ла Рюэль (Жюльен с маленькой улочки). Женщин различали примерно так же: дама Агнесс или дама Ажас ла Савоньер (госпожа Ажас, делающая мыло). Это был город простых людей, где провинциальный трувер[47] Рютбеф бродил по улицам и издевался над жадными горожанами, жуликами-политиками и злыми священниками. У него это получалось очень даже неплохо; может, оттого, что Рютбеф сам был провинциалом. Родился он примерно в 1230 году в Шампани, а в 1248-м приехал в Париж с целью поступить в университет. Здесь он тесно общался с «голиардами» — бедными клириками, которые, несмотря на всю свою образованность, не могли найти работы ни в лоне церкви, ни при дворе и имели привычку громко стенать и сетовать на латыни на свои беды. Возможно, именно эти разочарованные мудрецы дали поэту кличку «Рютбеф», «неотесанный бык», символизировавшую поведение и статус провинциала в столице. Вскоре трувер забросил учебу и подался в уличные жонглеры, выступал на рынках и площадях вокруг холма Святой Женевьевы. Жонглерами называли всех уличных актеров (от латинского «joculatores» — игрок или актер), в каком-то смысле прямых потомков мимов и гистрионов — музыкантов, певцов, акробатов и трубадуров, странствовавших по городам Священной Римской империи. Рютбеф писал сатиру, споря с окружающими и самим собой. Он не закрывал глаза на тот факт, что средний парижанин — это помесь эгоизма и жестокости. В своих «Поэмах о несчастьях» (Les Poèmes de L’Infortune) Рютбеф создает портрет жестокого города, далекого от великолепия королевских дворцов. Замысловатые, а иногда гротескные стихи созданы в форме обращений-причитаний, какими нищие выпрашиваютподаяния. Они блестяще сочетают истинную поэзию и пафос, с которым Рютбеф клеймит себя как неизлечимого игрока, «не помнящего горя соседа, но лишь собственное свое». В Париже Рютбефа беднота живет в сознании близости собственного конца: они пьют («выпивая целые реки»), едят («обжираясь надеждой») и прелюбодействуют («словно крысы в стогу») с демонической энергией проклятых. Однако Рютбеф мог быть сердобольным. В стихотворении «Бродяги с Гревской площади» он сочувствует бедняку, который «не имеет одежды и обуви, а его кусают черные и белые мухи (снег и град)». Важнее другое — отличные от традиционной поэзии того времени стихи Рютбефа обращаются напрямую к «бродяге» (бедняку или крестьянину), одобряют и порицают его. Такое прямое обращение и участие в жизни простонародья проявится лишь двумя столетиями позже в стихах Франсуа Вийона. Именно Рютбеф стал основоположником традиции парижского поэтического направления, эхом которого отозвались «смердящие тени» мрачного города Бодлера.Полиция и воры
В Париже Рютбефа царило беззаконие: убийства и ограбления были делом привычным, а проституция — неотъемлемой составляющей жизни столицы. Поэт не раз в своих стихах язвительно обращался с просьбой к королю: уж, коль нет возможности покарать «честных мужей» города, то пусть хоть не мешает. В XIII веке правительство все же попыталось навести общественный порядок. Одним из самых видных достижений Филиппа-Августа, например, стала организация эффективной полицейской системы. Началось все в 1190 году с назначения чиновников-бальи, которые должны были, пока король и его приближенные находятся в крестовом походе, поддерживать закон и порядок в городе. На деле эти чиновники не столько стояли на страже законности, сколько предотвращали диверсии, стали своеобразными телохранителями Филиппа. Бальи часто называли «Les Ribands»[48] или «Ribauz» — словом этим, связанным с английским «ribaldry»[49], называли солдатню, появлявшуюся после военной кампании на завоеванных территориях для насилия и грабежа. Вскоре это выражение распространилось в Париже как определение распущенного и безнравственного поведения. По понятным причинам вооруженный и чванливый «ribald» не вызывал доверия у парижан. Относительный порядок на улицах появился лишь после образования в 1160 году поста «grand prévôt»[50] Парижа. Первым, в нужный для столицы момент, его занял некий горожанин по имени Этьен. Префектом обычно становился не урожденный парижанин (в XV веке им стал даже англичанин); это делалось, чтобы избежать малейших связей чиновника, занимавшего данный пост, с преступным миром Парижа. Но все равно префекты часто оказывались вовлечены в контакт с преступными бандами или королевскими телохранителями (тоже не отличавшимися чистотой репутации), их даже прозвали «roi des ribands» — «королями бесстыдников». Префекты не чурались убийств; в 1200 году поговаривали, что префект Парижа Тома был замешан в насильственной смерти пяти студентов из Германии. Нередко префектов отлучали от церкви, а то и вешали за ересь. Мрачным гротеском кажется история с префектом Гийомом де Тиньонвиллем, который в октябре 1408 года приказал повесить на виселице Монфокон двух студентов, осужденных за убийство. Университет и нанятые им законники вцепились в это дело и в мае следующего года выиграли апелляцию. Гийому было приказано снять тела повешенных, которые гнили на виселице всю зиму, и отвезти их в приход Ле Матьюрин и похоронить. Ужаснее стало наказание, на котором настоял один из университетских адвокатов: Гийом в знак раскаяния обязан был поцеловать обоих студентов в губы. Приговор был исполнен. Вопреки всем преступлениям и порокам чиновников, пост префекта закрепился в традиционной администрации Парижа, сложившейся еще в галло-римские времена, позаимствованной, в свою очередь, от греко-римской «politia» — формы гражданской администрации. В VII и VIII веках в Римской империи графы служили французским монархам своего рода управляющими: поддерживали порядок, ловили преступников, заботились о поставках продовольствия по приемлемым ценам, следили за моралью общества (проще говоря, контролировали проституцию) и судили народ по закону. Эти функции управления оставались более или менее неизменными вплоть до 1789 года. Важно помнить, что власть префектов исходила от короля, а не делегировалась общиной. Такой высокий пост неизменно сопровождала коррупция, и потому Людовик — невротический религиозный фанатик — поставил на него в 1261 году казавшегося неподкупным Этьена Буало (в некоторых документах его имя пишется как Буалевр). Первой задачей Буало было урегулировать городскую экономику (или хотя бы предпринять попытку), определить корпоративные границы гильдий и упорядочить «Livre de métiers» («Книгу промыслов») — перечень всего, что производилось, импортировалось, вывозилось и потреблялось Парижем XIII века. Для полицейского тех времен это была обычная задача. Перепись Буало обнаружила более 120 гильдий, в которых состояло более 5000 членов, обучавших помощников или учеников и производивших товары от пива до ножей; гильдии иногда делились на подразделения — например, одно подразделение отвечало за брожение хмеля, другое за продажи и развоз, и так далее. Никто не считал странным, что карманники, наемные убийцы и попрошайки создали собственные гильдии, очень походившие на ремесленные, — и те и другие были заинтересованы в том, чтобы заработать побольше, а трудиться поменьше. В провинциях парижских ремесленников считали пьяницами и лентяями. Яростные столкновения, вызванные одним недобрым словом или задержкой заработной платы, были обычным явлением. Под Буало действовал целый ряд «commissaries-enquêteurs» — малых магистратов, ведущих свою историю как минимум с VII века, и «sergents»[51] — жестких драчливых типов, занимавшихся рэкетом и дуэлями по найму. Типичный полицейский рейд происходил, как правило, ночью: группа приставов выезжала для проведения следствия о волшбе, завышении цен мясником или пивоваром или о прелюбодеянии. В черном одеянии и в бархатном берете, вооруженный большим мечом, в сопровождении почетного караула, Буало выглядел весьма внушительно и в собственной резиденции Шатле, и при дворе. Жуанвиль описывал его «таким строгим, что никакой преступник, убийца или вор не посмел бы остаться в Париже из страха быть повешенным или высланным». Короля сильно заботили городские проститутки, в обычае которых было носить на поясе яркие ленты. Особенно оскорбляла чувства Людовика привычка «filles publiques»[52] в голос поносить священников, отказавшихся воспользоваться их услугами. Обычным оскорблением тех лет было слово «содомит». Даже Буало не удавалось изгнать гулящих дев из города, он не сделал этого отчасти из опасения вызвать уличные волнения. Так что префект и монарх довольствовались иллюзией того, что в Париже все в порядке. К началу правления Филиппа IV городские преступники обнаглели до крайности. Строгие наказания ужесточались, но не из стремления к справедливости, а ради удовлетворения жажды толпы, требовавшей кровопролития и зрелищ. Воров, убийц и фальшивомонетчиков обычно вешали; прочих лишали зрения, пороли, клеймили каленым железом (не только плечи, но и щеки и лоб). Жесткого уложения о наказаниях не существовало, судьи руководствовались собственным пониманием происходящего. Никто из обывателей не решался выйти из дома после наступления темноты. Рядовые парижане не подчинялись закону и не зажигали по вечерам в окнах лампы (этот закон был первой попыткой властей осветить улицы), они баррикадировали двери и держали оружие под рукой. В Париже действовала гражданская стража, патрулировавшая ночные улицы, но эти патрули не были официальными представителями префекта и не вели следствие, а лишь поддерживали порядок, соблюдение законов и старались предотвращать преступления. Тесная связь и даже намеренное смешение полицейских и судебных функций на десятилетия определили методы поддержания правопорядка в Париже: в отличие от британской полиции, занятой в основном ограничением прав и запретами, парижские полицейские (и, следовательно, французские в целом) одновременно обеспечивали порядок, выступали в роли советников, судей и шпионов. После кровопролития времен Коммуны Ив Гюйо прекрасно определил отношения свободы и контроля в Париже: «Парижанин может делать все, что пожелает, но до тех пор, пока находится под полицейским надзором».Глава девятая Разрушая храм
В глазах парижских обывателей XIII века самым крупным преступником из всех был, конечно же, король. К 1300 году жестокость и финансовая несостоятельность Филиппа Красивого почти полностью уничтожили экономическую стабильность региона. Хуже того, король нарушил хрупкий политический баланс внутри столицы: он ополчился на тамплиеров, которые около столетия назад прочно обосновались за стенами города (нынешняя восточная часть округа Марэ). Эти земли были закрытым мирком, дожившим в том или ином виде до 1820 года, когда последние следы его были принесены в жертву современности. Останки огромной башни тамплиеров можно увидеть в северной части Марэ на площади дю Тампль. А все владения ордена занимали территорию между нынешними улицами дю Тампль (в 1235 году — Вии Милитии Темпли), де Бретань и де Пикарди. Рыцари-тамплиеры осели в окрестностях столицы в XI веке, построили приют для бедноты, больницу для раненых монахов-воинов и членов нищенствующих орденов, вернувшихся из крестовых походов. К XII столетию и с разрешения короны огромное владение, простиравшееся до Менильмонтана и Шаронна, — Вилла Нови Темпли — превратилось в важнейший образовательный и культурный центр, составивший реальную конкуренцию Парижу. К концу XIII века рыцари накопили огромный капитал, привлекавший неослабевающее внимание властей. Орден тамплиеров был основан в 1118 году, когда девять первых рыцарей приехали в Иерусалим и предложили королю Балдуину II обеспечить безопасный проезд пилигримов по его землям, чем до того занимались рыцари-госпитальеры ордена Святого Иоанна. Они недолго пожили в мечети Масджид-аль-Акса («самая дальняя мечеть» по-арабски) — третьей святыне исламского мира после Мекки и Медины. Мечеть эта была построена на развалинах храма царя Соломона и считалась центром мира (арабские и европейские карты мира тех времен подтверждают это единогласно). Имя ордену рыцари взяли от «Templum Domini», христианского храма, занявшего место под куполом мечети Скалы (невероятный акт вандализма, которым восторгался весь христианский мир — превратить мусульманскую мечеть в святыню католицизма). Рыцари приносили обет бедности, но в грядущих десятилетиях, а потом — столетиях, собрали огромное богатство. Сделали они это, став банкирами, финансируя крестовые походы в Святую Землю и эффективно управляя ими. Отказавшись оплатить одну из безумных экспедиций Людовика Святого в Египет, они нажили в лице монарха непримиримого врага. Алчность и тщеславие тамплиеров были общеизвестны. Их собственные походы в Святую Землю, по словам одного историка, были одновременно «разрушительны» и «бесчестны» (что лишь подтверждает мнение специалиста по истории средневековья Жака Ле Гоффа — единственная польза от крестоносцев в том, что они привезли в Европу абрикосы). Филипп пользовался широкой поддержкой населения, ненавидевшего тамплиеров, когда объявил ордену войну. Рыцари были известными гордецами; а факт, что святые воины — содомиты, никого не удивлял, так как это считалось «обычным пороком» монахов и солдат. Поэт Гюйон де Прованс высказывал мнение большинства парижан, когда ставил рыцарям в вину их «orgueil» (гордость) и называл тамплиеров «cruels et méchants» (жестокосердными злодеями). Взаимоотношения между тамплиерами и жадным Филиппом поначалу складывались довольно мирно: в 1292 году стороны обменялись письмами, и король подтвердил «привилегии» ордена. Первый намек на усложнение ситуации относится к 1296 году, когда король приказал собрать с города в свою пользу сто тысяч ливров. Приказ, согласно обычаю, до сведения горожан довел префект Парижа, который был обязан собрать сумму налогов вне зависимости от того, справедлива она или нет. Рыцари отказались платить и после двухлетних препирательств в парламенте (существовавшем лишь с 1250 года и подчиненном королю) выиграли дело. В узком кругу король выказал свою ярость, но на публике держал лицо. Однако финансовый «гений» монарха вновь и вновь ставил столицу на грань банкротства. В 1305 году укрывшемуся в Большой башне Тампля от бунта королю надоело ждать. До того он частенько пользовался гостеприимством великого магистра Храма Жака де Молэ, и тот поведал Филиппу о сокровищах, которые его люди привезли из Иерусалима и с Кипра и хранили под башней. Филипп поклялся завладеть богатствами рыцарей. Филипп привлек на свою сторону слабого и безвольного папу-француза Климента и сумел обратить гнев парижской толпы против рыцарей, распространив слухи, что рыцари отреклись от Христа, плевали на распятие, приносили человеческие жертвы, предавались оргиям, были содомитами, практиковали суфизм, поклонялись демону по имени Бафомет и имели тесные сношения с Хассаном ас-Сабахом — главой клана ассасинов (одурманенных гашишем наемных убийц, жертвовавших собой без малейшего колебания и с невероятной жестокостью бившихся против захватчиков-христиан). По городу ходили слухи, что тамплиеры устроили «в пещере, вырытой под землей, темное святилище, где хранили идола в форме человека, покрытого человеческой кожей и с карбункулами вместо глаз». Демон Бафомет — возможно, искажение имени Магомета — послужил нарастанию исламофобии в христианском Париже. Обвинения в гомосексуализме также имели ориенталистские корни: христиане считали, что подобная любовь «не христианская». В потоке пропаганды встречались и крупицы правды. Конечно, рыцари в силу своей деятельности имели тесные сношения с сектами мусульман и не чуждались знакомства с герметическим учением. Они вполне могли читать герметические тексты Наг Хаммади, якобы боговдохновенные и утверждавшие, что Христос «не тот, кто был распят». Если конкретнее, то рыцари в силу закрытости ордена вполне могли практиковать собственные ритуалы и службы, что было чрезвычайно рискованно для добропорядочной паствы христианской церкви. Тамплиеры считали ниже своего достоинства оправдываться или опровергать обвинения и потому были вынуждены встретиться с инквизицией, отточившей искусство пытки на службе двум жестоким королям. За один только процесс было сожжено более ста рыцарей, каждый из которых гневно опровергал выдвинутые обвинения. Осведомленный об истинных мотивах королевской ненависти к рыцарям, папа лишь 13 апреля 1313 года решился выпустить буллу об отлучении тамплиеров от церкви, решение предательское и трусливое, принятое под давлением момента. В ответ на решение папы Жак де Молэ и его соратники отказались от данных ранее показаний, но все равно были приговорены к сожжению. На маленьком острове в центре Парижа — Острове евреев (ныне Иль дю Сквер дю Верт-Галант), поднимаясь к столбу на вершине сложенного костра, де Молэ выкрикнул проклятие королю и папе, и предсказал, что они не доживут до конца года. Папа умер месяц спустя от неизвестной болезни, а Филипп через несколько месяцев погиб от несчастного случая во время верховой прогулки.Вперед, в «сотадическую» зону
Оставленная рыцарями, окруженная растущим городом крепость — Тампль — простояла еще два века. Главную башню отводили то под содержание заключенных, то под размещение стражников, но большую часть времени использовали по прямому назначению — здесь возносили молитвы и продавали товары, поскольку усердно возделанные земли Ле Марэ (болото) продолжали расцветать. В XVI и XVII столетиях Тампль служил домом трем категориям французов — аристократам, ремесленникам и должникам, пользовавшимся привилегиями здешних земель, которые стараниями тамплиеров были освобождены от налогообложения еще в XIII веке. Тампль обрел известность и как приют разложения и разврата, где христианская мораль не почиталась: сексуальные оргии, безудержное обжорство и буйные попойки были здесь обычным делом. Столетие спустя, в 1712 году, философ и гурман, поклонник Рабле и искусный соблазнитель представителей обоих полов Филипп де Вандом назвал Тампль штаб-квартирой «духовного эпикурейства», сделав это место вдвойне достойным осуждения со стороны тех, кто подозревал обитателей Тампля в злонамеренных кознях против Парижа. Выражение «пить, как тамплиер» было очень распространено. Испанский писатель Хуан Гойтисоло в новелле 1982 года «Пейзажи после битвы» называет северную оконечность квартала, ныне — Тампль, или Ле Сентье, «сотадической зоной». Термин этот он позаимствовал у английского исследователя сэра Ричарда Бертона, применявшего его для описания земель к югу и востоку от Средиземного моря, где гомосексуальность процветала и была нормой поведения. Парижская сотадическая зона, по Гойтисоло, вовсе не является, как утверждают некоторые, исключительно районом гомосексуалистов. Это исторический и коммерческий центр Парижа, который неизвестен многим парижанам и приезжим, прогуливающимся по нему на пути к секс-шопам улицы Сен-Дени, торговому центру Л’Аль или шикарным большим бульваром — grands boulevards. С западной стропы находятся пассажи XIX века, так восхищавшие некогда Вальтера Беньямина и сюрреалистов. Треугольник Ле Сентье — от улицы Д’Абукир до площади Каир — сегодня считается сердцем текстильной промышленности. Этот район, протянувшийся до станции метро «Тампль», является «домом», если так можно сказать, бурлящей коммуны работников из стран третьего мира. Улицы на севере района населены в основном пакистанцами и афганцами, центральная честь — турками и курдами, среди звучащих здесь языков можно услышать все что угодно, от албанского до идиш. Тайные традиции этого района дожили до XXI века. Столетиями тамплиеры были связаны с законными наследниками французского престола, рыцарей всегда подозревали в сношениях с тайными обществами и подпольными организациями. Масоны, неогностики, нацисты, оккультисты разных мастей и поклонники Средневековья — все претендовали и претендуют на роль исторических преемников тамплиеров. Сюрреалисты и прочие группы авангардистов находили в легенде о проклятых еретиках вдохновение и тайну. Совсем недавно рыцари вновь стали популярны благодаря книге Дэна Брауна «Код Да Винчи», где автор представляет орден хранителем тайных знаний. Многие в современном Париже продолжают верить в эти легенды. Сегодня скопление таких «верующих» можно встретить в маленькой забегаловке «Бар-Табак де Тамплиер» на рю де Риволи, дом 35 (днем это букмекерская контора). Бар этот стоит на углу улицы де ла Ташри, ранее называвшейся Еврейской и переименованной Филиппом Красивым, который изгнал отсюда евреев и подарил район своему камердинеру Пувену. Сквозь клубы сигаретного дыма и бормотание телевизионной трансляции скачек вдруг замечаешь, что каждый сантиметр заведения посвящен теме тамплиеров. Здесь есть даже изображение статуи Жанны д’Арк, текст завещания Людовика XVI и фотографии нынешнего претендента на французский трон Людовика XX. Вот в таком необычном окружении встречаются современные энтузиасты теории заговоров, например, члены обществ «Milice du Christ» («воинство Христово») и «Ordre du Temple» («Устав Храма»), чувствующие себя наследниками рыцарей. Поговаривают, что бар расположен на месте штаб-квартиры рыцарей и что где-то под ним скрыты подземелья, ведущие в святилище темного божества Бафомета. В 1662 году неподалеку отсюда поэт Клод Ле Пти в своем «Paris Ridicule» славил тамплиеров за отказ от Божьих законов и решимость держаться собственного видения чистого мира (самого поэта вскоре повесили за атеизм). Неподалеку от «Бар-Табак де Тамплиер» находятся улицы, напоминающие о независимом нраве и склонности к содомии, которые приписывали тамплиерам: рю дю Тампль, рю Сен-Кро-де-ла-Бретоньер, рю Вье'лль дю Тампль и рю де Мове Гарсон. Это центр парижского движения гомосексуалистов: здесь они живут закрытым сообществом, здесь их нетрадиционная любовь кажется уместной, как нигде в городе.Глава десятая Восстания и бунты
В 1314 году в относительно молодом возрасте внезапно умер Филипп Красивый. Парижане были уверены, что смерть короля — следствие проклятия тамплиеров. Шок от потери монарха был усилен еще тем, что он правил, жестко контролируя жизнь столицы и парижан. При Филиппе город вырос. Только на острове Ситэ теперь действовало больше двадцати церквей. Париж, без сомнения, стал центром образования и религиозного паломничества всей Западной Европы, а в торговле сравнялся, пожалуй, с самой Венецией. И все это произошло даже несмотря на то, что единственной целью Филиппа было обобрать своих подданных. Ирония заключалась в том, что для эффективного грабежа ему пришлось создать ряд государственных учреждений, действовавших впоследствии еще очень и очень долго. Именно при Филиппе двор был поделен на три составляющие: королевский совет, правивший Францией, счетную палату (chambre des comptes), руководившую финансами, и парламент, ответственный за правосудие. Три административные ветви, подчиненные лишь указам короля, просуществовали вплоть до 1789 года. Внезапная смерть Филиппа только отсрочила неотвратимо надвигавшееся массовое недовольство правительством, умело обдиравшим простой народ как липку. Своему преемнику Людовику X Сварливому («Le Hu-tin») Филипп оставил столицу, исчерпавшую все моральные и физические ресурсы. То было, по словам Фернана Броделя, начало «сатанинского столетия»: казалось, все достижения предыдущего века канули в лету, а Париж вступил в бесконечную войну, окунулся в кровавую бойню, болезни и голод. Изменения в численности населения Парижа происходили в соответствии с несчастьями, обрушившимися на страну. Самым, пожалуй, крупным бедствием стал голод 1315–1317 годов, охвативший всю Европу и ошеломивший старшее поколение парижан, которые еще помнили, как город гордился изобилием товаров и продуктов. В 1317 году на экономику обрушилась новое испытание — споры о наследстве Капетингов. Внезапная смерть Людовика X оставила трон без претендентов мужского пола, а защитники братьев Людовика весьма преуспели в продвижении законов, запрещавших женщинам наследовать престол («Салическая правда» Хлодвига в действии). Так в 1328 году трон попал в руки представителя новой династической ветви Филиппа де Валуа. Амбициозный английский король Эдуард III, последний выживший внук Филиппа Красивого, ухватился за уникальную возможность и вверг Францию в хаос, а французскую монархию вовлек в череду конфликтов, известных нам как Столетняя война. Эта бесконечная война прямо и косвенно повлияла на враждующие стороны. Англичане после побед при Креси и Азенкуре обрели национальную гордость и величие. Захват Кале, который англичане удерживали еще два столетия, даровал британской экономике порты и производственные города Фландрии. И хотя в конце концов Англия проиграла войну и вновь стала островным государством, агрессивный захват земель во имя сюзерена и торговых побед станет впоследствии отличительной чертой политики Британской империи. Война изменила жизнь французов, укрепила не престиж, но обороноспособность страны, сблизила ранее обособленные регионы, например Пикардию, Гасконь и Нормандию: местное население было согнано с мест исконных поселений. Утративший былое величие Париж стал естественным приютом беженцев. Самое главное, Столетняя война подтолкнула рядовых парижан к необходимости взять политическую власть в свои руки. Будущее сулило городу дальнейшие тяготы, его путь был вымощен восстаниями, бунтами и локальными революциями. Перемены в обществе стали первым прямым вызовом королевской власти. Они были кратковременны, но сумели, однако, обратить внимание монархии на то, что это она зависит от доброй воли народа, а не наоборот. Высокие налоги, низкая заработная плата, нехватка продовольствия и забастовки еще ожидали Париж. Долгая и кровопролитная партизанская война с англичанами делала повседневную жизнь Парижа если не невыносимой, то весьма тяжелой. Многие горожане не определились, на чьей они стороне в этом конфликте, играли роль посредников, шпионов, информаторов или просто спекулировали продуктами. А пока суд да дело, английские войска, используя тактику выжженной земли, захватили территории вокруг Парижа; те крестьяне, что не были убиты или не умерли от голода, не имели возможности возделывать землю и добывать себе пропитание; они бежали под защиту стен столицы. Даже самые патриотичные парижане засомневались в правоте своих убеждений. «Эта проклятая война принесла столько горя, что мне кажется, будто за последние двенадцать лет Франция пострадала сильнее, чем за шестьдесят до того, — роптал очевидец событий. — Нами правят юнцы и глупцы». В 1330 году по Парижу прокатилась волна антивоенных демонстраций. Реакция «юнца» на троне не заставила себя ждать, Филипп де Валуа не знал жалости. Когда в 1348 году к городу подступила Черная смерть, парижане возопили о том, что терпеть нет мочи. Предвестником чумы стал огненный шар, пролетевший по небу над столицей. Вести об ужасах мора опередили знамение — рассказы о последствиях эпидемии, поразившей Марсель, стремительно докатились до Парижа. Чума мгновенно охватила город, количество смертей исчислялось сотнями в день. Перенаселенный лабиринт улиц вокруг собора Нотр-Дам превратился в смердящий склеп: трупы лежали прямо на улицах, их открыто обгладывали крысы (котов парижане перебили начисто, так как считали, что кошки являются разносчиками заразы). Бушевавшая больше года эпидемия сократила население столицы вдвое и полностью уничтожила речную торговлю. Все было именно так, как свидетельствует историк Ги Буа: «Словно какой-то гигант наподдал ногой по этому человеческому муравейнику». Мор был смертоносной смесью трех схожих болезней: бубонной чумы, сепсиса и туберкулеза. Болезнь, нашедшую благодатную среду в тяжелых испарениях Сены, по столице разносили блохи черных крыс. Навестивший в 1360 году Париж Петрарка был поражен увиденным. Здания разрушены военными действиями, улицы опустели из-за мора. «Я не узнавал города, — писал он. — Самое процветающее королевство превратилось в горстку пепла, если здание не защищено стенами и бастионами — оно разрушено. Где теперь Париж — великий город прошлого?»Восставшие
Весь век город бурлил заговорами и казнями, многочисленных бунтовщиков отправляли в ссылку, улицы кишели мелкими мошенниками, вершилось насилие. Карл V, взошедший на престол в 1364 году, был полон решимости навести порядок внутри столицы и по всей стране. Первым шагом в этом направлении стало укрепление и расширение оборонительных сооружений Филиппа-Августа и постройка новой городской стены. На левом берегу Сены возводить новую стену не требовалось, король приказал реконструировать остатки стены Филиппа-Августа; на правом же берегу, на север до Тампля, была сооружена новая крепостная стена, прорезавшая городские кварталы между воротами Сент-Антуан и Сент-Оноре (примерно между нынешними улицами Фобур Сент-Антуан и Фобур Сент-Оноре). Нынешняя вытянутость города следует направлению древней стены; транспорт на правом берегу Сены движется примерно по тем местам, где стояла стена — от ворот Сен-Мартен дороги повторяют ее контур. Аувр перестал быть центральным элементом оборонительной системы Парижа, тем не менее Карл все равно приказал укрепить его башни. В политической нестабильности, царившей в городе из-за войны, голода, разрухи и низких заработков, которых еле-еле хватало парижанам на пропитание, укрепление крепости служило не только для защиты горожан, но и для ужесточения внутригородского контроля. Новая стена оказалась бесполезной: бастионы и рвы стали пристанищем разорившихся крестьян и нищих, дезертиров, шлюх, сутенеров, жуликов, воров и профессиональных убийц. Как Карл ни старался избавиться от бандитов — écorcheurs, ночью они продолжали бесчинствовать на окраинах и в центре города. Пусть улицы были грязны, темны и извилисты — несмотря на все опасности, они были домом, местом проживания парижан. Во время знаменитого суда об изнасиловании в 1333 году парижан сильнее всего шокировал факт, что десятилетнюю девочку Жеаннетт украли прямо из дома отца. Соседка по имени Жаклин увела доверчивого ребенка и продала насильнику Ломбару. Народ ужаснулся, потому что все жители улицы считали Жаклин доброй приятельницей. Нашумевшая история укрепила мнение, что дьявол селится повсюду. Вокруг города, ослабляя столичные и провинциальные власти, все чаще вспыхивали крестьянские восстания-жакерии, спровоцированные голодом и высокими налогами и часто бесцельные: их зачинщики не выдвигали никаких конкретных требований. Казалось, ни у кого из преемников Филиппа Красивого не хватало ни ума, ни сил справиться с этими проблемами, предельно осложнявшими управление Парижем. Самым серьезным для королевской власти испытанием на прочность явился в середине XIV века некий почтенный и состоятельный делец, который, несмотря на свое прошлое добропорядочного горожанина, затеял поразительный для того времени бунт и поставил столицу на колени.Этьен Марсель появился на свет в 1320 году на улице Скорняков на острове Ситэ в семье менял и торговцев мануфактурой. Семья Марсель была давно известна в округе и заработала достаточно средств, чтобы образовать видный клан буржуа, обладавший связями с такими семьями, как Барбе, Кокатри и Даммартен (старшая дочь Даммар-тенов стала женой Этьена). Овдовев, в 1344 году он женился второй раз, породнившись с семейством Дез Эссар, одним из самых богатых и влиятельных в Руане. Благодаря обширным связям, политической хитрости и будучи яркой личностью, Марсель преуспел в делах и расширил свою торговую империю до Фландрии и Брабанта[53]. Марселя привлекала политика, он скептически отзывался о правящем монархе, внешней политике королевства (особенно в отношении Англии) и умении короля вести торговлю. В 1355 году Этьена назначили членом магистрата города, а затем избрали старшиной (префектом) торговой гильдии. Политически значимый и высокий пост префекта издавна доставался лучшим представителям династий буржуа, в том числе Бурдонам и Арродам. Марсель показал себя смелее, динамичнее и амбициознее своих предшественников. Во-первых, он обосновался в самом сердце городской коммерции, на Гревской площади, а во-вторых, выстроил систему управления, фактически лишавшую власти дофина Карла, который был регентом в отсутствие отца (Иоанн Добрый находился в английском плену). Марсель решил отобрать город у ленивых несостоятельных правителей и вернуть его народу. Он занялся организацией народной милиции на случай, если придется обороняться от англичан. Унижение регента усугубилось образованием Комитета национальной безопасности, полностью поддержанного буржуа. Новообразованный комитет захватил резиденцию регента — Лувр. Ярость масс подхлестнуло то, что Иоанн Добрый подписал с англичанами соглашение, согласно которому передавал им половину Парижа. Верные Марселю люди перебили охрану и советников регента, но, предварительно унизив, пощадили самого Карла: нарядили его в красный с синим колпак (цвета Марселя) и провели сквозь толпы народа. После всего случившегося дофин бежал в Пикардию. Собрав под свое командование около 3000 бойцов, Марсель взялся за укрепление и продление городских крепостных стен. Став в 1357 году полновластным правителем Парижа, Этьен подумывал о распространении восстания против короля в провинциях, но обнаружил, что Париж окружен и блокирован королевской армией. Марсель был вынужден отступить под защиту почти достроенных стен Парижа, но и тут его настигла армия бежавшего год назад регента, вознамерившегося вернуть столицу в свои руки. Буржуа переметнулись на сторону короля. Отчасти это случилось потому, что Марсель, обороняя город и поддерживая правопорядок, уж слишком полагался на наемников-англичан. Так и не достигнув критической отметки, волнения парижан сошли на нет. В ночь на 21 июля 1358 года на нынешней Английской улице, где тогда размещались вечно пьяные английские солдаты, тридцать четыре ненавистных чужака нашли смерть от рук вооруженной толпы. Сорок семь оставшихся в живых англичан горожане держали в заложниках до тех пор, пока городские власти не заключили в Лувр четыреста иностранных наемников ради их же блага. 27 июля Марсель совершил роковую ошибку: выпустил заключенных в Лувре солдат всего через несколько дней после того, как англичане по пути в Сен-Клу убили множество парижан. Даже верный соратник Марселя городской казначей Жан Майяр предал его: обвиняя Этьена в измене и сотрудничестве с англичанами, он обратился за помощью к королю. Именно казначей и его люди разыскали и казнили Марселя, а изувеченный обнаженный труп был выставлен напоказ в церкви Сен-Катрин-дю-Валь-де-Экольер. Наконец регент вступил в город. Восстание под предводительством Этьена Марселя стало предзнаменованием будущих мятежей и обнаружило все недостатки монархической системы управления Парижем и Францией. Но вызов, брошенный существующему порядку, вдохновлял зачинщиков последующих восстаний. Важен факт, что беспорядки, вспыхнувшие в феврале 1382 года в Париже из-за высоких налогов, порождены вполне «марселевским» нежеланием смиряться с несправедливым судебным произволом. Бунтовщиков тех лет прозвали майо-тенами: идя на бой с властями, они разбирали хранившиеся в Отель-де-Вилль боевые молоты, демонстрируя стремление «замолотить» сборщиков налогов до смерти. Живший тогда в столице флорентиец Буонакорсо Питти писал, что впереди восставших шли «popolo minuto»[54], парижские обыватели, молодые люди, студенты, ремесленники, слуги и безработные. Питти поражала их агрессивность и наглость: толпа нападала и даже убивала менял, богатых буржуа, полицейских и евреев. Воровство, насилие и убийство стали нормой жизни города, покинутого на время волнений представителями среднего класса, которые бежали в Авиньон под защиту папы. Возмездие короля, приступившего в 1382 году к наведению в столице порядка, было, разумеется, жестоким. Монарх поставил кровавые казни на поток, и подобный бесчеловечный характер отношений сильных мира сего и бедноты Парижа стал нормой на столетия вперед. Восстание Марселя по сей день многие считают стремлением к свободе, моделью «правления народного гнева», воплощавшейся в Париже вплоть до Коммуны 1871 года множество раз. Благородная и статная фигура Марселя, памятник, взирающий на реку со стороны Отель-де-Вилль, демонстрирует одновременно справедливость вышеприведенной точки зрения и историческую безграмотность. Безграмотность заключается в том, что Марсель имел склонность использовать жакерии ради собственной выгоды, заботился прежде всего об укреплении собственных позиций в обществе, а вовсе не о тех, кто следовал за ним. Он не искал справедливого или лучшего мира, а пытался вернуть золотой век 1200-х годов, когда Париж процветал и рос, когда правила элита торговцев, независимых от монархии. Идеи Марселя были обречены с самого начала из-за болезней, войн и голода, проредивших его собственное сословие и в конечном счете повергших Париж в такое духовное и материальное опустошение, какого город никогда доселе не знал.
Величайшей трудностью стало то, что вследствие эпидемий и военных действий, кипевших вокруг столицы, Париж оказался начисто отрезан от торговых путей Европы. Ни генуэзские, ни европейские торговые суда не входили в порты Франции без крайней необходимости, а соседи-конкуренты — Германия, Фландрия и даже Англия — активно расширяли пропасть между Парижем и торговой Европой. Жизнь Парижа тех времен можно охарактеризовать одним словом: беззаконие. В 1358 году университет направил официальную жалобу Карлу V на то, что вокруг рю де Фуарр, где проходило большинство лекций, ночью слоняются преступники, шлюхи, а также прочие «femmes malpropres»[55]. Каждое утро улицы оказывались заваленными фекалиями, залитыми мочой, закисшим вином и рвотой. На рю де Фуарр, Дье-Порте-Сен-Совер, площади Мобер и в других местах, чтобы не допускать подобную публику на улицы, были построены огромные ворота. Сами же студенты любили гулять на набережной Пре-о-Клерк, где ловили рыбу и устраивали шумные попойки. Попытка настоятеля аббатства Сен-Жермен в 1343 году покончить с безобразиями привела к кровавой стычке, слух о которой дошел до самого папы. Согласие так и не было достигнуто, и парижское духовенство добавило еще один пункт в длинный список претензий к университету. Карл V особенно заботился о культурной жизни столицы, и библиотека Лувра при нем пополнилась более, чем когда-либо. Сам Париж развивался вяло, и, как видно из пятой «большой карты» Парижа, к 1383 году единственными достойными упоминания новыми постройками были городские оборонительные сооружения и крепостные ворота. Сразу за стенами столицы, на месте нынешних Ла Вийетт и ворот Сен-Мартен, до лесов простирались пустынные земли. Здесь селились только голодающие бедняки, прокаженные и дезертиры.
Глава одиннадцатая Английские дьяволы
Среди бедствий, особенно сильно ударивших по Парижу и Франции, наряду с войной, голодом и смутами стояли слабость и глупость монархии. Хуже того, правивший страной с 1392 по 1422 год Карл VI был человеком неуравновешенным: казался то полным глупцом, то непредсказуемым безумцем. Скорее всего, сумасбродство Карла было настоящей патологией, какой-то формой шизофрении или энцефалита, но, как бы то ни было, эта неустойчивость психики короля отражалось на жизни всей страны. Король мог внезапно погрузиться в себя, мог впасть в бесконтрольную ярость, а однажды на охоте заколол мечом четверых придворных, которых заподозрил в измене. На один из официальных банкетов монарх явился одетым в костюм дикаря, чем шокировал и напугал гостей. К концу жизни Карл решил, что сам он сделан из стекла, и заставил вшить в свою одежду металлические прутья, которые должны были уберечь его хрупкое тело от соприкосновения с другими людьми. В довершение всех бед, воспользовавшись подточенным здоровьем монарха, его братья — герцог Бургундский, возглавлявший партию бургиньонов, и лидер арманьяков граф Арманьяк — затеяли бесконечную борьбу за влияние при монаршем дворе. Распря родственников быстро распространилась на вопросы внутренней и внешней политики, влияла на дела папского престола, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, не говоря уже о внутренних территориальных спорах. Для парижан следствия политических распрей в верхах усугублялись еще тем, что, в отличие от других городов страны, столица полностью зависела от короны. Монарх напрямую правил городом, и столице приходилось подчиняться любому его капризу. Раздоры в королевской семье начались с самого первого дня правления Карла VI, который взошел на трон еще мальчишкой, сразу после возвращения в сопровождении своих дядьев из успешного фламандского похода. Более 20 000 парижан поднялись тогда на городские стены, чтобы восславить короля-победителя. Каково же было их удивление, когда глашатаи объявили, что громкие приветствия беспокоят монарха и всем следует разойтись по домам. На следующий день в город вошли ожесточенные военной кампанией солдаты: они арестовали, а затем казнили высшее руководство города. С Парижа причитался огромный штраф, горожан обложили высокими налогами. Жители столицы не понимали мотивов подобного отношения и списали его на помрачение рассудка сумасшедшего короля. Вовсе не случайно в столице в следующем году появилась Бастилия, ненавистное и наводящее страх сооружение.Во тьме
Вялотекущая ссора бургиньонов и арманьяков разразилась бурей вечером 23 ноября 1407 года, в четверть восьмого. На темной аллее у монастыря госпитальеров Сен-Жерве, неподалеку от ворот Барбетт восемнадцать бургиньонов зарезали графа Арманьяка Орлеанского. Тело было незамедлительно перенесено к церкви Блан-Монто, в самом сердце Марэ. Когда же Иоанн Бесстрашный, преемник старого герцога Бургундского, умершего в 1404 году, приехал взглянуть на труп, из тела внезапно забил фонтан крови, который, окатив Иоанна, заклеймил его убийцей. Общественное мнение, однако, было всецело на стороне бургиньонов. Иоанна считали крепким политиком, способным объединить нацию перед лицом внешнего врага и прекратить фракционную борьбу придворных. Карл VI к тому времени почти полностью потерял рассудок и в расчет не принимался. Бургиньоны заняли ведущие места в правительстве, обещали реформировать власть и облегчить налоговое бремя. Коррумпированных чиновников беспощадно увольняли и казнили. Но решительность бургиньонов граничила с бесконтрольной жестокостью, которая могла привести к печальным последствиям. В 1413 году бургиньоны уничтожили всех, кто остался из партии арманьяков в Париже. Трупы арманьяков, как вспоминал современник, «словно свиные туши, кучами лежали в грязи улиц». Такие умеренные в своих взглядах парижане, как префект торговой гильдии Жан Жувеналь, не могли больше оставаться в стороне и способствовали возрождению парижской партии арманьяков, которые в результате вновь захватили столицу и удерживали ее в своих руках вплоть до 1418 года. Вернувшись, бургиньоны в тот год устроили традиционную кровавую резню. Политические силы в Париже тех лет балансировали на грани хаоса. Такое положение дел было выгодно лишь англичанам — война между Британией и Францией как раз достигла апогея. И вот в 1420 году, заключив сделку с бургиньонами, англичане обосновались в столице. Рядовые парижане, уставшие от бесконечного конфликта, презирали захватчиков. Несмотря на плохое к ним отношение, англичане десять лет занимали правящие посты на правом берегу Парижа и ушли только после того, как проигрыш Англии в войне стал неминуем. Графы Солсбери, Саффолк и Уиллоуби обосновались на юге и получили обширные владения вокруг нынешнего Сен-Мишеля. Изначально англичане обещали стабильность и прекращение кровопролития. Но оккупация стала самым мрачным периодом, который дотого момента переживал Париж. Утвержденная таким трудом власть префекта (старшины торговой гильдии) и четырех его эшевенов (глав торговых гильдий) стремительно сокращалась: исчезла городская полиция, город больше не патрулировали по ночам, закон не удостаивался уважения, горожане в грош не ставили администрацию. Как только власти утратили контроль над виноторговлей, рынком дров, основных продуктов питания и речной торговлей, коммерция в столице увяла. Парижу оставалось рассчитывать на английское финансирование (которое, кстати, так и не было выделено) и усилия (крайне неохотные) британцев в поддержке правопорядка. Мало кто из горожан присягнул бы захватчикам добровольно (те, кто это все же сделал, были повсеместно прокляты), так что англичане вменили клятву верности в обязанность. Пока парижский люд голодал, английские захватчики чванливо разгуливали по городу. Воспоминание об оккупации столицы английскими дьяволами долго жило во французском языке в выражении «d’anglois couëz» — «хвост англичанина». Это речевой оборот родом из парижского фольклора, из рассказа о путешествии святого Августина в Рочестер, где его унизили: пришили к одеждам свиные и коровьи хвосты. За это Господь покарал англичан, дав им свиные хвосты — признак всей нации. После себя англичане оставили статуи, которые, как гласят легенды, словно по волшебству развалились на части в тот миг, когда французы одержали победу в битве при Кале в 1558 году. Все остальные следы оккупации, языковые и культурные, давно стерты из памяти горожан как нечто постыдное. Указатель «Английская улица», обозначающий место, где англичане в те времена пили, пели и буянили, уродуют с завидной постоянностью и сегодня — через шестьсот лет после оккупации. При англичанах Париж впал в невиданное дотоле беззаконие. Хотя оккупационные власти издали указ, предписывавший горожанам ставить в окнах на ночь зажженные свечи, из страха за собственную жизнь никто из парижан требование освещать город не выполнял. Так что к концу столетия единственным источником освещения в городе (как, собственно, и во времена Филиппа Красивого) служили огромные факелы Гран-Шатле, башни Несле и кладбища Невинно Убиенных на юге. Под покровом царящей в городе тьмы творились злодеяния, и стражники ежедневно по утрам рапортовали по меньшей мере о пятнадцати нераскрытых убийствах. Вместо того чтобы положиться на правительство, парижане искали знамений и обращали взоры и молитвы об избавлении от кошмара городской жизни к небесам. В августе 1400 года над городом прокатилась сильнейшая гроза, но осажденное население не смогло истолковать, что же тем самым разумел Бог. Очевидец утверждал: «Между пятью и шестью утра прогремел гром такой силы, что статуя Богоматери на алтаре в Сен-Ладре на крепком новом каменном постаменте раскололась на части, некоторые из которых вылетели даже на улицу. А в Ла Вийетт де Сен-Ладре молния ударила двух человек так, что их башмаки, одежда и куртки изжарились до корочки».Глава двенадцатая Пляски смерти
Повседневная жизнь Парижа в начале XV века была опасна, изменчива и со всех сторон теснима религиозными запретами, которые, по сути, никак не влияли на настроения населения. Город был перенаселен и грязен. С XII века, со времен Филиппа-Августа, за стеной Карла V, опоясывавшей город от ворот Сен-Мартен до Сен-Жермен, не было построено ни одного крупного здания. Преодолев войны и болезни, население выросло до 200 000 человек. В результате столица превратилась в лабиринт убогих улиц, ставших рассадником болезней. Парижское жизнеустройство того времени описано в произведении неизвестного автора «Дневник парижского буржуа» («Journal d’un bourgeois de Paris») — печальном, a порой горьком повествовании о городе, воюющем с самим собой, остальной Францией и английской оккупацией. Анонимный буржуа описывал глобальные события и международные войны, но львиную долю внимания он уделил обыденному ходу жизни. Дневник полон описаниями личных и домашних забот: упоминаются зимние морозы, нашествие майского хруща летом — все то, что заботило горожанина среднего достатка. Таким же образом автор описывает Столетнюю войну: изложение великого события маленьким человеком. Всякий раз, когда к столице подступал неприятель, оставшийся неизвестным горожанин одним из первых среди множества других жаловался на повышение цен на хлеб, на то, что сыра и яиц в продаже вовсе не найти. Но это вина не только англичан, которые — еретики! — варят мясо и убивают детей. Виновны в бедах также священники, солдаты и далекие от идеала патриотизма и святости аферисты, которым подражает молодежь, подобные Жанне д’Арк (хотя Жанна около Парижа появилась лишь мимолетно — во время штурма ворот Сент-Оноре в 1429 году, когда и была ранена). Дева сыграла важную роль в истории города тем, что вдохновила и придала Карлу VII мужества короноваться в Реймсе и объединить Францию. (Довольно интересно отметить, что сегодня Жанну своей героиней избрали французские ультраправые политики, собирающиеся в трудные времена и перед выборами у статуи Орлеанской Девы на рю де Риволи). Из дневника и других документов, относящихся к тому периоду истории, видно, что к началу XV века слово «парижанин» описывало не только жителя столицы, но и определенный стиль поведения и мысли. Книга «Le Mesnagier de Paris» («Парижская домохозяйка») была написана в 1393 году как пособие по правильному поведению благонравной жены в столице. Женщине следует изучать искусство танца и пения, уметь вести дом, выбирать слуг, одеваться, следует также знать свое место в обществе — на кого смотреть свысока, а на кого — подобострастно. Из этой книги становится ясно, что средний класс столицы не бедствовал: автор, к примеру, рассуждает на тему правильного приготовления оленины, апельсинов и даже таких экзотических деликатесов, как небольшой оранжевый корешок под названием «морковь». Хотя жене буржуа не стоит общаться с аристократами, она должна знать, что по положению стоит не ниже. Основными характеристиками «парижского менталитета» считались суеверие и мздоимство. Вера в божественный промысел и легкую наживу часто оборачивались и против обладателей «парижского» склада ума. В 1413 году Париж оказался в руках графов Баварского и Арманьяка, имевших к городу давние счеты. Их нельзя было подкупить никакими взятками. Неизвестный буржуа в своем дневнике описывает, как городское население переболело таинственным кашлем, который автор называет «tac» или «horion»[56]. От болезни никто не умер, но кашель был так силен, что у мужчин разрывались гениталии, женщины рожали до срока, и во всем Париже было не найти священника, который мог бы без перерыва спеть мессу. В болезни винили даже маленьких детей, вечерами бегавших за вином и горчицей по улице Муфтар и распевавших во все горло песенку со словами: «Что за кашель у тебя в дыре, старушка. Вот так кашель, вот так кашель в дыре». Почти всерьез парижане шутили, будто мальцы так прогневали Бога, что Он сделал воздух «больным и грязным, чтобы все прогнило» и наказал их «кашлем в дырке». Врачи не могли найти причину недуга, и парижане обвинили во всем двух графов, вставших лагерем под стенами города. Когда власть из рук графов Баварского и Арманьяка вновь перешла к городским властям, болезнь волшебным образом испарилась. Торговля пошла в гору, мессы служили без перерыва, шлюхи вышли на улицы, еретики запылали на кострах — город вернулся к обыденной жизни. Безымянный буржуа радовался, что вино в том году «не загустело и не воняло».«Проворный плут, приятный вор»
Как и многие города, миновав тяготы Столетней войны, Париж пустился во все тяжкие. Город закружился, по словам Франсуа Вийона, лучше других описавшего жизнь бандитов и бродяг, в «Великом карнавале», чуждом почтенным буржуа, которые славились своим скептическим отношением к шумным удовольствиям. Вийон был не чужд сантиментам. Он писал о бегавших за горчицей и хлебом в обед мальчишках, о судачивших, пристроившись у огня, старухах, о ночевавших в тепле пекарни нищих, о раскрывающих поэту тайны своей профессии шлюхах. Мир Вийона полон мелких чувственных удовольствий, которые знакомы и нам. Город Вийона прошел через мясорубку многолетних лишений, большинство горожан были не понаслышке знакомы с нищетой, болезнями и голодом. Поэт относился к столице, как крестьянин к своему наделу: ничто не чуждо, все попадает на перо — центр города, впавшие в нищету парижане, грешники и злодеи. Никто не назовет настоящее имя поэта, известного нам как Франуса Вийон, точную дату и место его рождения. Интересно, что крохи информации о нем, доставшиеся потомкам, отражены в полицейских отчетах, а те, в свою очередь, даже в лучшие времена не были достоверным источником. Поэзия Вийона — это апокриф, анекдот, родившийся не как литературное наследие грядущим потомкам, а нацарапанный спьяну на манжете, чтобы потешить хмельную толпу злосчастных студентов, дезертиров, карманников и бродяг, собиравшихся в каком-нибудь из питейных заведений левобережья. Котгрейв в XVII веке объяснял слово «Вийон» как «советник, изобретатель, хитрый или умный жулик, проворный плут, приятный вор» (таковым Франсуа и был). Вийон обучался ремеслу жуликов, был склонен к криминальным авантюрам и незаконным аферам. Он сидел в тюрьме, но не был приговорен к смерти, которой боялся панически. Смерти посвящены лучшие его строки, написанные грешником и верующим. В конце 1930-х Джордж Оруэлл навестил Париж, поселился в Латинском квартале на рю дю Пот де Фер и брал в качестве путеводителя по городу томик стихов Вийона. Париж Вийона невелик и простирается от моста Искусств до южной оконечности Латинского квартала. Поэт лишь изредка упоминает остров Ситэ или правый берег Сены. Франсуа родился близ Понтуаза, отец его безвременно скончался, скорее всего от пьянства. Мать прожила долгую жизнь (как минимум до 1461 года), но отдала мальчика на усыновление, и тот попал к Гийому де Вийону, капеллану церкви Сен-Бенуа-ле-Бетурн в Латинском квартале. Франсуа получил университетское образование, достиг статуса лиценциата, а затем и магистра искусств, зарекомендовав себя при этом своевольным и распутным малым. Тогда же Вийон начал сомневаться в том, как себя называть: частенько представлялся «maotre François des Loges, autrement dit de Villon»[57], «Franciscus de Montcor-bier» или «Moultcorbier». B 1451 году его исключили из университета, запретили изучать теологию. Скорее всего, это случилось после инцидента с древним камнем, названным «pet-au-diable» («пук дьявола»). Группа пьяных студентов выворотила этот камень из земли и перенесла его из поместья мадемуазель де ла Брюер. Власти отнеслись к «преступлению» весьма серьезно — в студенческие общежития на левом берегу Сены нагрянула вооруженная полиция. В ярости университетские профессора объявили забастовку, длившуюся два года (1453–1454). С отвращением наблюдавший за распрей церковных и светских (не очень различавшихся в те годы) властей, Вийон решил присоединиться к студенческому братству «деклассированных». Это была целая армия молодых людей без профессии, без средств к существованию, бездомных. В отличие от студентов, проживавших в зданиях университета или при коллежах, эти школяры, поступив в университет, селились и выживали сами по себе. Общество считало их пьяницами, развратниками и угрозой миропорядку, как и люмпен-пролетариев — бродяг и армейских дезертиров. Тогда же Вийон связался с «кокийярами» (coquillards) — опасными бандитами, дезертирами, грабителями и убийцами. В основном они были отбросами Столетней войны и, когда не грабили население, то обитали за воротами городов Франции. Кокийяры общались на непонятном обывателю сленге, похожем на язык цыган. Вийон только-только набил руку и почувствовал вкус к написанию баллад, когда 5 июня 1455 года он убил священника. Друзья поэта и единственные свидетели происшествия утверждали, что сделал он это в целях самообороны, сопротивляясь напавшему грабителю. Да, духовенство тех времен было не робкого десятка, но в версию соратников Вийона все же верится с трудом. Как бы то ни было, поэт решил не дожидаться суда (и почти верного смертного приговора) и бежал из Парижа. Вернулся он спустя год и, по-видимому, с охранительными письмами от приемного отца-юриста. Как поговаривали, поэт находился под присмотром видных кокийяров, которые к тому времени могли устроить в Латинском квартале беспорядки, когда им вздумается. Вийон никогда не стремился к славе, но был широко известен благодаря выступлениям перед своими приятелями voyous[58]; он умел свести воедино грусть, пафос и трагедию. Франсуа был завсегдатаем таверн, похожих на забегаловку «Дядюшка Лунетт» на Английской улице, известную буйными попойками английских студентов. Но самым предосудительным было то, что у «Лунетта» подавали ростбиф, маринованные огурцы и эль — все по английскому обычаю. Другими любимыми пристанищами Вийона и кокийяров были «Дом» у ворот Бодойер, «Большая кружка» на Гревской площади, «Бочонок» у Гран Шатле, «Сосновая шишка» на рю де ла Жувери на острове Ситэ. Вийон все больше утверждался и приобретал известность как поэт, но его непреодолимо тянуло к разного рода беззаконным приключениям. Под Рождество 1456 года он и четверо его сообщников (двое из которых — старые приятели по университету) задумали свое самое дерзкое преступление: ограбление часовни коллежа Сен-Наварре. Заговор был раскрыт, Вийон вновь бежал из Парижа, теперь — с намерением исчезнуть навсегда. Однако разлука со столицей была невыносима — поэт тайком вернулся в город и вновь предался хмельному разгулу. Бесшабашный образ жизни Франсуа не остался без внимания властей, поэта арестовали в 1463 году за уличную потасовку, в ходе которой он почти до смерти зарезал некоего Ферребука. Казалось, что теперь-то Вийона точно повесят за «богопротивную жизнь», но его снова приговорили к ссылке, в этот раз на шесть лет. Никто не знает, как и где умер поэт Франсуа Вийон[59]. Жизнь и творчество Вийона положили начало многолетней традиции Парижа иметь собственных поэтов, писателей и певцов, часто примерявших к себе роль «шута-самоубийцы» («le bon follastre»), последним из которых стал умерший в 1991 году от пьянства Серж Гинсбур, чьи знаменитые выговор, речь и «антиномия» полностью соответствовали «вийоновскому» образцу. В стихотворении «Repues Franches», принадлежащем перу неизвестного автора и современника Вийона, поэт назван покровителем городской бедноты, дезертиров, нищих и разгильдяев. Пьяный, жуликоватый и лживый город Вийона все еще жив. Сегодня он расположился на заброшенных берегах Сены, на неприглядных и неухоженных окраинах. Парижского клошара, благородного бродягу, воспетого в стихах и песнях, хранящего преданность gratte-gorge (дешевому вину) и любви к свободе, в последние годы уже не встретишь, но его сменила армия людей SDF[60], обосновавшихся в метро. Бесконечные путешествия внутри транспортной системы города парижских бездомных противоположны на своем пути графику передвижения горожан, придерживающихся установленных жизнью обывателя маршрутов: дом, работа, развлечения. Сложно обнаружить в существовании парижских бомжей благородство и поэзию, их не воспевают в песнях, но насилие и обреченность этого микромира созвучны Парижу Вийона.Карнавальные сцены
Автор «Journal d’un Bourgeois de Paris» был, несомненно, добрым человеком — он непрестанно выказывает сочувствие беднякам и искренне ужасается «обожженному трупу» Жанны д’Арк. Как и бунтарь Вийон, этот буржуа-мемуарист сострадает городу и с интересом следит за его преображением. Поэтому аноним-буржуа следует за толпами парижан, валивших поглазеть на цыган, впервые в 1427 году прибывших в столицу. В город цыган так и не пустили, и табор остановился в Ла-Шапель-Сен-Дени. Цыгане утверждали, что являются потомками малочисленного древнего народа, пришедшего из Нижнего Египта, и угощали любопытных горожан выдумками и рассказами о своих путешествиях, принятии христианства и ислама, встречах с папой, который будто бы приказал им странствовать семь лет, не ложась спать в постели, а епископам всех стран — выплачивать им по десять тысяч фунтов подъемных. Безымянный писатель был заинтригован этими чужеземцами, особенно — их искусством темной магии. «Их дети очень, очень умны, и мальчики, и девочки, — замечает он. — У многих, да почти у всех, уши проколоты, и в них висят серебряные серьги. Они говорили, что в их стране это знак благородного происхождения. Мужчины очень смуглые, волосы их курчавы; женщины же самые ужасные, каких вам когда-либо приходилось видеть: тоже смуглые, лица в шрамах, а волосы черны, как лошадиный хвост. Платьев они не носят, а на плечи набрасывают нечто, похожее на грубое одеяло, стянутое сверху тряпкой или бечевой; под накидкой же скрываются грязные халаты или сорочки. Несмотря на нищету, многие из них маги, которые, только взглянув на руку человека, могут сказать, что с ним случилось или что ждет его в будущем. Этим они сломали множество семей, так как могли сказать мужу: “Жена твоя тебе изменяет”, а жене: “Твой муж тебя обманывает. Хуже того, говорят, что у людей, которые вступают в беседу с ними, они магией и уменьем отбирают все деньги». Буржуа-мемуарист побывал у цыган три или четыре раза и даже с легкой нотой разочарования писал, что его так и не обжулили. Понятно, что подобное антихристианское поведение не могло долго оставаться безнаказанным, и обеспокоенный дьявольскими деяниями цыган епископ Парижа приказал табору уйти. И они ушли, не оставив проклятий городу, как показало время. Но Париж недолго оставался без новостей: прошло всего несколько недель, и буржуа доложил, что качество вина улучшилось, а цены на него упали, но главное, в столицу из Гуно приехала молодая особа 28–30 лет по имени Марго — лучшая теннисистка мира (тогда в теннис — «мяч» — играли на улице Гренье Сен-Лазар и у Пти Тампль). Марго играла обеими сторонами ракетки (веское доказательство того, что ракетки были в ходу уже в то время) и, как взволнованно пишет буржуа, могла стать достойным противником самым сильным теннисистам-мужчинам. Кроме всего вышеперечисленного, автор упоминает праздники, колебания цен на пиво и лук, ужасные кровопролитные стычки с англичанами, арманьяками и бандитами, прозванными «живодерами», они промышляли на дорогах между Парижем и пригородами. О большой политике автор говорит изредка и с явным неудовольствием. Мемуариста больше волнует движение транспорта по улице Сен-Мартен, на которой он проживал. Но изредка большая политика подступала к дверям его дома: в 1436 году на Гран Сен-Мартен внезапно появилось примерно три сотни англичан, они стучали во все двери и кричали: «Святой Георгий! Святой Георгий! Вы, французские предатели, мы всех вас убьем!». В конце концов они ворвались в дома «благородных, достопочтенных» Жана ле Претра и Жана де Крустеза и «закололи их десять раз». На улицах в те времена раздавались крики странствующих торговцев, нищих и хозяев многочисленных лавок. Хотя закон 1270 года запрещал последним затевать свары с покупателями, входящими в магазины конкурентов, торговцы назойливо приставали ко всем и каждому. Представители разных профессий выкрикивали короткие стишки и переговаривались на собственном сленге (отдельные словечки дожили до XX века). Женщины обычно продавали муку, фрукты, одежду, мебель и посуду; мужчины же занимались мясом, вином и более серьезными вещами. Городские глашатаи и стража криком объявляли о новостях, казнях и сообщали время дня. Да, жизнь Парижа и вправду походила на «Великий карнавал» Вийона — была живой, переменчивой и вместе с тем крайне жестокой. Буржуа-писателя волновали нужды «le menu people», простого люда, не имевшего никакого влияния не только на политику государства, но и на собственную повседневную жизнь. Он много рассуждает о ценах на продукты, рассказывает о жизни бедноты: «Они питаются плохим черным хлебом, иногда гнилыми фруктами и даже трупами собак». Во всем этом автор винит злых аристократов. Он бросает это обвинение как бы между прочим, такое суждение об аристократии бытовало среди горожан среднего достатка подобно легкому отношению к смерти.Танец смерти
Тела умерших на улицах в те времена не были редкостью. Вийон посвящал свои прекрасные элегии бродягам, замерзшим на набережных Сены в жестокие зимы. Но смердящие трупы умерших во время чумы вовсе не были романтичным элементом пейзажа, а прокаженные и голодающие, лежащие в уличной грязи, не вызывали возвышенных чувств. Умерших собирали вечерами, словно мусор; тела вывозили на кладбище Невинно Убиенных и складировали в прилегающих к нему склепах-галереях. Кладбище Невинно Убиенных в центре Парижа долгое время было неотъемлемой частью жизни города. Изначально это был римский некрополь, устроенный согласно имперской традиции у дороги, ведущей в город. Париж рос, втягивая кладбище в свои пределы, и в конце концов оно оказалось в центре средневекового города. Здешняя земля — довольно небольшой участок в центре правобережья размером со среднюю городскую площадь — считалась чудодейственной и якобы обладала такой силой, что «ела трупы», т. е. тела в ней сгнивали до костей за несколько дней. Смерти парижане не боялись, хотя, само собой, избегали ее как могли. Легендарное кладбище навещал Вийон и его бесчисленные поклонники — это был известный рассадник проституции и очаг прочих «подлых» затей и деяний. Сюда тянулись мелкие воришки, бродяги, назойливые торговцы вином. Власти же, под влиянием предрассудков или по иной причине, оставались равнодушными и игнорировали слухи о дурной славе района. Мелкие преступники и полиция понятия не имели о том, что некроманты и алхимики считали, будто эти земли наделены волшебными свойствами, приходили сюда ночами в поисках материалов для «научных экспериментов» (дом, предположительно принадлежавший алхимику Никола Фламелю, покрыт алхимическими символами и по сей день стоит на улице Монморанси — в двух шагах от кладбища). Безымянный буржуа в своих дневниках походя отметил появление в 1424 году на кладбище «Danse macabre» — серии настенных росписей, изображающих танец со смертью. Позднее эти рисунки получили широкое распространение, особенно в Англии, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге и Германии. Чаще всего настенные росписи помещали в церквях или на кладбищах, иногда вырезали в дереве. Смерть в «плясках смерти» изображалась традиционным жнецом, символом человеческого бессилия и слабости перед роком. Происхождение термина «macabré» туманно. В словосочетании его можно трактовать как имя поэта, писавшего под этим псевдонимом нравоучительные вирши. Более фантастические этимологические версии предполагают происхождение слова от сирийского арабского «meqabberеу», гробовщик, либо от библейского Маккавея, или от языческого бога Макаберея (в английском языке это слово встречается в соборе Святого Павла в надгробной надписи некоего Пэрона, казненного в 1439 году; в 1539 году могилу разрушили). Последняя версия самая маловероятная, ведь термин «macabré» присутствует уже в 1376 году в поэме Жана Лефевра. Каким бы ни было происхождение фразы «danse macabre», мода на этот тип изображений недвусмысленно указывает, что люди стремились взглянуть смерти в лицо. От устрашающего кладбища остались лишь арки галереи, в которой складировали эксгумированные останки, стоявшей вдоль улицы ла Ферроньери. В свое время склепы, полные останков, кишели крысами, обгладывавшими тела до костей. Сегодня эту территорию занимают бутики, ресторан, парфюмерный салон и огромный рынок Л’Аль. Подземные этажи торгового центра помещаются в земле, ранее принадлежавшей кладбищу.Глава тринадцатая Карты и легенды
Полторы тысячи лет с той или иной степенью художественной достоверности Париж изображали, вырезая на дереве, гравируя в камне, на холсте и в литературных произведениях. Но достоверных, подробных карт города не существовало вплоть до 1450-х годов. К этому времени Париж стал легендарным местом, известным каждому французу и иностранцу. Великая столица была полна опасностей, планировку ее улиц можно было представить себе с трудом. Провинциалы и приезжие торговцы были вынуждены прибегать к помощи горожан, нарываясь порой на услуги бродяг и жуликов, заводивших легковерных в самые грязные и опасные районы, обиравших их до нитки и бросавших простаков посреди пустырей. Если человек не был урожденным парижанином, что зоркие хищники быстро примечали по одежде, акценту или манерам, то добраться до требуемого места в Париже, не будучи ограбленным или убитым, или не заблудиться было почти невозможно. Конечно, римляне составляли военные карты, гражданские инженеры чертили планы города, но все эти документы не пережили перипетий постимперских преобразований. Нет ничего удивительного в том, что одна из немногих доживших до наших дней карт Лютеции создана в полиции, но позже выяснилось, что эта карта датируется 1705 годом и, подобно другим галло-римским картам, является подделкой. Идея составлять карты города пришла в Париж из Италии. Картография была популярна и раньше, с XII века она существовала в стране как форма искусства и не несла никакой политической или коммерческой пользы. Карта Венеции, автором которой был миланец Геллиа Магадиццо, была создана в 1100 году для дожа Орделаффо Фальеро. Этот документ лишь отдаленно отражает реальное расположение земель и вимеет, скорее, декоративное значение, что было тогда нормой. Но вот в 1494 году маркиз Мантуанский Франческо II Гонзага решил заказать для своего дворца изображение города — camera della città, — подобное фрескам. Выбирал он между Парижем и Иерусалимом. Выбор был легче, чем того можно было ожидать: Париж был ближе географически, важнее политически. Астролог и хиромант Париде Чезара отправил Франческо Гонзага письмо, в котором обещал «книгу, в коей ты увидишь не только изображение Парижа, но и множества других городов, а также принцев, графов, королей, императоров, пап, сюжеты историй и легенд — древних и нынешних». Это очевидный намек на изображение Парижа в труде немца Хартманна «Liber cronicarum», опубликованном Шеделем Нюрнбергским в 1493 году. Проблема состояла в том, что изображенный Париж был полностью плодом фантазии и измышлений — ни издатель, ни художник столицы Франции не видели. Первые хотя бы в некоторой степени отражающие реальность карты Парижа появились в 1550-х годах. Это были так называемые планы Мюнстера и Брауна; изображения города времен около 1530 года были вырезаны на дереве и впервые представляли вид столицы с высоты птичьего полета. Карты зачастую появлялись по необходимости: короли и правительства пытались хоть как-то представить изменчивый город целиком. С тех пор картографы столицы стали играть немаловажную роль в политической и культурной жизни Парижа. Имена Кеснеля, де Вассалье, де Гомбуста, де Бретеза, де Вернике в следующие два столетия приравнялись по значимости к литераторам и философам. Картографы не только смогли изменить взгляд парижан и приезжих на столицу Франции, но и существенно преобразили набор требований и ожиданий, который люди предъявляли городу. Первые карты заключали Париж в круг или овал; «круглый, как яйцо», — сказал о городе безвестный автор XVII века. Схема изображения была крайне необычна для нас: север и юг располагались по бокам, север справа, юг слева — вот так и случилось разделение берегов Сены на правый и левый. Да, такая проекция была неудобна, но имела неожиданный эффект: город выглядел как отдельный замкнутый мир. Ось север — юг на картах была повернута на 90 градусов через пятьдесят лет, к этому привела необходимость точнее отразить расклад политических сил в городе («меркантильный» правый берег Сены возвышается над «интеллектуальным» левым). Круглая схема Парижа дожила до XX столетия и нашла свое отражение в новых boulevards périphériques, направляющих городское автомобильное движение по кругу. За бульварами раскинулись не отмеченные на картах земли рабочих предместий — banlieue, которые в представлении нынешних парижан так же опасны, как леса, пугавшие городских жителей XV века. Первые карты города были призваны передать величие столицы, зафиксировать памятники, дворцы и церкви. В картах тех лет монархия представлена во всем величии, в отличие от жизни рядовых парижан — явно политический заказ. Картографы, подобные Кеснелю, охотно изображали город «не таким, как другие провинции или мир». Те же политические амбиции обнаруживаются в полицейских и военных картах столицы; они делят Париж на состоятельный запад и бедный, а следовательно, потенциально бунтарский восток. Бесспорно, карты прошлого и настоящего — не более чем официальная бумага. Тогда, как и сейчас, единственно честными путеводителями по городу были только инстинкт и интуиция. Очень часто XV век представляют эпохой регресса — концом эпохи процветания. Именно это утверждает авторитетный историк, гениальный Йохан Хейзинга. По его мнению, результатом войны, длившейся несколько поколений на французской земле, стало размывание и крушение старых идеалов. Закат Средневековья был жалок, огромная часть истории крошилась на части: в ответ на грандиозные перемены в большом мире начала перерождаться и Франция. В 1461 году Франсуа Вийон приступил к работе над «Малым завещанием», последней великой книгой Средневековья, вдохновившей в эпоху раннего гуманизма Рабле и его соратников. В 1470 году в Париж был доставлен первый печатный станок. Эти два события связаны между собой: оба свидетельствуют о быстрых переменах в системе ценностей и образах мыслей мира, толкавших вперед историю. В Париже закат Средневековья совпал с периодом реконструкции. В городе происходили великие свершения: Европа вновь обратилась к Италии и наследию античности; Париж шел другим путем, что поэтично и щедро показали первые картографы столицы: история вершилась «здесь и сейчас», прямо на улицах города.ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГОРОД СКОТОБОЕН 1461–1669 гг.
С чего бы мне хотеть жить в Париже? Я не умею жульничать, лгать и надувать других.Никола Буало (1660)
В старом Париже тридцать шесть улиц. Еще восемьдесят три — в Quartier Гульпуа. В quartier Сен-Дени их триста и шесть. Сосчитай их и успокойся. Дьявол знает их так же хорошо.Les cris et les rues de Paris (1567)
Всем известно, что сатана частенько навещает Париж. Появление его — предвестник бед. Именно по этой причине он чувствует себя здесь как дома.Рене Бенуа, священник прихода Сен-Марсель (1568)
Глава четырнадцатая Темный в сиянии света
Да, к периоду, который мы теперь рассмотрим, Париж умножился людьми и обогатился идеями. Только Лион, стоявший на пересечении дорог в Италию, Испанию и Германию, мог составить сколько-нибудь серьезную конкуренцию возрастающему влиянию столицы. В начале века южному городу удалось на короткий срок стать центром литературной и философской мысли страны. Такие видные фигуры, как Морис Сэв и Луи Мейгре, глубоко понимавшие культуру Италии и открывшие для Франции Петрарку и Бембо, трудились именно в Лионе. Тем не менее университетом этот город так и не обзавелся, и считалось, что лионцы больше озабочены наживой, чем философскими дискуссиями. Долина реки Луары приютила видных писателей: Ронсара, Дю Белле, Жана Бодена и Рабле. В Анжере, Орлеане, Бурже и Пуатье действовали университеты (в Орлеанском университете, например, преподавали гражданское право, неизвестное слушателям Университета Парижа). Но все же культурная жизнь концентрировалась в Париже. Суть вышесказанного вот в чем: хотя за XVI век Париж не произвел на свет достойных упоминания литературных талантов, привлеченные растущим мировым авторитетом города деятели искусства, философы и финансисты все равно приезжали сюда. В финале Столетней войны Париж окончательно закрепил за собой право называться культурной и политической столицей страны, а эта репутация, в свою очередь, привлекла предприимчивых дельцов, готовых инвестировать грандиозные архитектурные проекты. Париж в большинстве своем строился по итальянской модели: прямые дороги, вычурные площади, колоннады и мосты; состоятельные парижане подражали итальянской моде в одежде, еде, манерах и речи (французский и особенно парижский французский язык тех времен пестрели итальянскими словами и особенностями произношения). План города Парижа в 1548 году.
Себастьен Мюнстер, 1568. Национальная библиотека Франции
План города Парижа в 1548 году.
Себастьен Мюнстер, 1568. Национальная библиотека Франции
Город Возрождения не перестал быть темным и опасным. Когда же в 1499 году наводнение начисто уничтожило мост у собора Нотр-Дам, общественное мнение сочло это предзнаменованием: грядущее столетие не принесет ничего хорошего (забитые транспортом улицы и огромное количество людей, проживавших в домах на мостах, вынудили власти крепить мосты цепями). Однако, несмотря на все неприятности, парижане были преисполнены оптимизма. Дух и настроение поднимали мелкие усовершенствования, касавшиеся повседневной жизни: появились первые указатели (в прошлом горожанам и гостям столицы приходилось довольствоваться случайными надписями на дверях домов или искать путь наугад), кладбище Невинно Убиенных было украшено фонтаном, вполне обычным для века, влюбленного в роскошь и мишуру. Представляя ужасные условия городской жизни, удивительно сознавать, что самые трезвомыслящие и мудрые авторы тех времен так расхваливали столицу. «Прощай, Париж на Сене, — писал Марк-Антуан де Сент-Аман. — Великий город… где я выучился словам, которые острей меча». Удивительно, но и провинциальный Мишель Монтень расточал хвалы мрачному и опасному городу, называя его «славой Франции и украшением мира». Добавив изрядную долю иронии, автор продолжил: «Я нежно люблю его, со всеми пятнами и бородавками. Я единственный француз в этом огромном городе». Гораздо важнее, что даже упрямец Монтень неохотно признавал, что семена Ренессанса, будучи привнесены в Париж извне, упали на почву местных идеалов и традиций города. Писатели все модные прогрессивные идеи черпали в Европе, но, как только появлялись в Париже, превращались в чванливых самоуверенных парижан. Клеман Маро превозносил парижанок, которым поэты Средневековья (не только Вийон, заметьте) приписывали твердый характер и вульгарные предпочтения в сексе, и говорил, что эти дамы превосходят даже итальянок. В эру поклонения южным странам это звучало высшей похвалой. Сам город был зеркалом растущей самоуверенности парижан: восстановили и освежили Лувр, сохранив даже часть украшений времен Филиппа-Августа; возобновили работы над дворцом Тюильри; с новой силой развернулось строительство крепостных стен. Сорбонна разрослась и стала опорой столичной мудрости. Вера в собственные силы преодолела благоговение перед Италией, и Париж стали именовать «новым Римом».
Король-паук
Обычно Людовика XI называют последним средневековым королем и первым монархом эпохи Возрождения. Его коронация прошла с достойной Ренессанса пышностью, не характерной для тех времен. Короновался он в 1461 году в Реймсе — традиционном месте восшествия на престол всех французских монархов. На пути в Париж короля, во всеуслышание провозгласившего город столицей своего государства, встречали толпы восторженных граждан. Парижане, которым подобные церемонии были не в новинку, громогласно славили вошедшего в город через ворота Сен-Дени и шествовавшего до собора Нотр-Дам короля, но в то же время саркастические замечания насчет монархии и ее нестабильности не заставили себя ждать. Опасения скептиков лишь укрепил пышный въезд Людовика в город: король явился верхом, прикрывая голову зонтом из атласа, действо сопровождалось такими чудесами, как фонтан, бьющий вином и молоком, и искусственный пруд с гологрудыми «сиренами». Последние особенно понравились летописцу, который емко описал обнаженные бюсты — «droit, séparé, rond et dur» («торчащие, округлые и крепкие»). Король не удостоился столь красочных комплиментов. Нелепому шествию удалось-таки скрыть от мира подлость и политическую хитрость Людовика, необходимые для выживания в мутном течении придворной жизни. Достойный ученик Макиавелли, Людовик привнес в крут обязанностей и навыков монарха темное искусство лести, интриги и обмана. На заре его правления главными врагами власти стала мятежная знать Бретани, семьи Бурбонов, Орлеанских, Шароле и Дюнуа. Не менее опасными противниками были парижане. Во время церемонии коронации они явили доказательства своей неблагонадежности. Король повергал врагов «медом речей»: на бесконечных обедах и банкетах в своей резиденции де Турнель (он сознательно сторонился Лувра) Людовик улещал и увещевал, только чтобы усыпить бдительность. Амбиции Людовика, однако, простирались за границы Парижа: на Францию и далее в Европу, где его Франция должна была занять главные позиции не войнами, а хитростью. Этот монарх успешно плел паутину интриг в самых разных областях жизни, за что его прозвали «вселенским пауком». Именно при Людовике Франция приобрела шестиугольные географические очертания, которые мы видим и сегодня: наконец были подчинены Мэн, Анжу, Прованс и Бургундия. В сферу интересов Людовика XI входил и Неаполь: королю удалось установить добрые отношения с политиками Италии, что на протяжении веков сослужит далеко не добрую службу. А пока Франция обрела силу, обогатилась достижениями культуры Италии — истинной сокровищницы Ренессанса. Парижане, однако, не одобряли ни увлечения властей иностранцами, ни тем более высоких налогов. Хватало и того, что Людовик находился в постоянных отлучках. Нельзя сказать, что король вовсе не принимал участия в культурной жизни столицы. Более того, в решимости распространить в Париже книгопечатание он преодолел жесткое сопротивление гильдий писцов и книготорговцев, обладавших до той поры монополией на все тексты, продававшиеся в городе. Первые печатные книги привезли в Париж еще в 1463 году два немца — Фюст и Шеффер, однако гильдии немедленно конфисковали издания. Людовик, в свою очередь, выплатил немцам компенсацию в 2500 крон — значительная сумма и своего рода вознаграждение за доставленную в Париж новую технологию. В 1470 году в столицу Франции из Швейцарии по приглашению ученых Жана де Ла Пьера и Гийома Фише приехали два печатника и установили первый печатный станок в Сорбонне. Вскоре оба упомянутых немца-печатника обосновались на улице Сен-Жак, где открыли типографию под названием «Солейл д’Ор» («Золотое солнце»). Хотя первые издания выходили на немецком языке и набирались готическим шрифтом (шрифт поменяли лишь при Франциске I), книгопечатание быстро стало процветающей парижской индустрией. Еще одним следствием долгих отлучек из Парижа Людовика XI и его преемников (монархи воевали либо интриговали все чаще в Италии) стал светский вакуум, образовавшийся из-за отсутствия в столице придворной жизни. Эту пустоту заполнили буржуа, предусмотрительно скупавшие крупные владения по бросовым ценам. Аристократия, не приближенная ко двору, селилась на левом берегу Сены на улицах Сен-Андре де Ар и де Буши и в восточных кварталах правобережья, на улицах де ла Верь-ери, Сен-Кро-де-ла-Бретоньери, де Архив и Фран-Буржуа. Здесь их соседями стали не только семьи буржуа самого разного достатка, но и последние бедняки. Да, именно на этих улицах формировалось мнение, что монархия живет совсем другой, никак не похожей на жизнь простого человека жизнью. Монархия действительно мало влияла на развитие города в конце XV — начале XVI века. Тогда же сформировался «интеллектуальный» квартал, ограниченный улицами Сен-Жак и Жирон дель. Столичные финансисты и юристы облюбовали лежащие к северу от реки улицы Белых Плащей и Сент-Авой. Торговый люд вращался в округе рю Ломбард, улиц Старых Денег и Мариво. Местность эта лежала чуть к северу от башни Сен-Жак — приметного высокого здания, с высоты которого, как ходили слухи, при должном старании можно разглядеть злую искусительницу Италию. Кажется, что все французские монархи тех времен были поголовно влюблены в Италию. Сын Людовика Карл VIII любил эту страну так же сильно, как и отец, и, предприняв ряд стремительных военных походов, чуть было не захватил Рим. Преемник Генриха Людовик XII оказался втянут в итальянскую политику хитроумным папой Юлием II, верным учеником Макиавелли. Глава церкви планировал использовать военную мощь Франции, чтобы запугать венецианцев; как только военная кампания пошла наперекосяк, папа переметнулся на сторону Венеции, и силы Людовика были разгромлены. Несмотря ни на что, Италия еще долго бередила умы французов в целом и парижан в особенности: поведение, стиль одежды и манеру говорить парижские модники-аристократы копировали со своих южных соседей.«Париж — это не город, это целая страна»
Франциск I выделялся из толпы своих подданных благодаря высокому росту и пышным нарядам. Приняв корону в 1515 году, он въехал в Париж со стороны Сен-Дени и прошествовал до Нотр-Дам в сопровождении городских чиновников (gens de la ville), королевской свиты (gens du roi), двух отрядов пехоты и четырехсот лучников. Он выглядел таким же павлином, как и его предшественник Людовик XI, разодетый в камзол серебряного шитья и белую шляпу, украшенную драгоценными камнями; свежеиспеченный монарх швырял в толпу золотые и серебряные монеты. Франциск считал себя меценатом, силачом (король любил побороться с самыми крепкими придворными), талантливым оратором и писателем. Так что задачу по превращению Парижа в культурную столицу он считал приоритетной, а это означало, что интеллектуальная жизнь не будет более ограничиваться университетскими кварталами, культурным сердцем города станет, по подобию итальянского Ренессанса, королевский двор. В рамках этой программы был реконструирован и расширен Лувр: король вновь превратил его в центр политической жизни страны. С той же целью в восстановленных, ранее заброшенных особняках он учредил Национальную библиотеку. Франциск вел длинные беседы на латыни с богословами университета, учредил в Сорбонне кафедру богословия, пропагандировал в народе терпимость истинных гуманистов (на этой волне появились несколькоталантливых сатириков, среди них и Рабле). Он даже ходатайствовал за Маргариту Ангулемскую, чье «Зерцало грешной души» Сорбонна назвала ересью. Но зачастую поступки короля были наивны. Не мог Франциск, например, понять, за что сограждане-парижане откровенно невзлюбили приглашенного в Париж (дважды) Бенвенуто Челлини. Монарх считал Челлини гением, лучшим живописцем, изобретателем, ювелиром и скульптором своей эпохи. Челлини же своими действиями только настраивал горожан против себя: вооружив слуг и учеников, он силой изгнал префекта из его официальной резиденции у Пти-Несле напротив Лувра. На Челлини не раз нападали средь бела дня и на оживленных улицах, его таскали по судам. Но Франциск оставался верен и помогал в самых затруднительных ситуациях своему беспокойному итальянскому другу. Анекдот того времени пересказывает разговор, якобы имевший место между Карлом V и Франциском I. Карл спрашивает короля, какой из французских городов прекраснее всех. «Руан, мой дорогой кузен, — отвечает Франциск, — ибо Париж — это не город, а целая страна». Однако гордость за город не избавила Франциска от пикировок с парижанами, иногда очень опасных. Как всегда, основным пунктом разногласий становились деньги. По примеру своих предшественников Франциск увлекся Италией и, чтобы финансировать проекты, которые стали его страстью, обложил столицу высокими налогами. В 1523 году король отдыхал в «итализированном» Лионе, неожиданно ему пришло письмо с мольбой о скорейшем возвращении в Париж: английская армия быстро продвигалась на юг, и парижане приходили в ужас при мысли о повторной оккупации. По какой-то причине король отказался вернуться в столицу, хотя и сделал заявление о готовности отдать за нее собственную жизнь. Этого парижане так и не простили. В 1526 году Франциск попал в испанский плен, горожане весьма неохотно собирали выкуп, а когда, вернувшись, монарх заболел, парижане распространяли слухи о его смерти и охотно верили им. Частенько короля высмеивал выступавший на площади Мобер актер и драматург месье Крюш. Однако сатирикам следовало быть осторожнее: Крюш едва не умер после побоев, что устроили ему придворные, оскорбленные шутками и намеками на роман короля с дочерью члена городского парламента Лекока.Новый город
Архитектурный стиль Возрождения смог проникнуть в центр Парижа лишь после смерти Франциска в 1547 году. В первой половине XVI столетия новый стиль завоевал лишь окраины, где земля была дешевле и где не ощущались перипетии внутригородской политики из-за стен Парижа. Первым из таких пригородов, живших независимо от центральной власти, стал Фобур Сен-Жермен, протянувшийся от улицы Сен-Андре-де-Ар до ворот де Буши, Сен-Сюльпис и улицы Эколь Медисин. Местной достопримечательностью была ярмарка Сен-Жермен, проходившая ежегодно в феврале на стыке нынешних улиц де Буши, дю Фор и Эколь Медисин. Горожане всех сословий съезжались на ярмарку за разнообразными товарами и чтобы поглазеть на уличные представления: сюда прибывали купцы и театральные труппы даже из таких далеких земель, как Германия, Венеция и Англия. Застраивался город и в западном направлении: между церквями и аббатствами пролегли новые улицы вопреки тому, что здешняя грязь мало напоминала мощеные элегантные улочки центрального и восточного Парижа. Эти маргинальные кварталы протянулись от улиц Дракона, Сабо и Святых Отцов к площади Бусико, где и в XVI веке существовала колония больных проказой. На другом краю левобережья между улицами Грасиес, Ласепед, Жоффруа-Сен-Илер и Добентон также появился новый квартал. Ранее это были земли Кло д’Альбиак — виноградники и путаница узеньких улочек; сегодня этот район называется «Вилленеф Сен-Рене», полон современными зданиями и магазинами и знаменит колодцем Отшельника (le puits de l'Еrmitе), давшим имя улице, на которой стоит главная мечеть Парижа. Этот район вырос уже к концу правления Франциска, в 1545 году поглотил аббатство Сен-Виктор и улицы Муфтар, Сенсье и Ла Клеф. Развивающиеся предместья Парижа свидетельствовали о беспрестанном росте столицы, о том, что городскую жизнь на окраинах упорядочить вполне возможно. Бурные изменения на окраинах города заставили Франциска и его наследников переосмыслить основы организации жизни в столице. К примеру, стало очевидно, что экономическое состояние Парижа напрямую зависит от уровня санитарии и чистоты городских улиц, от того, насколько грамотно расположены площади и места для отдыха (эти же принципы лежали в основе разработки планов городов Италии времен Возрождения). Реконструкция моста Нотр-Дам и сооружение каменных набережных у Лувра и Шатле стали первыми шагами на пути рационализации подхода к градостроительству и создали возможность передвигаться по городу во время дождей и разливов реки. Не все в Париже шло гладко. Несмотря на благие намерения просвещенного двора и градостроителей, в городе бурлили страсти, старые и новые раздоры обостряла волна католического фундаментализма, вылившаяся в массовое кровопролитие прямо в сердце великой столицы.Глава пятнадцатая Выбирай: месса или смерть!
Начало XVI века отмечено первыми попытками властей взять жизнь города под свое управление и планировать городское развитие: первым делом было решено построить чистые улицы, унифицировать требования к фасадам, организовать места для отдыха горожан. Новые богатые кварталы Марэ и Сен-Жермен ничем не походили на грязный и изрытый узкими извилистыми улочками лабиринт центра Парижа. Эта картина для многих служила метафорическим образом французского двора, соединявшего величие с пошлостью, где на глазах шокированных гостей светский обед превращался в разнузданную оргию. Выходцы из более консервативных стран Европы, хранящих жесткую систему моральных ценностей (в основном из Германии, Швейцарии и Скандинавии), едко отзывались о политической коррупции и упадке нравов французского общества. Ценившие искусство в любви, на войне и на кухне выше пуританства парижане к упрекам пуритан-чужаков относились равнодушно. Сильнее всего шокировало стороннего наблюдателя соседство секса и религии в самом центре столицы. В начале 1500-х годов шлюхи привычно располагались на ступенях собора Нотр-Дам, переговаривались с прихожанами и шептали цены всякому, кто интересовался. Так было заведено издревле. Один из самых ярых женоненавистников в истории парижской литературы, поэт Матье, в «Ламентациях» (вторая половина XIII столетия) язвил, что, направляясь в церкви, парижские прихожанки лишь прикидываются религиозными, а в действительности горят страстью утолить свою похотливую натуру. «Продать у церкви лошадь — и то будет меньшим грехом, чем принять предложение одной из этих святош», — предостерегает Матье. Переведенная с латыни на французский язык книга Матье служила популярным справочником по сексуальным нравам даже в раннем Возрождении, когда проституция процветала, и, по свидетельству современника, в городе насчитывалось как минимум «шесть тысяч шлюх-красоток». Итальянец Антуан Атезан входил в число множества путешественников, стремившихся в Париж по единственной причине: поглазеть на «бесчисленных девушек, чьи манеры столь грациозны и соблазнительны, что увлекли бы мудрого Нестора и древнего Приама». Провинциалов Париж пугал. И не только размером, пестротой культурной жизни, жуликами, шлюхами и еретиками. В новом столетии Париж превратился в кровавое поле битвы двух религиозных конфессий: традиционного католицизма, связанного с Испанией, Италией и сильным кланом Гизов, и новой ересью протестантизма. Весь тот беспокойный век Париж оставался оплотом католицизма. Парижские власти пристально следили за событиями, разворачивавшимися в Германии: отлучение Мартина Лютера в 1520 году от церкви было встречено учеными мужами Сорбонны с бурной радостью. Когда, протестуя против коррупции и морального разложения католической церкви под управлением Рима и Мадрида, Лютер прибил свои девяноста пять тезисов к дверям Виттенбергской церкви, он был всего лишь монахом. Однако вскоре он стал одним из самых влиятельных мыслителей Европы, а после распространения его трактатов в Париже и окрестностях Лютер привлек внимание французских властей. Его персоной заинтересовался сам Франциск I, стесненный в своих правах властью и высокомерием церкви. Но как только раненый Франциск попал в испанский плен, место регента заняла королева-мать Луиза, которая начала во всем поддерживать осудивших в 1521 году лютеранство как ересь папу, профессоров Сорбонны и парламент Парижа. Освободившись из плена, король поостыл и склонялся к аресту или даже казни инакомыслящих. Волна репрессий, начавшись с запрета, изъятия и сожжения протестантских книг, дошла до пыток предводителей еретиков. Кульминацией гонений через несколько десятков лет стала кровавая и постыдная бойня, равная по жестокости этническим чисткам XX века, навеки запятнавшая парижскую католическую церковь и всю Францию.Принцева потаскуха
Именно в это время ко двору Франциска I прибыла Екатерина Медичи — женщина, воплощавшая чувственность, которая так ценилась в те времена. Франциск выписал из Италии невесту для сына. Екатерина сразу же получила кличку «принцева потаскуха». Женская привлекательность и чужеземная изысканность Екатерины источали «ауру злодеяний». Миниатюрная Медичи носила элегантные платья и туфли на высоком каблуке (богатое воображение неоклассицистов-придворных быстро сравнило ее обувь с высокими сандалиями, которые носили куртизанки Древнего Рима. В Англии вплоть до XVII столетия высокий каблук считался приметой ведьмы, таких женщин следовало сжигать на костре). Но важнее всего то, что эта маленькая женщина очень быстро смогла стать самой сильной и влиятельной персоной наиболее распутного двора Европы. Екатерина привезла с собой итальянские манеры, кулинарные пристрастия и любовь к театру. Особенно она благоволила итальянской комедии: обычно это были пьесы-адаптации Тита Макция Плавта и других античных авторов, только-только входивших во Франции в моду. Прежде в Париже такие представления давали заезжие бродячие труппы актеров. Теперь в трагикомедиях выступали даже родные дочери Екатерины. Однако сразу после постановки «Софонисбы», адаптации итальянской трагедии Сен-Желе о королеве, которая предпочла яд потере чести, Екатерина объявила, что спектакль принес ей неудачу. С тех пор при дворе ставили только комедии. Фарс под названием «Панталоне» заставлял королеву смеяться до колик. Екатерина не стеснялась искать и получать удовольствия в постели, для чего в начале пути ей требовался собственный шарм, а после все сами хотели ей понравиться. И все же самым горячим ее желанием было участвовать в делах религии, вершившихся в Риме и Мадриде. Екатерина увлекалась изучением таинств политики и управления государством. Она изучала Макиавелли и твердо усвоила, что властители «более склонны ко злу, чем к добру». Не удивительно, что «королева-отравительница» стала самым влиятельным человеком при дворе: таланты Екатерины пользовались дурной славой и были смертельно опасны. Принц-протестант Конде едва не погиб от фруктов, корзину которых доставили ему от имени королевы: по совету своего врача он скормил собаке яблоко, и пес мгновенно скончался. Кроме того, при дворе во множестве кормились алхимики, предсказатели и маги из самых разных стран. Уже спустя столетие по Лондону ходил слух, что Екатерина совершала жертвоприношения сатане. Во Франции эту молву назвали иезуитской пропагандой, но мы-то знаем, что Медичи всерьез прислушивалась к советам оккультистов и даже приказала построить башню, с которой был виден весь Париж, для любимого астролога Козимо Руджери, сменившего Нострадамуса, который отбыл на покой в Прованс. Башня и сегодня стоит на улице Виарм неподалеку от Биржи. Это одно из мест Парижа, где дьявол якобы являлся на землю и где ощущается присутствие сил высшей магии. Таких мест было множество: будь то простая поляна, прореха в зарослях кустарника или странное расположение камней. Сегодня от стеклянного купола, сквозь который Руджери читал судьбу по звездам и призывал сверхъестественные силы в помощь королеве, не осталось и следа. На первый взгляд королева казалась легковерной, но, стоило астрологам допустить ошибку, быстро превращалась в скептика и принималась издеваться: «Жаль, что он собственного будущего не предвидел», — произнесла она, узнав, что на окраине был ограблен и убит некий звездочет-шарлатан. Башню Руджери достроили в феврале 1572 года, за несколько месяцев до печально известной Варфоломеевской ночи. Страшный карнавал убийств произошел главным образом из-за непредусмотрительности и неумения Екатерины контролировать последствия вероломных политических заговоров и покушений.Священные войны
С того дня, как тезисы Лютера попали в Париж, город не знал покоя. Сорбонна, непререкаемый авторитет в вопросах религии, заклеймила Мартина Лютера апологетом ереси и лжеучителем. Университет не только цензурировал книги, но организовывал обыски в студенческих кварталах, выдавал ордера на арест всякого, кто только был заподозрен в намеке на несогласие с религиозной доктриной или политикой властей. То тут, то там религиозные зелоты нападали на еретиков. Места встреч инакомыслящих были хорошо известны: в основном протестанты собирались на левом берегу; туда и направлялись отряды карателей. В 1557 году группа студентов-католиков ворвалась в дом адвоката, не скрывавшего своих симпатий к протестантизму. В доме шла служба, и разъяренные молодчики начали убивать всех подряд, зарезали даже нескольких придворных дам, а тех, кого не убили, сильно избили. Когда же на место инцидента прибыли полицейские, вместо того чтобы арестовать напавших, они поздравили их с добротно сделанной работой, собрали выживших «еретиков» и увезли в тюрьму, где те содержались в ожидании суда. Изначально осужденных за ересь сажали в тюрьму или высылали, но позднее кара стала более жестокой и изощренной. Гревскую площадь даже назвали «камерой сожжения» — она почти постоянно источала запах горелой плоти. Другим популярным видом казни стала «strappado» — итальянская дыба, на которой казненного растягивали так, что руки и ноги выходили из суставов, а затем несчастного медленно опускали на огонь. Сегодня тихий и зеленый перекресток Латинского квартала, площадь Эстрапад, носит имя этого пыточного устройства (позднее местные мальчишки продавали на ней фонари, при свете которых водили всех желавших по лабиринту квартала, путая ужасами прошлого и призраками). Недовольство простых, безграмотных и неимущих горожан, отождествлявших Париж и себя только с католицизмом и святой мессой, в начале столетия непрерывно росло. Наплыв протестантов, бежавших в Париж от репрессий, подобных бойне 1562 года в Осси, заставлял горожан-католиков волноваться за чистоту веры и статус священной столицы. Париж, с момента основания стремившийся составить конкуренцию Риму, в 1560-х годах переполнился «еретиками», которые не просто отвергали авторитет папы, но открыто сомневались в его праве на власть. Протестантов, вне зависимости от того, прибыли они из столицы европейского протестантизма Женевы, где назывались «eidgenossen» (т. е. «конфедераты» — именно этот искаженный термин превратился во французское слово «huguenots»), или других городов, называли гугенотами. Страсти накалились до предела 18 октября 1534 года, этот день вошел в историю как «день плакатов»: проснувшись поутру, католики обнаружили, что по всему Парижу развешены плакаты, на которых набранные готическим шрифтом тексты возвещали, что католическая месса — глупость и противоречие Писанию. По городу разнеслись слухи, что протестанты готовят восстание, что добрых христиан перебьют во время месс, церкви разрушат, а в городе воцарится дьявол, который, веселясь, лично убьет монарха, и Париж навеки превратится в проклятый город. Чтобы хоть как-то успокоить население, все святыни Парижа — от реликвий Сен-Шапель до символов веры — были вынесены на улицы, а позднее массовая процессия, во главе которой шел сам епископ Парижский, пронесла их по городу. В соборе Нотр-Дам отслужили торжественную мессу, а после на Гревской площади устроили сожжение шестерых «еретиков». В Париже, где тогда по официальным данным проживало около 15 000 протестантов — довольно внушительное число, — насилие на почве вероисповедания стало неотъемлемой частью городской жизни. Хотя протестанты и дали королю клятву верности и даже предпринимали попытки обратить его в собственную веру, они не переставали выпускать памфлеты, провозглашавшие преданность идеям Кальвина, посетившего Париж по пути в протестантскую Женеву. Важно отметить, что именно от Жана Кальвина французские гугеноты восприняли взгляд на доктрину божественного происхождения власти монархии, насаждаемую в столице, как на возмутительное заблуждение. Монархия, в свою очередь, не упускала из виду то, как протестанты строят реформаторскую церковь в Сен-Марселе — перестраивают дом неподалеку от Бьевра, а также неотступно следила за попытками устроить надомные собрания в Сен-Жермене. Чтобы избежать кровопролития, Екатерина в 1562 году издала эдикт о свободе вероисповедания в частных домах. Но поздно — к тому времени представители обеих сторон вовсю убивали друг друга. Ситуация вышла из-под контроля, протестанты отличились нападениями на церкви и казнями священников. Фанатики-реформаторы сожгли церковь Сен-Медар неподалеку от улицы Муфтар. Во второй половине XVI столетия власти взяли за правило оправдывать любые военные действия заботой о безопасности населения столицы. Некоторые видные политики и военные чины Франции, включая адмирала Колиньи, симпатизировали реформаторской церкви — отчасти из-за обширной коррупции и гнетущего давления извне — из Рима и Мадрида. Рядовые гугеноты были неплохими бойцам, и казалось, что их армии и милиция способны в любой момент захватить Париж. Высокородный гугенот принц Конде угрожал сделать это в 1562 году. А в 1567 году армия гугенотов заблокировала все входы и выходы в столицу и держала блокаду до тех пор, пока не была отброшена армией голодных парижан. Десятилетиями тлевшая гражданская война могла вспыхнуть с новой силой в любой момент.«Убейте их всех!»
Печальная ирония: бойня Варфоломеевской ночи была спровоцирована бракосочетанием. Свадьба католички Маргариты де Валуа и аристократа протестанта Генриха Наваррского (отпрыска рода Бурбонов, будущего короля Генриха IV) намечалась на 18 августа 1572 года. Все видные семьи Франции получили приглашения присутствовать на церемонии, ожидались пышные балы в Лувре, городской ратуше и в резиденции Бурбонов. Екатерина Медичи организовала этот брак по очевидным причинам: она стремилась объединить два религиозных течения в союз, который поддержит корону. Несмотря на заявления протестантов о том, что они желают лишь свободы вероисповедания, монаршая семья давно осознала опасность растущей популярности «еретиков» и угрозы переворота. Ожидалось, что эти проблемы рассосутся вскоре после бракосочетания. Знать, протестанты и католики, со всей страны съехалась в Париж, чтобы посмотреть на праздник, организованный Екатериной. Обряд бракосочетания свершился на площади перед собором Нотр-Дам, после на мессу в храм были допущены только католики (включая Маргариту). Некоторые протестанты опасались подвоха и проживали за стенами города, подальше от Лувра. Пройдет всего несколько дней, и одни гости, съехавшиеся на свадьбу, устелят телами улицы, а другие в кровавом безумии будут резать и убивать направо и налево. Оказалось, что свадьбу и празднества Екатерина затеяла лишь с целью избавиться от адмирала Колиньи, который, обретая все большую популярность, становился смелее с каждым днем. 22 августа Екатерина подослала к Колиньи наемного убийцу, который подстерег адмирала между улицами Сен-Жермен-л’Оксеруа и де Пулье, когда тот ехал на собрание регентского совета в Лувре. Убийца стрелял дважды, Колиньи был ранен в левое плечо, но не смертельно. Екатерина и ее приспешники первыми прибыли к адмиралу и выразили лицемерные соболезнования. Лидеры протестантов, съехавшись позднее в резиденцию Колиньи, особняк де Бетизи, выражали свое недоверие монаршему сочувствию и требовали мести. Перед угрозой ответных действий протестантов королевское семейство запаниковало, пришел его черед волноваться о своем будущем, было приказано закрыть город. Вечером 23 августа король Франции написал королеве Англии, что найдет убийц и воздаст им по заслугам: однако никто не сомневался в том, что приказ об устранении Колиньи исходил из королевской семьи (а вот в крепость монархии не верил никто). 24 августа под звук набата началось безумие: «Убейте их всех! — приказал король Карл IX. — Всех, чтобы не осталось никого, кто мог бы меня упрекнуть в содеянном». В первую очередь следовало разделаться с Колиньи — окончательно и бесповоротно. Сделали это граф де Гиз и его люди. Они перерезали адмиралу горло и, отрубив голову, вывесили ее из окна на веревке. «Начали мы неплохо, — сказал де Гиз своим приспешникам, — теперь следует выполнить волю короля до конца». И вооруженная толпа двинулась по улицам: окровавленное оружие в руках, обезображенный труп Колиньи позади и призыв убивать на устах. Гениталии адмирала были отрезаны от тела и выброшены в Сену, позднее за ними последовал его труп. Этим не кончилось, тело Колиньи выловили и повесили на Монфоконе на несколько дней. Кровавое безумие прокатилось от Лувра до задворок Ситэ и Латинского квартала. Парижские обыватели в массе своей были католиками, в протестантство же в большинстве случаев обращались аристократы (за несколько лет не одна видная семья столицы приняла протестантство из ненависти к продажному правительству и двору). Пришло время сравнять счет. Большинство убийств видных политических деятелей произошло в первые часы бойни. Повальные казни протестантов из звериной жажды крови и застарелой ненависти продолжались еще один день и одну ночь — до тех пор, пока улицы не стали походить на поле битвы. Убитые и умирающие на улицах столицы были не солдатами, а свадебными гостями, бедными ремесленниками и работягами, стариками, женщинами, подростками и младенцами. Очаги сопротивления были крайне малочисленны: некий лейтенант из свиты Колиньи, Таверне, продержался восемь часов и сдался, только придя в полное изнеможение, — большинство же протестантов захватили врасплох. Верный сподвижник Гиза мясник Пезу хвалился тем, что лично убивал людей, словно диких животных, и перерезал горло более чем 120 протестантов, а после сбросил их тела в Сену — и все своими собственными руками. «Город охватило буйство ужаса и убийства, — писал очевидец. — Улицы полнились криками отчаяния, воплями грабителей и убийц. Отовсюду раздавались стоны умирающих и раненых. Везде валялись выброшенные из окон мертвецы, трупы в городских садах лежали вповалку. Толпы таскали убитых за собой. Крови было так много, что она бежала потоками». Другой свидетель говорил, что Сена покраснела от крови. В реку сбросили столько трупов, что они не тонули. Похоронить такое количество в отдельных могилах было невозможно, так что вырыли огромные ямы, в которые свалили всех подряд. Когда капитаны королевской гвардии доложили королю о том, что Парижу не проглотить столько трупов, он рассмеялся. Отголоски парижской бойни прокатились волнами насилия по провинциям: там также начались избиения. В Лионе за один день погибли две тысячи протестантов. Пример столицы поставил на грань гражданской войны всю страну: весь сентябрь и октябрь в Бурже, Руане, Анжере, Орлеане, Бордо, Тулузе и Альби бушевали протестантские восстания. Города-крепости протестантов — Монтобан, Ном и Ла Рошель — закрыли ворота и приготовились к обороне. Ни один из городов Франции не гордился массовыми убийствами и беззаконием так, как Париж, в котором корона и толпы простолюдинов воссоединились в борьбе с общим врагом.Глава шестнадцатая Как в верхах, так и в низах
Избиение в день святого Варфоломея ославило Париж на всю Европу столицей предательства и убийств. Известия о трагедии быстро достигли Лондона, Женевы, Вены, Мадрида (испанский король публично радовался бойне) и Рима (папа Григорий XII отметил событие, прочитав мессу «Те Deum»). Во всей Европе происходили религиозные столкновения. Париж был не более чем средневековым городом, но сумел стать центром всех религиозных конфликтов. Более того, в глазах французов-протестантов и многих европейцев парижане выглядели наемными убийцами, религиозными фанатиками либо тем и другим одновременно. Христианского в религиозных войнах было мало. В действительности борьба во Франции шла за власть и влияние: клан католиков под предводительством Гизов соперничал с гугенотской фракцией Бурбонов, возглавляемой королевской династией Наварры. Со смертью Генриха II в 1559 году возникла неясность в вопросах престолонаследия, и за тридцать лет по стране прокатилось восемь войн. Варфоломеевская ночь стала лишь самым кровавым инцидентом из череды событий. Христианский мир считал столицу Франции дьявольским городом, залитым кровью. Единственным оправданием ужасному периоду убийств именем веры в парижской истории может служить омерзение, испытанное народом, осознавшим кровопролитие, и посеявшим своим раскаянием первые семена будущей эпохи Просвещения. Непредвиденным последствием бойни стало восшествие на престол Генриха III, младшего брата Карла IX. Карл умер вскоре после дня святого Варфоломея — официально от туберкулеза, но, по слухам, король был отравлен собственной матерью, убившей сына якобы по приказанию неких католических группировок. Даже святость отношений матери и сына в этом городе истаяла. Нет ничего удивительного в том, что непродолжительное правление Генриха проходило при дворе, известном своей сексуальной распущенностью (практиковалось все — от кровосмесительных связей до гомосексуальных оргий). Но это была лишь верхушка айсберга парижских нравов. Как в верхах, так и в низах общества моральные нормы были крайне размыты, каждый преследовал только свои интересы, жизнь не подчинялась ни человеческим, ни церковным правилам. Тех, кто охранял бастионы власти в стране, протестантизм более всего привлекал тем, что предлагал новый, ясный гражданский поведенческий кодекс. Католицизм ассоциировался с алчностью властей и коррупцией, с интересами, ограниченными сохранением собственных позиций и влияния. Сразу после Варфоломеевской ночи Париж попал в руки основанной в 1576 году Католической лиги, которую возглавлял герцог де Гиз, считавший, что власть должна принадлежать только ему. Официально Лига подчинялась короне, в действительности же совершенно единолично и вольно управляла городом. Иерархия этой организации была гораздо жестче прочих известных религиозных обществ, ее проповедники открыто призывали народ к бунту и войне. Лига больше походила на военное образование, ее члены провоцировали демонстрации и кровавые выступления против протестантизма. В Лиге состояли несколько тысяч человек, но важнее всего то, что она пользовалась безграничной поддержкой парижан. Редкий случай политического вмешательства: в мае 1588 года Генрих попытался приструнить набиравших силу и популярность Гизов, поставил солдат на мостах, в Латинском квартале и в возможных очагах восстания в поддержку Лиги. При виде подобного откровенного ущемления прав парижане возмутились и принялись сооружать баррикады по всему городу. Генриху не осталось ничего другого, как тихо вывести своих солдат из опасной столицы и ждать, пока улягутся страсти. А в Париже в это время стремление к плотским утехам сокрушило все барьеры и ограничения: религиозные, социальные и половые. Генрих предпочитал секс политике и окружил себя свитой из поклонявшихся ему смазливых юнцов — «les mignons», миньонов, или «милашек». Это они аплодировали монарху, явившемуся на прием в женском платье, и дали ему прозвище «Король содомский». «Миньоны» были известны всей Европе своими экстравагантными нарядами и фиглярством. Эдмунд Уайт описывал «миньонов» как «достаточно бисексуальных, чтобы сражаться друг с другом на дуэлях за благосклонность женщин», и достаточно храбрых, «чтобы защищать своего монарха, который во время религиозных войн между протестантами и католиками не раз подвергался нападениям». Простой люд ненавидел «милашек» за то, что те являлись ходячим воплощением разложившегося политического строя, где секс и деньги прокладывали дорогу к власти и привилегиям. Генрих III был своенравен и жесток. Его шут Фоле однажды неосторожно заметил, что в Париже проживают не только богачи, но и бедняки, за что был порот и посажен в Бастилию. Подобная неприкрытая критика приравнивалась к прямой угрозе королю. Столетие шло своим чередом, фанатизм и убийства, царящие в Париже, сделали слово «парижанин» ругательным. В провинциях «парижан» не пускали в города, так как считали полубезумными религиозными фанатиками и потенциальными убийцами.Контркультура
Очевидным всякому признаком падения нравов было количество проституток и попрошаек, встречавших путешественника на въезде в город. Даже жители городов, где уровень преступности был довольно высок, Анжера, Руана или Дижона например, поражались ордам парижских жуликов, воришек, увечных попрошаек, детей, продающих себя, пьяниц, бесстыдных шлюх и бандитов. Жильбер де Мец заметил, что в середине XV века в столице проживало 250 000 человек, и среди них 80 000 попрошаек. Скорее всего, это преувеличение, но количество вершившихся преступлений указывает на то, что в середине XVI столетия парижская преступность была более опасной и массовой, чем когда-либо в истории. Многие жулики и бродяги, наводнившие город в первые десятилетия XVI века, в прошлом были солдатами из провинций, попавшими волей судьбы в большой город и не имевшими возможности вернуться в родные места. Как и во времена Вийона, преступление для таких людей было единственным способом выжить. Проституция также считалась более или менее достойной профессией и была единственным способом избежать беременности от насилия, которому подвергалось большинство девушек и женщин из простого народа. Сильнее всего парижан пугали частые уличные стычки между преступниками и солдатами, которые пропивали свое немалое жалованье в кабаках и тавернах. Завсегдатаи увеселительных заведений обычно становились на сторону своих обнищавших собратьев-ветеранов, вернувшихся с итальянских войн в Париж только для того, чтобы в 1536 году осознать, что правительство жалованья им платить не собирается. Тогда же в столице вспыхнуло несколько кровавых бунтов: парижане боялись выходить из дома после заката, а демобилизованные солдаты искали вокруг мостов и в узких темных аллеях, кого бы ограбить или просто зарезать штыком. К 1536 году количество преступников в городе стало настолько огромным, что их нельзя было больше считать досадным недоразумением, они сделались реальной угрозой властям и городу. В 1518 году группа нищих напала на склады в Л’Аль и убила городского палача; в 1525 году пристань Сель на Сене была разрушена бунтующей толпой; в 1534 году банда преступников забралась в Лувр и украла королевский штандарт. Власти колебались: считать ли преступность общественным несчастьем (в 1554 году муниципалитет учредил бюро помощи неимущим, которое занималось раздачей пропитания) или обычной порочностью (в то время отделить нищету от преступности было практически невозможно: подозрительных людей определяли в приют в Сен-Жермен — в «маленький дом», как прозвали его парижане). Именно тогда в Париже родилась легенда (или легенды) о «Cours des Miracles», «дворах чудес». Это были тайные убежища нищих, жуликов и воров. Туда они возвращались по вечерам, там «чудесным образом» избавлялись от болезней: слепые прозревали, увечные отращивали ампутированные конечности, смертельно больные выздоравливали. «Излечившись», они под присмотром «короля воров» устраивали буйные вечеринки с шлюхами. «Король воров» при Франциске I получил прозвище «Ле Раго» (впоследствии именно это слово превратилось в «арго», так стали называть парижский сленг), а позднее «Большой кесарь». «Король» получал долю от ежедневной выручки (это действие назвалось «плевком в таз» — «cracher dans le bassin»), a оставшиеся деньги преступная братия по традиции тратила на выпивку и шлюх. «Король» носил колпак, был обернут в простыню, а в руке держал своеобразный скипетр. То был действительно мир, живущий по законам, вывернутым наизнанку. По Парижу была разбросана примерно дюжина подобных учебных центров грабежа и проституции. По утверждению Анри Соваля, «дворы чудес» располагались в районе рю дю Бак, рю де Рейи, рю де ла Мортелльери, рынка Сент-Оноре, рю де Турнель, рю де Марсис, Фобур Сен-Марсель и холма Сент-Оноре. Самый опасный из притонов находился у нынешних площади Каир и улицы Дамь-етт. Этот «двор» существовал с XIII века и представлял собой зловонную площадь, попасть на которую можно было, лишь пройдя лабиринт маленьких извилистых улочек. Именно это место стало прообразом знаменитого «двора чудес» Виктора Гюго. Соваль, наслышанный о нем, посетил легендарный «двор» в сопровождении гида. Позднее писатель признался, что жизнь его в тот день висела на волоске.Этот двор расположен на довольно крупной площади, от которой отходит смердящий переулок. Чтобы попасть сюда, требуется пройти грязными вонючими улочками, которые извиваются под немыслимыми углами, а затем спуститься по длинному крутому склону. Добравшись до места, я увидел перед собой просевшие дома и грязь. Площадь между зданиями была не больше пятидесяти квадратных ярдов, но на ней сидело не менее пятидесяти женщин, которые следили за бесчисленными голыми или полуодетыми младенцами и малышами. Мне рассказали, что в домах вокруг площади друг над другом расселились никак не меньше пятисот семей. Раньше площадь была больше, но сейчас заросла хламом, скопившимся за годы разбоя, злодеяний и афер. Никто здесь не задумывается о будущем, все живут сегодняшним днем, съедают еду без мысли о дне завтрашнем; для них заработать — значит ограбить; и законами cour des miracles предписывается не оставлять ничего про запас. Каждый живет разнузданно, нет закона, нет веры. Тут не слыхали о крещении, браке или священнодействиях.
«Двор чудес» жил под властью собственных «монархов», говорил на своем языке, создал свой кодекс поведения и строгую вертикаль власти. В преступной иерархии были свои кланы: «les Courtauds de Boutange» — попрошайки, которые работали на улицах столицы лишь зимой; «les capons» — воры и грабители, которые работали в кабаках в одиночку, иногда им помогали ученики, которые отвлекали внимание толпы, вопя, будто их только что ограбили; «les Franc-mitoux» — больные-притворщики, чьи искусственные увечья могли обмануть даже опытного врача; «les Hubains» — владельцы поддельных свидетельств о том, что они были исцелены от сумасшествия самим святым Юбером и теперь собирают пожертвования, чтобы отправиться в паломничество и отблагодарить святого за спасение; «les Rifodés» — погорельцы, которые в сопровождении жен и детей побирались по городу, показывая жалостливой публике свидетельство о пожаре; «les Sabouteux» — эпилептики-одержимые, которые, катаясь по земле с пеной у рта, пугали горожан приступами судорог или внезапной яростной одержимостью демонами. Сомнения в реальности «дворов чудес» высказывались уже давно, многие считали их литературной выдумкой. Историк Андре Риго утверждал, что рассказ Анри Соваля — детальное заимствование истории писателя Оливье Шеро. Последний, в свою очередь, скорее всего позаимствовал сюжет из рассказов некоего Пешона де Руби, который первым описал такой «двор чудес» в 1596 году в «La Vie généreuse des mercelots, gueux et boémiens» («Богатая жизнь жуликов, бродяг и богемы», издано в Лионе). Пешон де Руби заявлял, что потратил годы на изучение жизни этих людей, их языка, чтимых святых, профессиональной и социальной иерархии. Понятное дело, его описания преисполнены симпатии; нарисованное им общество ненавидит всякую власть и презирает деньги, считая их ловушкой для свободы. Главными условиями «настоящей жизни» считались свобода от любой работы и право проживать в любом месте на земле: богема Парижа стала своего рода прародителем анархистских групп XIX века, объявивших войну труду, семье и религии. Улицы с самой зловещей репутацией дожили до нынешних времен. С XV столетия Большая Улица Сброда, как и прилегающая к ней Малая Улица Сброда известны как «coupe-gorges»: места, где режут глотки, где преступники всех мастей живут по собственным законам. Мало что изменилось в этой округе с тех пор: 21 сентября я сам наблюдал, как среди бела дня и на глазах напуганной толпы прохожих двое громил-сутенеров изрезали ножами лицо девушки.
Встреча с самим дьяволом
Париж XVI века был наполнен мифами. Один из них, например, утверждал, что земля кладбища Невинно Убиенных, довольно небольшая территория на правом берегу Сены размером со среднюю городскую площадь, обладает чудодейственными силами. Она, мол, так сильна, что «съедает труп», иными словами, всего за несколько дней от тела остаются лишь кости. Даже если и так, к концу XVI столетия древнее кладбище, основанное еще до прихода римлян, было переполнено. Чтобы освободить место для новых захоронений, древние останки беспрестанно эксгумировали и складывали в склепы-галереи на краю кладбища; улицы торговых и жилых кварталов, окружающих кладбище, славились ужасным зловонием, воздух застаивался даже зимой; летом можно было подхватить болезнь во время обычной прогулки по улице Сен-Дени. Пугал горожан и миф о том, будто в пещерах, расположенных под столицей, поклоняются сатане. Некоторые парижане пользовались дурной славой пещер для собственного обогащения. Возможно, самым известным из них был некий Сезар, умерший в 1615 году в тюрьме (молва утверждала, что его там задушил сатана), который специализировался на том, что являл дьявола молодым «sérapiens» (сленговая инверсия слова «парижанин»), плативших ему за представление довольно большие деньги.Примерно в лиге от Парижа, у дороги на Жантийи я нашел глубокий овраг, — писал Сезар в своей книге «Confession» («Исповедь»). — Когда я встречал желающих лицезреть дьявола, я вел их в овраг, но прежде брал минимум 45–50 пистолей и заставлял поклясться, что об увиденном они никому не расскажут. Я уверял их, что бояться нечего, только не стоит взывать к Богу или святым — это может разозлить сатану.
Во время сеанса шестеро помощников Сезара изображали фурий, зажигали факелы, кричали и завывали. Сезар монотонно и неразборчиво бормотал какую-то «дьявольскую» ерунду. Главным героем и кульминацией представления был злосчастный козел, выступавший в роли самого дьявола: его красили в алый цвет, и своим видом он гарантированно обеспечивал зрителям ночные кошмары на всю оставшуюся жизнь.
Глава семнадцатая Темные времена
Истории и легенды о том, что в Париже живет сам сатана, распространились по всей Франции, так что без крайней нужды провинциалы в столице не появлялись. Слухи о том, что Париж — логово сатаны, всплыли вновь в XIX веке: Бодлер, Пьер Борель и Гюисманс приняли сторону дьявола, начали бунт андеграунда и революцию в эстетике эпохи. Однако в XVI веке ужас перед сатаной был реальностью, ему легко находили подтверждение. Страх перед ведьмами, колдунами и поклонниками сатаны был весьма распространен в Европе в те времена и вылился в массовую истерию, общую для католиков и протестантов, и повсеместное предание ведьм огню. В начале XVI века церковь официально провозгласила сатанизм и магию врагами веры. Об этом можно прочесть в «Malleus maleficarum» («Молот ведьм»), пособии по опознанию ведьм, опубликованном доминиканским монашеским орденом в 1486 году. Борющиеся за власть в городе религиозные фракции успешно прикрывались охотой на ведьм. Во всех кровавых стычках протестантов с католиками, произошедших в Париже, винили сатану. В длинных и образных «Трагических поэмах» гугенота Агриппы Д’Обинье земным воплощением дьявола предстает Екатерина Медичи. Это поэтическое произведение аллегорически описывает гражданские столкновения во Франции 1560-х годов, кульминацией которых стала бойня Варфоломеевской ночи. Д’Обинье обвиняет Екатерину в колдовстве, призывании дьявола, жертвоприношениях младенцев (по городу ходили слухи, будто она присутствовала на черной мессе в Венсенском лесу). Но самое важное то, что, по крайней мере с точки зрения кальвинистов, Екатерина олицетворяла принцип бесконечных изменений («change en discord avec les elemens»), которые суть проклятие рода человеческого. Когда в 1589 году королева в возрасте 69 лет скончалась, парижане единодушно сошлись во мнении о том, что если бы им только удалось добраться до ее тела, они бы сбросили его в Сену. Из-за таких настроений Екатерину хоронили в Блуа, быстро и скромно. Ее смерть, однако, не завершила мучений Парижа, а ознаменовала начало нового витка насилия, который не заставил себя ждать. Началось все с убийства короля Генриха III в том же году. К тому времени Париж находился под властью семьи Гизов и Католической лиги уже двадцать лет. Рядовые парижане ненавидели короля за распущенность и изнеженность, так что Лиге было несложно возбудить толпы и вывести на улицы горожан, осуждавших дворцовую жизнь. Сорбонна тоже не подчинялась короне и успешно управляла настроениями толпы, определяя, кто еретик, а кто нет, и какую политическую программу следует поддерживать. Университет, к примеру, одобрял стремление населения молиться о смерти короля или за победу Лиги над короной. Сразу после смерти Екатерины Медичи на короля, казалось, ополчился весь Париж. Генрих враждовал с Католической лигой до самой своей смерти от удара ножа Жака Клемана, монаха «якобинского братства» с улицы Сент-Оноре (монахов называли «якобинцами» по имени улицы Сен-Жак (Святого Иакова), на которой изначально располагался их приход; позднее то же имя взяли себе члены политического клуба времен Великой французской революции 1789 года, встречавшиеся в стенах монастыря первых «якобинцев»). Готовил Клемана к покушению настоятель обители и близкий друг семьи Гизов Бургоэн. Он убедил монаха в том, что ангелы спустятся с небес и помогут ему, чтоубийца короля станет самым знаменитым мучеником католиком. 1 августа 1589 года Клеман отправился в королевский замок Сен-Клу на юго-западе города, якобы чтобы передать Генриху письма узников Бастилии. Сначала охрана отказалась его пропустить, но король заметил клирика, спорившего с гвардейцами, и со словами, что он не «враг монахам», жестом приказал впустить его. Когда король начал читать поданные Клеманом письма, тот вытащил спрятанный кинжал, ударил короля в живот и обломил лезвие, чтобы осколок остался в теле. «Меня убивает злой монах! — вскричал король. — Убейте его, пока он не убил меня!» Католический Париж встретил неприкрытым ликованием весть о смерти короля. Горячая сторонница Лиги и личный враг короля, среди прочих внушавшая Клеману мысли об убийстве, герцогиня Монпансье даже обняла гонца, который принес ей сообщение о смерти Генриха. «Ах, друг мой, — сказал она, — правда ли это? Неужели злой и вероломный тиран действительно мертв? Бог даровал нам великий подарок! Меня огорчает лишь одно: король не знал, что это я устроила его смерть!» Вместе с графиней де Намюр она бегала по улицам Парижа, танцевала и восторженно кричала: «Тиран мертв! Благая весть всем!» Графиня требовала, чтобы день смерти короля объявили национальным праздником, чтобы народ надел в честь события зеленые ленты, которые она самолично раздавала всему городу. Графиня де Намюр не остановилась на этом, отправилась в церковь Кордельеров и в язвительных речах излила злобу над телом мертвого короля. В знак радостного события по всему Парижу были зажжены лампы, которыми народ в ликовании освещал город на протяжении всего траурного периода. Священники писали апологии поступку Клемана, раздавали его изображения прямо с алтаря, называли святым мучеником. Какое-то время казалось, что корона достанется видному члену Католической лиги и объекту поклонения парижских католических фанатиков герцогу Шарлю де Лоррену Майенскому. Общественное мнение и без того было на грани истерии: до Парижа дошли слухи об убитых в Лондоне католиках и замученных священниках. Герцог Майенский клялся после восхождения на трон очистить столицу от протестантов и лояльных Генриху III людей. Однако на трон вполне обоснованно претендовал гасконский гугенот, ведущий свое происхождение от Людовика Святого и названный Генрихом III официальным преемником, Генрих Наваррский. Спустя несколько недель после убийства короля Генрих Наваррский выступил с юга в Нормандию, где его поджидали верные люди, на которых он мог положиться в борьбе с Католической лигой и советом Шестнадцати (по числу округов Парижа) — органом управления, составленным исключительно из ярых папистов, жестко державших власть в городе. До зимы Генрих наблюдал за обстановкой в Париже, выжидая удобного момента. Первый удар он нанес по Иври всего в нескольких днях похода от столицы. Но к тому времени герцог Майенский получил подкрепление из дружественной Испании. Однако одним решительным штурмом Генрих прорвал оборону испанцев и в начале мая был под стенами Парижа. Уверенные, что город удастся захватить быстро, войска разорили окрестные фермы. Ожидалось, что очень скоро Генрих войдет в город, приветствуемый толпой восторженных парижан.«Хлеб мадам Монпансье»
Но ожидания нападавших не оправдались. Париж был богатым и зажиточным городом и сдаваться так просто не собирался. Первые две атаки оказались неорганизованными и слабыми. Смотревшему на город с Монмартра Генриху донесли, что парижане смеются над его отчаянной глупостью. Генрих IV был настойчив и упрям. Понимая, что город находится в политической и военной блокаде, он обосновался под стенами столицы и в марте 1590 года объявил начало долгосрочной осады. Довольно легко он захватил Сен-Жермен-де-Пре и пригородные деревни Монруж, Исси и Вожирар. Оставалось захватить земли за стеной Филиппа-Августа, но они все еще находились под контролем Лиги. Генрих и его штаб считали, что городским властям не продержаться и полугода, пусть даже сам Бог на их стороне. В начале осады контролировать город не составляло особого труда для Лиги. Проповеди священников полнились антипротестантскими лозунгами, Генриха называли антихристом, пришедшим отомстить за кровопролитие Варфоломеевской ночи и разрушить город до основания. Смутьянов и подозреваемых в шпионаже сбрасывали в Сену или вешали на площадях, всякому было дозволено их унижать и калечить. В каждом квартале Лига организовала милицию из местных жителей, некоторые отряды насчитывали до 3000 бойцов, которые хоть и трусили воевать, но священников страшились еще более. Пришло время, когда население начало умирать от голода, и управлять городом стало гораздо сложнее. Монастыри, приходы и церкви были обеспечены продовольствием надолго, но обычные горожане стали испытывать нужду уже в июне. Первые признаки нехватки продовольствия проявились очень быстро и были очевидны: из города исчезли козы, лошади и ослы — их забивали и продавали по высоким ценам мясники. Затем подошла очередь кошек и собак, власти установили жаровни на всех городских площадях, где порция мяса и пайка хлеба доставалась каждому голодающему. У богатых граждан, вложивших деньги в дорогие меха, были реквизированы все шубы и шкурки, которые почти немедленно были съедены парижанами. И это было далеко не худшее, что пришлось испытать городу. Член Лиги и очевидец начала осады писал, что «бедняки ели собак, кошек, крыс, виноградные листья и разные деревья и травы. По всему городу на огне стояли котлы с варевом, в которое добавляли мясо ослов или плоть мулов. Даже шкуры этих животных готовили, продавали и съедали с огромным аппетитом. В тавернах и кабачках вместо вина люди пили настойки горьких трав. Если и удавалось найти белый хлеб для больного, то никак не дешевле экю за фунт. Я собственными глазами видел, как бедняки набросились на лежавший в придорожной канаве труп собаки, а также других, которые ели кишки, выброшенные в канализацию, или мертвых крыс, мышей, мозги мертвого пса»[61]. В начале лета смертность резко возросла, улицы города заполнили трупы. Каждое утро находили 150–200 тел умерших от истощения. С голодом пришли разные болезни: вздутые от водянки животы были обычными среди горожан. Больше не проводили парадов в честь Лиги, не звучали песни, раздавались только стоны умирающих и больных. Делегация бедствующих парижан выскользнула из города, обошла оборонительные сооружения и прибыла к королю с прошением о помиловании. Генриха тронуло состояние голодных просителей, и он дал разрешение покинуть город трем тысячам, сильнее других пострадавшим во время осады. На следующий день почти четыре тысячи человек вышли из города и попыталось уйти, но войска Генриха отогнали примерно восемьсот лишних беженцев, которые вернулись обратно, на верную смерть. Жизнь ухудшалась с устрашающей скоростью. Бедные и голодные горожане ночами пробирались на кладбища. Они выкапывали кости, мололи их в муку и пытались печь из нее хлеб. Большинство же просто ели эту пыль, которая называлась «хлебом мадам Монпансье», по имени фанатичной католички, танцевавшей на улицах города на празднике в честь смерти Генриха III. Ужасные последствия голода проявлялись и по-другому. Однажды утром граф де Намюр выходил из дома, чтобы проинспектировать стены города. Охранник предупредил его, что идти в сторону улицы Фран-Буржуа не стоит: «Там змеи и ядовитые гады поедают мертвую женщину», — сообщил испуганный слуга. И такие голодные галлюцинации были обычным делом. Отчеты сообщали о каннибализме, царившем во всем городе. Возможно, самая печальная история из всех повествует об аристократке-вдове, у которой двое детей умерли от голода. Не имея возможности купить хлеб, она и ее горничная зажарили детей и две недели со слезами на глазах питались ими. Затем спустя несколько дней обе женщины умерли. «В начале осады парижане были исполнены гордости и достоинства, — писал современник, — но быстро дошли до жалкого состояния: ели кожаную утварь и друг друга. За три месяца умерло более ста тысяч человек. На улицах росла трава, лавки были закрыты, ничто не двигалось. В городе царили ужас и тишина».Слишком много крови
Многие, если не все, парижане считали, что спасти город может лишь чудо. И в конце сентября оно почти произошло: Мадрид выслал войска на помощь католическому Парижу. Впервые за несколько месяцев в город прибыли баржи с зерном. Сорбонна объявила всех умерших за время осады мучениками, а святые отцы, словно позабыв о тридцати тысячах смертей, объявили о победе Парижа. Очень скоро стало очевидным, что это не победа, а только продолжение битвы за город. Генрих хоть и отвел войска, поражения не признал. Не единожды он пытался проникнуть в город с помощью диверсантов. В феврале 1591 года отряд солдат Генриха предпринял попытку проникнуть в Париж через ворота Сент-Оноре под видом торговцев мукой. Решительно настроенные католические защитники уничтожили всех диверсантов и разворовали мучной обоз. Следующие несколько месяцев подобные инциденты случались не раз. Лига, однако, не смогла правильно оценить настроения горожан. Несмотря на усилия совета Шестнадцати и на стремление вычистить парижский парламент и свору коррумпированных городских чиновников, население было недовольно властями, которые казались глухими к всеобщим страданиям. В ноябре недовольство переросло в восстание. Искрой, зажегшей пламя, стал суд над двумя клириками, Мажистри и Брижаром, которых обвинили в симпатиях к осаждающему столицу монарху. Брижара оправдали во время суда, а Мажистри отделался мягким приговором. Из-за снисходительного судебного решения Лига пришла в ярость и потребовала, чтобы обвиняемые священники публично отреклись от своих убеждений. Некий священнослужитель из церкви Сен-Жак заявил, что пришло время «поиграть ножами». Фарс с отречением имел кровопролитное продолжение: вопреки всем законам толпа убила чиновника Бриссона и прочих заседателей суда и повесила всех на окнах Пти-Шатле. Католическое единство устояло, раскола не произошло. Герцог Майенский хоть и осудил фанатиков, линчевавших Бриссона, но, зная настроения общества, казнить обвиненных священников не решился. Одновременно буржуазия перестала внимать фанатичным речам клириков и начала остывать от жара религиозных убийств. До мира было еще далеко, но усталость от насилия накопилась, Париж видел слишком много крови. Фракция уставших от осады парижан, которая назвалась «les politiques», решила, что единственный выход из сложившейся ситуации — переговоры. Даже герцог Майенский склонялся к этой точке зрения и, не обращая внимания на угрозы настоятеля прихода Святой Женевьевы и священника церкви Сент-Юсташ отлучить его от церкви, в марте 1592 года лично возглавил делегацию, направившуюся к Генриху. Главным вопросом переговоров было обращение Генриха в католичество. Король раздумывал недолго. Стать католиком его убедили не только доводы герцога Майенского, утверждавшего, что этот поступок станет знаком любви монарха к парижанам, но и увещевания его спутницы и любовницы Габриэль д’Эстре, мечтавшей о короне Парижа сильнее, чем о чем-либо. Помимо всего прочего существовала угроза, что испанцы поставят на французский трон своего кандидата, пусть иностранца, зато католика. Этого не желали никоим образом ни герцог Майенский, ни Генрих Наваррский. Стороны обратились за советом к богословам и в конце концов 10 мая Генрих объявил, что готов к обращению, произнеся свою знаменитую фразу: «Париж стоит мессы». Уже 25 июля на Монмартре Генрих торжественно принял причастие. Сторонники Лиги устроили антимонархический заговор. Незадолго до того в Париж из Лиона прибыл монах по имени Барьер, здесь он встретился с местным духовенством и предложил себя в качестве мученика, который убьет короля. Люди герцога Майенского раскрыли заговор, арестовали Барьера и сообщников, пытали их и сослали в тюрьму в Мелуне. «Столько священников хотят моей смерти, что же удивляться, что сердца человеческие полны злобы», — сказал по этому поводу король. Генрих не входил в столицу до марта следующего года. К тому времени Париж подготовился к триумфальному въезду правителя, но сам город устраивать пышный прием отказался. Город теперь находился в «верных» руках, им управлял префект торговой гильдии Жан Лиллье. Чтобы не вызвать прямого столкновения с королем, Лиллье приказал испанским солдатам, которые все еще находились в Париже и хранили верность Лиге, преследовать вымышленный отрядов гугенотов, якобы объявившийся в провинциях. И вот 22 марта в четыре утра Лиллье лично открыл Новые ворота на набережной Лувра. В то же время эшевен Парижа Мартин Ланглуа открыл ворота Сен-Дени. Прошел час, и армия короля Франции тихо вошла в город. С первыми лучами восходящего солнца Генрих IV вступил в столицу. Его солдаты направо и налево раздавали листовки, которые оповещали, что монарх прощает Париж. Толпы горожан сопровождали монарха во время шествия по улицам Сент-Оноре, де Ломбар и де Арси. Путь короля, которого Париж не видел целых пять лет, до моста Нотр-Дам занял два часа. Испанским солдатам, сторонникам Лиги и религиозным фанатикам было велено покинуть город, и все они подчинились. Никого не брали в плен, кровопролитие остановилось. Генрих был уверен в своих городских соратниках и спокойно занялся нейтрализацией и замирением врагов. Простые горожане превозносили короля за щедрость, радовались его благоволению и славили за прекращение конфликта. После пяти лет голода и сражений Париж обрел мир, хлеб и монарха.Глава восемнадцатая Парадиз обретает черты
В конце 1590-х годов воспоминания о гражданской войне ушли в прошлое. Первой заботой Генриха IV и его советников стало восстановление Парижа. Это была не просто насущная необходимость, но и политически грамотный ход. Парижане не простили бы королю, если бы он не сдержал слова и не восстановил столицу в былой славе. Если точнее, Генрих и его близкие прекрасно понимали, что власть их все еще хрупка и нуждается в поддержке и великой столице, правя из которой легче преодолевать сложности, каковые непременно принесет будущее. Генрих, кажется, искренне полюбил городскую жизнь, был лично заинтересован в статусе Парижа, в том, чтобы превратить его в бурлящий жизнью динамичный город. Бесконечные уличные стычки, осады, крупные сражения в предместьях и в центре финансово обескровили столицу и превратили в город развалин. Церкви и административные здания лежали в руинах. Даже самые богатые центральные улицы были не более чем грязными грунтовыми дорогами; лошадей или карету себе могли позволить лишь самые состоятельные горожане, прочим приходилось передвигаться, терпя слякоть и нечистоты. Новые здания строили из дешевых материалов и некачественно, лучшие из старых особняков были полуразрушены, обветшали из-за отсутствия ухода в прошлые десятилетия. Очевидным свидетельством запустения для всякого, кто в то время въезжал в город, было ужасное зловоние, источаемое застоявшимися водами переполненной канализации. Поговорка «Il tient comme boue de Paris» («Воняет, как парижская грязь») была известна всей Франции. Другая пословица, «Variole de Rouen et crotte de Paris ne s’en vont jamais avec la pièce» («Невозможно избавиться от двух вещей: от руанского сифилиса и парижского дерьма»), была известна всем и каждому и опять же описывала столичную грязь. Дома и улицы города кишели крысами, от болезней и мора умерли столько же парижан, сколько погибли от кровопролитных конфликтов гражданской войны. Захватив власть, Генрих начал несколько строительных проектов, которые вскоре вновь превратят Париж в жемчужину Европы. Этой программы действий придерживался и Максимилиан де Бетюн, позднее известный под именем графа де Сюлли, ближайший советник и главный стратег Генриха в тяжелые годы военных действий. Сюлли был протестантом и давно спланировал судьбу Генриха, Парижа и Франции. В отличие от властей Англии и Испании он не считал, что следует захватывать земли и богатства в Новом Свете, а стремился к возвеличиванию Франции в Европе или хотя бы во Фландрии и пойме Рейна, то есть в землях, где влияние Рима и Мадрида было невелико. Помимо всего прочего, Сюлли был талантливым администратором и осознавал, что любые вложения в город оправдаются, как только Париж восстановит славу культурной и экономической столицы Северной Европы. Рост города при Сюлли и Генрихе можно проследить по документам: по картам 1609 года, когда королевские проекты только-только начали набирать ход, и по карте 1652 года, составленной Жаком Гомбустом, где видно, что город вырос в полтора раза, наполнился иммигрантами и мог похвалиться лучшими градостроительными достижениями в Европе. Такого преображения Париж не будет знать вплоть до Второй империи в XIX веке, когда Наполеон III приступит к своему проекту создания самого «великолепного города в истории». Однако реконструкция и перестройка Парижа были делом нелегким. К концу 1590-х годов, несмотря на предпринятые еще в начале столетия попытки планировать застройки, город по сути своей оставался средневековым мегаполисом, к тому же изрядно разрушенным. Раздавая лицензии на строительство зданий, Генрих не уставал рекомендовать архитекторам и застройщикам не бояться сметать с лица земли руины и возводить новый город в стиле итальянского классицизма, которым король так восхищался. Строительство из дерева было запрещено, новые здания нового города следовало возводить из кирпича и камня. Эталоном нового стиля служила элегантная площадь Вогезов, которая появилась в 1605 году на месте старого конного рынка и до 1800 года носила имя Королевской. Вскоре площадь Вогезов стала излюбленным местом встреч дуэлянтов, проституток и модников, проживавших в расположенном неподалеку районе Марэ. Изначально Генрих задумывал застройку площади с целью обеспечить недорогим жильем малоимущие слои горожан. Но площадь Вогезов сразу стала средоточием моды и стиля. Король планировал построить другую площадь гораздо большего размера — площадь Франции, которая должна была располагаться у входа в Марэ, а на месте нынешней улицы Тюренн монарх задумал строительство нового современного квартала, на который будет равняться весь Париж. Но в день смерти монарха в 1610 году все эти проекты все еще оставались только проектами.«Клитор Парижа»
Проекты по модернизации города коснулись и мостов через реку: дома и магазины, которые служили скорее ловушками во времена наводнений или пожаров, снесли. В 1607 году Генрих объявил, что работы над Новым мостом — широким каменным сооружением через Сену, строившимся с 1566 года — завершены. Парижане долго не желали платить за мост из своего кармана и требовали, чтобы часть денег на строительство дали провинции. Генрих поступил просто: он поднял налоги на вино, которое ввозили в город, и за шесть лет завершил строительство. Пока же мост строили, молодежь взяла моду скакать на лошади через незавершенные участки, доказывая свою храбрость, преодолевая страх, рискуя упасть и свернуть шею или утонуть в реке. Король заинтересовался забавой и попробовал сам. Когда же ему указали на то, что многие от такого развлечения утонули, монарх ответил: «Может, и так, но никто из них не был королем». Такая бравада нравилась многим горожанам. Когда Новый мост наконец достроили и открыли, он мгновенно превратился в магнит для продавцов и покупателей самых разных товаров, любителей прогулок или охотников за греховными утехами или легкими деньгами. На набережной, с которой открывался вид на мост, стояла каменная мемориальная композиция, изображавшая Христа и добрую самаритянку; это помнили даже в XIX столетии: семья Коньяк-Жэ открыла большой магазин под названием «La Samaritaine», работающий по сей день. Генрих не забыл и о пустырях по обе стороны моста. Если обратиться лицом к правому берегу, можно увидеть, что справа у моста король повелел построить дворец Дофина (в честь сына), разбить треугольный сад и возвести здания красного кирпича в провинциальном стиле, популярном в Руане и Орлеане. Этот район должен был оттенить чистые прямые линии Марэ, привнеся в город свежую сельскую нотку, в противовес меркантильной и строгой жизни мегаполиса. Сегодня площадь Дофина скрыта от суеты делового центра Парижа мрачным фасадом дворца Правосудия, сюда удаляются от посторонних глаз любители пикников, игр с мячом и скучающие курильщики — в общем, истосковавшиеся по чистому духу провинции. Вместе с тем, по крайней мере с XIX века, это место наделяется определенной эротической аурой. Здесь сгорающий от желания Андре Бретон искал свою Надю; а обычно сдержанный в выражениях Андре Мальро писал, что площадь Дофина напоминает вагину «своей треугольной формой, мягкими линиями и вертикальной чертой, разделяющей зеленые насаждения надвое». Неизвестный поэт назвал площадь «клитором Парижа». Барону Осману лишь смерть помешала исполнить его план по сносу площади Дофина. Но подлинным средоточием парижского эротизма стараниями Генриха стало место ниже от моста, на правом берегу: именно здесь король приказал разбить окруженный со всех сторон водой небольшой парк, где он и его свита могли бы забавляться с courtisanes и наблюдать за разного рода представлениями. Сначала этот островок был известен как Еврейский, но вскоре это название ушло в прошлое, поскольку парижане стали называть здешний парк сквером Вер-Галан («vert gallant», «вечный повеса» — прозвище Генриха, которым король обязан любовью к роскошной жизни и половой распущенностью). Название это прижилось на века вместе с репутацией острова как территории сексуальных приключений. Парижская жизнь предполагала распущенность, что неизменно вызывало негодование протестантов. Тогда же зародилась давняя традиция полупубличной сексуальной игры, разыгрываемой на улицах столицы. Она жива и сегодня вокруг Тюильри, моста Аустерлиц, на бисексуальном карнавале Венсенского и Булонского лесов.Моралисты и циники
Возможно самым удивительным фактом времен правления Генриха было то, как легко после десятилетий бесконечных сражений парижане привыкли к мирной жизни. Отчасти так случилось из-за усталости населения от разрушений прошлых лет. Отчасти — благодаря тому, что сам Генрих был фигурой мирной, а его любовь к сексу и романтике, музыке и вину, отстраненность от религиозных конфликтов и макиавеллиевских политических игр быстро завоевали королю любовь простого люда. Королевская слабость к прекрасному полу была общеизвестна, а знаменитая и влиятельная его любовница Габриэль д’Эстре сама была звездой парижского общества. Горожане потешались над козлиным запахом, который исходил от короля, над его неряшливым видом и удивлялись, как это ему с такими внешними данными удалось заполучить королеву Марго и знатных красоток, подобных Габриэль д’Эстре. Неожиданная смерть Габриэль в 1599 году не понравилась парижанам. Поговаривали, что ее отравил некий Себастьяно Дзаметти — королевский прихвостень и, скорее всего, один из многочисленных любовников дамы. Король какое-то время искренне оплакивал любовницу, но быстро успокоился и женился, как он сам говорил, на «толстом банкире» Марии Медичи. Она сумела поладить с королем, привнеся в его жизнь эмоциональную и сексуальную упорядоченность на все последующие годы. Париж расцвел при Генрихе, превратился в привлекательное для европейских гостей место, здесь можно было почувствовать свободу, которой сами парижане не ощущали уже более ста лет. Несмотря на все раздоры и споры конца XVI века, столица отличалась редкой целостностью культуры. Религиозные войны были кровавыми и запутанными, но руководствовались простой идеологией; борьба велась между набиравшим популярность протестантизмом и переживавшей кризис католической церковью, не избавившейся от средневекового образа мыслей и старой социальной иерархии. Но в убийствах Париж превзошел всех, был эпицентром кровопролития. Кризис центрального управления стал, пожалуй, самой сильной предпосылкой к абсолютизму монархии, пред которым так преклонялись и который так ненавидели в XVIII веке. Культурную жизнь столицы странным образом обогатили сектантство и жестокость. Первым импульсом развития культуры стало появление литературного и политического кальвинизма. Дифференцировать протестантов и католиков по социальному происхождению крайне сложно (хотя если грубо обобщить, то католиками были крестьяне и аристократия, а протестантами — практичные представители среднего класса). Кальвинистская неприязнь к духовенству и горячая вера в собственную добродетель оставили существенный след в литературе и политике тех времен. Жан Кальвин в своих блистательно написанных и великолепно аргументированных трудах не оставлял оппонентам никакой возможности для возражений и утверждал, что Бог не окутан тайной, но ждет исследования проникновенным разумом. Кальвин жил и учился в Париже, разрываемом на части фанатизмом средневековой католической церкви и ее врагами, и город принял его жесткий рационализм одновременно с восторгом и ненавистью. Но значение и влияние кальвинизма не вызывают сомнения. Кальвинисты особенно увлеклись театральными драмами с морализаторским уклоном («Le Pape malade» — «Больной папа» — типичное название пьесы 1560-х годов) и, как они это называли, «научной поэзией», в произведениях которой человек исследовался с исторической, политической и богословской точек зрения. Агриппа Д’Обинье и верный Генриху IV гасконец Гийом дю Барт являются яркими представителями этого литературного течения, восхищавшего Мильтона и многих других. Придерживавшиеся христианского гуманизма Рабле и Монтень симпатизировали церкви в ее увядшей славе и составили оппозицию Кальвину и его ученикам. Знаковым произведением этой литературной традиции является «Мениппова сатира» — компендиум антикатолических произведений различных писателей-гуманистов, соединивших свои идеи в поиске «третьего пути», отличного от учения Кальвина или его врагов-католиков. «Мениппова сатира» состоит из трех частей: карикатурного вступления, высмеивающего панъевропейские амбиции католической Испании, центральной части, составленной из стилизованных речей жадных и глуповатых вымышленных деятелей Католической лиги, и финала, полного эпиграмм. В названии обыгрывается имя античного сатирика Мениппа из Гадары, а суть произведения в стремлении перевернуть реальность вверх тормашками, как это делали киники, последователи греческой школы III века до н. э. После 1593 года списки этой пьесы открыто ходило по рукам среди парижан. Парижские обыватели, любители посмеяться над церковью, не испытывавшие благоговения перед богословскими догмами, были в восторге. А слухи о том, что текст был прочитан и выверен священником Леруа из Руана, лишь подчеркивали важность произведения для читателей. Примечательно, что авторы произведения не только объясняли простым языком логику восхождения Генриха IV на трон, но посмели сравнить Париж с Иерусалимом — что было если не ересью, то весьма натянутым сравнением, так как город XVI века еще не выкарабкался из разрухи, учиненной сектантами.Озаренный убийца
Всякому было очевидно, что при Генрихе IV жизнь в Париже стала легче и привлекательнее. Преступность тем не менее продолжала беспокоить власти: король лично занялся усилением городской стражи, удвоил ее число и повысил охранникам плату. В 1607 году у Шатле начали строить казармы, а размещение отрядов стражи в каждом квартале и организацию патрулирования монарх курировал лично. Грабежи и убийства все еще были обычным делом, но теперь случались куда реже, чем в конце прошлого столетия. Король с пренебрежением отнесся к ряду покушений, считая такие инциденты частью «работы монарха». Обаятельный Генрих также без лишней скромности разъяснил, почему и каким образом преображение столицы является еще одной обязательной составляющей работы короля: «Все просто: когда хозяина дома нет, наступает хаос, а когда он возвращается, все приходит в порядок само по себе, и на основе этого порядка можно планировать дальнейшее развитие». В городе еще оставались много граждан, не принимавших преобразований, происходивших с подачи бывшего «протестантского еретика и разнузданного выродка» Генриха. И по сю пору в городе жили и продолжали подпольную антимонархическую агитацию верные сторонники Лиги, они привлекали в свои ряды священников, монахов и даже склонных прислушиваться к их идеям аристократов. Они утверждали, что Париж остается католическим городом, является наследником славы и миссии Рима, что теперь он попал в руки дьявольского лжеца, вора и чудовища-антихриста. Франсуа Равальяк принадлежал к числу фанатичных приверженцев этой точки зрения. Это был пугающе аскетичный фанатик-монах и неудавшийся преподаватель из Ангулема. Равальяк утверждал, что напрямую общается с Богом, его посещают пророческие видения, он видит врагов Господа истекающими кровью, убитыми или обращенными в бегство. Его ненависть к королю и новому городу — который не Иерусалим, но ад! — получала дополнительную подпитку: в своем родном, издавна протестантском городе Равальяк видел антиправительственные представления, полные легкого лукавства, иронических насмешек и неоспоримой логики комедии. В апреле 1610 года в Эстампе, посетив постановку протестантской пьесы «Ессе Ното», Равальяк осознал, что ему предстоит осуществить свое предназначение — убить короля и спасти Париж. Монах без промедления отправился в столицу. Равальяк уже бывал в Париже, искал встречи с монархом, приезжал, чтобы призвать короля изгнать протестантов из страны. В этот раз Франсуа вновь отправился к королевской резиденции, пообщался в Лувре со слугами и несколько дней бродил по округе. 10 мая в городе он приобрел большой нож. Утро 14 мая было не по сезону теплым, и по пути из Лувра в Арсенал ехавший на встречу с верным Сюлли Генрих поднял шторы кареты. Зажав в руке нож, Равальяк шел за королевской процессией от рю Сент-Оноре. Когда карета пробивалась по улице Ферроннери сквозь завесу зловония, которое источало расположенное неподалеку кладбище Невинно Убиенных, дорогу преградил воз с сеном. Монах прорвался сквозь стражу и распахнул дверцы кареты. Наклонившийся, чтобы что-то сказать графу д’Эпернону, Генрих получил три удара ножом в грудь. Под самыми жестокими пытками Равальяк продолжал утверждать, что действовал в одиночку. Король умер спустя несколько часов в своей библиотеке. Страна впала в прострацию. Фанатики Лиги едва сдерживали восторг. В очередной раз история Парижа и Франции оказалась в руках фанатика-убийцы и его окружения. Страх гражданской войны вновь обуял город. Мало кого успокоила жестокая казнь монаха: его обварили кипятком, разорвали на куски, а части его торса были изжарены и съедены озверевшей толпой, которая позднее сожгла другие части тела Равальяка до пепла.Глава девятнадцатая Чудесная мешанина
«Странное дело! — записал в 1854 году в своем дневнике Пьер де Л’Эстуаль. — В городе Париже совершаются такие кражи и разбои, какие бывают лишь в темной лесной чаще». Негодование автора было вызвано бесконтрольным ежедневным насилием, творившимся в столице страны. «Убийства по заказу, вооруженные ограбления, дебоши и разные формы превышения власти популярны в этом сезоне, — писал он же уже в январе 1606 года. — Разные холуи творят беззаконие, в том числе и убийства… два наемника, что пытались убить барона д’Обетерри, были колесованы на Гревской площади, солдат, убивший владельца квартиры из-за десяти франков, был повешен, прибывшему на ярмарку торговцу перерезали горло, а тело сбросили в канаву в Сен-Жермене, и это не считая девятнадцати других нераскрытых убийств на улицах Парижа. Начался год плохо, но дальше будет только хуже». Лишь за один день 4 мая 1596 года в приходе Сент-Юсташ от голода умерли семнадцать человек. Вскоре подобная статистика стала нормой жизни в городе, который на протяжении столетия накрывало волнами голода и болезней. Париж Генриха IV являлся монументальным и величественным, но был далеко не парадизом, особенно для бедных, старых и больных. Столица была населена смертельно опасными преступниками: «coupe-bourses» («резальщики кошелей») и «tireurs de laine» («хватальщики шерсти») при свете дня срезали с пояса кошельки или срывали дорогие плащи с плеч напуганных горожан. Поговаривали, что все преступники так или иначе связаны с городской стражей. Самыми страшными были «barbets» («сеттеры» — они получили свое прозвище от вошедших тогда в моду длинношерстных псов). Эти вооруженные кинжалами юнцы могли запросто ворваться в чей-либо богатый дом и, приставив к горлу хозяина нож, отобрать деньги и ценности. В ответ на беззаконие, творившееся в городе, духовенство стало организовывать шествия кающихся грешников: частенько зимой можно было видеть босоногих мужчин и женщин, шедших на покаяние к какой-либо церкви. 14 февраля 1589 года более тысячи полуодетых кающихся, ежась на холодном восточном ветру, отправились к приходу Сен-Никола-де-Шан. Обычно в эти дни в городе проводились маскарады и карнавальные шествия, что лишь подчеркивало «глубину духовности» добрых католиков, а для скептиков являлось свидетельством глупости паствы и лживости манипуляторов — фанатичных священников. Эти шествия высмеивали не только протестанты, но и малочисленные парижские атеисты, у которых появилась возможность открыто сознаться в своих убеждениях после того, как в 1594 году король подписал Нантский эдикт о веротерпимости. Католики знали, что духовенство уже не столь полагается на защиту Всевышнего, как раньше; для последнего парижанина не было секретом, что священники ходят при оружии, частенько образовывают отряды милиции, возглавляют их и даже участвуют в тайных магических обрядах. Священники, монахи и монахини погрязли в мирской суете и прекрасно знали, как использовать свое влияние на паству. К ужасу таких благочестивых прихожан, как Л’Эстуаль, они одевались в модные наряды, подражая аристократам, полюбили венецианские кружева, очки, напудренные парики и изящные часы «montre-horloges», которые носили на цепочке. Полюбились духовенству и длинные бороды, модные со времен Франциска I. Эстуаль был шокирован откровенным падением нравов, когда, например, увидел на улице двух монахинь с косметикой на лице, с завитыми и напудренными волосами. Однако Л’Эстуаль был вынужден признать что, несмотря на очевидное моральное разложение духовенства и уровень уличной преступности — обилие грабежей, насилий и убийств, — все парижские церкви были полны паствы.Боги во плоти
Генриха IV на троне сменила в качестве регентши его жена Мария Медичи. Она твердо обещала парижанам, что будет править до 1612 года, пока сын Генриха Людовик XIII не достигнет должного возраста. Мария ненавидела Лувр, считала, что он мрачен и полон неприятных воспоминаний. Вскоре после смерти Генриха королева взялась за постройку на левом берегу Сены достойного монархии района. Она приобрела особняк герцога Люксембургского и приказала своему архитектору Соломону де Броссе выстроить для нее дворец, равный по величию и красоте флорентийскому палаццо Питти. Так появился Люксембургский дворец и сад при нем. Окончания строительства королева так и не увидела, проект был завершен лишь в середине столетия, Мария умерла задолго до того в изгнании в Кельне (куда сослал ее Ришелье). Прочие преобразования, проведенные в Париже в тот период, были также связаны с политическими играми правящего класса. Вольнолюбие парижан и политическая нестабильность в недавнем прошлом научили корону опасаться за свое благополучие и быть готовой раздавить всякое инакомыслие с максимальной жестокостью. Пришедший к власти Людовик XIII показал себя именно таким королем: от него всегда можно было ждать жестокости, он дистанцировался от опасного города, оставлял столицу при первой возможности и отправлялся поохотиться в провинциях. Он с удовольствием отдал исполнительную власть в руки своего главного советника кардинала де Ришелье — дворянина из Пуату, честолюбивого и проницательного, весьма энергично правившего Парижем. Кардинал определил для себя три главных направления деятельности: следовало уничтожить протестантское движение во Франции, укрепить абсолютную власть монархии и расширить границы страны за счет Австрии. Службу свою Ришелье начал в состоятельной и влиятельной семье Кончини, которая, по слухам, была причастна к убийству Генриха IV и почти полностью уничтожена достигшим совершеннолетия Людовиком XIII. Умный Ришелье вернулся в лоно церкви и быстро добился благоволения короля, а вскоре приобрел большое влияние на его двор и министров. Он гордился своей жестокостью: «Когда я принимаю решение, я, не сворачивая, следую к цели, все сметаю со своего пути, все обнажаю и свои поступки покрываю красной сутаной». Враги кардинала непонятным образом пропадали, в обществе ходили слухи о пытках и увечьях, причиняемых в Шато Банье и Шато Руэль. Большинство врагов Ришелье сложили головы на плахе, обычно без суда и следствия, будучи всего лишь заподозрены в заговоре. Кардинал был самолюбив и подозрителен, лично посетил казнь известного историка Жака Огюста де Ту, одобрившего в своих трудах Реформацию и мягко попенявшего кардиналу за его прошлое. Эта форма государственной тирании повлекла за собой почти поголовное самоуничижение политиков страны перед истинными ее правителями. Расчетливый и холодный король обладал абсолютной властью, парламент объявил его «боговдохновенным» и «Богом во плоти». Десница Божья, кардинал Ришелье молча принимал подобные восхваления. Ришелье был весьма посредственным литератором, но мнил себя покровителем искусств. Он писал богословские книги и пьесы, основал Французскую Академию. Кардинал творил, главным образом, чтобы впечатлить любовниц (самые знаменитые из них — Марион Делорм и герцогиня де Комбалле, которая, кстати, была его племянницей). Французская Академия родилась из группы литераторов, среди которых в то время были Жан Ожье де Гомбо, Антуан Годо и Жан Шаплен; они встречались в своем узком кругу и вели философские и литературные диспуты. Именно Ришелье решил обратить эти встречи в официальный институт французского языка и литературы. Но независимость в деятельности Академии была пресечена сразу после появления пьесы Пьера Корнеля «Сид», в которой Ришелье разглядел нападки на свою персону (осуждение Академией произведения, однако, содержало лишь критику грамматики и стиля Корнеля). В Париже кардинал стремился воплощать проекты, призванные умножить его собственную славу. Да, он основал Ботанический сад по совету королевского врача Лаброса как место выращивания лекарственных трав. Но щедрые субсидии на восстановление Сорбонны служили только удовлетворению его самомнения — здесь он хотел поставить собственное надгробие. То же можно сказать и о дворце кардинала, ставшем позднее известным как Пале-Рояль: построенное в честь Ришелье здание является центральным элементом ансамбля «аристократического квартала», возведенного для проживания властителей города в достойном их великолепии. Земля Парижа в этот период в основном была в руках умных и состоятельных спекулянтов. Например один из них, Луи ле Барбье, изгнал бродяг и проституток с Иль-де-Ваш (Коровьего острова) и острова Нотр-Дам, соединил их земли и превратил в более «здоровое» образование — остров Людовика Святого (Сен-Луи). Он же получил от короля заказ снести древние стены на севере города, вследствие чего территория Парижа увеличилась на несколько округов. Контракты заключались, расторгались и заключались снова, но результатов не было до тех пор, пока работы не оплачивались живыми деньгами (Ле Барбье стремился в основном к тому, чтобы собрать своим дочерям приданое). Ришелье люто ненавидел Ле Барбье и его коллег, а амбиции кардинала, связанные с Парижем, входили в прямое противоречие с их предприятиями. Но найти простой и ясный повод для устранения дельцов кардиналу не удавалось. Ришелье решил уничтожить их финансовыми аферами, в которых он точно выиграет, пусть и ценой разорения короны. Территория к северу от реки, протянувшаяся до нынешней улицы Ришелье, явилась полигоном для урбанистических планов кардинала и, соответственно, получила имя «квартала Ришелье». Интересно было бы понять, сколько иронии вкладывал Корнель в драму «Лжец», восславляя «новый Париж», говоря, что «весь город построен с помпой, и кажется, что из гнилой старой канавы явилось чудо».Театр улицы
Усиление абсолютизма и укрепление правительства причиняли серьезные неудобства парижанам, которые ни при каком régime не теряли чувства юмора, тяги к плотским утехам, веселью ярмарок и рынков, ставших средоточием городской жизни. В первые годы нового столетия, несмотря на неодобрение религиозных властей, жонглеры, комедианты и бродячие актеры вновь появились на улицах и площадях, как это бывало в Средневековье — до того как пуританство и гражданская война лишили Париж веселых выступлений менестрелей, труверов и жонглеров. Среди любимчиков парижан был Толстый Гийом (в действительности нормандец по имени Робер Герин). По словам Анри де Соваля, частенько наблюдавшего его представления, Гийом был «так толст, так полон сала, а живот его был таким огромным», что «он ходил позади своего живота, словно преследуя жирное брюхо». Представление Толстого Гийома начиналось с того, что он появлялся на сцене одетым в бочку и с лицом, вымазанным мукой (напоминая публике о том, что раньше он был пекарем). Он шутил, пел и гримасничал, в его репертуар входили ядовитая политическая сатира и самые сальные анекдоты, обращенные одинаково против мужчин и женщин, но всегда остроумные. Обычно Толстый Гийом выступал на Новом мосту, который в те времена был эпицентром культурной жизни города, после обеда и ранним вечером. Мост стал местом паломничества жуликов, бродяг, проституток, коробейников, нищих и почтенных буржуа. Ширина моста составляла двадцать восемь метров — не просто шире любого моста Европы, но даже улицы или авеню. Это была естественная сцена, где в исполнении уличных актеров находило отражение бесконечное кипение городской жизни, подлинный вкус которой мог ощутить зритель. Частенько Гийома сопровождала пара других знаменитых комедиантов — Готье-Гаргулья и Тюрлюпен, онинередко выступали как трио и подрабатывали в Фобур Сен-Лорен в пекарнях. Странным образом профессия пекаря считалась близкой уличным актерам (традиция эта пришла в столицу из Миди). Король благоволил троице, но недолго; все испортила шутка Толстого Гийома, который, высмеивая магистрат, зашел слишком далеко. Актер умер голодным и несчастным. Все трое похоронены в покровительствующей уличным артистам церкви Сен-Совер. Другим уличным лицедеям везло больше. В их ряду можно упомянуть легендарного мастера карточных фокусов Мэтра Гонина. Ловкость рук в обращении с картами сделала фокусника настолько знаменитым, что на него обратила внимание даже корона, ценившая в своих министрах умение быстро манипулировать и ловчить (позднее прозвища «Мэтр Гонин» удостоился известный своей изворотливостью Ришелье). Главными конкурентами Толстого Гийома были клоун Табарен и его хозяин Мондор, выступавшие, как и толстяк, на Новом мосту. В своей самой знаменитой сценке Табарен изображал голодного или ипохондрика (или обоих одновременно), наряженного врачом или ученым и третирующего Мондора, который в свою очередь отвечал на нападки яростными и язвительными замечаниями. В других сценках Табарен всегда выглядел глупцом или легковерным идиотом. Однако это не мешало ему практиковать медицину между выступлениями. Именно Табарену приписывают изобретение рекламных пауз, он частенько останавливал выступление и рассказывал публике о достоинствах того или иного товара; он же стал прототипом лживого и недобросовестного слуги в фарсе Мольера «Проделки Скапена». Выступления Табарена прекратились только после того, как он не погнушался использовать элементы порнографии. На его голову мгновенно обрушился гнев городских властей: хотя порнография была популярна и широко распространена, ее считали сугубо домашним развлечением. На Новом мосту «трудились» преступники, срезая кошельки и сдергивая плащи. Жулики, шлюхи, актеры, шарлатаны и шулеры стояли по обе стороны улицы, которая была единственной дорогой к новой торговой улице Дофина на левом берегу к рынкам, пакгаузам и банкам правобережья. Этот нюанс жизни улиц при Людовике XIII отмечен в песенке «Les Filouteries du Pont-Neuf»[62], быстро и прочно закрепившейся в парижском фольклоре.ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ НОВЫЙ РИМ И ДРЕВНИЙ СОДОМ 1680–1799 гг.
В Палермо — Этна, В Париже — Pensée. Виктор Гюго. Литературная и философская смесь (1867)Добрый парижанин все пьет, все ест, все глотает. Луи Себастьян Мерсье. Картины Парижа (1781)
Глава двадцатая Великолепие и невзгоды
Происхождение термина «великий век», «le grand siècle», до сих пор вызывает споры. Впервые его использовали французские историки XIX века, когда описывали период правления Людовика XIV, взошедшего на трон в 1643-м и правившего до своей кончины в 1715 году. После смерти главного королевского советника и министра Мазарини в 1661 году вся власть оказалась сосредоточенной в руках Людовика. Это время характеризуется восхождением Франции к вершинам культурной и политической жизни, которые обеспечили стране двухвековое первенство в Европе, завершившееся лишь в 1871 году капитуляцией перед бисмарковской Германией. Сторонники другой точки зрения утверждают иногда, что определение «великий век» следует отнести ко всему XVIII веку, ведь в то столетие королевская власть начала сдавать свои позиции, а во Франции и Европе произошли кардинальные изменения. То было время, когда, по словам Мишле, «все и началось», когда религия уступила позиции разуму, когда старый порядок начал рушиться. Большая же часть века XVII, напротив, прошла в хаосе и неразберихе: французы продолжали участвовать в застарелых религиозных конфликтах, не видели своего будущего, не осознавали потенциала. Историки XX века, связанные с левым политическим крылом, считают «великий век» периодом иллюзорной власти культуры, мифом о величии, по сей день подтачивающим политику Франции. Несмотря ни на что, с середины XVII века Париж заслуженно стал считаться столицей Европы, законодателем в политике, моде и искусстве. Высшее общество Рима и Вены подражало парижским модам в поведении, одежде и даже речи (быть истинным парижанином означало быть осторожным и ироничным). Казалось, только хладнокровной Англии удалось устоять перед чарами французской столицы, околдовавшей весь мир. Но сильнее парижских модников англичанам претили парижские политики. То было время, когда внутренняя и внешняя политика Франции определялась Парижем и стремилась к «la gloire», то есть не только к славе и величию, но и к исполнению высшей, божественной миссии. Да, военные победы были важны, но не более чем величие королевского двора, созданное этими победами. Король — на какое-то время, по крайней мере, — был наделен своими подданными сверхчеловеческими способностями, а абсолютизм стал привычной формой правления на всех уровнях власти. Горожане XVII столетия видели, что «великий век» соединил правительство и монархию в неделимое целое. Король стал воплощением государства и Божьим наместником на земле. Панорама Парижа. Раскрашенная гравюра. Неизвестный художник. XVII век. Музей Карнавале, Париж.
(© Photo RMN / Bulloz)
Панорама Парижа. Раскрашенная гравюра. Неизвестный художник. XVII век. Музей Карнавале, Париж.
(© Photo RMN / Bulloz)
Олицетворением такой системы управления явились триумфальные арки в самом сердце города, появившиеся в 1670 году у старинных ворот Сен-Мартен и Сен-Дени. Людовик XIV приказал построить эти арки в честь военных побед Франции за границей. Парижу больше не угрожала осада, и потому старые защитные сооружения впервые в истории были снесены, а на их месте появились улицы, которые в будущем станут первыми городскими бульварами (французское слово «бульвар» происходит от голландского «bulwarks»). Монарх, вступая в город, традиционно проезжал под аркой Сен-Дени (ирония истории в том, что последней особой королевской крови, проехавшей под аркой, была королева Виктория, прибывшая в город на Всемирную выставку 1855 года). Моделью развития городского ландшафта и построения идеологии государственной столицы в данном случае послужил Рим. Литераторы того времени прикладывали особые усилия, чтобы указать миру на древние корни Парижа, на его призвание стать городом возрожденной античности. В соответствии с программой по возрождению города правительство взяло под свой контроль все инструменты по укреплению государственного величия: искусство, литературу и науку. Ужесточился контроль властей над «скандальными» и потенциально опасными текстами, противоречащими официальной точке зрения и задаче по созданию здорового общества. И все же, несмотря на цензуру, изменения в законодательстве и религиозные ограничения позволили вырасти нескольким поколениям талантливых деятелей искусства и литературы, пользовавшихся невероятным авторитетом благодаря интеллекту, инакомыслию и чистому гению. Самым популярным видом искусства стало театральное. С помощью таких мастеров, как Мольер, театр доказал культурное превосходство Парижа над любым другим городом Европы. Люди ехали издалека, чтобы увидеть пьесы Пьера Корнеля, Жана Расина и Мольера. Эти произведения частенько критиковал литературный журнал «Le Mercure Galant», но парижане все равно набивали до отказа театральные залы, чтобы заодно выпить, подраться, завести интрижку, познакомиться с актрисами и вкусить культурной жизни. Театр «Комеди Франсез» был официально открыт в 1680 году, но актерская труппа, которая в нем играла (в том числе и Мольер), была давно известна парижской публике и монарху по выступлениям в Пале-Рояль и позднее в театре «Guénégaud», что стоял неподалеку от Нового моста. Людовик XIV был человеком дальновидным и не раз пытался учредить театральную цензуру, особенно его раздражали итальянские фарсы. Однако эти попытки общество попросту игнорировало. Вечер в театре в те времена считался проведенным впустую, если во время представления не произошло ничего опасного или эротического, что развлекло бы высшее общество. «Parterre», или яма, считалась местом опасным, в партере располагались пьяные слуги и солдаты. Именно эти места в зале становились очагом развлечения, возможностью пощекотать нервы богатых зрителей, часто занимавших места на сцене, чтобы наблюдать одновременно и за ходом пьесы, и за партером. Известен случай, когда в 1673 году разочарованная публика попыталась даже сжечь театр. В 1690-х годах театры были полны солдатами, прибывшими в город на побывку или вышедшими в отставку, так что безудержное насилие в зале приобретало характер бессмысленный и жестокий. Однажды в «Комеди Франсез» представление мрачной пьесы Расина было прервано выходками датского дога, которого привел с собой некий маркиз. Толпа громко подзадоривала пса, облаивавшего актеров — представление пришлось прекратить. Как-то двое аристократов были арестованы за избиение извозчика. В свое оправдание они сказали, что «в “Комеди Франсез” вечер был скучен». Спонтанные вспышки насилия в театрах лишний раз подтверждают тот факт, что реальный Париж оставался грязным, полным болезней и безумия городом, в котором легко можно было получить нож под ребро, подвергнуться изнасилованию или просто умереть от голода. Проживавшие в самом центре европейской истории парижане не ощущали себя ни уникальными, ни привилегированными.
Городской кошмар
Мифы и легенды, крепившие городской престиж, никоим образом не касались низов общества. Еще до переезда в Версаль Людовик XIV и его народ дистанцировались друг от друга. Когда король в конце концов удалился из столицы, для парижских обывателей он превратился в абстрактное олицетворение государства. Повседневная жизнь города была грязна, опасна — и ближе к сердцу парижан, чем жизнь какого-то там двора. Признаком пренебрежительного отношения народа к переехавшему в Версаль двору может служить хотя бы тот факт, что всех королей, проживавших вне Парижа, столичный фольклор полностью игнорировал. Пока монархи обитали в Париже, королей частенько высмеивали столичные песенки, сатирические произведения, они становились героями поговорок. Теперь король выпал из поля зрения парижан. Создавшееся положение противоречило первоначальным намерениям Людовика быть ближе к народу, когда он задумывал превратить столицу в политический и культурный мегаполис, в котором воедино сольются государство, монархия и городская культура. Людовик XIV был облечен властью пяти лет от роду, вырос во время регентства своей матери Анны Австрийской и правления Мазарини. Когда в 1661 году его главный советник умер, король взял власть в свои руки. Монарху было двадцать три года, и он верил, что самим Богом призван вести за собой не только Францию, но всю Европу. Это был тот самый юнец, который десятью годами ранее, по крайней мере согласно легендам, проскакал шесть миль с места охоты до дворца Правосудия только потому, что услышал, будто парламент решил собраться без его ведома. Вбежав в зал собрания, король щелкнул хлыстом и произнес: «Государство — это я!». Этот случай прекрасно показывает любовь Людовика к показным деяниям. Монарха прозвали «Король-Солнце» после того, как он, празднуя рождение своего первенца-сына, пронесся по городу со щитом, на котором нарисовал эмблему в виде солнца. Несмотря на то что в тот период парижане его любили, король уже начал относиться к горожанам с подозрением и проводил в столице как можно меньше времени. При первой же возможности он переехал в Версаль, где чувствовал себя защищенным, и увлекся охотой. Проживая в Версале, король строил дворец, соответствующий своему величию, а окружающие земли организовывал по регулярному плану, совершенно не похожему на беспорядочный клубок улиц Парижа. За сорок с лишним лет он навестит столицу лишь двадцать пять раз. Неприязнь к горожанам у Людовика возникла из-за бунтов Фронды. Помимо того, короля сильно беспокоил собственный престиж, он не желал общаться с народом или потенциальными претендентами на власть и влияние. Одним из таких конкурентов был некий Никола Фуке, дерзкий и высокомерный, бывший суперинтендант финансов, метивший на место премьер-министра сразу после смерти Мазарини. Но Фуке совершил роковую ошибку: пригласил монарха на шикарный банкет, после которого при свете факелов было устроено представление новой пьесы Мольера (в спектакле играл сам автор); дворец Фуке был столь великолепен, что затмил королевскую резиденцию. Людовик впал в бешенство, но выждал целых три недели, прежде чем приказал арестовать Фуке по надуманным обвинениям в растрате и распространении порнографии (поговаривали, что Фуке является соавтором мадам де Ментенон в написании «L’École des Filles» — пикантной сапфической книги, популярной во всех парижских салонах). Фуке был героем парижских улиц, что лишь укрепляло желание Людовика держаться от столицы подальше, а героя приговорили к пожизненному заключению в Бастилии. Пока суд да дело, пост Мазарини занял бывший придворный секретарь и заместитель Фуке Жан Батист Кольбер. Этот холодный и расчетливый человек (которого остроглазая мадам Севинье — летописец придворной жизни — прозвала «le Nord») без колебаний шел к намеченной цели. Главной своей целью он поставил увеличить Париж, придать ему больше блеска и отобрать у Рима титул столицы европейской цивилизации. Новый министр посвятил себя развитию искусств, открывал академии, собрал личную библиотеку и поддерживал интеллектуальные журналы, подобные «Journal des Savants». Но главное, Кольбер искренне верил, что Франции суждено стать великой страной, а французскому народу — первым среди наций Европы. Однако его тщательно продуманные планы разрушались бесконечными затеями и войнами Людовика, регулярно опустошавшего казну и злившего парижан, плативших за все налогами. Подобно королю, министр отдалялся от Парижа и в конце концов возненавидел его жителей. Среди парижан вновь поползли слухи, что ужасный, зловещий персонаж городского фольклора «маленький красный человек», бродит вокруг Тюильри и Лувра. Этот страшила воплотил в себе коктейль парижских предрассудков и бунтовщических настроений: «маленький красный человек» предрекал смерть властям, его боялись даже такие влиятельные люди, как Екатерина Медичи и Ришелье. «Маленький красный человек» вновь явится жителям города в 1789 году накануне Великой французской революции, а позднее предвестил кровопролитие в 1793 году. В последний раз его видели перед провальными походами Наполеона на Египет и Россию. Когда же кошмарный вестник явился в 1648 году, пророчествуя о напастях Фронды, парижане оживленно восприняли слухи о его появлении и уверяли, что на этот раз самые страшные городские опасения сбудутся.Блестящее общество
Великий век классицизма характеризуется не только как эпоха торжества разума, но и как время, когда в людских сердцах царили ирония и равнодушие. Всякий рассудительный горожанин равнодушно переступил бы через труп на Новом мосту (довольно обычная картина в те времена), не повернулся бы на плач голодного младенца. Он отмахивался от жалостной мольбы «cul-de-jatte» («калеки-попрошайки» — мост был их излюбленным местом) с тем же равнодушием, с каким подзывал «haquet» — новую разновидность наемной кареты, придуманной с целью избавить пеших горожан от уличной грязи. Внешний вид решал все. Еще до перестройки города и реконструкции в обществе зародилась традиция демонстративно целовать руки. Эта практика не только получила собственное название — «baise-mains» («целование рук» или «е…ля руками» — в те времена слово «baiser» имело то же двойственное значение, что и сегодня), но стала популярна среди женоподобных юнцов, целовавших друг другу руки прямо на улице и как можно чаще. Эти «милашки» ходили в долгах как в шелках, но ко всему относились беззаботно: «Mais il n’est pas bon gentilhomme, qui ne doit rien à ce jourd’hui» («Кто сегодня не в долгах, не может называться благородным»), — писал сатирик Эстерно. Он и сам был благородным вором. Ограбления вошли в моду среди состоятельных и модных молодых людей, пьянствовавших в тавернах у Нового моста и в Марэ. Целью новой забавы было украсть самые лучшие и изысканные предметы: одежду, накидки, шляпы или кошели, — а затем затеряться в толпе. Новые фонари и редкий полицейский, патрулирующий улицы, отпугивали Эстерно, и он не уставал восхищаться умением и ловкостью, которые требовались для «благородного дела». Мужчины и женщины одинаково восхищались самыми искусными уличными ворами, среди которых были такие люди, как барон де Вейлак и шевалье д’Одри. Горожанкам угрожали похитители, насильники и принудительные браки. Когда бедный «gentilhomme» крал в городе вдову или девушку из богатой семьи, увозил в деревенскую глушь и платил сельскому священнику, чтобы тот их поженил, он не совершал ничего необычного для своего времени. Тайному браку частенько предшествовало изнасилование, уничтожавшее остатки репутации несчастной дамы. Подобное поведение было принятым среди аристократов. Отцам украденных невест не оставалось ничего другого, как собирать какое-никакое приданое. Интересно, что, пусть основанные на вымогательстве, многие из таких браков оказались счастливыми.Несмотря на кажущуюся хаотичность происходящего, город преображался, дабы соответствовать вкусам своих непоседливых обитателей. Оставшиеся в наследство от Средневековья здания либо рушились от ветхости, либо были снесены уже в десятых годах нового века. Впервые в истории развитие города целенаправленно планировалось, исходя из стремления превратить его в столицу страны и центр торговли, а не в королевскую резиденцию, как в Средние века. Париж процветал. Первые уличные фонари зажглись на улицах столицы в 1667 году, сами же улицы к тому времени были расширены, и солнечный восход теперь освещал не только мосты, но и когда-то самые темные уголки города. Ночью на город опускалась тишина. Еще совсем недавно ночная столица была не менее опасной, чем темный лес, но всего за несколько лет начальник полиции Никола-Габриель де ла Рейни пусть не очистил город от воров и бандитов, но уж точно сделал спокойнее. Стражники Ла Рейни жестоко обходились со всяким, кто разбивал уличные фонари или как-либо иначе препятствовал плану по обеспечению правопорядка на улицах. Дуэли были запрещены, в театре вооруженными не могли появиться даже самые видные «gentilhomme». Впервые на стенах домов появились плакаты, оповещающие население о грядущих ярмарках и политических собраниях. В 1630-х годах появилась первая городская газета «La Gazette»; ее выпуски быстро приобрели регулярный характер, газета публиковала новости всех европейских столиц. В надежде увидеть турецкого посла, захваченных в Сенегале рабов или мавра Матео Лопеса, чернокожего мусульманина из Марокко, на улицах собирались толпы горожан. Устав рассылать слуг с записками и деньгами по разрастающемуся городу, политик Жан Жак Ренуар де Виллайе придумал создать почтовую службу, и в лучших районах города появились почтовые ящики. Этому предшествовало появление первой системы общественного транспорта: наемная карета возила сразу нескольких горожан — «carrosse» была изобретена предприимчивым столяром по имени Николя Соваж. К 1650-м годам у церкви Сен-Фиакр можно было увидеть около двух десятков таких карет, выстроившихся в очередь в ожидании пассажиров (из-за места стоянки кареты с тех пор называли «fiacres»). Приблизительно через десять лет по предложению философа и математика Блеза Паскаля кареты увеличили, они стали вмещать от пяти и более человек и курсировали от Люксембургского дворца до Нового моста, к Лувру и обратно. Ремесленники разных специальностей начали селиться в определенных районах города, из этого родилась идея разбить город на округа. Кучные поселения породили чувство локтя, складывались братства, коммуны и сообщества, основой которых стало место проживания, что Парижу прошлого было чуждо. В такие округа, как Марэ или остров Святого Людовика, вкладывались огромные суммы (раньше эти районы не замечали, их даже оставили без мостов), архитекторы соревновались друг с другом, стремясь строить красиво и удобно. Первые авторские дома строились в стиле Ренессанса и имитировали итальянские места для гулянья и открытые пьяццы. Наступил век камня, и новые парижские строения зачастую превосходили основательностью свои итальянские прототипы. Наметилась тенденция к демократичности: парижская буржуазия, желая отличаться и сохранить при этом элегантность городского стиля жизни, заказывала так называемые «pavillons» — несколько более сдержанные, чем огромные торжественные особняки-hôtels, где проживала городская аристократия. Теперь центр столицы застраивали не вверх, а вширь, улицы и площади обустраивали пассажами, прокладывали новые широкие, обсаженные деревьями улицы; сцена для проявления показной роскоши была подготовлена. Словечко «flâneur» (бродить без цели) попало в Париж из Нормандии и превосходно определяло элегантное безделье, которое модные столичные молодые люди приняли как образ жизни. Фланер станет характерным персонажем Парижа XIX и XX веков. Культ праздности родился как псевдоаристократический стиль, контрастирующий с утилитарной системой труда и промышленности. Фланеру, как это ни смешно, суждено было стать ключевым персонажем современности. Уже к XVII веку его (фланер — всегда мужского пола) фигура, в поисках сексуальных развлечений или выпивки бессистемно слоняющаяся по улицам города, который по мере роста и уплотнения населения с каждым днем усложнялся, сделалась совершенно привычной.
Искусство удовольствия
Париж — извечная столица пьянства. Таверны и виноградники Лютеции были известны всей Римской империи, качество вина и обилие пива в Средневековье просла-вили Париж на полмира. Ко второй половине XVII века почти каждая улица столицы могла похвастаться парой-тройкой таверн, где подавали алкоголь разного качества и цены. Хотя в глазах двора, церкви и полиции подобные места были непозволительными рассадниками вольнодумства и беспорядков, для парижского обывателя они стали неотъемлемым элементом быта, местом ежедневного общения. Люди шли сюда, чтобы поесть, выпить, найти сексуального партнера, подраться, поскандалить, выстроить планы на будущее и пообщаться с соседями; каждый из них чувствовал свою принадлежность не мегаполису, но собственному кварталу. Контролировать таверны было затруднительно, а поддерживать в них правопорядок и вовсе невозможно. Дебоши и праздность висели дамокловым мечом, угрожая моральному климату «самого католического города». Шумная хмельная атмосфера таверн являла и другую общественную язву: здесь во весь голос высказывались религиозные и политические диссиденты. Само собой, власти не оставляли попыток контролировать кабаки. Король Иоанн Добрый в 1350 году установил цену на красное вино в 10 денье за пинту, на белое — 8, а виноторговлей предписал заниматься исключительно зарегистрированным «marchands de vin». Но ни эта, ни прочие меры по контролю за потоком алкоголя, текущего через город, ничего не изменили, и мешавшая властям анархия пьянства процветала. Повседневная жизнь таверн и грязных городских улочек сильно контрастировала со стерильным великолепием Версаля Людовика XIV. Самые знаменитые столичные питейные заведения насчитывали по нескольку столетий истории — больше, чем королевская династия. Самые примечательные личности «великого века» выпивали, например, в «Pomme de Pin» («Сосновая шишка») на углу улицы де ла Ситэ. Здесь завсегдатаями были Рабле и Вийон, затем — Расин, Мольер, Шапель и Буало (который, по преданиям, напивался так, что, протрезвев, со стыда был готов сменить имя). Другими знаменитыми питейными заведениями тех времен были «La Corne» («Охотничий рог») на площади Мобер, «Berceau» («Колыбель») на мосту Сен-Мишель, «La Fosse aux Lions» («Львиное логово») на рю Па-де-ла-Мюль, «Cormier Fleuri» («Рябина в цвету») у церкви Сен-Юсташ и «Croix de Lorraine» («Лоранский крест») близ Бастилии. Таверны именовали подобным образом, чтобы отразить царившую в заведении атмосферу, описать клиентуру, намекнуть на пейзанский дух, псевдопатриотический пафос или просто скаламбурить (название таверны и гостиницы «Au Lion d’Or» — «Золотой лев» произносилось как «Au lit où on dort» — «Постель, в которой можно выспаться»). Но символизм названий и реалии жизни частенько не совпадали: таверна с патриотическим названием «Лотарингский крест» была известна драками, которые затевали освобожденные из Бастилии и подвыпившие королевские мушкетеры, знаменитые скорее пьянством, нежели храбростью на поле боя. Пьянство считалось признаком патриотизма: самые популярные вина не только везли из Бургундии или Бордо, но и производили в окрестностях Парижа — на Монмартре, в Сюрене или Аржантале. Первые cafés — места, специализацией которых была продажа кофе, а не эля и вина, — появились в столице в 1660-х годах, но поначалу успеха не имели. Идею этих заведений в Париж завезли армяне Паскаль и Грегуар Алеп, два брата, которые решили организовать лавки для приготовления и продажи нового модного напитка — кофе. Сама идея кофейни была импортирована с Востока, как, кстати, и круассаны, впервые появившиеся в Вене после снятия турецкой осады и изгнания турок из Европы. Публика отнеслась к этим новинкам с большим подозрением и настороженностью, хотя чай, прибывший в 1636 году из Китая, завоевал популярность сразу после своего появления. Но все новинки из Италии большинство парижан принимали с восторгом. Со времен Екатерины Медичи лимонады, оранжады и шербеты были обычным товаром на уличных лотках. Не удивительно, что первое успешное кафе Парижа открыл сицилиец Франческо Прокопио Кольтелли (или Франсуа Прокоп). В кафе «Прокоп» подавали вино, но главными отличительными чертами были кофе и тишина, обеспечивающая возможность спокойного разговора, вдали от пьяниц, проституток и игроков — традиционных завсегдатаев таверн. Именно «Прокоп» стал колыбелью движения Просвещения, здесь сиживали Руссо, Мармонтель и Вольтер, а сегодня, сменив несколько адресов, старинная кофейня расположилась на улице Ансьенн Комеди и предлагает туристам дорогущие steak-frites[65]. Когда в 1689 году заведение открылось, круассаны и кофе считались модным поветрием, которое, как предрекал некий современник, вскоре канет в лету, словно «падающая звезда в черном небе». Париж рос, но наблюдался продовольственный дефицит. Кольберу приходилось ввозить дешевые продукты питания из Польши и поймы Рейна. Основной рацион парижской бедноты составляли бобы, хлеб и различные травы. Те, кто не мог позволить себе экзотической роскоши cafés и limonadiers, жили на улицах, заполненных бродягами, поэтами, шлюхами и ворами — в эпицентре своеобразного ежедневного и (с появлением уличного освещения) еженощного парада. В ряды этих бедняков затесался самоучка «математик» Волесар — одинокий измученный человек (писатель Марк де Малле, довольно ленивый и пустой, назвал его «скелетом в лохмотьях»), который не к месту разражался поэтическими виршами. Богачей больше волновало, что Волесар прославился как политический зелот (или потенциальный безумец) и проводил часы, буравя укоряющим взглядом окна новых rôtisseries[66] и ресторанов на рю Висконти и рю де Буши, где буржуа и аристократы угощались на глазах у голодающих парижан.Глава двадцать первая Тень и зловоние
Париж начала XVIII века, несмотря на уверенный рост, больше походил на город провинциальный, а порой — и вовсе на пустырь. Всего в пяти минутах ходьбы от границы Сен-Жак раскинулись ячменные поля. Улицы пригорода Сен-Марсель, несмотря на то, что были замощены, казались зеленым сельским уголком. Состоятельный горожанин адвокат Дезэссар в своих мемуарах пишет о том, как приятно попасть в деревню всего за пятнадцать минут пешего хода от Военной школы и, опершись об ограду, поболтать о делах семейных с дружелюбным крестьянином, редко бывающим в Париже и далеким от столичной суеты. Ведущая в Париж королевская дорога зачастую пугала провинциалов и деревенских жителей. Шум был слышен задолго до появления города в поле зрения. Париж был и чудом, и кошмаром для того, кто жил в размеренном ритме сельской жизни, в согласии с природой, подчинявшейся смене времен года. Столица была воплощением шума, путаницы, беспорядка и насилия над душой. Всякий приезжий подвергался риску ограбления со стороны воров или банд бывших солдат, промышлявших у пригородных дорог. Самыми знаменитыми, даже среди провинциалов, звуками города были так называемые «крики Парижа», которые издавали лоточники. Тексты, которые они выкрикивали, стали неотъемлемой частью парижского фольклора. Во времен Средневековья лоточники развлекали столицу сатирой, стихами и песнями. К началу 1700-х годов кастовая организация лоточников была не менее сложна, чем любой другой сегмент парижского общества. Торговцы крепкими напитками (их чашками покупали замерзшие и усталые горожане по пути на работу) и кофе в те времена пользовались особенной популярностью. Продавцы рыбы — обычно торговки — традиционно находились на нижней ступени иерархической лестницы, даже несмотря на любовь парижан к морепродуктам (их доставляли в столицу быстрее прочего провианта, транспортировка даров моря с побережья занимала не больше двух дней). В «бесконечную симфонию улиц» вливались голоса швейцаров, кучеров, проституток, выпивох, солдат и шарлатанов разного пошиба. В бурлящей какофонии уличных звуков гулко разносились выкрики муниципальных глашатаев, предостерегавших народ не ходить по льду реки или, например, опасаться воров. Официальные объявления глашатаи выкрикивали под бой барабанов на главных площадях города или в порту. Время суток отмечали звоном церковных колоколов и боем часов на ратуше (на башне которой статуя Минервы сжимала в руке герб города) и на водонапорной башне «Самаритянка», стоявшей за Новым мостом. Парижский рабочий класс даже не замечал звуков, доносившихся сквозь тонкие стены дешевых многоквартирных домов: разговоров на повышенных тонах, ссор, храпа, пуков и отрыжек. Жители столицы славились тем, что принимались кричать и скандалить по самому незначительному поводу; чтобы отмежеваться от простонародья аристократия и буржуа намеренно старались говорить спокойно, на пониженных тонах. Все парижане, вне зависимости от классовой принадлежности, привыкли к запахам немытых тел, пищи, дерьма, кофе, животных и уличной грязи.Панорамы
Стремясь точнее понять Париж и установить в нем хоть какой-то порядок, парижские архитекторы и картографы решили составить городские карты. С конца XVII века и до революции 1789 года было выпущено более ста карт Парижа. Но многочисленные схемы, несмотря на все желание и страсть их авторов-картографов, были крайне неточны. Первопричиной неточности было намеренно непропорциональное расширение изображенных улиц, так, чтобы фасады зданий на рисунке выглядели детально и величественно. Следует заметить, что большинство парижских улиц тех времен не превышали в ширину 4,5 метров, но чаще были и того уже; мощеные улицы имели уклон к сточным канавам. Частенько, чтобы проехать по такому «проспекту» на карете, вознице приходилось прикладывать немало усилий, чтобы не съехать в канаву. Второй причиной неточностей, допущенных картографией, стали высокие темпы роста города, раздвигавшего свои границы так быстро, что в его черте оказывались пригороды, даже не нанесенные на карты. Строительный бум времен Людовика XIV еще гуще населил центр города, превратив его практически в непроходимые джунгли. Первую по-настоящему точную карту Парижа в 1785–1790 годах создал инженер Вернике. Ночами он бродил по городу, измеряя и размечая улицы с предельно возможной точностью. «Настоящая жизнь улиц, — подвел итог ученый, — науке неизвестна». Пусть парижане начала XVII века не могли узреть всей панорамы города, но от их внимания не укрылись признаки перемен и начала общественного разложения. Для многих первым сигналом финала «великого века» стала незавершенная триумфальная арка на площади Трона (сегодня — площадь Нации), которую в 1716 году в конце концов просто снесли. Людовик XIV приказал построить пять таких «ворот» вокруг города, но завершены были лишь арки Сен-Дени и Сен-Мартен. В начале столетия имелись другие, требовавшие незамедлительных решений проблемы. Сена продолжала выполнять функцию главной городской артерии, но в то же время несла заразу и эпидемии, регулярно навещавшие город. Погода столицу не баловала, а сильные морозы 1709 года, например, остановили судоходство на несколько недель. В том же году зерна в город привезли крайне мало, цены на хлеб выросли до немыслимых двух су за буханку, а начальник полиции Рене д’Аржансон был вынужден поставить вокруг пекарен «стены из войск». Сена даже в лучшие времена была забита лодками. Небольшие плоскодонки доставляли в город вино и зерно, но обычно поставки продовольствия осуществлялись караванами барж, 16–18 метров в длину. Каждую баржу тянули две дюжины лошадей. Частенько на эти караваны нападали грабители, бывало, бандиты закрывали проход по реке и требовали выкуп. Смерть короля в 1715 году парижане восприняли как ничего не значащее событие; они устали и заскучали от монархического культа. Похороны прошли в надлежащей скорби, но парижские простолюдины и приезжие выпивали, танцевали и пели похабные песни на улицах. Новый «король-дитя» Людовик XV по приказу регента и дяди графа Филиппа Орлеанского прибыл в Париж и поселился в резиденции Ришелье Пале-Рояль.«…Время, отмеченное разнузданностью»
Филипп был почти полной противоположностью Королю-Солнцу, особенно если сравнивать его с Людовиком XIV в последние годы правления. Регент был человеком идейным и обаятельным. Приняв бремя власти в возрасте сорока одного года, Филипп с удовольствием сплетничал, выпивал и занимался любовью и, по словам современников, выглядел гораздо старше своего возраста. Его не любили католики, перешептывавшиеся, что он libertine (изначально либертенами называли свободомыслящих граждан, позднее — сексуально озабоченных мужчин). По городу ходили сплетни, что Филипп соблазнил даже собственную дочь. Другой слух повествует нам о следующем: куда более пьяный, чем обычно (две бутылки шампанского за завтраком считались нормой), Филипп возвращался с пира в Люксембургском дворце. Неожиданно он обратился к начальнику своей стражи Ла Фаре и попросил отрубить себе правую руку. «Чуешь запах? — пьяно бормотал регент. — Она гниет, я не могу смыть ее зловония, не могу больше этого выносить». Капитан стражи мягко проводил беднягу в спальню. Мать регента не верила ни в эти, ни в любые другие истории, циркулировавшие при дворе. Хотя она упрекнула сына в том, что он переспал с пьяной уродливой женщиной, которая, сказала мать, скорее всего была лесбиянка. Современники не жалели Филиппа. Ополчился на него и Вольтер. В тот период своей жизни Вольтер любил город всем сердцем пылкого парижанина (философ родился здесь в 1694 году, хотя и в семье выходцев из Пуату). Во многом, по крайней мере в тот период жизни философа, Париж воплощал в сознании Вольтера точную картину великих интеллектуальных разногласий и противоречий эпохи. Более того, столица даровала философу масштабную картину течения городской истории. Парижанами Вольтер восхищался меньше, чем городом: говорил, что они «ленятся большую часть времени, всегда готовы суетиться, суют носы в дела, их не касающиеся». Будучи позднее изгнан из города, он вспоминал о Париже со смесью меланхолии, едкости, сожаления и обычной для высланных парижан острой ностальгии по «теням и зловонию улиц». Такой была эра Филиппа, которой Вольтер дал беспощадную характеристику, назвав «временем мягкого регентства, прекрасным временем, отмеченным разнузданностью». В действительности Филипп был образованным и начитанным горожанином, единственное, в чем его можно обвинить, так это в том, что он занял пост, не имея никакого представления об управлении государством и об использовании власти. Однако он был достаточно умен для того, чтобы понять, что успешная экономическая политика является залогом спокойствия монархии и столицы. Регент завершил все войны, начатые Людовиком XIV и опустошавшие до дна казну страны, открыл тюрьмы, освободил галерных рабов и целенаправленно боролся с феодальными пережитками, сохранившимися в Париже и по всей Франции. Филипп был оптимистом и наивно верил в прогресс. Этим отчасти объясняется приглашение на пост советника по делам Королевского банка Франции шотландца Джона Лоу. Лоу считался передовым финансовым мыслителем, и регент охотно взялся выполнять первую его рекомендацию: создать в Париже «Общий банк», в котором государство будет основным держателем акций. Первый успех нового финансового института вдохновил короля и придворных расширить операции банка на новоприобретенную Луизиану (город Новый Орлеан даже был назван в честь Филиппа). Парижане выстраивались в очереди, желая вложить деньги в предприятие, казавшееся верным способом легко разбогатеть. Пузырь лопнул быстрее, чем кто-либо мог предположить. Разорялись семьи, по городу прокатилась волна самоубийств и самосудов. Возмущенные буржуа, потерявшие свои сбережения в финансовой пирамиде, в ярости жгли на улицах бумажные деньги и акции предприятия. Хитрюга-юрист из Эдинбурга Джон Лоу стал для парижан «проклятым англичанином». Он поспешно покинул город, едва избежав расправы. Правительство регента не смогло оправиться после такого фиаско. Народ мстительно болтал, что когда Филипп умер, его любимый датский дог вскочил на постель и жадно сожрал сердце мертвого. Посетители таверн и кофеен Парижа считали это занимательным фактом и достойным концом «разнузданного глупца, обанкротившего город». Людовик XV, принявший власть после Филиппа, никак не способствовал популярности короны. Он был холоден и мрачен, не интересовался ни народом, ни книгами, ни политикой. Его страстью были сексуальные забавы. После смерти главного королевского советника кардинала Флери в 1742 году монархом управляли любовницы и похоть. Несмотря на все усилия Филиппа, монархия оставалась далекой от народа и столицы. Раскол между королем и его подданными в последующие годы расширялся и углублялся.Тайный город
Размах афер в большой политике тех лет сопоставим разве что с невероятной страстью улиц Парижа к азартным играм. Полиция закрывала глаза на популярные среди аристократов и прочих игры: «jeux de société», «de qualité». Чего нельзя было терпеть, так это явно опасных для общества незаконных игровых столов, заполонивших столицу в самом начале столетия и просуществовавших до эпохи Наполеона. Самыми опасными местами игр были задворки Марэ — так называемый «L’Enfer», или «Ад». Здесь игра шла так жестко, что разорялись целые семьи, состояния, копившиеся веками, разбазаривались за день. Полицейскиеотчеты того времени свидетельствуют, что женщины определенного возраста («скорее всего, бывшие шлюхи», — отмечает автор документа, сержант полиции) «недостойно возбуждались» у столов и проигрывали больше даже, чем мужчины. Политический аналитик и философ, ядовитый комментатор общественной морали Шарль Луи Монтескье заметил, что эти женщины играют, чтобы «намеренно разорить своих мужей; они самого разного возраста — есть молодые девушки и старухи. Я частенько видел девять-десять женщин у стола, переживавших страх, надежду и ярость — спокойными они не бывали никогда. Муж, желавший обуздать свою жену, считался нарушителем общественного покоя». Эти женщины были бесстыдно блудливы. Когда муж застал одну из них в постели с сыном собственного слуги, она излила потоки упреков на обескураженного супруга. «А ты чего ожидал? — вопила уверенная в своей правоте изменница. — Когда у меня нет рыцаря, я довольствуюсь лакеем». Игры сводили женщин с ума, мрачно заметил Монтескье, и вели к гибели. Более опасным и пугающим явлением, по крайней мере в глазах властей и полиции, был рост числа тайных сообществ. Считается, что в период 1700–1750 годов в центре Парижа собиралось более дюжины сект, так или иначе связанных с масонством. Послушники изначально происходили из среды ремесленников и бедных буржуа и полагали, что служат возрождению таинств, которые существовали еще до вселенского потопа. Оккультизм и язычество не были новинками в Париже, они всегда сопровождали городскую жизнь, но новые секты стали опасны из-за того, что приобрели политический уклон. Если точнее, то целью этих сообществ было тайно поставить на ключевые правительственные должности своих людей. С этой точки зрения можно уверенно утверждать, что не подчинявшееся властям масонство стало прямой политической реакцией общества на монархический абсолютизм. Главный масонский храм Парижа был построен на улице Каде, которая в начале XVII века называлась рю де ла Войри («водный путь»). Этот район был известен зловонием канализации, пересекавшей его с запада на восток. Построив свою частную резиденцию в доме 24 по улице Войри, Филипп Орлеанский превратил район в модное местечко. Сегодня на этой улице стоит городской музей масонства, в котором хранятся различные любопытные артефакты. Полуподпольное существование не мешало масонству долгое время оставаться радикальным политическим, а не духовным движением, как утверждали его адепты. Масоны недвусмысленно поддержали Коммуну 1870 года: одни вышли в такие публичные места, как ворота Майо и Бино, и подняли знамена со словами: «Любите друг друга»; другие взяли в руки оружие и после подавления Коммуны были казнены. С 1940 года и на всем протяжении немецкой оккупации Парижа бывшая штаб-квартира масонов на улице Каде находилась под управлением Жана Маркеса-Ривьера — нацистского союзника и оккультиста-самоучки. Можно считать поэтической метафорой правосудия то, что именно масон и офицер французской армии Шарль Буало освободил штаб-квартиру масонов на улице Каде в 1944 году. Случилось так, что одновременно он был и коммунистом, и евреем.Глава двадцать вторая Porno Manifesto
Похабные и откровенные эротические истории традиционно пользовались популярностью. Особенно широко подобные книги расходились в столице с XII столетия. С тех пор каждый парижанин, вне зависимости от классовой принадлежности, был знаком с такими забавными стишками, как, например, «La Damoisele qui ne pooit oir parler de foutre» («Девица, которая не могла слушать разговоров о…бле») или «La Veuve» («Вдова»). Написавшие их поэты либо забыты, либо безымянны, но их произведения и персонажи навсегда стали героями парижского фольклора. Многие стихотворения, например, «Le Chevalier qui fist parler les Cons» («Рыцарь, который мог заставить заговорить м…нду»), были любимы не только за похабщину, но и за остроумие. Последнее стихотворение (написанное в XIII веке парижанином по имени Гарен) вдохновило Дидро на написание повести «Les Bijoux indiscrets» («Нескромные сокровища»). Эта повесть о султане, который владел волшебным кольцом. С помощью кольца он мог заставить говорить гениталии наложниц и благородных дам. Верный идеалам разума и науки, философ-атеист Дидро всю жизнь решительно боролся с предрассудками, включая миф о богоизбранности королевской власти. «Нескромные сокровища» — колкая аллегория, высмеивающая ложь, двуличность и подчас откровенную продажность обитателей версальского двора Людовика XV. Эта история — хороший пример того, как популярный эротический рассказ в XVIII веке может превратиться в политический памфлет. Именно в Париже находилось самое современное книгопечатное оборудование и развивалась прогрессивная система книготорговли, но важнее всего то, что здесь во множестве проживали горевшие желанием учиться, просвещаться и развлекаться образованные или полуграмотные читатели. Мода на чтение не обязательно увеличивала число тех, у кого книги были в личном владении, — ведь даже последний домашний слуга мог прочесть газету своего хозяина или журнал в кофейне. Развлечение же порнографической литературой — дома или в кафе — было привычным делом среди представителей всех классов общества. Появившиеся в Париже в начале XVIII века книжные магазины были шумными и всегда полными посетителей. Современник отметил, что группы читателей стояли «как приклеенные у прилавка, они так мешали владельцу лавки, что тот был вынужден убрать из помещения все сиденья, чтобы заставить посетителей стоять; но это не мешает им часами простаивать, склонившись над книгой, заучивать памфлеты наизусть, обсуждать судьбу и успех произведений». Самые знаменитые книжные магазины были модными местами, сюда наносили визит, чтобы пофлиртовать: например, магазины в пассажах Пале-Рояля в равной степени развивали ум посетителей и способствовали завязыванию отношений противоположных полов. Следует также упомянуть библиотеку Пьера Оноре Антуана Пайна, среди ее бестселлеров можно было найти произведения подобные «Le Parnasse des poètes satyriques» («Парнас сатирических стихов», антология эротической поэзии), «Thérèse Philosophe» (эротическое руководство для девушек) или «L’Enfant du bordel» («Дитя борделя»), героиня которого «одарена клитором, который посрамит лучших шлюх Франции». Подобные заведения в большинстве своем оставались открытыми допоздна, до того часа, когда Пале-Рояль заполняли шлюхи, денди и искатели разного рода сексуальных приключений. Чтение эротических рассказов при свечах для многих молодых людей и дам XVIII века было своеобразным сексуальным apéritif, обостряющим телесные ощущения стимулятором, который они принимали в книжных лавках перед тем, как устремиться на темные улицы в погоню за удовольствием.Литературный андеграунд
Вслед за модой на чтение пришли букинисты. Эти не слишком состоятельные книготорговцы, нуждавшиеся в быстрых деньгах, впервые появились в Париже на Новом мосту еще в XVI веке. Свой товар они предлагали прямо на открытом воздухе. Сначала их называли «estaleurs» («уличные лоточники»), во времена религиозных войн у них можно приобрести подпольно напечатанные протестантские памфлеты. Власти часто объявляли их ворами и врагами государства. К XVIII столетию книжники приобрели некоторое уважение со стороны студентов и тех, кого посещали чаще других, стали называть «boekinistes» или «bouquinistes» (от фламандского слова «boekin» — «книжица»). Их лотки стояли вдоль русла Сены; в этих местах и сегодня, собственно, торгуют книгами. Власти периодически пытались изгнать букинистов с насиженных торговых мест, но каждый раз, как по Парижу прокатывались волны беспорядков — от бунтов Фронды до голода, — уровень продаж книг возрастал: количество парижан, желавших прочесть незаконные памфлеты, осуждавшие короля или действующее правительство, росло. К 1732 году набережные Сены заполонили более ста двадцати «bouquinistes», удовлетворявших аппетиты парижан в области политики и порнографии. Да, Париж в те времена действительно стал родным домом для издателей и распространителей подпольной литературы. Большую часть изданий привозили из Амстердама и Брюсселя, но многие завораживающие читателей нюансами и интимными деталями городской жизни произведения печатались в городе. Политика и эротика частенько шли рука об руку (их адептов можно было встретить в одних и тех же уголках Парижа), а муниципальные и королевские власти вынуждены были признать, что контролировать продажу литературы невозможно. Если книгу было не найти в Пале-Рояле, то ее точно можно было приобрести с рук у букинистов, а если же ее не было и у них, следовало идти к «colporteurs»[67] — бродячим книготорговцам и писцам, которые не сидели на месте, а бродили по городу, заходили в кафе, таверны и салоны. Кольпортье, подобно букинистам, с XVI столетия были неотъемлемой частью жизни Парижа, с тех пор как чтение стало привычным для каждого, а не прерогативой привилегированной элиты. В целом такой книготорговец был странствующим купцом, уличным пройдохой, опасавшимся сил правопорядка. Кольпортье можно было встретить на перекрестках, на его груди висел лоток, а на лотке разложены книги; понятное дело, самые бесстыжие и антиправительственные произведения прятались под обертку. «Полицейские шпионы воюют с кольпортье, — писал современник, — единственными, кто продает достойные прочтения книги, которые, конечно же, запрещены во Франции. К ним ужасно относятся, все полицейские ищейки гоняются за этими бедными людьми, которые даже не знают, что продают, они и Библию спрячут под полой, прознав, что лейтенант полиции решил ее запретить. Их сажают в Бастилию за продажу глупых памфлетов, которые завтра никто и не вспомнит». Парижане сметали с лотков кольпортье все подряд: оккультные трактаты, альманахи, комедии («Les Adieux de Tabarin» — переложенные на бумагу выступления уличного актера Табарена были очень популярны), сатирические путеводители по Парижу («Le Déjeuner de la râpée» — букв.: «Большой обед» — знаменитый порнопутеводитель по столице), словари сленга или толкователи пускания газов. Публика обожала пугающие, ужасные истории. События, упомянутые в газетах 1716–1717 годов, к примеру, были следующие: свадьба в церкви Сен-Юсташ жениха ста пяти и невесты девяноста пяти лет от роду; на Сене перевернулась лодка, утонули плывшие в ней прачки, теперь их головы торчат над водой, а тела — подо льдом; неподалеку от Сен-Дени найдено тело девушки, привязанной к столбу и умершей от холода; на улице Фобур Сен-Марсо найдена женщина, изжаренная на вертеле, и «вертело продето сквозь ее голову». Но самыми популярными историями были те, сюжеты которых преступали все границы морали во имя свободы. Большинство порнографических книг были изданиями крайне функциональными: служили одновременно своеобразными инструкциями по применению и развлечением. В них приводились адреса и перечень услуг самых известных борделей, таких как «Великий Милан» на улице Божоле или «Большой Балкон» на Кро-де-Пти-Шан. Вскоре порнография стала исключительно развлечением, и полиция прилагала немалые усилия для поимки издателей и читателей антихристианской и антиобщественной литературы, при помощи которой большинство парижан расцвечивали и обогащали жизнь и удовольствия.Нежный извращенец
Связь между порнографией и политикой — древняя парижская традиция, актуальная, к слову, и по сей день. Некоторые утверждают, что эротическая литература начала XVIII века является матерью всех видов политической и культурной свободы Парижа — от кровавого карнавала Террора 1789 года до не признающего запретов революционного разгула 1968 года. На этой точке зрения настаивает порноактриса и режиссер фильмов Овиди в своей книге «Porno Manifesto». В защиту порнографии Овиди приводит пример современной порноиндустрии, построенной на утопических устремлениях. Я хотел уточнить детали и договорился встретиться с Овиди сентябрьским утром в кафе неподалеку от улицы Сен-Дени — в самом сердце парижской секс-индустрии. Больше всего меня интересовало ее мнение о связи древних традиций сексуальной свободы Парижа с сегодняшней бездушной демонстрацией порнографических супермаркетов и пип-шоу. Овиди оказалась маленькой женщиной, украшенной пирсингом, одетой в черную пижаму, взгляд ее был тверд, как у юного ученика Мао. Ее ответы изобиловали цитатами из Жана Бодрийяра, Жоржа Батая и Ги Дебора, каждый из которых по-своему утверждал, что абсолютная свобода включает в себя полную сексуальную свободу со всеми вытекающими экзистенциальными осложнениями. У Овиди это звучало так: «Кого мы трахаем и почему?» Она напомнила, сколь популярна была порнография в предреволюционном Париже, и сделала вывод: так как популярность порнографии основывается на вселенской тяге к самоудовлетворению, то, попав в надежные руки, «порнуха сделает вас свободными». Затем Овиди поведала мне о том, как в юности открыла для себя порнографию в компании со своей сестрой в возрасте, когда даже самые обычные события вызывают восторг открытия. Она продолжила: порнография есть не что иное, как обещание человеческого счастья. Неотъемлемые элементы секс-индустрии — эксплуатация тела и получение за это денег, — сказал она, — суть подход неверный, так как предают изначальное доверие сторон. Еще она сказала, что использование женщин противоречит свободе, за которую боролась порнография XVIII столетия. Вот именно эту свободолюбивую философию, утверждает Овиди, ей удалось выразить в своей книге. Но эта философия не отменяет платы за услуги, скорее наоборот: «Я отдаюсь за деньги, и это заслуживает уважения». Всякий уважающий себя гражданин или разумная гражданка XVIII века понял бы этот аргумент с полуслова. Общественное мнение тех времен было уверено, что доказанные математические факты или естественнонаучные теории предоставляют более качественные знания, чем монархическая пропаганда или учение церкви. Более того, считалось, что моральным долгом всякого интеллигентного человека является обязанность действовать на основе этих убеждений и отбросить вредные устаревшие идеи и модели поведения. Следовательно, чтобы противостоять всем формам традиционной морали, нужно, даже жизненно необходимо быть изначально пылким моралистом. Неудивительно, что эра математики совпала с эрой порнографии. Оба поля деятельности связаны теснее, чем может показаться. Во-первых, порнографы XVIII века, как ревностные сторонники интеллекта и науки, были одержимы числами и геометрической точностью, иногда до смешного. Эта одержимость всплывает в трудах маркиза де Сада, чьи вымышленные «групповухи» прерываются жесткими командами: «еще пару-тройку членов» или «пожалуйста, соблюдайте порядок во время оргий». В какой-то степени порнография сложным образом связана с появлением новых мыслителей — либертенов, убежденных атеистов, осуждавших все предрассудки, каковыми они считали, например, абсолютную власть монархии. Изначальный смысл термина «libertine» — радикальный гуманист и свободомыслящий мыслитель; при Людовике XIV самыми яркими фигурами подобного толка были Во-бан и Буагильбер — духовные наследники Рабле, Монтеня и Боккаччо. К моменту смерти Людовика, однако, под напором доводов таких религиозных мыслителей, как Паскаль или Боссюэ, термин «либертен» стал ругательным. Да, полностью оправдать такие названия, как «Монахиня в ночной сорочке» или «Джон-…барь надебоширил», невозможно. Эти книги выходили в свет на откровенном языке, степень речевого бесстыдства предполагали сами сюжеты («A Anconne, chez la veuve Grosse-Motte» — «В мандень в доме вдовы с большой п…здой», например). Либертен был нежным извращенцем и язычником, борющимся с предрассудками и пиететом, с радостью принимал утехи плоти и дары земли. Порнография, следовательно, стала отражением этого сочетания в литературе и элементом борьбы этого учения с политическим и философским иррационализмом.«Любовь следует изобрести заново!»
Парижане вполне способны принять сторону Овиди. Они действительно испытывают какую-то шовинистическую гордость от показного ужаса, который выражают всякий раз, когда замечают в ком-либо стыдливость. Они по сей день оплакивают доступные ранее удовольствия, которые попали под контроль властей после перепланировки города. Когда город модернизировали, проектировщики руководствовались изменившейся моралью общества, ставившего теперь особый акцент на стыдливости. Первым и явным признаком этого стало, например, переименование улиц Л’Аль, носивших вовсе нескромные названия. Улица Тир-Боден (улица Тянущего Сосиску — или Х…Й) с 1809 года стала называться улицей Марии Стюарт; рю Трусе-Нонейн (Опрокинутой Монашки), и без того в официальных документах замаскированная именем Тассе-Нонейн, стала рю Бобур; улица де ла Пют-и-Мюз, или улица Ленивой Шлюхи, стала Пти-Мюз; а карусель улиц Мердюз, Мерделе, Шьюр и Шьяр пропала с карты рационального и гигиеничного Парижа решением барона Османа. Улицы дю Пти и дю Гро-Кюль (Большой и Малой П…ды), Гратт-Кюль (Зудящей П…ды — здесь находились когда-то любимые бордели Казановы) и дю Пу-аль-о-Кон (Волосатой П…ды) пропали одновременно, хотя, как сухо заметил современник, давшие им имена заведения продолжали предлагать посетителям демократическую традицию свободы выбора. В центре Парижа остались лишь намеки на древние имена. Таковым, как рассказывает сама Овиди, несомненно является «Ле Беверли», последний из выживших в центре Парижа порнокинотеатров, но и он доживает последние деньки. Кинотеатр расположен на северной границе квартала красных фонарей Сен-Дени, на границе с быстрорастущим облагороженным районом Монторжель Сен-Дени. Над входом в зал висит изображение поэта Рембо и его знаменитый лозунг: «Il Faut réinventer l’amour» («Любовь следует изобрести заново»). Написанное фломастером объявление извещает посетителей, что каждый вторник по вечерам билеты можно приобрести со скидкой. Все здание пропитано атмосферой мягкой эротики с элементами бесстыдного, извращенного эксгибиционизма. Большинство старых парижских порнокинотеатров снесли в 1980-х годах; заведения пали жертвой растущего индивидуального потребления видеопродукции и прорыва махрового порно на центральное телевидение. «Ле Беверли» каким-то образом пережил 1990-е годы. Большинство его посетителей — настоящие мастодонты прошлого. Некоторые из зрителей так стары, что им поздно даже думать о сексе. Кто знает, почему они приходят — за компанию или из верности привычке. Иные выглядят одновременно подавлено и угрожающе. На задних рядах, дымя сигаретами, располагается группа иммигрантов из стран третьего мира. «Ле Беверли» никогда не был респектабельным заведением, атмосфера черного как ночь зрительного зала была напряженной и зажигательной, чувство опасности — почти осязаемым. Поход в это заведение, обладающее дешевой популярностью, теперь стал путешествием в прошлое, в те времена, когда секс в публичном месте и в самом деле был постыдным поступком. Непродолжительная прогулка по улице Сен-Дени или по улочкам Пигаль, где DVD с порнографией продаются по бросовым ценам, покажет, что ныне все изменилось. Из «Ле Беверли» я ушел заинтригованным, но отнюдь не убежденным в правоте Овиди, утверждавшей, что написание порнографической книги или производство фильма — это своеобразное проявление бесстыдности и реализация эротических фантазий. Может, так было в XVIII веке или даже в 1970-х годах, но сегодня мне показалось, что видение писателя Мишеля Уэльбека, который в своих стихах великолепно, с убийственной тщательностью изображает скуку привычной стимуляции клиента рукой или пип-шоу, предлагаемые в бизнес-кварталах в обеденный перерыв, является прекрасным образом Парижа XXI столетия.Наша цивилизация страдает от истощения, — пишет Уэльбек. — В век Людовика XIV, когда аппетиты были велики, официальная культура настаивала на необходимости отрицать удовольствия и плоть, нам твердили, что мирская жизнь может предложить лишь несовершенные радости, что единственным источником счастья является Бог. Такое утверждение […] сегодня не прошло бы. Нам нужны приключения и эротизм, потому что каждому хочется верить в утверждение, будто жизнь наша чудесна и захватывающа, но всем понятно, что мы сами не верим этому.
По мере того как я удалялся от «Ле Беверли», мне пришло в голову, что эта теория объясняет и, возможно, оправдывает странную бесцветность и даже призрачность лиц девочек с улицы дю Клер, по которой я шел.
Глава двадцать третья Ночное видение
Париж в XVIII веке изрядно вырос, но границы его все еще оставались размытыми. Проблема властей и полиции состояла в том, что никто не знал, где город начинается и заканчивается. К началу 1700-х годов границы города, определенные Жовеном де Рошфором в карте 1674 года, безнадежно устарели. Власти столкнулись с необходимостью установить фактическую, узнаваемую черту города. Это требовалось для организации поставок питания, контроля и учета населения. До того момента монархия и правительство с переменным успехом игнорировали существование «les petites gens de Paris» (обычных парижан), считали их в лучшем случае пушечным мясом. Бурный рост населения в XVII и XVIII веках означал, что, при всей неприязни короля к своим подданным, он не мог забыть об их существовании. Мешала насущная необходимость: требовалось понять, как много парижан не платит налоги, какие потенциально опасные течения, подобные Фронде, существуют в городе, где лежат границы столицы, которые следует оборонять от врага. Кроме прочего, государственные начинания, связанные с расширением города, со стороны монархии, чиновников и различных дельцов сделали столичную суету оживленной (и бестолковой), как никогда ранее. Свечи заменили масляными лампами, улицы пронумеровали, полиция и шпики строго следили за повседневной городской жизнью даже в самых древних quartiers, город превратился в перекресток, через который потоком шел транспорт и на котором шла бойкая торговля всеми мыслимыми и немыслимыми товарами. Экономический рост привел в город иммигрантов из провинций. Выходцы из глубинки даже физически отличались от урожденных парижан: были худы, смуглы, часто изувечены жизнью, полной тяжелого труда, и одеты в обноски. Парижане обладали бледной кожей, частенько полной фигурой — горожане избегали солнца, и без того редкого гостя темных улиц, в борделях и тавернах. Бронзовых от загара провинциалов считали примитивными глупцами, наивно верующими в справедливость суда. Кроме того, их побаивались. В отличие от экзотических гостей, прибывших с Востока и из Нового Света, эти люди все-таки были французами и потому попадали в определенную нишу жесткой классовой городской иерархии. Новоприбывших встречал Париж сложных иерархий, не видимых невооруженному глазу. Провинциалов оглушало богатство выбора, изобилие товаров, шум и энергия рынков и таверн. Пышная архитектура занимала в жизни бедняков весьма незначительное место — например, новые здания ла Монне, Пантеон, Эколь де Друа, театры. Однако подобные новинки городского ландшафта предопределили кардинальные «смещения» нового столетия в социальных классах. Писатель Луи Себастьян Мерсье в 1782 году назвал новый Париж, космополитический и даже экзотический, «храмом гармонии». К радости автора, город стал местом слияния разных исторических эпох.Любознательный человек, чтобы встретить в Париже жителей других стран, и не подумает выходить за стены города: глядя на наводнившую великую столицу публику, можно изучить все человечество. Здесь встретишь азиатов, весь день просиживающих на цехиновых подушках, лопарей, прозябающих в узких домишках, японцев, режущих животы друг другу при малейшем разногласии, эскимосов, не знающих в каком столетии они живут, негров, которые вовсе не так черны, и вооруженных мечами квакеров. Тут увидишь всевозможные традиции, привычки и характеры самых отдаленных уголков мира: алхимика, поклоняющегося огню, странствующего араба, бродящего по бастионам города, готтентота и индуса, тихо сидящих в лавках, кафе и на улицах. Здесь увидишь доброго перса, подающего нищим, и каннибала, который выбивает деньги из должников. Брахманы и факиры встречаются тут так же часто, как гренландцы, не имеющие ни храмов, ни алтарей. Древний и сладострастный Вавилон ежевечерне возрождается в храме, посвященном гармонии.
Географическая точность Мерсье не волновала. Он начинал как драматург, так что его городские картины выстроены как сценическая постановка, движения героев пьесы. Он жарко веровал во многие реформы и писал для того, чтобы выдвинуть на авансцену образы простых горожан, показать контраст роскоши и нищеты. Для Мерсье главным было то, что Париж становится подмостками, где вели свою игру и парижане, и все вновь прибывшие; эскимосы и японцы лишь добавляли колорита театру улиц. Его завораживало необычное соседство, какое бросится в глаза всякому, кто решит прогуляться по столице: вооруженный, но вполне миролюбивый квакер — и рядом бледные немощные негры (скорее всего, альбиносы). Больше всего, однако, в бывшей столице христианского мира, ставшей сегодня градом Просвещения и Разума, Мерсье интересовали выходцы со Среднего Востока и из Северной Африки. Отношения Парижа с исламским миром пройдут через тяжелые испытания: захват в 1830 году Алжира, волны исламистских волнений 1980-х и 1990-х годов. Парижане — современники Мерсье с удовольствием принимали в своем городе пришельцев с Востока, прибывших в столицу с торговыми целями. Авторами и составителями карт Парижа (зачастую более точных, чем карты страны) уже в 1750-х годах были арабы; карты печатали на арабском языке и продавали в Багдаде, Дамаске и Каире. Переведенные в 1704 году Антуаном Галланом сказки «Тысяча и одной ночи» принесли почти столетнюю моду на все восточное. Арабских путешественников, побывавших в Париже, встречали не только с любопытством, но и радушно. Парижане называли этих людей турками, маврами, берберами, кабилами, маронитами. Обидные для арабов прозвища «bicot» («молодой козел» или «грязный араб»), «Ьо-ugnole», «sidi», «raton», «salopard», «tronc», «melon»[68] еще не были придуманы. Молодежь мусульманского мира, привлеченная такими именами, как Вольтер, Дидро и Руссо, отправлялась, чтобы получить образование, в Париж. Этот процесс стал свидетельством того, что Париж доминировал не только в Европе, но и во всем мире.
«Стремительный и шумный смерч»
Ландшафтные изменения Парижа в XVIII веке — здания в неоклассическом стиле, новые авеню, мосты и улицы — не удивляли горожан. Скорее, программа преобразования столицы логично воплощала в наступившем веке беспрецедентных технологических достижений идеалы предыдущего столетия порядка и коммерции. Великие свершения тех времен были нацелены на упорядочение жизни столицы. Развитие религиозной архитектуры сходило на нет, а гражданское и военное строительство на левом берегу росло и ширилось. К югу от Сен-Жермен еще в начале XVII столетия можно было видеть остатки стены Филиппа-Августа. Но рост города за пределы перекрестка Л’Одеон и улицы Фоссе-Сен-Бернар уничтожил их окончательно. Парижане тех лет ни в коей мере не интересовались прошлым, а всех приезжих, изъявившие желание осмотреть достопримечательности, отсылали к зданиям дубильных факторий на улицу Гобелен или к Обсерватории. Богатые, облеченные властью парижане продолжали вкладывать деньги в частные особняки — правобережный район Марэ рос в западном направлении. Новому столетию достались в наследство противоречия прошлого. Контрасты усугубились, и парижане ежедневно видели тому подтверждение: монархия не оставляла претензий превратить город в величественную и монументальную столицу, а улицы вдали от «королевских» кварталов пребывали в запустении. Именно поэтому Мерсье решил воссоздать картину Парижа во всей его полноте, его очерки составляют монументальный труд «Картины Парижа» (1782–1788 гг.). Автор начинал как драматург и своего рода журналист — высмеивал правящие власти, боролся против войны и проявлений солдафонства в обыденной жизни (этому посвящено его сочинение «Jeunesse»[69]). Несмотря на то, что Мерсье был образованным человеком и сделал академическую карьеру (занимал должность профессора риторики в коллеже Бордо и преподавал историю в Центральной школе Парижа), он относил себя к простым гражданам и выступал против власть имущих. Он нападал на идеалы классицизма, свойственные времени, и называл Расина и Буало «носителями чумы в литературе». Мерсье, вечно несогласный с властями и правителями, считал себя истинным пророком революции. Современники много писали о нем, но считали неглубоким и сентиментальным автором. Несмотря на эти нападки, нельзя не признать, что Мерсье был весьма наблюдательным, хотя и амбициозным литератором. «Картины Парижа» — удивительный труд, затрагивающий самые разные темы: политику, законотворчество, рекомендации, где получше (и подешевле) можно купить женскую и мужскую одежду, пересказ самых интересных дискуссий, похоронные традиции, искусство карманников (и почему парижские воры искуснее и хитрее своих лондонских коллег), зловонный воздух города, нищета пригорода Сен-Марсель, портреты продавцов воды, шпионов, похитителей трупов и анатомов, плативших им, жуликов и шарлатанов, лучшие места для прогулок, тюрьмы, фейерверки, публичные женщины, полиция (злобная, ленивая, трусливая и продажная), сорта табака, нищие, больницы, эротическая атмосфера в опере, необходимые условия и рекомендации по выращиванию грибов. Описывая типичный день парижанина, Мерсье рисует детальнейшую картину жизни столицы. Он называет город «быстрым и шумным смерчем», зарождающимся ежедневно в семь утра, когда просыпаются и принимаются за дело кучера и садовники, когда лавочники распахивают ставни своих магазинов. К девяти утра улицы забиты каретами, адвокаты и чиновники направляются в присутственные места, дамы едут в гости друг к другу; деловая жизнь в столице кипит. Суета успокаивается около трех пополудни, когда состоятельные граждане садятся обедать. В пять часов население высыпает на прогулку в новые ухоженные парки города. В сумерки город затихает, и наступает самое опасное время — воры и разбойники, как утверждает Мерсье, таятся в темных аллеях. Добрые парижане в это время укладываются в постель, не спят только те, у кого хватает денег, чтобы оплатить ночные развлечения. Центром ночных увеселений служил оперный театр. Улицы, окружавшие здание, были заполнены проститутками, vulvivagues[70], преследующими прохожих непристойными предложениями и оскорблениями. Мерсье сухо отмечает, что изнасилования в городе почти прекратились из-за невероятной дешевизны продажной любви. Автор был на стороне бедных и бездомных, а значит — и на стороне проституток. С удовольствием он отмечал, что городская жизнь носит «домашний» характер; с симпатией описывал проходивших ранним утром по городу крестьян, которые доставляли из провинции фрукты, хлеб, овощи и мясо в вечно голодный Париж. Его поражал тяжелый крестьянский труд, он удивлялся тому, сколько селяне могут выпить, и смеялся их язвительным замечаниям в адрес городских модников. Среди парижан Мерсье выделял рядовых рабочих и их семьи, тех, кто тяжким трудом и упорством укреплял город. Мерсье отмечал хитрость и сексуальный аппетит парижан, которые, просыпаясь от шума и стука карет покидающих театры богачей, будят жену, лениво занимаются любовью и, даст Бог, зачинают нового парижанина.Ночной зритель
Антиподом исполненного оптимизма реформаторского духа Мерсье служил Ретиф де ла Бретон — крестьянский сын, новеллист, печатник, эротоман и шпион. Мерсье, хотя и восторгался Ретифом, тем не менее проводил четкую границу между своим трудом и его сочинениями, посвященными описанию парижского дна, и утверждал, что столица, как любое явление, состоит из света и тьмы, а делать акцент на одной только стороне ее жизни неверно. Ретиф де ла Бретон безостановочно трудился над своими новеллами и пьесами, к моменту его смерти в 1806 году было опубликовано 250 книг. Он считал себя моралистом, самые его знаменитые труды «Le Paysan perverti» («Совращенный поселянин, или Опасности города») и «La Paysanne pervertie» («Совращенная крестьянка») являются мрачными повествованиями о том, как здоровых духом провинциалов уничтожили порочные парижские устои. Беда заключалась, однако, в том, что сам Ретиф был глубоко погружен в темную сторону парижской жизни. Его проповедь о том, что парижские нравы есть зло, не имела должного эффекта. Подобно философским сказкам маркиза де Сада (верного читателя Ретифа) истории де ла Бретона рассказывали о том, как чистые душой (и весьма раздражающие жителей столицы) провинциалы отравлялись едкой и лживой атмосферой сексуальной свободы и интриг. Ретиф со своей стороны глумился над маркизом-развратником: «Если бы его читала солдатня, погибли бы 20 000 женщин», — пишет он в «Господин Николя, или Разоблаченное человеческое сердце», явно намекая, что герой революции Дантон использовал роман де Сада «Жюстина, или Несчастная судьба добродетели» как пособие по мастурбации. Может, Ретиф и был лицемером, но это не мешало ему быть наблюдательным свидетелем ночной жизни столицы. Себя он называл «совой», «ночным зрителем» и задался целью, пустив в дело научный подход, похотливость и не скрывая своих эротических фантазий, познать ночь Парижа. В целях маскировки писатель наряжался в «старый синий плащ» и «широкую фетровую шляпу» (он похвалялся, что не покупал новой одежды с 1773 по 1796 год). Темную одежду обычно носили представители низших классов. Она была знаком опасности для всякого богача, открывала Ретифу дорогу на любую улицу ночной столицы. В результате этих приключений появилась книга «Парижские ночи, или Ночной зритель». На книгу сильно повлияла весьма популярная в XVIII столетии литература жанра poissard[71] (термин родился еще в XVI веке и обозначал тогда вора или пажа; романы этого жанра были исполнены в низкопробном стиле и на языке простолюдинов). Ретиф был напыщен, самодоволен и склонен к назойливому морализаторству. Он считал себя лучшим: «Из всех литературных мужей, я, возможно, единственный, кто знает простой народ; общаясь с ними и изображая их, я желаю быть стражем их добронравия. Чтобы увидеть все зло, я побывал в самом низу». Невероятное заявление. Книга «Парижские ночи, или Ночной зритель» так же пристрастна и полна небылиц, как «Картины Парижа» Мерсье. Но, несмотря на провокационное заявление Ретифа, будто он — носитель мнений низших классов общества, в целом это талантливый и наблюдательный очевидец. Исследователь парижской ночи любил кофейни «Прокоп» и «Манури» на улице Монтень-Сен-Женевьев, куда наведывался посмотреть на игру в шашки; «Обри» на рю Сен-Жак и «Регенси», где частенько следил за напряженной партией в шахматы между Жан-Жаком Руссо и его приятелем, ремесленником Менетра. Это были относительно спокойные заведения, куда Ретиф ходил, чтобы послушать, о чем говорят на улице, прочесть газеты, в общем, подержать руку на пульсе литературной и политической жизни города. Он частенько замечал полицейских шпиков, подглядывающих за тем же, что и он сам, но не обращал на них особого внимания — обычное дело для города, жители которого полны ненависти к властям. Писателя очень интересовала новая мода на размеренную праздность, популярная среди аристократов и пропагандируемая в кофейнях. Пролетарии не могли позволить себе лениться, но ежедневно предавались сексуальным, алкогольным и гастрономическим удовольствиям. Стихотворение 1773 года неизвестного народного автора описывает эти удовольствия, рисует жажду парижской бедноты к бездумному чувственному веселью:Город в тени
Париж Мерсье и Ретифа — город крайне беспокойный. Да, город стал культурным двигателем всей Европы и одним из сильнейших экономических ее центров. Но по сути своей, и это замечали Мерсье и Ретиф, город был живым, изменчивым организмом, который разрывали на части социальные и финансовые противоречия, он бурлил политическими течениями, часто выливавшимися в недовольства и народные волнения. И все же катастрофу, уничтожившую монархию, можно было предупредить. Главным доказательством справедливости подобного утверждения является следующий факт: и в 1780-х годах Париж оставался стабильным, организованным городом, в котором даже самые ярые сторонники перемен — журналисты, философы, писатели, художники и libertins — осознавали границы дозволенного. Кризис шокировал большинство парижан и был результатом поражения власти на самом высоком уровне. Вся ответственность за крах лежит на плечах Людовика XV, который благодаря собственной некомпетентности, показной экстравагантности, тщеславию, чудовищным ошибкам во внешней политике и унизительным поражениям в войне к 1774 году к концу своей жизни умудрился растерять весь кредит доброй воли народа, накопленный предшественниками. Его преемник был человеком без каких-либо достоинств. Единственным желанием Людовика XVI было, по его собственному признанию, «стать любимым». Его жена, дама недалекая, австриячка Мария-Антуанетта, по восхождении на трон проявляла себя исключительно легкомысленной и ветреной. Да и супруг ее умом не блистал. «Мы так молоды!» — объявил он советникам, сбитым с толку поступками монаршей четы. Ему было всего двадцать лет, он был едва образован и не имел ни малейшего представления о том, чем должен заниматься монарх. Королю предстояло принять важное решение: принять или отвергнуть так называемый план Тюрго. Анн Робер Жак Тюрго, твердолобый прагматик и умный политик, был министром и генеральным контролером финансов Людовика. Он единственный из всех советников короля понимал, что политические приоритеты к 1760—1770-м годам сместились (к примеру, в 1775 году он отсоветовал юному монарху устраивать традиционную католическую церемонию коронации, бесившую протестантов и философов и претившую парижанам своей пышностью). Тюрго поклялся, что больше не допустит «ни банкротств, ни повышения налогов, ни займов», разработал план по спасению Франции, отказался от принудительных работ как вида налога и одновременно отменил средневековые привилегии гильдий. Он ратовал за свободное обращение на рынке зерна, за развитие бухгалтерского дела, за бюджет и жесткий контроль королевской казны. Но двор, желавший и дальше своевольно править страной, отказался от плана генерального контролера. «Тюрго желает управлять Францией, как плантацией рабов», — ворчал кое-кто из придворных. Король хотя и симпатизировал министру, но порой отклонялего советы. Людовик XVI еще сильнее раздразнил парижан в 1784 году, учредив новый таможенный барьер: стену Генерального откупщика. Было заявлено, что стена построена с целью прекратить контрабанду, увеличить доходы городской казны и определить границы города в соответствии с королевским указом о размере Парижа от 1724 года. Генеральными откупщиками назывались чиновники, имевшие право устанавливать и собирать косвенные налоги. Парижане вполне оправданно ненавидели их и считали бандой сатрапов и стяжателей, заинтересованных исключительно в собственном обогащении. Новая стена охватила большие территории, и парижане теперь вынуждены были платить налог даже в тех землях, которые раньше им не облагались. Хуже того, стена была высока, крепка и ее строительство обошлось дорого. Ходили слухи, что стена и есть причина эпидемий, в укромных ее уголках скрываются бандиты и, следовательно, растёт преступность. В общем, новое сооружение олицетворяло в глазах простолюдинов все недостатки монархии.Два столетия Париж развивался поразительными темпами. К 1750-м годам энергия и оптимизм, бурлившие в правительстве и народе весь «великий век», выродились в цинизм, парижане считали, что их обманом заставили поддержать инициативы и планы властей. Эти настроения воплощались и расходились по городу в памфлетах, спорах, шутках и анекдотах. Но жизнь многих была устроена, возможно, лучше, чем когда-либо в истории города до сего дня. Число горожан выросло до 600 000 человек, большинство проживали в удобных домах. Состоятельные граждане селились в частных особняках, выстроенных в стиле барокко или неоклассицизма. Парижане среднего достатка обычно проживали на съемных квартирах в домах в шесть-семь этажей высотой. Как правило, эти здания возводили из камня, в квартирах были собственные кухонные плиты. Все, кто не относился к чернорабочим, крестьянам или бродягам, имели собственную постель. Рост благосостояния города только расширил пропасть между богатыми и бедными. Когда была построена стена Генерального откупщика, парижане как один принялись твердить, что король насмехается над растущей нищетой и трудностями обывателей. Мерсье и Ретиф единодушно отмечали, как накалялось ожесточение посетителей таверн, подвальных забегаловок и столовых в доках. Здесь люди своим поведением, манерой одеваться и речью существенно отличались от салонной парижской публики и просвещенных завсегдатаев кафе, где рождались и откуда распространялись памфлеты и трактаты антиправительственного толка. Именно на общественном дне, в среде так называемых «опасных классов», зрело истинное восстание. Вскоре они взорвутся ненавистью и кровавым карнавалом мести — Великой французской революцией.
Глава двадцать четвертая От бунта к революции
К 1750-м годам центр деловой активности Парижа сместился из исторической части города, с острова Ситэ, от университета и Марэ дальше на восток, к центральной оси города, захватив территорию по обе стороны Сены и до нынешней площади Нации. Этот процесс начался еще в 1700-х годах. Город рос, расширял границы торговых и промышленных районов. Наиболее значимыми районами Парижа стали Фобур Сен-Марсель, место скопления на левом берегу грязных кожевенных заводов и испорченных производством вод реки Бьевр, и Фобур Сент-Антуан на правом берегу, населенный в основном плотниками, столярами, рабочими строительных специальностей, печатниками, traiteurs-aubergistes[74], мясниками, живодерами, рыночными торговцами и мелкими лоточниками. Сент-Антуан был не беден и не богат, но именно здесь обитала армия la canaille — шлюх и сутенеров. Богачи не решались сюда заглядывать. Такие земли и стали рабочей площадкой столицы. Межклассовые отношения в тяжелые времена ожесточались, XVIII век принес полную чашу невзгод, болезней и голода. Фобур Сент-Антуан пострадал сильнее других. Во всем и всегда винили богачей. Рабочий люд считал представителей состоятельных сословий не просто паразитами, а даже чужаками в городе, который по справедливости должен был безраздельно принадлежать тем, кто жил здесь своим трудом. Богатых от бедных отделяли не только границы районов проживания, но и культурные различия. Даниэль Рош описывал, как «остряки, аристократы, салонные дилетанты, будуарные любовницы […] в своих маленьких театриках» в Марэ и Пале-Рояле высмеивали низшие классы, выставляя их варварами, лишь отдаленно напоминающими людей. Благородные кавалеры XVIII столетия, чтобы их ни в коем случае не спутали с мужичьем, ввели моду на утонченную манеру поведения, граничащую с женственностью. В 1760-х годах в моду вошли парики, ставшие популярными как среди аристократов, так и среди парижских буржуа; заодно распространились зонты, под которыми укрывались от солнца модные дамы и господа, фланирующие летом по Новому мосту. Высший свет то и дело охватывали малопонятные увлечения, как, например, необъяснимая тяга, опять же в 1760-х годах, носить при себе небольшую марионетку, pantin. Все городские модники считали высшим шиком на публике вытянуть pantin из кармана и заставить куклу кривляться. Комедиант и владелец guingette[75] на Иль-о-Роршерон Рампоно был признанным модником, его именем называли новые веянья: «à la Ramponneau», — или еще можно было сказать: «à la grecque» (Греция и все греческое было в моде; само существование в парижских меню малоаппетитного блюда «champignons à la grecque»[76], и сегодня встречающегося в некоторых ресторанах, доказывает это). Фривольность и насмешки были общеприняты, стали нормой общения для всех классов; всякая сентиментальность считалась ridicule[77]. Показаться ridicule значило совершить смертный грех против современного общества. Попав в Фобур Сент-Антуан, модники в париках никогда не посмели бы выразить презрения к простолюдинам вслух. Среди представителей низших классов Парижа царили свои собственные моральные устои и антигерои, например, стиляга, бандит и убийца Луи-Доминик Картуш. Главным образом его любили за бесшабашное удальство, с которым он резал богачей. Его казнь в 1721 году собрала тысячи зевак. Он стал своеобразным воплощением скрытых желаний народа, которые выплеснулись на улицы города в 1789 году. Простонародный Париж в литературе того времени представал местом омерзительным: повсеместные грязь, шум и тьма. Больше всего благородное сословие страшили sans-culottes — суть самого дна Парижа; в знак своего происхождения санкюлоты носили не общепринятые укороченные до колена штаны (culottes) по моде аристократов, а обычные брюки, как принято у простолюдинов. Самые отважные из аристократов, осмелившиеся навестить бедные рабочие районы, утверждали, что парижские пролетарии экзотичны и опасны не меньше «дикарей» из колоний в Новом Свете. По большей части подобные страхи были надуманны, но отрицать тот факт, что в народной среде таилась опасность, было бы глупо. Фобур Сент-Антуан граничил с тридцатью восемью крупными и тридцатью мелкими улицами города. Главными транспортными артериями стали улицы Фобур Сент-Антуан, де Шарантон, де Рейи, де Пикпу, де Монреаль, де Шаронн и набережные ла Рапи и Берси. Многие ремесленники селились вдоль них, чтобы быть поближе к складам и портам. В конце концов эта окрестность превратилась в скопище трущоб и перенаселенных многоквартирных домов. Как бы то ни было, деловая жизнь района бурлила. Магазины и рынки были полны продуктов, основанный в 1777 году магазин продуктов «Марше де Алигре» славился на весь Париж своим ассортиментом. Несмотря на тяготы жизни, жители небогатых районов столицы отличались оптимизмом, человечностью и добротой. Они ненавидели полицейских, аристократию, клерков, налоговых инспекторов и шпиков, страдали от роста цен и снижения заработной платы, но в остальном среда их обитания отличалась уютной, хотя порой и напряженной обстановкой. Сюда, чтобы смешаться с толпой простолюдинов, шел Ретиф, здесь он с интересом наблюдал за простотой нравов, игр и удивлялся незамысловатому веселью. Первые выстрелы в апреле 1789 года прозвучали здесь. Они навсегда изменили мир.Штурмуя Бастилию
Точкой отсчета восстания принято считать слух о неосмотрительных словах владельца местной обойной фабрики, некоего Ревийона, якобы публично заявившего, что будет лучше снизить заработную плату рабочим. Постепенно молва об этом распространилась по району: из кабака — в кафе, с рабочих мест — в дома, из борделя — в таверну; так слух превратился в «факт». Вот этот-то «факт» и спровоцировал в 1789 году самое кровавое восстание в истории Парижа, где витавшая до поры в воздухе озлобленность бедноты, страдавшей в лучшем случае от авитаминоза, а в худшем — от недоедания, сгустилась и стала почти материальной. Войска в попытке подавить восстание, а точнее — прекратить ряд стычек вокруг улицы Фобур Сент-Антуан, открыли стрельбу. Вслед за ружейными залпами по толпе прокатился такой вопль ярости, что стало очевидно: бунт отнюдь не подавлен. С этого начался хаос. Сражение между рабочими, безработными и правительственными войсками продолжалось целый день; к вечеру солдаты выбились из сил и были деморализованы. Волнения получили дополнительный импульс: бунтовщики из Сент-Антуана заключили союз с рабочими сыромятен из Фобур Сен-Марсель, беднейшими горожанами, которые, громко требуя справедливых законов, толпой ринулись по мостам на правый берег и принялись избивать полицейских и королевских солдат. Обстановка накалилась до предела, после рукопашной схватки, длившейся весь день, уставшие французские гвардейцы сохраняли лояльность по отношению к королю, но находились под командованием бездарных офицеров и понятия не имели, как очистить улицы, которые заполнили пьяные бунтовщики и просто выпивохи; в сумерках растерянные солдаты открыли стрельбу на углу рю де Монреаль. Сотни рабочих и сочувствующих им погибли, мертвые и изувеченные тела остались лежать в уличной грязи. Король решил, что инцидент хоть и кровавый, но внимания не заслуживает, и возложил вину за беспорядки на парламент Парижа. Важно заметить, что это столкновение произошло в стране, находившейся на грани бунта, расшатанной безработицей и страхом голода. По всей Франции к 1788 году множество пролетариев не имели работы (только в Лионе около 25 000 ткачей сидели по домам). Провинции заполнились нищими, бродившими по деревням в поисках крох пропитания. Четырнадцатью годами ранее волнения из-за нехватки хлеба в Бретани (так называемые «мучные бунты») вынудили корону рассредоточить войска по потенциально опасным регионам. Теперь же, когда банкротство проникло в каждый дом, когда по всей стране простые рабочие и крестьяне нападали на священников, аристократов и буржуа, Франция оказалась на грани катастрофы. Вместе с тем, казалось, никто из монаршей семьи понятия не имел о происходящем, а если и знал, то молчал и бездействовал.События, превратившие бунты в полноценную политическую революцию, начались 17 июня 1789 года: в этот день делегаты третьего сословия — простолюдины — объявили, что лишь они являются истинными представителями французского народа в Национальном собрании. То был вызов, брошенный в лицо не только извечно державшим верх над третьим сословием первому и второму (священнослужителям и аристократии), но самому королю. Первое, что сделал монарх, — отправил в Париж и Версаль солдат и артиллерию. Парижские и версальские улицы были заполнены недовольными, обозленными, голодными безработными, которые объединились с рабочими, и все они были унижены сильными мира сего. Следующие несколько недель прошли в чтении яростных памфлетов, шумных политических спорах; за это же время в ответ на призыв депутатов третьего сословия со всех уголков города собралась народная армия. К 12 июля король уволил Жака Неккера с поста советника и заменил его авторитарным бароном де Бретейлем. Но восстание было уже не остановить. Отставку Неккера — одного из немногих членов правительства, продолжавших пользоваться популярностью среди народа, — расценили как оскорбление и вызов. Горожане почти мгновенно начали формировать милицейские отряды и готовиться к уличным боям, вооружаться ружьями и пиками. Тысячные толпы в Версале громогласно требовали восстановить Неккера в должности. Король требования проигнорировал. Охота за оружием переросла в настоящую страсть: 14 июля толпа разорила даже музей на площади Людовика XV, но вооружение времен Генриха IV, которое там хранилось, давно устарело и пришло в негодность; больше пользы принес налет на гарнизон Дома Инвалидов — было захвачено более 30 000 мушкетов. Теперь толпы вооруженных, злых и опасных как никогда парижан направились к тюрьме Бастилия — воплощению монаршей тирании, издавна вызывавшему ненависть. Начальник тюрьмы де Лонэ поначалу пытался вести переговоры, но после приказал своим людям стрелять по бунтовщикам. К концу дня было убито около двух сотен восставших. В ответ толпа подожгла здание и взяла штурмом древнюю крепость: переплыв ров на подвернувшихся под руку досках и бревнах, нападавшие получили ключ от подъемного моста у дружески настроенного охранника. Некий поваренок Десно ножом отпилил голову де Лонэ и носил ее на пике по улицам столицы. Когда полагавший, что в Париже все спокойно, Людовик XVI услышал о случившемся, он обратился к одному из своих советников с вопросом: что это, беспорядки или очередной бунт. «Нет, сир, — ответил ему чиновник, — это революция».
Убивая короля
Именно слабость института монархии стала причиной того, что спровоцированные необходимостью реформ серийные бунты переросли в полномасштабную революцию. Никто и помыслить не мог о подобном, прецедентов в истории Франции не было. Если королей и убивали раньше, это совершали одиночки или небольшие группировки. Гражданская война в Англии, где за сто лет до французских событий страной вместо монарха правил лорд-протектор Оливер Кромвель, в счет не шла: во Франции и в Европе в целом происходящее сочли незначительным региональным столкновением. Во Франции же король был столпом общества, вокруг этой фигуры вращалось все государство. Без короля само существование французской нации оказывалось под угрозой. Решиться на уничтожение монархии было совсем не просто. Даже впав в ярость, третье сословие не помышляло об упразднении короны. Потребовалось несколько шагов, один радикальнее другого, ряд провокаций со стороны группировок разного толка, ранее находившихся на задворках политической жизни страны или вообще из нее исключенных, чтобы возникло решение убить Короля. Женщины из среды парижского рабочего класса, например, впервые в истории Франции и Европы стали силой, действительно влиявшей на радикальные перемены в стране. Историки Великой французской революции бесконечно демонизируют этих дам, называют грубыми ведьмами, высмеивают злобных tricoteuses[78], получавших извращенное удовольствие при виде сцен страданий и смертей, произошедших в самые кровавые дни тех лет. Действительно, заправлявшие семьями и вечно озабоченные, чем прокормить детей, женщины даже больше, чем мужчины, находились в прямой зависимости от мрачных реалий ежедневной политики. Женщинам было легче объединить в сознании финансовые трудности повседневной жизни улиц и глобальные государственные процессы. Группа женщин в октябре 1789 года едва не линчевала некоего пекаря, уличенного в использовании неверных весов. Беднягу спасла стража, но разъяренные дамы уже не могли остановиться: они бросились к зданию ратуши, затем зачинщицы повели разрастающуюся толпу через реку на Ситэ, потом по Новому мосту мимо Лувра и Тюильри к Версалю, где, в конце концов, осадили палату Национального собрание и резиденцию короля. Всю ночь толпа выжидала, а с рассветом ворвалась в королевский дворец. К утру рать бунтовщиков состояла из нескольких тысяч женщин, вооруженных пиками, мечами, пистолетами и мушкетами. Королю не оставалось ничего другого, как напялить на свой костюм кокарду революционных цветов — красного, белого и синего — и позволить эскортировать себя в Париж. По пути революционерки издевательски салютовали монарху, насмехались, непотребно задирали юбки, угрожающе жестикулировали в адрес королевы. Больше королевская чета не увидит Версаль. Парижане возомнили, что теперь им позволено все. Революционные настроения очень скоро приведут к убийству монарха. Король только усугубил свою участь, противясь реформам и устраивая заговоры с иностранцами — его не оставляло стремление вновь подчинить Париж. А 20 июня 1791 года он даже предпринял неудачную попытку бежать из столицы, но был замечен бдительным революционером в Варение и возвращен обратно. Побег, пусть и неудавшийся, укрепил недоверие парижан к королю; на улицах, в кофейнях и революционных клубах разговоры шли только об одном: что теперь делать с монархом. Решающую точку в этих обсуждениях поставила демонстрация 20 июля 1790 года: около 50 000 рабочих и жителей Фобур Сент-Антуан и Фобур Сен-Марсель вышли на Марсово поле и потребовали голову короля, которого теперь называли «Людовик Капет» (все французские монархи, ведущие свою историю с Гуго Капета, отныне считались незаконными правителями). Отряд растерявшихся при виде такой толпы солдат открыл огонь — около пятидесяти человек были застрелены. Антимонархические настроения усилились. Позиции монарха еще более пошатнулись, когда пришли вести об опасности прусского вторжения. Затем вышел манифест, в котором союзники под руководством графа Брауншвейгского заявляли, что полностью разрушат Париж, если королю будет причинен какой-либо вред. Такой поворот событий был на руку экстремистам, вошедшим в историю под именем якобинцев. Возглавлял эту фракцию Максимилиан Робеспьер, объявивший, что «отечество в опасности» и спасти его можно, лишь избавившись от монархии. Якобинцы, они же la Société des Amis de la Liberté et l'Égalité[79], получили свое самое известное имя от местоположения штаб-квартиры политического клуба в здании доминиканского ордена на улице Сент-Оноре (в свою очередь, монахов этого ордена называли якобинцами из-за того, что изначально их орден располагался на улице Святого Иакова — Сен-Жак). В клубе состояло не более 3000 членов, но им удалось быстро взять под контроль весь Париж. Самыми видными активистами этой фракции были Жорж Дантон, Камилл Демулен, Жан Марат, Антуан Сен-Жюст и, конечно, их руководитель Максимилиан Робеспьер. Якобинцы требовали полной демократии, оправдывали революционное насилие и диктатуру во имя достижения цели. Массовые убийства начались в конце лета. 10 августа в Тюильри толпа смяла королевскую швейцарскую гвардию. В сентябре тысячи заключенных были казнены без какого-либо суда и следствия, король потерял трон, а груда трупов легла в основание Первой французской республики. 21 января 1793 года на площади Революции (ранее площадь Людовика XV) короля гильотинировали. Размах насилия в Париже достиг неслыханных размеров. А на авансцене разворачивалась так называемая «вторая революция», вызванная убийствами 10 августа 1792 года. На тот момент в столице существовали три основных противоборствующих силы: санкюлоты, которые представляли народ, жирондисты, представлявшие буржуазию, якобинцы и монтаньяры (последние получили свое имя оттого, что в Конвенте сидели на самом верху) — экстремальная левая фракция, обещавшая установить «режим охраны добродетели». К осени 1792 года, после кровавой фракционной борьбы, интриг и заказных убийств, якобинцы стали неоспоримыми лидерами революции. В марте 1793 года якобинцы сформировали Комитет общественного спасения, который, как изначально планировалось, должен был контролировать передвижения и действия всех иностранцев в стране. Однако работа этого комитета быстро вышла за означенные рамки, его члены без разбора преследовали заговорщиков-роялистов и ни в чем не повинных граждан. Жажда крови достигла апогея осенью: группа санкюлотов ворвалась в Отель-де-Билль на собрание Конвента с требованием хлеба и немедленной казни всех врагов революции. С этого началась волна террора — около 20 000 человек были убиты во имя свободы. Улицы вокруг площади Революции окрасились кровью, город охватила волна слухов, опровержений и опровержений опровержений. «Пока правил Робеспьер, лилась кровь, но всем хватало хлеба», — вот афоризм тех лет. В действительности урожай 1794 года был скуден, и Париж оказался перед угрозой голода. Вокруг Тюильри и в Люксембургском саду сажали картофель, но это мало помогало — казалось, катастрофа неотвратима. Убийства продолжались. Кровопролитие остановилось лишь после того, как утомленные жестокостью политики организовали заговор против «неподкупного» великого инквизитора и главного террориста Робеспьера. Убийца, лично ответственный за шесть тысяч голов, отрубленных на площади Революции, сам взошел на эшафот и был обезглавлен 28 июля 1794 года. Толпы зевак судачили, что его лицо было окровавлено и искажено гримасой, что вечером накануне ареста в панике перед наказанием Робеспьер пытался покончить с собой.Глава двадцать пятая Кровавый путь к Утопии
Чтобы построить новый мир, революционеры решили начисто избавиться от наследия прошлого. Санкюлоты вышли на улицы и приступили к систематическому уничтожению всех символов того, что они же вскоре назовут Ancien Régime. Первой разрушили стену Генерального откупщика, что было одновременно действием символичным и практическим. Популярный каламбур утверждал, что стена способствовала подъему революционных настроений: «Le mur murant Paris rend Paris murmurant» («Окружающая Париж стена вызвала в Париже ропот»). Но классовая ненависть была глубже, чем казалось: гнев обрушился на все символы прошлого. Бастилия, как и стена Генерального откупщика, была разрушена до основания, камень ее стен использовали для строительства моста Революции (сегодня — мост Согласия). Христианство в лучшем случае попало под подозрение, в худшем — стало объектом ненависти масс. В 1792 году революционеры отказались от христианского календаря, заменив традиционные имена месяцев названиями времен года (май стал флореалем в честь цветов, июль — термидором в честь жары). Потом взялись за город, его улицы и учреждения. Планов было громадье: от переименования собора Нотр-Дам в Храм Разума (даже самые отъявленные атеисты-революционеры не смогли решиться на уничтожение здания) до закрытия церквей и коллежей. Статуи с фасада Нотр-Дам, которые простолюдины принимали за изображение королей Франции, были обезглавлены (в действительности снесли головы статуям царей Иудеи, позднее их восстановили, отрубленные же фрагменты отыскались в 1975 году в одном из парижских подвалов). Самые престижные коллежи Университета Парижа были закрыты, здания, где они размещались, выставлены на торги или переданы в пользование для других целей. Сорбонна на короткий срок превратилась в фабрику, другие коллежи были переоборудованы в мастерские или тюрьмы. Революционные власти объявили, что все церкви подлежат либо сносу, либо переоборудованию. Слово «святой» было стерто из названий улиц. Все парижские церкви в той или иной степени пострадали, на Гревской площади были сожжены реликвии из церкви Святой Женевьевы, в Сен-Шапель устроили мучной склад, но дотла сожгли лишь четырнадцать церквей. Чаще всего культовые сооружения не сжигали, а использовали для служения революционным идеям: храм Святой Женевьевы назвали Пантеоном и посвятили великим мужам Франции; в Сен-Жермен-де-Пре размещались штаб-квартиры различных революционных политических фракций. А на паперти собора Нотр-Дам кордебалет театра Опера исполнил «танец Разума». Городская жизнь не замерла во время революции, но приобрела гораздо более серьезный и мрачный характер. Веселье оставило общество еще до революции, тогда же пьянство перестало быть всепоглощающим явлением, а распутство сбавило обороты — Франция явно находилась на пути к кризису: некий современник заметил, что в тавернах и на улицах почти перестали звучать песни, а те, что еще можно было услышать, были ироничными или издевательскими. Во времена революции повседневная жизнь утратила плавное течение и изобиловала крайне резкими поворотами. Частная и общественная революционная мораль зачастую противоречили друг другу. Революционные нормы определены не были: то пропагандировалась вседозволенность во имя восстания и подрыва старого строя, то воцарялось аскетичное пуританство, осуждавшее все формы удовольствий как пережиток старого режима. На пике террора город охватила лихорадочная похоть, даже самые «работящие» проститутки сетовали, что устают до полного бессилия. На этом фоне якобинцы осуждали пьянство, проституцию и прочие радости жизни как контрреволюционную фривольность и даже предательство идей революции. Однако худшие времена для простых парижан были впереди: сразу после окончания Великого Террора в город ворвались голод и болезни. Пока же конфликт между свободой и развратом бушевал вовсю.«Еще усилие…»
Неожиданно героем революции стал маркиз де Сад, который чуть не ли единственным из заключенных в Бастилию был освобожден народом. Де Сад находился в заточении с 1778 года, сначала в Венсенском замке, а затем в Бастилии. Его арестовали по подозрению в отравлении и содомии, но оправдали. Но даже после оправдательного вердикта из тюрьмы его не выпустили; так он и сидел, мастурбируя, обжираясь и пописывая свое лучшее произведение, «120 дней Содома» — массивный перечень разнообразных сексуальных извращений. За десять дней до штурма Бастилии, до кровавой резни, охватившей Париж, де Сада перевели в тюрьму Шарантон. Революционеры добрались до библиотеки маркиза, и все шестьсот его книг, принадлежащие ему картины и рукописи были изрезаны, сожжены или украдены. Когда в 1790 году маркиза выпустили, он предал свое сословие, повернулся против аристократов и объявил себя обычным гражданином, рядовым писателем и преданным революционером. Проведя некоторое время в сумасшедшем доме, маркиз обратился к театру (одно из немногих искусств, официально поддержанных революцией). Наслышаны о произведениях маркиза были многие, но доступны они были лишь избранным читателям. Его ценили за неустанные нападки на лицемерных аристократов и ханжество церкви. Проблемы возникали не из-за литературных произведений де Сада, а из-за его образа жизни, обязательными элементами которого были оргии и покушения на убийства. Самым откровенным вмешательством маркиза в политику стало его выступление во время дебатов с проповедью «Еще одна попытка стать республиканцами», текст которой позднее вошел в порнографическую «Философию в будуаре». Автор утверждал, что написал свое произведение с целью показать иллюзорность всякой религиозной морали и призвать личность отринуть все формы неестественной власти. Де Сад уверял, что только когда человечество последует его советам, мужчины и женщины смогут стать по-настоящему свободными и, следовательно, истинными носителями республиканских ценностей. Но значимость работ и книг маркиза состоит в том, что из всех своих современников он один явил, во что превратится террор, который несет с собой абсолютная свобода: в полную противоположность абсолютизма монархии. На картине знаменитого сюрреалиста Мэна Рэя 1938 года мы видим напыщенного расплывшегося де Сада, великого теоретика преступлений, со взором, устремленным в просторы грядущего. Центром всех преступных удовольствий Парижа даже во времена революции оставался Пале-Рояль. По городу ходили слухи, что каждую ночь там проходят сексуальные представления, в которых участвуют проститутки, трудящиеся теперь бесплатно: совокупляясь на сцене, они приглашают зрителей присоединиться к оргии во имя революционного антиклерикализма. Такой была жизнь всех тех граждан республики, кто в поисках секса стекался в Пале-Рояль. Очевидец рассказывал, что «на пике революции в здешних садах в любое время прогуливались около двух тысяч девушек. Некоторые приезжали издалека, а двери домов тех, что жили по соседству, были украшены вывесками с недвусмысленными предложениями, непосредственно же товар обычно выставляется на балконе. Если же прохожие не обращают на них внимания, дамочки развлекаются тем, что опорожняют ночные горшки прямо из окон на улицу. Так что в Пале-Рояль не вредно посматривать наверх». Специальным аттракционом пале-рояльских борделей были «sosies de vedette» — шлюхи, которые одевались и выглядели, как знаменитые дамы и аристократки тех лет. Иногда такие проститутки выступали в роли «суламифей» (термин родился из имени возлюбленной из библейской Песни Песней). Любимыми моделями считались звезды театра или оперной сцены. На подъеме революционного террора сексуальная активность горожан только возросла: женщины надевали головные уборы, окрашенные в красный, белый и синий цвета, и предлагали членам Учредительного собрания «особые» цены. Могло показаться, что в городе царит дух непрекращающегося карнавала. «Воистину, новый Содом!» — подметил один из гостей Парижа. Но таверны и бордели Пале-Рояля жили по жестко установленному распорядку. Наиболее дорогие и эффектные красотки облюбовали кафе «Де Фуа», то самое, где безработный юрист и оратор Камилл Демулен 12 июля 1789 года произнес блистательную речь, которая вдохновила толпу на штурм Бастилии. Теперь здесь в апартаментах на втором этаже проживали и предлагали дополнительные развлечения в виде обедов или пения под аккомпанемент пианино самые модные проститутки. Шлюхи низшего пошиба занимались незатейливым ремеслом добывания денег. «Almanach des addresses des demoiselles de Paris de tout genre et de toutes les classes» приводил список всех, кто предлагал в столице самые разные услуги, в том числе и сексуальные: например, «Берси — мулатка с пышной фигурой, улыбчивым лицом, симпатичное сокровище, сама гибкость и живость американки — 6 ливров» (весьма скромная плата); итальянская брюнетка «с мягкой кожей, аппетитной грудью, без вуали» стоила 12 ливров «demi-nuit» (за половину ночи). Иностранки всегда ценились дороже парижанок, особенно таких, как Жоржетта, которая была «лакомством» пока трезва, но «скандальна и бесстыдна, напившись пунша». Жоржетта стоила 3 ливра за ночь, но клиенту при этом следовало быть готовым к пьяной истерике и, вполне возможно, к драке.Содомиты
Наряду с признанием права на существование идей маркиза де Сада, революция дала право на открытое удовлетворение почти всех плотских радостей: секса, пьянства, обжорства. Еда и выпивка, в отличие, правда, от секса, не всегда были легкодоступны. Одним из удовольствий запретного характера оставался гомосексуализм. Маркиз де Сад прославлял содомию как высшее и самое изысканное злодеяние, которое, однако, по его трактовке должно было вершиться между женщинами и мужчинами, или мужчинами и мальчиками, но всегда в контексте бисексуальной оргии. Абсолютная гомосексуальность считалась прерогативой аристократии, даже несмотря на то, что многие содомиты происходили из низов общества, и тексты де Сада — тому подтверждение. Парижские полицейские уже давно считали гомосексуализм бичом столицы. Еще в 1715 году начальник городской полиции Симонне строил планы по избавлению Парижа от содомитов. Самым популярным методом этой борьбы стали шпионы; на закате они отправлялись в известные места встреч извращенцев, например в сад Тюильри или Люксембургский сад, общались и флиртовали. После 1738 года в полицейских отчетах гомосексуалистов начали называть «педерастами» — термином, заимствованным из греческого языка, считавшегося научным и светским (определение «содомия» имело библейские корни и ассоциировалось скорее с грехом, нежели с преступлением, что сильно сбивало полицейских с толку). Но все меры не остановили роста популярности однополой любви. Более всего власти беспокоил тот факт, что за обоюдной мастурбацией в известных «педерастических кварталах» все чаще ловили женатых мужчин. Конечно, мужья утверждали, что не являются ни «содомитами», ни «педерастами», что не любят ни анальный, ни оральный секс, а просто экономят деньги, не тратя их на проституток. Во многом в распространении подобного поведения винили питейные заведения, подобные кабаре «Дю Шадрон» на улице Сент-Антуан, где размещался частный клуб, в котором «мужчины брали женские имена и женились друг на друге». Взять под контроль такие развлечения было невозможно, в основном из-за их дешевизны и невероятной популярности. Сотни содомитов были арестованы в XVIII веке, но наказание обычно бывало мягким: краткое тюремное заключение или штраф. Если случаи жестких наказаний и случались, то истории этих неудачников были подобны участи маркиза де Сада, посаженного в тюрьму без суда и следствия. Нескольких гомосексуалистов казнили, но большинство из них взошли на эшафот, будучи обвиненными в иных преступлениях. Гомосексуализм доставлял проблемы властям именно потому, что при условии популярности и вовлеченности всех слоев населения контролировать его было совершенно невозможно. Полицейский отчет революционных времен свидетельствует, что в один-единственный вечер под наблюдением и в списках тех, кто подвержен «аморальным» поступкам, находились более 40 000 человек. Цифра невероятная, если учесть, что население Парижа тех времен составляло 400 000 человек. Понятно, что власти заботились не об исполнении своих обязанностей, но об устойчивости собственного влияния на подданных. В конце концов в 1791 году от официального запрета на содомию пришлось отказаться — разрешение гомосексуализма стало частью масштабной программы отчуждения христианства. В эпоху де Сада, Дантона и Робеспьера власть перестала интересоваться моральными нормами в сфере половой жизни населения.Изменяя мир
Череда событий и ряд главных действующих лиц Великой французской революции 1789 года ушли в прошлое, но остались частью коллективного сознания. Такие эпизоды, как казнь Людовика XVI и Марии-Антуанетты, убийство Марата крестьянкой Шарлоттой Корде, побоища и террор, фигуры Робеспьера, Сен-Жюста, Дантона и Мирабо, — сегодня больше легенды, нежели реальная история. Все попытки истолковать Великую французскую революцию вызывают споры и полны политической подоплеки. Сами французы создали из этого национальный миф, питающий их уверенность в том, что Франция — передовая страна мира. Именно идея первенства Франции стала темой широкомасштабного празднества столетия Великой французской революции в 1989 году (так случилось, что я как раз был в Париже и помню, что часть горожан выражала определенный скептицизм по поводу официальных торжеств). Как бы то ни было, с 1789 года парижане приобрели широко распространенную репутацию радикалов и бунтарей, и все восстания, произошедшие с тех пор, вершились ими в какой-то мере из стремления доказать правоту этого определения. Революционные мифы часто подвергают сомнению. Совсем недавно, в 1989 году, историк Франсуа Фюре и группа его единомышленников в книге «Penser la Révolution française» («Размышления о Французской революции», опубликована впервые в 1978 году) утверждали, что традиционный взгляд на Великую французскую революцию как на образец классовой борьбы весьма сомнителен. Интересно и важно отметить: Фюре утверждал, что революция принадлежит своему веку, и эра ее влияния давно уже минула. То, что революция является воплощением классовой борьбы, утверждение скорее философское, нежели эмпирический факт истории. Не знаю, правдиво ли это суждение, но и сегодня историки ломают копья по поводу тех событий, влияния их на современность и будущее. Дебаты ведутся о том, подорвали ли труды philosophes политическую волю государства или нет, является ли революция продуктом недовольства церковью, аристократией, двором и монархическим абсолютизмом или, как считал Жюль Мишле, была необходима для искоренения «нищеты людской». Фюре так и не удалось дать ответ на главные спорные вопросы, возникшие в связи с утверждениями социалиста и историка революции Жоржа Лефевра и англичанина Альфреда Коббена. Лефевр полагал Великую французскую революцию торжеством санкюлотов, победой рабов над господами и, следовательно, прообразом будущих социальных перемен. Коббен, опираясь больше на факты, чем на теории, заключил, что революция стала триумфом интересов буржуазии. Революция сделала Париж легендой. Бастилия, Гревская площадь, Сент-Антуан, площадь Людовика XV (быстро переименованная в площадь Революции, а позднее — в площадь Согласия и ставшая лобным местом) — эти названия стали известны всей Европе. Даже противники революции, скажем, англичанин Томас Карлейль, назвавший ее «мрачным жребием», были вынуждены признать, что исторические события тех лет наделили город символической значимостью в мировой культуре. Революция мало изменила внешний облик Парижа, в то время на новостройки не хватало ни денег, ни материалов, ни проектов. Но статус столицы Франции всего за несколько революционных лет изменился бесповоротно. Париж стал не просто реалией современности, но образом мечты человечества о будущем. «Счастье в новинку для Европы», — объявил верный слуга народа и безжалостный террорист Сен-Жюст. Весь мир заходился в спорах: является ли революция средством достижения свободы, достойной любой цены, кульминацией эры Просвещения, или же все произошедшее — бессмысленное пролитие крови невинных во имя туманной абстрактной идеологии. Сам термин «революция» проявился и был определен эпохой Просвещения. Во французский и ряд европейских языков он вошел еще на заре Возрождения, но как научный термин (чаще всего им описывали движения звезд или геометрическое понятие: полный оборот цилиндра вокруг своей оси). Только в конце XVI столетия, с распадом ветхих институтов Средневековья, этот термин стали использовать историки и летописцы, метафорически описывая перемены в обществе или внезапное изменение мироощущения. Революция из научной терминологии перешла в реальную жизнь в 1789 году: именно тогда человеческие деяния, а не теории и философия, определили ее значение во всей полноте. В одном Фюре прав: революционными событиями управляли одинаково психологические и политические факторы, то есть эмоции, бурлившие на улицах города. Этим, например, объясняется кажущаяся бессмысленной жестокость тысячных толп народа, разрушивших 14 июля Бастилию. Сильнейшим примитивным двигателем революции стала ярость обычных парижан, осознавших, что им лгали, что их дурачили. К концу XVIII века, когда армия набрала силы, а революция отошла в память людскую, Париж опутала паутина лжи и сплетен, которые исправно опровергали, но на смену им неизменно приходили новые пропагандистские слухи. Сцена для того, чтобы еще раз поставить новорожденную нацию на колени, была готова.ЧАСТЬ ПЯТАЯ ДОМ МЕЧТЫ, ГОРОД МЕЧТЫ 1800–1850 гг.
27 июля 1830 года. Неподалеку от здания школы мужчины в рубахах с закатанными рукавами катят бочки, несут брусчатку и мешки с песком — началось строительство баррикады. Ж. Пине. «История Политехнической школы» (1888)Каждая эпоха мечтает о следующей. Жюль Мишле. «Будущее! Будущее!» (1847)
Глава двадцать шестая Империя
Год 1800-й ничем от других для парижан не отличался. Он даже не стал началом нового столетия, как в иных городах Европы: Париж тех времен жил по революционному календарю, в году VIII, IX… Революция не закончилась, но и не вступила в новую фазу. Событие, произошедшее 18 брюмера VIII года (10 октября 1799 года), когда Наполеон Бонапарт захватил власть во Франции, также не взволновало горожан. Большинство жителей столицы сочли его очередной политической судорогой, множество которых сотрясало страну с 9 термидора II года (17 июля 1794 года), то есть с тех пор как умеренные политики начали искать пути развития страны, лавируя между правыми роялистами и левыми якобинцами. Бонапарт обещал парижанам стабильность и защиту, но они слышали подобное и раньше. Никто не верил, что новый правитель выполнит обещания, никто и не подозревал, что за пятнадцать лет правления этот амбициозный молодой человек превратит Париж в очаг военных и политических событий, вовлекающих в себя всю Европу, событий, которые навсегда изменят мир. Началось столетие, в котором Парижу суждено было стать первым городом мира. Идеи, пристрастия парижан в политике, революции, литературе, искусстве, сексе, моде и гастрономии будут определять вкусы всей Европы, Нового Света и французских колоний. Авторитет Парижа будет подкреплен масштабными градостроительными проектами, которые возродят классические архитектурные каноны и превратят город в блистательную столицу нового порядка. Многие символы нынешнего Парижа появились в XVIII веке: аркады, широкие бульвары, серые фасады многоквартирных домов, элегантные площади, строгие, красивые, узорно мощенные улицы, украшенные декорированными фонтанами и фонарями, мосты и тенистые скверы, словно что-то скрывающие в своей глубине… Может показаться, что XIX век прогрессировал и гнался за современностью по рельсам, проложенным предшествующим столетием. Но в этом же веке парижане столкнутся с разрушениями и смертью в неслыханных ранее масштабах. Один из крупнейших мыслителей, основоположник мифа об истории Парижа Жюль Мишле вспоминал, что в 1800-х годах, во времена его детства, столичные улицы пахли трупами и гнилым мясом, и казалось, если покрепче топнуть по брусчатке ногой, из-под нее выступит кровь. Но в течение грядущих ста лет на улицах города вновь прольется кровь рядовых парижан, вовлеченных в смертельный круг мятежей и реакции, громко именуемый революцией; кровь, которую абсолютно не принимают во внимание продажные политиканы, жаждущие отмщения аристократы и амбициозные шарлатаны. Век девятнадцатый принес расцвет технического прогресса, но также был веком, когда сохранение имущества и капитала требовало жестких и порой оскорбительных методов, игнорирующих интересы и будничную жизнь простых горожан. Тяжелые кризисные ситуации того времени включают не только кровавые мятежи под лозунгами свободы, равенства и братства, но и бурное развитие новых сил, исподволь управляемых политиканами и власть предержащими. И силы эти довольно быстро вышли из-под контроля. Вид Парижа своздушного шара над островом Людовика Святого. 1846.
Дагерротип, Национальная библиотека Франции, Париж
Вид Парижа своздушного шара над островом Людовика Святого. 1846.
Дагерротип, Национальная библиотека Франции, Париж
События в Париже девятнадцатого века притягивают внимание историков, историографов и критиков. Карл Маркс разглядел в Париже того времени воплощение борьбы прогресса и свободы, которая, как он считал, является самой сутью истории французской столицы. «Итак, о Париже, старинном университетском и философском центре и новой столице нового мира, — писал товарищу двадцатипятилетний Маркс, впервые приехавший в мегаполис. — Париж — это нервный узел европейской истории, периодически заставляющий вздрагивать весь мир». Другой немец, живший и писавший в Париже 1930-х годов, — Вальтер Беньямин (кстати, ярый поклонник марксизма), посвятил сотни страниц расшифровке городских тайн XIX века. Идея его исследования состояла в отслеживании трансформаций географических и исторических объектов города на фоне будничной жизни. Беньямин утверждал, что только в жизни простых горожан, действующих в рамках окружающей их столичной среды, можно наблюдать отблески временного континуума. Когда же замечаешь или переживаешь этот континуум, продолжает Беньямин, Париж XIX века открывается во всей полноте и богатстве человеческой истории. Ученые, изучающие Париж тех времен, зачастую бывают шокированы яростью насилия, которое с революционных дней 1830–1848 годов и до Коммуны 1870 года, сопровождаясь призывами к справедливости, опалило огнем пожаров городские улицы, взорвало их будни стрельбой и покрыло мостовые трупами. То была эра заговорщиков, памфлетистов и фанатиков-утопистов. Политическое насилие было таким же интенсивным, как и капитализация, захватившая городские банки, предприятия, театры, бордели и кабаре. Слияние этих двух сил и привело Париж к славной и ужасной эпохе.
Имперские мечты
К 1800 году парижане устали от войн, революций и политики вообще. Они просто хотели работать, есть и жить в удобном, политически стабильном городе — именно этого так не хватало Парижу начала XIX столетия. С 1790-х годов французская республика страдала от множества недугов. Изнутри она подтачивалась контрреволюционерами, которые успели довести Бретань до мятежа, а снаружи ей приходилось сталкиваться с враждебным отношением Европы к идеям и практике революции. Экономика страны разваливалась, продовольствие в столицу поставлялось нерегулярно, а в провинциях хозяйничали разбойничьи шайки, убивавшие всех без разбору. В городах Франции, в первую очередь в Париже, плелись заговоры, множились доносы, росло число заказных убийств. Даже когда террор ослабевал, жизнь оставалась трудной. Существование республики не раз висело на волоске, при том что обыватели возмущались исключительно нехваткой продовольствия, произволом и вспышками насилия. Если с неизбежностью войны еще можно было мириться, то приближение голода пугало людей донельзя. Революция уничтожила аристократию, раздавила церковь и обрекла обычного человека на столь жалкое существование, какого парижане не знали уже более сотни лет. Кроме бедняков, в голодных бунтах, в нападениях на спекулянтов и укрывателей еды принимали участие и буржуа. В 1795 году на смену революционному правительству пришла Директория — исполнительный комитет из пяти «директоров», — которому отчасти удалось восстановить в Париже порядок. Город лишили централизованной власти — его разбили на отдельные округа, подчинявшиеся, в свою очередь, Директории. Главной проблемой пяти «директоров» было отсутствие ясного плана действий в отношении развития страны после Великой французской революции. Если точнее, Директория не могла выбраться из бесконечных диспутов между законотворцами и политиканами, то есть между правдолюбами и демагогами. Образовавшийся политический ступор негативно отразился и на Париже. Пока суд да дело, инфляция вышла из-под контроля и начала стремительно расти. Директория сделала несколько слабых попыток спасти экономику столицы, но быстро осознала, что легче заниматься мелкими вопросами. Например, делами Института Франции, чьи ученые сопровождали Бонапарта в египетском походе и положили начало египтологии, а также «ориентализмом» (если использовать термин Эдуара Сэда) — евроцентристской псевдонаукой по изучению неевропейских культур. Финансовые сложности внутри Парижа усугубились донельзя. Крайне унизительный для парижан период упадка длился до 1802 года. Неудивительно, что на этом фоне фигура Наполеона Бонапарта показалась парижской публике особенно привлекательной. С начала 1790-х годов в пользу Франции он захватывал все новые земли. Молодой генерал говорил с заметным акцентом, зачастую с трудом подбирая французские слова (родным языком ему был генуэзский диалект), и был далек от политических интриг Парижа. Жизнь Франции была ужасна, но по мере завоевания армией Наполеона, позднее названной «великой», ведущих стран Европы парижане поверили, что их ждет славное будущее.Корсиканец
Настоящее имя генерала — Набулионе Бонапарте. Он родился в 1769 году в Аяччо, за год до выкупа этого острова Людовиком XV у Генуэзской республики. Для получения военного образования мальчика послали во Францию, где всю жизнь он чувствовал себя иностранцем. В 1792 году молодой майор артиллерии Наполеон находился в Париже и бесстрастно наблюдал внезапный штурм садов Тюильри: толпы народа восстали тогда против Национального собрания, что заставило революционных правителей выражать левые политические взгляды. Бонапарт объявил о приверженности революционным идеалам и действительно не признавал социального неравенства или наследных титулов, а также никогда впоследствии не забывал об опасной силе парижской толпы. Когда обезумевший народ заставил короля надеть красный колпак, Наполеон отказался смотреть на это зрелище и славить происходящее. Уже тогда молодой офицер думал прежде всего о порядке и дисциплине. Впервые генерал выделился в 1794 году в южном портовом городе Тулоне, оккупированном английской армией, выступившей против Революции. Бонапарт сбросил англичан в Средиземное море, выказав хитрость, смелость и тактический талант. Уже тогда он был дружен с Робеспьером, который повысил его до бригадного генерала и объявил героем революции (Робеспьер также разубедил его наниматься на службу к турецкому султану). В 1795 году Париж вновь охватила смута. Первопричиной беспорядков послужила инфляция, а точнее, невероятно высокие цены на хлеб. В мае протестующие якобинцы захватили зал заседаний Конвента, но были изгнаны штыками Национальной гвардии, которая сначала защищала пролетариат, а позднее — буржуазию. Когда власть вновь вернулась к буржуа, Наполеон находился в Париже и как союзник Робеспьера подозревался в «терроризме». Властям было необходимо подавить якобинское восстание. Но они одинаково опасались контрреволюционных сил, собиравшихся в Париже и выжидавших случая уничтожить завоевания Революции 1789 года. В октябре роялисты не упустили шанс: они осадили Конвент в попытке низложить революционное правительство. Власти вызвали армию, и генерал Баррас со всей жестокостью разогнал бунтовщиков. Его помощником был Бонапарт, который, не дрогнув, приказал войскам расстреливать простых горожан в Тюильри. Этот случай насилия, когда более двухсот человек были убиты, вошел в историю как «угощение виноградом»[80]. Вернувшегося в 1797 году в Париж из успешного похода в северную Италию Бонапарта члены Директории, надев тоги, встретили древнеримской церемонией приветствия победителя. Ритуал, организованный с целью отвлечь горожан от ужасов и нищеты, раздул и подстегнул политические амбиции Наполеона. 18 брюмера 1799 года он взял Директорию, Париж и Францию под свой контроль, став одним и первым из трех консулов (еще одна из возрожденных римских традиций). После успешного военного похода в Италию, всего в течение нескольких месяцев, Наполеон стал единоличным правителем города и Франции — первым консулом и практически диктатором. Бонапарта нельзя было назвать обаятельным, но он был щедро наделен харизмой. Главное, он дал парижанам уверенность в собственной безопасности в отсутствие монарха. Когда Наполеон захватывал власть, Париж пестрел плакатами, гласившими: «Граждане, если мы хотим мира, следует дать власть Бонапарту!» Мир в Париже действительно установился, но ценой ряда войн, прокатившихся во имя революции по всей Европе. Именно тогда возникший в XVII веке термин «gloire» соединил в себе военные амбиции и патриотизм и вошел в политический и религиозный лексикон Франции. Войны Бонапарта не просто служили отвлекающим маневром от внутренних проблем республики, они также утоляли амбиции диктатора, его стремление к захвату новых земель и власти над миром. В период 1800–1814 годов Бонапарт поведет Францию в более чем сорок сражений, устроенных якобы с целью «самозащиты» и «во имя революции», а в действительности для укрепления диктаторской власти и военного контроля над над своей страной и Европой.«Император — Мировой Дух!»
Революционные идеалы уничтожались один за другим. В 1801 году Бонапарт и папа римский подписали мирное соглашение (так называемый Конкордат), восстановившее католицизм в правах. По случаю этого события понтифик почтил присутствием пасхальную утреннюю службу в соборе Нотр-Дам, где во времена революции хранили винные запасы. Бонапарт старался превратить ввергнутый в запустение Париж в столицу государства в полном смысле слова. Диктатор основал Банк Франции, поощряя инициативу частных инвесторов. Всего за несколько лет экономика столицы пошла в рост, город почувствовал вкус к предметам роскоши, чего не мог себе позволить со времен старого режима. Аристократия не интересовала Бонапарта, разве что в качестве инструмента в политических играх. Однако он не препятствовал возвращению в Париж émigrés, которые везли былые манеры и изысканный вкус (как и высокомерное презрение к провинциальному корсиканцу, позволившему им вернуться). Многие были уверены, что с самого начала целью Бонапарта был переход к авторитаризму, что и было осуществлено решительно и быстро. Так, 2 декабря 1804 года в соборе Парижской Богоматери Наполеон I был провозглашен императором Франции. Церемония прошла в присутствии папы Пия VII, за день до коронации тайно сочетавшего Бонапарта и его любовницу Жозефину браком в часовне Тюильри (Жозефина состояла в гражданском браке с Наполеоном с 1795 года). Самое интересное, что не понтифик, а лично Наполеон возложил на себя императорский венец, чем показал всему миру, что власть находится исключительно в его руках. Большинство парижан симпатизировали новому императору, несмотря на критику интеллектуалов, вроде Пьера Симона, виконта де Барра, Рене Шатобриана (поначалу угодившего Бонапарту книгой «Гений христианства» — компендиумом католической пропаганды) и мадам де Сталь — заклятых врагов наполеоновской власти. Культ поклонения Бонапарту был преисполнен мистицизма и одурманивал, словно наркотик. Термины «консул» и «император» не были изобретены Наполеоном — давно вошедшие в употребление, они описывали правительственные структуры и администрацию эпохи Просвещения. Эти термины проникли в повседневный лексикон, но механизм управления государством оставался построенным по классической схеме. Назвавшись «императором», Бонапарт в народе стал известен просто как «Наполеон». Всем было очевидно, что судьба Парижа, Франции и Европы теперь находится в руках одного человека. Вечером 12 октября 1806 года, когда войска Наполеона готовились войти в Иену на юге Германии, философ Фридрих Гегель чуть ли не с эротической интонацией писал своему другу Ф. Нитхаммеру о своей влюбленности в великого французского главнокомандующего: «Император — Мировой Дух — выехал, чтобы провести рекогносцировку города; воистину, чудесно видеть подобную личность — каковая, верхом на коне, управляет всем миром». Эти строки родились в то время, когда Гегель дописывал «Феноменологию духа» — труд, полезный амбициозным властителям и полный теорий о современности и истории. Для Гегеля, как и для парижан, приветствующих выходящего из Нотр-Дам нового императора, Наполеон стал именно таким, активным и амбициозным правителем.Город в истории
И в Париже начались перемены, воплощавшие мечты и амбиции новой эры. Бонапарт объявил о своем стремлении «сделать Париж прекраснее, чем когда-либо». Для этого он пригласил архитекторов Фонтена и Персье, которые, создавая новые ландшафты, разрушили ветхие дома между Тюильри и Лувром и, открыв вид на Елисейские поля, создали самую величественную улицу Европы — символ славного будущего нации и военных побед. Не следует забывать, что император желал преобразить столицу и страну так, чтобы они соответствовали его идеям о величии. Наполеон мечтал о монументальном, созданном по римской модели, городе, украшенном величественными архитектурными сооружениями, арками и памятниками, славящими французскую империю. Все преобразования тех времен были одновременно крайне практичны и невероятно амбициозны. Бонапарт сумел привести в порядок повседневную жизнь города, которая более ста лет прислушивалась лишь к звериным законам трущоб. Дабы облегчить движение городского транспорта, построили пять новых мостов. Для снабжения столицы пропитанием соорудили пять скотобоен (самыми крупными были менильмонтанская, между улицами Сент-Амбруаз и Сен-Мор, монмартрская, на площади де Анвер, и бойня в Вильжюфе, между улицами Пинель и Стефан-Пишон). Построено восемь крытых рынков, в том числе цветочный рынок на острове Ситэ (сохранился до наших дней вместе с рынком Сен-Жермен, на месте которого устраивали ярмарки еще в 1176 году). Возможно, самым грандиозным и долгосрочным проектом Первой империи можно назвать канал Урк, новую торговую и транспортную артерию, ведущую к самому сердцу Парижа. Отношение парижан к протекавшей через город реке было неоднозначным: серия наводнений 1801–1802 годов унесла множество человеческих жизней и залила Париж водой от Елисейских полей до Дома инвалидов, от площади Отель-де-Вилль до Фобур Сен-Антуан. В революционный и последующий периоды истории берега реки были единственным местом, где не творилось кровопролитие. Сена больше привлекала любителей купания, совратителей и — изредка — самоубийц. Равнодушные к политике riverains (прибрежные обитатели), занятые исключительно торговлей товарами из провинций, служили образцом покоя и стабильности для парижан. Постройкой канала Урк Наполеон доказал, что понимает, как важны водные маршруты для города. А сооруженные по всему городу 56 украшенных орнаментом фонтанов (фонтаны Марса на улице Сен-Доминик или дю Пальмьер на площади Шатле производят впечатление даже сегодня), питавшихся водой из нового канала, были красивы и принесли практическую пользу. Грандиозные проекты, которые император курировал лично, — например, мосты Аустерлиц или Иена, названные в честь военных побед, или широкие улицы, такие как де Риволи, — были разбросаны по всему городу. Наверное, самый яркий архитектурный автограф императора — это расположенные между Лувром и Тюильри арка Карусель и огромная Триумфальная арка (работы начаты в 1806 и завершены в 1835 году). И сегодня, несмотря на ассоциацию с тиранией и деспотизмом, Триумфальная арка считается ярчайшим символом французского (если не парижского) патриотизма: она выстроена так, чтобы, глядя на нее, на заднем плане зритель видел панораму города. Сразу после Революции Париж выглядел обветшалым и полуразрушенным. Все достижения начала XVIII века — выпрямленные улицы, расширенные мосты и переправы, упорядоченное движение общественного транспорта — давно устарели. Население города сократилось до 500 000 человек — парижане покидали сломленную нуждой столицу в поисках пропитания и спокойной жизни. Настоящий подъем начался в 1802–1803 годах, когда в стране выдался большой урожай. Город наконец обрел веру в будущее. Сразу после подписания в 1803 году перемирия с Англией Париж на короткое время стал местом скопления британских путешественников. Англичане наблюдали (часто с неприкрытым злорадством) город, сильно отстававший в развитии от Лондона: многие улицы оставались невымощенными, дороги, забитые каретами, людьми и животными, больше походили на траншеи с грязью. Любопытных неодолимо тянуло в столицу Франции, которую на протяжении двадцати лет вся Европа считала центром мирового зла. Запретные удовольствия Парижа найти было несложно: полуобнаженные красотки танцевали в варьете, в Пале-Рояле проститутки обоих полов, не стесняясь, торговали собой, многочисленные ярмарки и рынки во всех уголках города предлагали целый букет развлечений. Гостям щекотал нервы запах крови на площади Согласия, который, по слухам, был так устойчив, что домашний скот и лошади отказывались ее пересекать. Местной достопримечательностью считался и сам Бонапарт. Парижане часто удивлялись и даже досадовали на приезжих, которые, казалось, всем своим видом и манерами стремились обидеть жителей французской столицы. Потных англичан освистывали в опере за «неправильное» поведение. Британцев, «пьяных краснолицых хамов», сальными глазами пялящихся на проституток и всегда готовых ввязаться в драку, осуждали. Подобно группам английских молодчиков, которых можно встретить сегодня во всех западноевропейских столицах, британцы тех времен слыли грубиянами, пьяницами, охотниками за противоположным полом и вульгарными дебоширами. Британские гости, в свою очередь, скептически относились к обновленной столице Франции и ее главе — Наполеону. Они отмечали, что большая часть культурных ценностей представляла собой недавние военные трофеи из разграбленных армией стран — будь то шедевры Ренессанса (в том числе книги, рукописи и статуи), захваченные в Северной Италии и размещенные в новом величайшем музее мира — Лувре, или бронзовая квадрига с венецианского собора Сан-Марко, помещенная на арку Карусель. Иностранцы полагали, что внешняя политика, оправдывающая военный грабеж, и внутренняя тирания не могут служить надежным основанием существования новой империи[81]. Они оказались правы. Империя начала разваливаться в 1810 году, когда после поражений в Испании и финансового кризиса внутри самого Парижа (в течение нескольких месяцев разорилось 270 банков) правительство стало стремительно терять авторитет. Появилась безработица, обнаружилась нехватка продовольствия. Чтобы парижане засомневались в обещанном Наполеоном великом будущем, хватило одного неурожайного года — 1811-го.Первым очевидным для всех признаком надвигающейся беды было отступление Наполеона от Москвы в 1812 году. В октябре 1813 года мрачные настроения переросли в панику — в «битве народов» под Лейпцигом русская, австрийская и прусская армии разгромили Великую императорскую армию в пух и прах. Парижане начали опасаться, что им придется расплачиваться за гордыню корсиканца. Но более всего их пугали не знающие пощады кровожадные русские, шедшие мстить за сгоревшую Москву и, по слухам, знавшие по-французски только два слова: «Brûler Paris!» («Сжечь Париж!»). Сразу после Лейпцигского поражения Париж был охвачен страшными слухами и новостями с фронта, беспорядочным потоком доходившими до столицы из штаба отступавшей по равнинам Польши и Восточной Пруссии армии. С января 1814 года в город потекла река беженцев и дезертиров Grande Armée: одни просили подаяния, другие грабили прохожих, третьи — будучи искалеченными или тяжело ранеными, умирали, истекая кровью в придорожных канавах. Хуже того — побитые вояки везли в Париж мрачные пророчества о грядущей беде. Город находился на грани истерики. К марту улицы были забиты крестьянскими телегами, беженцы спасались от военных действий, которые должны были вот-вот переместиться на восток Франции. Ради подготовки к приему раненых солдат из приютов для душевнобольных и лечебниц выгнали всех пациентов: больные и сумасшедшие бродили по городу, выкрикивали бессвязные речи, пьянствовали, внося свою лепту в какофонию, предвещавшую смерть французской столицы. Подобно больницам «освободили» и морги: хранившихся в них мертвецов просто сбросили в Сену; власти успокаивали горожан, утверждая, что эти трупы не заразны и болезней не принесут. Сотни раздутых лиловых тел, всплывших у берегов Сены в марте 1814 года, однако, вовсе не укрепили ни дух парижан, ни состояние их здоровья.
Глава двадцать седьмая Оккупация и реставрация
Подошедшую в конце марта к воротам города стотысячную армию, состоявшую из прусских, австрийских и русских подразделений, возглавлял австрийский маршал, победитель сражения под Лейпцигом князь Шварценберг. Этой армии противостояли всего-то 12 000 национальных гвардейцев, которые были хорошо дисциплинированы и верны, скорее, парижанам, чем властям города. Когда до Франции дошли слухи о поражениях Наполеона, в столицу потянулись роялисты, стремившиеся раздавить пролетариат и разжигавшие недовольство масс в расчете на репрессии, которыми ответит правительство императора. Роялисты рассчитывали использовать зреющее общественное недовольство и одновременно боялись классовой ненависти, которая впервые со времен революции неприкрыто проявилась на улицах. Завсегдатаи кофеен и питейных заведений единодушно полагали, что одной из причин поражения Наполеона является его отказ вооружить рабочих пригорода Сент-Антуан: император ненавидел и боялся их, а ведь пролетарии могли прийти ему на помощь. Очевидец тех событий, историк и журналист Хуан Родригес писал, что парижане среднего достатка тряслись от страха перед «забывшими Бога, аморальными, ведущими пустую и никчемную жизнь личностями», которые, не таясь, пальцем указывали на дома, что собирались ограбить, на тех, кто будет убит первым, когда придут казаки. В ночь на 30 марта, накануне сражения за столицу, сотни зевак поднялись на Монмартр, чтобы, трепеща от ужаса, наблюдать за передвижением иностранных войск, за тем, как варвары жгут костры и готовят пищу. До Монмартра доносилась экзотическая русская музыка, под эти звуки парижане дожидались решающей битвы. Холм Монмартр, собравший горожан, на короткий срок получил название Моннаполеон: на его вершине среди мельниц и виноградников стоял знаменитый телеграф, по которому Бонапарт рассылал новости и приказы. Сражение состоялось на рассвете. Самая ожесточенная его часть длилась пять часов: дым от артиллерийских залпов затянул северные высоты города. Некоторые горожане следили за сражением так, словно это был спортивный матч: с крыш домов, сквозь подзорные трубы из окон своих квартир. Но большинство жителей в поисках безопасности бежали в центр города. На бульварах атмосфера оставалась относительно спокойной. В кафе «Тортони» и на модных террассах состоятельные парижане как ни в чем ни бывало пили кофе, лакомились десертами. Выражение их лиц было настолько равнодушным, насколько возможно было сохранять видимое спокойствие при грохоте орудий и при виде окровавленных солдат, бредущих с поля боя. На рабочих окраинах царила тревожная атмосфера, волны паники прокатывались по грязным улочкам старого Парижа даже после того, как был прекращен огонь и в половине третьего дня объявлено о победе союзных войск. По городу распространился слух, что ужасные русские взяли Монмартр и теперь готовятся наказать город за преступления Наполеона. Вернувшись с переговоров о мире, префект Сены граф Шаброль рассказывал, что видел, как русские солдаты подбрасывали в воздух горящие головни и угрожающе кричали: «Париж! Париж!» Русский царь Александр I прибыл под стены французской столицы, чтобы лично возглавить армию, и после победы был весьма великодушен. Он объявил, что его враг — лично Наполеон, и приказал солдатам расставить посты на городской стене в знак того, что Париж теперь находится под «особой защитой». 31 марта в одиннадцать часов утра сопровождаемый казаками и штабными генералами Александр вошел в Париж через заставу Пантен. Узнав, что резни не будет, огромные толпы парижан собрались на пути парада, скандируя: «Долой императора! Смерть корсиканцу! Да здравствует мир! Да здравствуют наши освободители!» Когда победители вступили на Итальянский бульвар и в богатые западные районы города, приветственные крики усилились. Особенно радовались приходу русских женщины, заявившие, как свидетельствовал некий англичанин: «Наполеон убил всех наших любовников». Оккупационная армия прошла сквозь город и разбила лагеря в Булонском лесу и на Елисейских полях, которые из-за густо посаженных деревьев походили на парк. Город был поделен на три четко очерченные зоны, которыми управляли русские, австрийские и прусские власти. Вздохнув с облегчением, парижане вернулись к повседневной жизни. Обозленный отступлением из-под Фонтенбло Наполеон презрительно назвал Париж «La Grande Cosaquie» («Большой казак»), а предателей-парижан — «monstres cosaques» («монстры-казаки»). Парижане были действительно рады казакам. Сначала их боялись: ходили истории о том, что русские обожают насиловать и забавляться варварскими играми, например в мороз гнать людей голыми на порку. Но мужская часть городского населения уважала дисциплину и военную выправку казаков, женщины же с легкостью поддавались на их заигрывания, увлекаясь экзотическими манерами и обликом «варваров». Сами же русские, хоть и презирали роскошь Парижа, с удовольствием ею пользовались. Слово «бистро» произошло от русского «быстро» и вошло в обиход, как принято считать, в те годы. Это словечко приклеилось к любимым казаками ресторанам простой кухни. Поговаривают, что и бордели ускорили обслуживание и изрядно поправили свои дела. Как бы то ни было, оккупация 1814 года глубоко шокировала парижан. Даже те из них, кто продолжал злословить по поводу религиозных предрассудков, не могли не считать захват города своего рода суровым возмездием судьбы за Великую французскую революцию. Исходя из таких рассуждений, парижане приняли своих временных властителей с воодушевлением, но без любви. Общественность считала, что Наполеон привел страну на грань катастрофы. Русский царь быстро стал героем, его уважали за помилование французской столицы, за наведение порядка и стабильности в городе, за то, что среди гражданского населения количество жертв было сведено к минимуму. Толпы парижан, в сердцах которых перемешались трепет и восторг, следили за утренними выездами царя Александра и его вечерними посещениями православной церкви, расположенной на площади Людовика XV (которую в недалеком будущем переименуют в площадь Согласия). Однако вскоре оккупация начала тяготить парижан, в них проснулась тоска по независимости и бунтарский дух — народ быстро забыл о тиране, от которого только-только избавился.Погребая мертвецов
Основной причиной скорби горожан было жалкое состояние, в котором к моменту изгнания императора находился Париж. Наполеон стремился достойно увековечить собственную славу, преобразуя столицу. Уподобляя Париж имперскому Риму, он расчистил пространство вдоль центральной и западной осей города. Это позволило наполнить столицу триумфальными арками, широкими зелеными улицами, подходящими для военных парадов и проложенными с армейской точностью. Но императорские проекты практически не затронули средневековых закоулков сердца города, к востоку и югу от Л’Аль. Впрочем, и жители новых кварталов жаловались на зловоние канализации и дороговизну жилья в столице наполеоновской мечты. Об ужасной вони, царившей в центре Парижа, было известно всем. Причиной этой неприятности служили парижские кладбища, к началу XIX столетия их в городе было несколько; некоторые из некрополей появились еще до Римской империи и были «густозаселенными территориями». Наихудшая слава шла о кладбище Невинно Убиенных, расположенном в самом сердце города. Ни для кого не было секретом, что ночами сюда стекались некроманты, шлюхи, пьяницы, воры и (весь XVIII век) расхитители гробниц, продававшие свежих мертвецов студентам и профессорам Медицинской школы за рекой. Горожане как могли сторонились кладбища Невинно Убиенных, давно вошедшего в парижский фольклор. Самый большой страх перед этим зловещим местом горожане испытали на пике революционного террора, когда обезглавленные тела и отрубленные головы казненных сваливали на окраинах кладбища целыми корзинами. Доносившийся оттуда густой, обволакивающий («как благородный сыр с плесенью», — писал некий парижский гурме) запах смерти был ярким напоминанием о недавнем кровопролитии. К 1800 году, чтобы освободить место для новых захоронений, останки эксгумировали и складировали в склепах-галереях, прилегающих к стенам кладбища. Окружающие улицы издавна относились к торговому и жилому центру города, но зловоние близлежащего погоста было столь сильным, что не исчезало даже зимой, летом же можно было подхватить инфекцию, просто прогулявшись по улице Сен-Дени. В 1776 году на братской могиле, куда, словно мусор, издавна сбрасывали парижских бедняков, начала оседать почва; мертвые тела выступали из-под земли, кости проламывали стены винных подвалов жилых домов, на трупный запах приходили крысы. Многие из зданий округи совершенно обветшали, их жильцы задыхались от удушливого воздуха и сероводородных испарений. В 1780 году несколько поселенцев улицы де ла Линжери умерли от неизвестного недуга, который был вызван «вредным воздухом». И все же решение об уничтожении кладбища Невинно Убиенных было отложено до начала 1800-х, тогда же признали необходимость снести ряд небольших городских могильников. Взамен решили открыть три больших кладбища, самое крупное из которых расположено на окраине города и называется Пер-Лашез. Кости с кладбища Невинно Убиенных подлежали перемещению в карьеры Данфер-Рошро, некогда снабжавшие город строительным камнем. Начало XIX века, «столетия света», ознаменовалось ночными передвижениями труповозок, перемещавших кости из центра города на окраину; за ними шли священники, протяжно читавшие заупокойные молитвы. Заявивший о надругательстве над умершими журналист оказался в тюрьме. Факт его ареста является недвусмысленным доказательством того, что в программе по перемещению было заинтересовано высшее политическое руководство страны. В XVIII столетии заговорили о старых каменоломнях и подземных тоннелях: по городу ходили слухи, что в них скрываются революционеры и бунтовщики, которые могут в любой момент захватить Париж. Так что лучше уж было закупорить входы и выходы в них никому не нужными мертвецами. Вожди галлов под предводительством Верцингеторикса (ум. 46 г. до н. э.) заключают союз против Юлия Цезаря (100—40 гг. до н. э.). Обложка для школьного учебника, конец XIX века. Частная коллекция; архивы Шарме / Библиотека искусств Бриджмена
Вожди галлов под предводительством Верцингеторикса (ум. 46 г. до н. э.) заключают союз против Юлия Цезаря (100—40 гг. до н. э.). Обложка для школьного учебника, конец XIX века. Частная коллекция; архивы Шарме / Библиотека искусств Бриджмена
 Лютеция, или Париж, и окрестности в IV–V вв. н. э.
Французская школа, 1722 г. Библиотека декоративного искусства, Париж; архивы Шарме / Библиотека искусств Бриджмена
Лютеция, или Париж, и окрестности в IV–V вв. н. э.
Французская школа, 1722 г. Библиотека декоративного искусства, Париж; архивы Шарме / Библиотека искусств Бриджмена
 Святая Женевьева, охраняющая овечек.
Французская школа, XVI в. Музей Парижа; музей Карнавале, Париж; архивы Библиотеки искусств Шарме/Бриджмена
Святая Женевьева, охраняющая овечек.
Французская школа, XVI в. Музей Парижа; музей Карнавале, Париж; архивы Библиотеки искусств Шарме/Бриджмена
 Букинист у собора Нотр-Дам.
Старинная почтовая открытка, без даты
Букинист у собора Нотр-Дам.
Старинная почтовая открытка, без даты
 Эпитафия на смерть Франсуа Вийона (1431—?) из «Le Grant Testament Villon et le petit, son codicille. Le jargon et ses balades». Гравюра на дереве, 1489 г.
Изд. Пьера Леве; Национальная библиотека Франции, Париж
Эпитафия на смерть Франсуа Вийона (1431—?) из «Le Grant Testament Villon et le petit, son codicille. Le jargon et ses balades». Гравюра на дереве, 1489 г.
Изд. Пьера Леве; Национальная библиотека Франции, Париж
 Взвешивание душ.
Каменный барельеф, работа XV в. Скульптурное оформление собора Нотр-Дам, Париж (©Adam Woolfitt/ Corbis)
Взвешивание душ.
Каменный барельеф, работа XV в. Скульптурное оформление собора Нотр-Дам, Париж (©Adam Woolfitt/ Corbis)
 Танец смерти.
Гравюра, неизв. худ., 1493 г. Библиотека декоративного искусства, Париж (© Photo RMN/Bulloz)
Танец смерти.
Гравюра, неизв. худ., 1493 г. Библиотека декоративного искусства, Париж (© Photo RMN/Bulloz)
 Портрет Екатерины Медичи (1519–1589).
Масло по дереву, французская школа, XVI в. Галерея Уффици, Флоренция; Библиотека искусств Бриджмена
Портрет Екатерины Медичи (1519–1589).
Масло по дереву, французская школа, XVI в. Галерея Уффици, Флоренция; Библиотека искусств Бриджмена
 «Двор чудес».
Цветная литография, ок. 1870–1880 гг., из кн. А. Морена «Старый Париж». Национальная библиотека Франции, Париж
«Двор чудес».
Цветная литография, ок. 1870–1880 гг., из кн. А. Морена «Старый Париж». Национальная библиотека Франции, Париж
 Варфоломеевская ночь.
Гравюра де Солиньи, 1572 г., Париж (© Collection Roger-Viollet)
Варфоломеевская ночь.
Гравюра де Солиньи, 1572 г., Париж (© Collection Roger-Viollet)
 Кладбище Невинно Убиенных в районе Л’Аль, 1750 г.
Гравюра Ф. Хоффбауэра, XIX в. Иллюстрация к кн.: Paris à trovers les âges / ed. Pascal Payen-Appenzeller. Репринт издания 1865 г.
Париж, 1978. Национальная библиотека Франции, Париж
Кладбище Невинно Убиенных в районе Л’Аль, 1750 г.
Гравюра Ф. Хоффбауэра, XIX в. Иллюстрация к кн.: Paris à trovers les âges / ed. Pascal Payen-Appenzeller. Репринт издания 1865 г.
Париж, 1978. Национальная библиотека Франции, Париж
 Сад и двор дворца Пале-Рояль в Париже.
Гравюра Ф. Хоффбауэра, ок. 1885 г. (© Gianni Dagli Orti/Corbis)
Сад и двор дворца Пале-Рояль в Париже.
Гравюра Ф. Хоффбауэра, ок. 1885 г. (© Gianni Dagli Orti/Corbis)
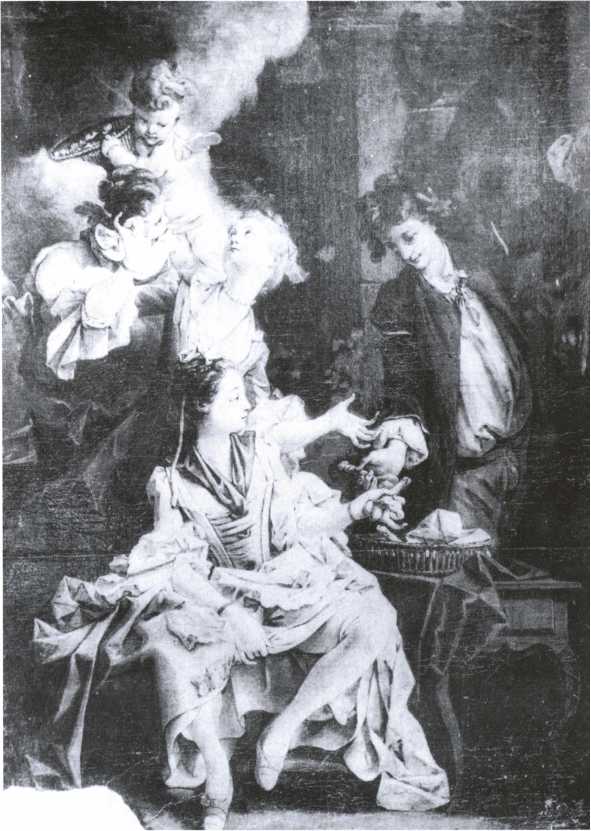 Гривуазная сцена.
Франсуа Буше (1703–1770) (© Collection Roger-Viollet)
Гривуазная сцена.
Франсуа Буше (1703–1770) (© Collection Roger-Viollet)
 Санкюлоты.
Французская школа, XIX в. Библиотека декоративного искусства, Париж; архивы Шарме / Библиотека искусств Бриджмена
Санкюлоты.
Французская школа, XIX в. Библиотека декоративного искусства, Париж; архивы Шарме / Библиотека искусств Бриджмена
 Встреча художников, чистильщиков и тряпичников.
Французская карикатура на популярные кафе в парижском Пале-Рояле, ок. 1800 г. Музей Парижа; музей Карнавале, Париж; архивы Шарме /Библиотека искусств Бриджмена
Встреча художников, чистильщиков и тряпичников.
Французская карикатура на популярные кафе в парижском Пале-Рояле, ок. 1800 г. Музей Парижа; музей Карнавале, Париж; архивы Шарме /Библиотека искусств Бриджмена
 «Гаргантюа».
Карикатура Оноре Домье на Луи-Филиппа, 1831 г. Национальная библиотека Франции, Париж (© Collection Roger-Viollet)
«Гаргантюа».
Карикатура Оноре Домье на Луи-Филиппа, 1831 г. Национальная библиотека Франции, Париж (© Collection Roger-Viollet)
 Париж, вид сверху, ок. 1871 г.
Видны общественные здания, многие из которых были разрушены во время Парижской коммуны (© Corbis)
Париж, вид сверху, ок. 1871 г.
Видны общественные здания, многие из которых были разрушены во время Парижской коммуны (© Corbis)
 Оккупация Парижа в 1814 г. — гости из Англии в Пале-Рояле. Английская карикатура, XIX в. Частная коллекция /Библиотека искусств Бриджмена
Оккупация Парижа в 1814 г. — гости из Англии в Пале-Рояле. Английская карикатура, XIX в. Частная коллекция /Библиотека искусств Бриджмена
 Артобстрел Парижа.
Немецкий рисунок, ок. 1870 г. (© Gianni Dagli Orti/Corbis)
Артобстрел Парижа.
Немецкий рисунок, ок. 1870 г. (© Gianni Dagli Orti/Corbis)
 Осада Парижа. Под прусским артобстрелом, 1870–1871 гг. Французская школа, XIX в. Музей Парижа; музей Карнавале, Париж; Лоро/Жиродон/Библиотека искусств Бриджмена
Осада Парижа. Под прусским артобстрелом, 1870–1871 гг. Французская школа, XIX в. Музей Парижа; музей Карнавале, Париж; Лоро/Жиродон/Библиотека искусств Бриджмена
 Строительные работы на улице Оперы, Париж, 1-й и 2-й округа, 1878 г.
(© Collection Roger-Viollet)
Неопознанные жертвы Парижской коммуны, 1871 г. (© Bettmann/ Corbis)
Строительные работы на улице Оперы, Париж, 1-й и 2-й округа, 1878 г.
(© Collection Roger-Viollet)
Неопознанные жертвы Парижской коммуны, 1871 г. (© Bettmann/ Corbis)

 Баррикада на улице Парижа времен франко-прусской войны и Парижской коммуны, ок. 1870–1871 гг.
(© Hulton-Deutsch Collection/ Corbis)
Баррикада на улице Парижа времен франко-прусской войны и Парижской коммуны, ок. 1870–1871 гг.
(© Hulton-Deutsch Collection/ Corbis)
 Иллюстрация Жака Тарди к книге Луи-Фердинанда Селина «Путешествие на край ночи», 1932 г.
(© Editions Gallimard)
Андре Бретон, ок. 1930 г. Частная коллекция
Иллюстрация Жака Тарди к книге Луи-Фердинанда Селина «Путешествие на край ночи», 1932 г.
(© Editions Gallimard)
Андре Бретон, ок. 1930 г. Частная коллекция

 Бордель в монастыре на рю Месье-ле-Принс, обнимающаяся пара. Фотография Дъюлы Халаша Брассайя, ок. 1931 г.
Частная коллекция (© Estate Brassai — RMN/Photo RMN/ Michele Bellot)
Бордель в монастыре на рю Месье-ле-Принс, обнимающаяся пара. Фотография Дъюлы Халаша Брассайя, ок. 1931 г.
Частная коллекция (© Estate Brassai — RMN/Photo RMN/ Michele Bellot)

Кадр из фильма М. Карне «Отель дю Нор»: Арлетти и Луи Жюве. Франция, 1938 г. (© Sunset Boulevard/Corbis Sygma)
 Бойцы Сопротивления, 1944 г. (© Halton-Deutsch Collection/Corbis)
Бойцы Сопротивления, 1944 г. (© Halton-Deutsch Collection/Corbis)
 Француженки, обвиненные в коллаборационизме, 1944 г. (© Bettmann/Corbis)
Француженки, обвиненные в коллаборационизме, 1944 г. (© Bettmann/Corbis)
 Полиция использует слезоточивый газ при разгоне студентов во время беспорядков в Париже, 17 июня 1968 г.
(Reg Lancaster /Getty Images)
Полиция использует слезоточивый газ при разгоне студентов во время беспорядков в Париже, 17 июня 1968 г.
(Reg Lancaster /Getty Images)
 Беспорядки в пригородах Парижа, 28 октября 2005 г. (© RM Jean-Michel Turpin/ Corbis)
Беспорядки в пригородах Парижа, 28 октября 2005 г. (© RM Jean-Michel Turpin/ Corbis)
Реставрация
Окончание недолгого периода оккупации парижане встретили с облегчением. 4 мая 1814 года династия Бурбонов в лице монарха Людовика XVII (брата обезглавленного в 1793 году короля) была восстановлена. Однако предреволюционный порядок не вернулся — народ того не желал. Реставрационная монархия стала лишь временным решением проблем политической жизни Парижа. Вскоре после 30 мая, когда было подписано мирное соглашение, союзные армии покинули столицу, оставив ее в руках Людовика. Однако свежеиспеченному монарху не хватало мудрости и продуманного плана действий, он желал слишком малого — вернуть старый порядок. Испорченную во время революции статую Генриха IV подновили и заново установили на Новом мосту. Подновленный памятник был прекрасным олицетворением власти Людовика, никогда по-настоящему не правившего городом. Близилось время новых политических потрясений. Непосредственно перед падением империи в столице процветали самые разные политические фракции и настроения: от католических монархистов, эгалитаристов-санкюлотов, либералов 1789 года и якобинцев до меланхоликов-бонапартистов. Рабочие массы были недовольны возвратом монархии и пустыми обещаниями, звучавшими, как в прежние времена. Демобилизованные солдаты, в том числе 12 000 бывших офицеров Великой армии, собирались на улицах или сидели в кофейнях, оплакивали угасшую мечту имперской славы и жаловались на маленькую пенсию. Эти настроения были предсказаны еще в 1813 году в памфлете Бенжамена Констана «De l’esprit de conquête et de l’usurpation» («Дух побед и узурпаторства»). Известный парижский писатель и журналист, Констан был непримиримым борцом против «мистического» авторитаризма наполеоновской власти. Напечатанный в Ганновере памфлет был особенно популярен в Париже перед падением империи в 1814 году. Яростнее всего Констан нападал на политику властвующей структуры и эпидемию патриотизма, называя их политическими абстракциями, противоречащими практическим ценностям повседневной жизни. «Патриотизм существует лишь благодаря привязанности к увлечениям, образу жизни или географической территории, — писал он, — а наши так называемые патриоты именно с ними и борются. Они осушили естественные источники нашего патриотизма и заменили их искусственной страстью к абстракции, к обобщенной идеологии, не оставляющей места фантазии, не заслуживающей места в памяти отдельного человека». Весьма емкое определение наполеоновского режима. Современный читатель легко узнает в определении Констана тоталитаризм XX столетия. Подобно многим интеллектуалам тех времен, журналист не удивился возвращению Наполеона в Париж весной 1815 года и встретил его с негодованием, даже намеревался уехать прочь из города. Прослышав о политическом разброде в сердце отечества, император, не долго мудрствуя, прервал свою ссылку на Эльбе, высадился на юге Франции и, собирая по пути верных людей, двинулся в Париж. Когда Бонапарт дошел до столицы, правительство Людовика XVIII сгинуло, словно его не было вовсе. Старый толстый король не стал дожидаться прибытия императора и задолго до его появления на улицах города ночью бежал в Гент. Наполеона встречала восторженная толпа у Тюильри, но рабочие окраины молчали и приняли происходящее настороженно. Никто не верил, что блеск и слава вернутся в столицу. Наполеон, казалось, знал о настроениях в обществе и потому пригласил из Женевы скептика-протестанта Констана (бежавшего из Парижа сразу, как стало известно о возвращении императора), чтобы тот лично объяснил ему, как стать либеральным правителем в полном смысле этих слов. Писатель согласился составить конституционные законы, но ни на секунду не поверил в то, что Наполеон может измениться. И никто в это не верил, тем более парижане, уже не единожды слышавшие пустые обещания и познавшие унижение оккупации. Победу Веллингтона под Ватерлоо, положившую конец наполеоновской мечте об общеевропейском государстве от Испании до Германии и Египта, большинство парижан встретили со смесью грусти и облегчения. Они с удовлетворением смотрели вслед императору, 21 июня окончательно покинувшему Париж, чтобы отправиться в последнюю ссылку на остров Св. Елены. Но избавиться от былых стремлений к славе и последствий пережитых катастроф начала 1800-х было не так-то просто. Патриотическое воодушевление и звучавшие в начале столетия призывы к войне вылились в постыдное поражение и крах имперских мечтаний. Окончательное падение Наполеона стало крахом и для столицы Франции. Условия соглашения, подписанного французскими властями в ноябре 1815 года, были не в пример суровее прошлогодних. Хуже того, власти города, назначенные оккупантами, теперь смотрели на французов свысока и жаждали мести. 8 июля того же года Людовик XVIII вернулся из добровольной ссылки и привел 300 000 солдат, вставших лагерем в самом центре города. Парижане презирали их, но это не мешало войскам служить своеобразными телохранителями монарха и одновременно королевской полицией целых два года. Солдаты короля отлавливали подозреваемых «красных» (одинаково бонапартистов и якобинцев) и приводили монаршее правосудие в исполнение. В городе функционировало конституционное правительство, но влияния на общество оно не имело. Людовик считал, что парижане его предали, и мстил изо всех сил. Он без зазрения совести притеснял даже тишайший средний класс парижан, настояв на восстановлении священников в их дореволюционных правах. Смерть монарха в 1824 году оплакивали мало, хотя его преемник Карл X, бывший libertine, ставший со временем фанатичным католиком, оказался и ленивее, и злее предшественника. Главной стратегической ошибкой Карла было намерение возродить монархию в ее дореволюционном образе. Но король оказался упрямым человеком. В 1827 году парижский электорат (который Карл сократил до тех, что владели каким-либо имуществом) проголосовал против крайне консервативного правительства монарха. На улицах появились баррикады, а толпы рабочего люда из восточных районов города с криками «Смерть правительству!», «Смерть иезуитам!» и «Смерть святошам!» патрулировали центр Парижа. Восстание было подавлено, но летом 1830 года парижане вновь вышли на баррикады. В этот раз конфликт спровоцировал непосредственно Карл, который издал в июне ряд антиконституционных законов, одним из которых распускал палату депутатов(отказавшихся сотрудничать с монархом), а другим — отменял свободу слова. Народ слишком хорошо помнил тяжелую руку наполеоновского режима. Недовольство копилось месяц и вылилось наконец в демонстрацию у Пале-Рояля 26 июля. Когда же на подавление выступлений Карл назначил крайне непопулярного наполеоновского любимчика маршала Мармона, возмущению толпы не было предела. 27 июля в восточном Париже начали строить баррикады. Прозвучали первые выстрелы: была убита ни в чем не повинная девушка, и для возбуждения чувства мести у народа ее тело отнесли на площадь Побед и выставили на всеобщее обозрение. Три дня уличных боев («les trois glorieuses» — «три славных дня» революционного фольклора) начались, когда взбунтовались жители кварталов Фобур Сент-Антуан. В какой-то момент конфликт разгорелся в трущобах старого Парижа, где народ сражался с регулярной армией. На узких труднопроходимых улочках отряды Карла X теряли преимущество и проигрывали столкновения. В то же время множество солдат короля, сочувствуя рабочим, братались с ними. На следующий день бои сместились на запад. Восставшие и присоединившиеся к ним солдаты довольно быстро заняли Париж целиком. Толпа захватила Тюильри и дорвалась до винных погребов, также разрушили дворец архиепископа Парижского. Среди паники и хаоса, царивших среди городских властей, упрямый Карл X сделал последнюю попытку спасти династию Бурбонов, предложив своему внуку, графу Бордо, стать королем Генрихом V. Но парижане отказались идти на компромисс. Карл X вынужден был отправиться в ссылку. Жители столицы удовлетворились сознанием того, что раз и навсегда отделались от монархии, завершив таким образом дело революции. Однако события следующих пятидесяти лет недвусмысленно и жестко докажут их неправоту.Глава двадцать восьмая Буржуазный мир времен Луи-Филиппа
В «три славных дня» жертвами кровавых столкновений пало удивительно малое количество людей (если сравнивать с предыдущими конфликтами). Погибли около 600 бунтовщиков и 150 солдат. Интересно, что восстание не привело к восстановлению бонапартизма или республики, чего ожидали многие современники. Был найден третий выход из ситуации: появился новый монарх, но не из полностью дискредитировавших себя Бурбонов, а из графов Орлеанских (борьба за престолонаследие между этими семьями не прекращалась даже во времена Великой французской революции). Так на смену Карлу X пришел последний король Франции Луи-Филипп Орлеанский. Карл завещал ему трон, но, пытаясь спасти монархию и собственную голову, Луи-Филипп за восемнадцать лет правления из кожи вон лез, чтобы отмежеваться от крайне консервативного предшественника. Его режим был конституционной монархией без каких-либо претензий на богоизбранность и абсолютизм, которые были одинаково ненавистны либералам и экстремистам эпохи Карла. Луи-Филипп успешно играл роль прямолинейного и честного делового человека из среднего класса. Этим и объясняется то, что в правление Луи-Филиппа буржуазные ценности были возведены в статус «небесных заповедей». По роду занятий Луи-Филипп был банкиром и, несмотря на высокий титул монарха, гулял по садам Тюильри в традиционном наряде буржуа той эпохи — в сюртуке и под зеленым зонтом. Он правил в республиканском стиле 1790-х годов и, как мог, отдалялся от союза церкви и трона — отличительной черты периода реставрации монархии Бурбонов. Основную философию эпохи Луи-Филиппа выразил его первый министр и главный советник, умный политический игрок, англофил Франсуа Гизо. Он заявил: «Обогащайтесь, а политику оставьте мне». Несмотря на кажущуюся беспечность, Луи-Филипп не доверял тем, кто клялся ему в верности, и крепко держал власть в своих руках. Полномочия полиции были расширены, теперь она тщательно отслеживала как все политические течения, так и заявления прессы. Несмотря на все попытки укрепить гражданский порядок, столица Луи-Филиппа оставалась городом довольно беспокойным. Эпидемия холеры 1832 года унесла несколько тысяч жизней и дала временную передышку в бесконечной борьбе блюстителей закона с так называемыми опасными классами. К этим «классам» принадлежали безработные, разнорабочие, пьяницы, попрошайки, воры и проститутки, то есть все, кто не подходил под определение добрых граждан идеального государства Луи-Филиппа. На горизонте маячили бунты и восстания, зачастую уносившие жизни ни в чем не виновных граждан (что и произошло в 1834 году на улице Транснонен, где двенадцать человек — мужчины, женщины и дети — были расстреляны во время обыска дома, из которого стрелял снайпер; этот случай многим известен по роману Флобера «Воспитание чувств», герой которого на всю жизнь запомнил ужасные окровавленные штыки с прилипшими к ним волосами мирных жертв. Потрясший весь Париж эпизод нашел отражение также в романе «Люсьен Левен» Стендаля и «Отверженных» Гюго). Париж тех времен оставался грязным, перенаселенным и неухоженным городом. Освещение было слабым или вовсе отсутствовало, так что ночные улицы столицы служили идеальным местом для грабежа и убийств. Описание жизни низших классов Парижа популярного тогда писателя Эжена Сю внушало страх и вызывало почти эротические переживания в душах буржуазных читателей. Самой знаменитой стала его книга «Парижские тайны» — сборник историй «со дна». Многие из персонажей Сю (например, загадочный князь Рудольф, инкогнито посещавший «дно Парижа», собирательный образ всех консьержек — Матушка Болтунья с улицы Тампль) вошли в городской фольклор. Левые критики, правда, полагали, что поразительно подробное описание жизни трудящихся масс продиктовано чисто буржуазным стремлением пощекотать нервы публики. Несмотря на кажущуюся перегруженность деталями и преувеличения, описания города у Эжена Сю правдивы. Летописец XIX столетия Шарль Луандр заметил, что «в соседних районах столицы никто не сомневался в том, что персонажи Сю существуют в действительности». Да, между различными слоями общества столицы любви было мало. Непрекращающиеся стычки бедняков и сил правопорядка порой создавали ощущение, что в Париже бушует гражданская война. Причина волнений не всегда была экономической: в 1831 году церковь Сен-Жермен-л’Оксеруа осадила разъяренная толпа, старавшаяся прервать мессу, которую служили для графа де Берри, по слухам, в честь «иезуитских Бурбонов». Эта же толпа позднее сожгла резиденцию архиепископа Парижского. Столкновения республиканцев и бонапартистов в 1832 году в восточных районах столицы унесли несколько человеческих жизней. Кажется парадоксом, что, несмотря на бесконечные политические и социальные дрязги, Париж произвел на свет значительное количество писателей, художников и мыслителей. Во время Великой французской революции такого творческого расцвета, конечно, не наблюдалось: видные деятели эпохи были поглощены страхом и мучимы голодом. Также и наполеоновский Париж не располагал к свободомыслию и выражению идей (хотя поэты и сатирики вроде Пьера Жана Беранже были весьма популярны; относительная свобода слова предоставлялась только бесстыдным пропагандистам идеологии режима). Динамика нового столетия воплотилась в строительство баррикад, а не улиц. Говорят, что в 1830 году горожане соорудили 4054 баррикады, на постройку которых пошло 800 000 булыжников мостовых (pavé), служивших заодно прекрасными снарядами для метания в полицейских и солдат. Баррикады и булыжники вошли в историю как обязательный элемент революционности города, последний раз они пришлись кстати во время майских событий 1968 года, после чего брусчатку Латинского квартала закатали в асфальт. Авторству Виктора Гюго принадлежит знаменитое описание pavé; назвав булыжник «квинтэссенцией духа народа», он заметил: «Мы топчем его, а потом получаем им по голове». Это явный намек на события Июльской революции, во время которой, по свидетельству немца Фридриха фон Роймера, «от пуль пало меньше народа, чем от метательных снарядов. Гранитные плиты, которыми был вымощен Париж, выворачивали, поднимали на крыши домов, откуда их сбрасывали на головы солдат». Гюго славил внушавший страх монархам, кипевший мятежными страстями город, где «лава событий» определяла судьбы «человеческого Везувия». Прославленный поэтами Париж, только напоминанием о 1830 годе устрашавший властителей всего мира, стал мировой столицей революции. Даже парижане уверовали в мифы о городе. Оглянувшись назад, они увидели устойчивую традицию бунтов и восстаний — от жакерий Средневековья до волнений Фронды. Само слово «парижанин» долгое время было синонимом «смутьяна», а слово «баррикада» произошло от «barriques» — заполненных землей бочек, использовавшихся в оборонительных укреплениях времен Католической лиги XVI века.Пассажи мечты
Все эти годы Париж сохранял свои размеры, не вытягиваясь из старых границ. Население же к 1817 году выросло до 700 000 человек, а к 1844-му преодолело миллионный рубеж. Градопланированию, однако, не хватало масштабности, оно отражало исключительно запросы коммерции и политики, преследовавших в архитектуре свои узкие цели. Большинство новых зданий Парижа имело сугубо культовое назначение — например, часовня, построенная на месте убийства Людовика XVI и его супруги в знак искупления вины перед монаршей четой (рабочие Парижа возненавидели это здание с первого дня) — или исключительно коммерческое — как Биржа, строительство которой началось при Наполеоне, а завершилось в этот период. К облегчению парижан, в большинстве своем уставших и разоренных, новых помпезных проектов по прокладке озелененных улиц и возведению монументальных строений не затевалось, и пополнявшийся из доходов рядовых горожан налоговый карман Франции по этим расходным статьям не опустошался. А вот на рынке частного жилья начала 1820-х годов жизнь била ключом, развивались ранее заброшенные и пустующие районы города. В 1819 году частная компания, занимавшаяся знаменитым проектом «Ла Перье», решила застраивать территории между улицами Ларошфуко, Тур-де-Дам и Сен-Лазар. Изначально здесь планировали возвести жилые кварталы, «полные свежего воздуха». Разработчики проекта не озаботились прокладкой дорог, связующих новые кварталы с городом, так как задумывали экологически чистый район, удаленный от грязных улиц центра столицы. Кварталы, названные Новыми Афинами, мгновенно стали популярными, привлекли видных политических и культурных деятелей, считавших, что жить вдали от города модно (по этой причине здесь поселились писатели Жорж Санд и Александр Дюма, актер Тальма). Инвесторы и брокеры быстро поняли свою выгоду от застройки периферийных районов Парижа, и новые кварталы стали появляться на северных окраинах, как, например, в Батиньоле и к югу от Гренеля. Новые кварталы были меньше по размеру и не так вычурны, как постройки прошлого периода. В моду вошло подражание архитектуре Ренессанса XVI века. Однако это течение не превратило Марэ в модный район. Хотя новые жильцы могли позволить себе дома побогаче, строители не отступали от принятого в те годы минимализма. Интересной новинкой для парижан и гостей столицы стали многочисленные крытые пассажи правого берега Сены, связавшие между собой улицы и бульвары, усложнившие сеть городских артерий. Они преобразили традиционные места прогулок и даже изменили отношение горожан к погоде. Идея крытых пассажей была для Франции не нова — на юго-западе страны с XIII столетия в большинстве городов строились крытые рынки, мода на которые пошла, скорее всего, от огромных арабских базаров. Примечательными чертами новых пассажей стали конструкция и дизайн. Они были возведены из камня и металла, что позволило достичь сочетания легкости и плавности декоративных металлических конструкций и солидной монументальности капитальных каменных стен. Эти строения стали полной противоположностью классической и неоклассической архитектуре города. К тому же пассажи использовались исключительно в коммерческих и развлекательных целях. Немец Фердинанд фон Галь заметил, что в пассажах можно курить, тогда как делать это на улице считалось неприличным; пассажи стали «излюбленным прибежищем курильщиков и праздношатающейся публики, местом работы многочисленных мелких торговцев. В каждом из таких сооружений присутствует хотя бы одно заведение для чистки одежды. В уютном заведении джентльмены удобно сидят на высоких стульях и читают газеты, пока служащие счищают грязь с их обуви и одежды». Благодаря тому, что городские пассажи играли роль центров торговли и развлечений тех лет, они стали воплощением модерна, столицей которого Париж считался по мнению всего цивилизованного мира XIX века. Первым пассажем в 1785 году стал «Дю Прадо», связавший улицу Сен-Дени с соседним бульваром. В 1786 году началась работа над так называемыми galeries de bois (деревянными галереями), соединившими между собой Пале-Рояль и галереи Валуа и Монпансье. Современники отмечали быстро растущий успех этих заведений, наблюдая «появление в пассажах книготорговцев и продавцов модной одежды». Пассаж дю Каир (выходивший на улицу Сен-Дени) и пассаж Панорам (выходивший на улицу святого Марка) были открыты в 1800 году. В период 1820–1845 годов на правом берегу Сены появились тридцать четыре подобных заведения, тогда как левый берег Сены инвесторы считали коммерчески невыгодным из-за изобилия узких и грязных средневековых улиц, среди которых новое строительство было почти невозможным. К 1870-м годам пассажей насчитывалось более 150, но их слава уже увядала из-за оживления жизни на модных бульварах и усовершенствования системы городского транспорта, которые отняли у этих заведений функции единственных в городе убежищ от плохой погоды, грязи и опасных лошадных экипажей. В 1920-х годах поклонниками пассажей стали сюрреалисты, восхвалявшие мистический лабиринт города, который возник благодаря этим сооружениям; в 1950-х годах ими восторгался небольшой кружок художников и интеллектуалов-ситуационистов, мечтавших о великом Париже будущего, подчиненном тщете, удовольствиям и поэзии, а не требованиям капитализма. Обе группы были почитателями жившего в Париже 1930-х годов немецкого эмигранта, интеллектуала-марксиста и страстного историка Парижа Вальтера Беньямина. В незаконченном труде по изучению истории города XIX века Беньямин много рассказывает о пассажах, называет их «храмами столицы потребления». Появившиеся на подъеме меркантильного интереса и торговых афер 1820-х и 1830-х годов пассажи стали эмблемой неуемной энергии столицы и веры ее жителей в лучшее будущее. Замкнутость и ограниченность комфортного внутреннего пространства крытых пассажей соответствовали ценностям времен Луи-Филиппа, буржуа дорожили удобным рабочим местом, уютным семейным очагом, чистотой, устроенным бытом. Беньямин считал, что ассортимент и качество предлагаемых в пассажах товаров отражают мечты потребителей и общества тех лет. Писатель назвал пассажи «волшебными домами» и утверждал, что, коль прошлое и настоящее являются элементами единого континуума, внимательное наблюдение за подсознательными желаниями прошлых поколений выявит наше возможное будущее. Поверить в правоту этого суждения, глядя на облагороженные пассажи XXI столетия, как, например, галереи Вивьен, которые были перестроены и возродились к новой жизни, став чуть ли не классическим музеем, довольно сложно. Только в пыльных и заброшенных кварталах правобережья — в пассаже дю Каир, например, — где торгуют одеждой, процветает секс-индустрия, где действуют синдикаты перевозчиков нелегальных иммигрантов и наркобаронов (тоже, кстати, удовлетворяющих человеческие желания), слова Беньямина об «исторических сценах… диалектическом обмене между плотским удовольствием и его вместилищем» обретают смысл.«Новый лунный свет»
Возможно, самым наблюдательным путешественником, описавшим жизнь Парижа 1830-х годов, стала миссис Троллоп — мать известного английского романиста Энтони Троллопа, а также писательница и автор путевых заметок о ряде стран. Следуя популярными туристическими маршрутами, эта дама навестила кафе «Тортони» на Итальянском бульваре, повздыхала перед выставленными на продажу изящными безделушками и восхитилась «бриллиантовым светом внутри кофейни и шумом толпы снаружи». Среди посетителей она заметила хорошо одетых парижских модников «с диким взглядом, вздрагивавших от любого случайного движения». Один из знатоков Парижа рассказал миссис Троллоп, что за последние несколько лет среди молодежи резко возросло количество самоубийств, что винят в этом «бульварное чтиво», поющее оду смерти и мистике и высмеивающее мелочные ценности времен Луи-Филиппа. В лучших традициях англосаксонской безапелляционности миссис Троллоп отмела эти рассказы как глупый и мелодраматический нонсенс, хотя признала, что, встретив «столь колоритных персонажей» в кафе «Тортони», обеспокоилась. Молодые люди, так взволновавшие чувства миссис Троллоп, явно принадлежали к группе «Les Bousingos». Этот кружок, в который входили поэты Жерар де Нерваль (псевдоним Жерара Лабрюни), Филоти О’Недди (анаграмма настоящей фамилии Теофиля Донди) и Жеан дю Сеньор (вымышленное средневековое имя, настоящее же неизвестно), был основан поэтом, новеллистом и весьма эксцентричной натурой Петрюсом Борелем, когда ему был всего 21 год. Члены кружка собирались в снятой им комнате на углу бульвара Рошешуар. Сначала объединение было названо «Le Camp des Tartares» («Бивуак Тартар», провокационное название, намекавшее на российских татар), а позднее, чтобы выразить прогрессивные взгляды ее членов, было переименовано в «Les Jeunes-France» («Молодая Франция»). Группа молодых людей радикально издевалась над устоями общества Луи-Филиппа: поэты разгуливали голыми по городу, выставляли на улицу манекен, обернув его в саван, выдавали за труп, вырытый на кладбище. По требованию полиции им пришлось покинуть свою штаб-квартиру на бульваре Рошешуар. Стражей порядка вызвали обозленные соседи, чуть не линчевавшие молодых людей после того, как услышали крики «Vive Charles Dix!» («Да здравствует Карл Десятый!»). В действительности же поэты пели «Vive Bouchardy!» — славословили писателя, своего соратника. Кружок переехал, что примечательно, на улицу де Энфер (буквально «Адская»), где был устроен инаугурационный пир, на котором сливки подавали в черепах, а большинство гостей напились пунша до бессознательного состояния. На вечеринке в кабаре «Пти-Мулен-Вер», среди танцев вокруг чаши с горящим пуншем и чтения стихов в честь Гюго, группа молодых поэтов взяла имя «Bousingos». Вскоре об эксцентричном кружке заговорила пресса: прогулки по кладбищам, визиты в анатомические театры и прочие фиглярства частенько попадали в газеты вроде «Le Figaro». Хулиганы-гуманитарии писали песни, например во славу курения: «Давайте курить, курить! Подобно сигаретам, все проходит в этой бессмысленной жизни», превозносили пороки, оргии, наркотики, суицид и человекоубийство. Но в их дурачествах присутствовал и серьезный, даже политический аспект. «Bousingos» презирали «тупость» и «коровью» сущность общества Луи-Филиппа. Они были детьми «трех славных дней» революции 1830 года, разочаровавшимися в ее последствиями. Сам Борель (любивший называть себя вервольфом) сравнил восставший Париж с «кратером», в котором «новый лунный свет» выявил гнусную сущность морально разложившихся служителей церкви. Его личный протест был прямой реакцией на неспособность общества взять ответственность за революцию. Подобное разочарование было присуще практически всем интеллектуалам той эпохи. Одной из причин краха режима Луи-Филиппа стала его неспособность распознать и тем паче отразить марш новых идей XIX столетия. Воспоминания о «grande Révolution» были еще свежи в памяти так называемых опасных классов. Но к концу 1830-х годов они сменились угасающей и безнадежной тоской по свободе, которую так часто обещали многочисленные сменявшие друг друга правители. В то время как кабинет Луи-Филиппа удерживал власть с помощью пушек и низких налогов, поговаривали, что среди радикально настроенных молодых интеллектуалов, одинаково интересовавшихся литературой, философией и политикой, продолжала жить незамутненная революционная традиция. Сами молодые философы утверждали, что они — единственная сила, хранящая идеи революции. Рабочий класс им и не поверил, однако обновленный дух свободы витал в салонах и умах интеллигенции не только Франции, но и всей Европы. В 1822 году термин «романтизм» впервые вошел во французский язык, хотя слово «romantique» давно использовалось как существительное и прилагательное. Если не вдаваться в детали, то термин этот описывал направление европейской мысли XVIII столетия. Центральной идеей французского романтизма, вдохновленного трудами Руссо, творчеством мадам де Сталь и вспышками революции, стало убеждение, что классических стандартов красоты недостаточно для полноценного выражения правды жизни в сфере идей и искусства. Теоретики романтизма, а к 1830-м годам в их рядах состояли поэты Альфонс де Ламартин, Альфред де Виньи и Виктор Гюго, призывали к «свободе в искусстве» — «liberté dans l’art» — и утверждали, что для его отображения в слове и на холсте необходима свобода творчества. Такие группы, как «Bousingos», считались экстремистскими ответвлениями основного течения, их даже хвалили за так называемый неистовый романтизм. В Париже новые настроения вылились в «битву за “Эр-нани”» в феврале 1830 года. Это было культурное столкновение: традиционалисты и молодые романтики сцепились в «Комеди Франсез» из-за пьесы «Эрнани», автором которой был молодой, но уже успевший приобрести известность Виктор Гюго. Сама пьеса была довольно посредственной, а дискуссия возникла из-за ее героев, одним из которых был слабый, нерешительный король. Самым важным и спорным, даже на политическом уровне, моментом стал развязный и откровенный язык пьесы, а вместе с тем и форма повествования (традиционалисты скрипели зубами, когда слушали реплики короля, которые изобиловали выражениями далеко не поэтическими, а вполне будничными). На обе сессии дебатов о пьесе «романтики» выставляли от себя известных задир и заядлых спорщиков Петрюса Бореля и будущего поэта Теофиля Готье, они перекрикивали традиционалистов и не чурались раздать пару-тройку тумаков во имя «свободы искусства». Рядовым парижанам было либо все равно, либо они вообще не слыхивали о подобных спорах. Но «битва» — по сути, конфликт поколений — стала поворотным моментом в судьбе Луи-Филиппа. Инцидент показал, что насаждаемые королем ценности неприемлемы ни для нынешнего, ни для будущего поколения мыслителей и властителей умов. Поэт Альфонс де Ламартин, ставший в конце концов более уважаемым и политически влиятельным деятелем, нежели Борель, на вопрос, будет ли он поддерживать правительство Карла X, ответил: «Когда лев ощутил вкус крови, отступится ли он от жертвы?» Довольно эмоциональный ответ для поэта, который слыл известным гуманистом и скромником среди литераторов. Ламартин не меньше «Bousingos» и прочих был разочарован пропастью между мифом и реальностью революции.Глава двадцать девятая Зеркало Бальзака
Никто не мог повернуть революцию вспять и вернуть прошлое. В последующие семьдесят лет возродившийся в 1830 году миф о революционном Париже полностью завладеет воображением парижан, станет определять все их решения и в конце концов приведет к кровавым революционным дням 1848 и 1871 годов. До 1830 года казалось, что жизнь вернулась в мирное русло: парижане наслаждались продолжительным периодом мира и спокойствия, даже прощали слабость правителей и деспотизм режимов. Те изменения, что произошли при Июльской монархии, были на руку Луи-Филиппу, стремившемуся создать нацию не славных воинов, а лавочников. Первый «grand magasin» — предшественник супермаркетов — появился в Париже в 1824 году. Это был «La Belle Jardinière» («Прелестная садовница») на набережной Флер на острове Ситэ; здесь впервые были представлены фиксированные цены на товары и оплата в кассе. В 1828 году в Париже появился общественный транспорт — предприниматель Станислас Бодри открыл «Омнибусную компанию», объединявшую 100 экипажей, перевозивших от 18 до 25 человек каждый. В разгар правления Луи-Филиппа омнибусы перевозили уже более 2 500 000 человек во все уголки столицы. В 1836-м появились две ежедневные газеты — «La Presse» и «Le Siècle», выходившие для буржуазии и достигшие высоких тиражей благодаря новой услуге подписки и богатым рекламодателям. В 1847 году власти учредили новую систему нумерации зданий (синие таблички с номерами домов, кстати, появились именно тогда). Париж стремительно преображался в образец удобства современной жизни. Несмотря на все усовершенствования быта горожан, правительство Луи-Филиппа никогда не пользовалось поддержкой широких масс населения. Нелюбовь к режиму открыла пространство для действий роялистов, бонапартистов и новых левых революционеров, все они не признавали идеалы государства, основанного на комфорте и благосостоянии среднего класса. Неудивительно, что именно в это время, особенно тяжелое для бедноты, пострадавшей от экономического кризиса 1846–1847 годов, Карл Маркс и Фридрих Энгельс титуловали Париж столицей всех грядущих революций, призванных бороться за социальную справедливость. Всякий, кто в 1840-х годах прошел бы Париж с запада на восток, с трепетом пересек бы невидимую границу по улицам Сен-Дени или Сен-Мартен и, без сомнения, нашел бы подтверждение идеи Маркса, считавшего, что история — это беспощадный поединок между социальными классами. В Париже проживали два типа населения — бедное и богатое: они говорили на разных языках, дышали разным воздухом, ели разную пищу и одевались по отличной друг от друга моде. И тут, на фоне растущего недовольства властями, Франция решила ввязаться в авантюру, которая затянется на столетие и приведет в конце концов к катастрофе. Под «авантюрой» имеется в виду захват французами Алжира — огромной богатой территории по ту сторону Средиземного моря. Сокровища, как утверждали досужие болтуны, сами идут в руки благодаря превосходству французской армии над дикарями.Первая битва за Алжир
Вообще-то французы давно стремились заполучить Алжир, который считали слабейшей частью Оттоманской империи. Захватнический азарт отчасти подогревали успешные наполеоновские походы в Египет 1798 года, породившие парижскую моду на все восточное: модники гонялись за всем — от ковров, циновок и мебели до ювелирных украшений и гашиша. Формальным оправданием агрессии послужило оскорбление консула Деваля. В 1827 году его нанес алжирский дей Эль-Джезаира (то есть правитель города Алжир), шлепнувший консула мухобойкой в ответ на требование выплаты огромных процентов по займу, выданному народу Алжира. Три года спустя Франция отомстила. В марте 1830 года Карл X объявил, что желает получить у «пиратов» невыплаченный долг. Враги Карла с самого начала считали, что это циничная попытка вернуть ушедшую популярность, завоевав «la gloire» в иных странах. Как бы то ни было, 14 июня 1830 года французские войска высадились на пляж в двадцати милях к востоку от города Алжир — в Сиди Феррухе. Военный поход считался своего рода развлечением: модники-парижане приехали с армией и наняли лодки, чтобы посмотреть на обстрел Алжира. Дей капитулировал через пять недель сопротивления, но за это время Карл X потерял трон и отправился в ссылку. Унаследовавший военную кампанию Луи-Филипп с жаром взялся за дело, отчасти из страха потерять лицо, отчасти из боязни выказать слабость перед англичанами, которые внимательно следили за французскими маневрами и выжидали удобного момента, чтобы вмешаться в дела региона. Парижане довольно равнодушно отнеслись к политическому аспекту этой истории. Только после того как войска углубились внутрь страны, начали гибнуть в засадах и замерзать в горах до смерти, журналам удалось привлечь внимание жителей столицы к происходящему в Алжире. Война оказалась отнюдь не прогулкой по парку. К удивлению французских генералов, алжирское общество, строившееся по родовому признаку, сплотил воедино двадцатипятилетний Абд-аль-Кадер. Этот жесткий прямолинейный лидер одержал над колониальными войсками победы, казавшиеся невозможными. Ответ французов был жестоким и беспощадным (век XX видел подобное). Луи-Филипп объявил, что для победы все методы хороши. «Какая разница, — заявил он, — если в Африке прозвучит сто миллионов выстрелов? В Европе их не слышно». Парижане были шокированы, когда узнали, что французская армия в 1843 году уничтожила почти пятьсот мужчин, женщин и детей: перед пещерами, где они прятались, солдаты разожгли костры и ждали, пока арабы задохнутся. Горожане вознегодовали того пуще, когда открылось, что руководил бесчеловечной акцией генерал Тома Бужо — тот самый мясник, что в 1834 устроил бойню на улице Транснонен. Как бы то ни было, колонизация продолжалась. К концу 1840-х годов французские южане (пролетарии в основе своей), а также некоторые итальянцы и испанцы потянулись в Алжир, где основали фермы и начали торговать. Алжирцы нарекли новых поселенцев древним словом, которым называли римлян — «roumis», а позднее — «pieds noirs»[82] (скорее всего, из-за того что колонисты носили черные блестящие башмаки, хотя иные филологи считают, что эту кличку поселенцам дали жители метрополии за загорелые ноги). Бужо скептически относился к идее колонизации и еще в 1837 году предсказал, что Алжир станет «бременем, тяжкой ношей для нации». Когда в 1950-х и 1960-х на улицах Алжира и Парижа пролилась кровь — «pieds noirs» боролись одновременно с французским правительством и алжирцами за свои владения, — слова Бужо показались пророческими вдвойне.«Изумительное чудовище»
Слова «chauvin» и «chauvinism»[83] вошли в парижский лексикон в те же годы вовсе не случайно. Термины берут свое начало в песенках и историях о неком Николя Шовене, солдате наполеоновской армии, яром патриоте и враге всех иностранцев, особенно алжирцев. Пока в 1830-х и 1840-х Луи-Филипп развлекал в Тюильри представителей европейской элиты, рабочий класс Парижа болел ксенофобией. Англичане и англичанки — причина всех несчастий, как считал простой люд Франции, — подвергались частым нападениям. Иностранцы старались не выходить за пределы Елисейских полей или Пале-Рояля. Горячка тех лет описана во множестве повестей, новелл и романов Оноре де Бальзака. Писатель романтизировал свою эпоху и при этом нарисовал точную картину общества времен зарождения современного капитализма, изобразил механизмы городской жизни, культ индивидуума — то есть все признаки прогресса XIX века. Бальзак как писатель обязан своей всемирной славе прежде всего глубокому, основанному на личном опыте знанию Парижа. Несмотря на репутацию великого летописца столичной жизни, Бальзак по сути оставался жителем глубинки. Он родился в 1799 году в Туре в скромной семье выходцев из Прованса (аристократическое «де» он приписал себе сам). В годы учебы он не блистал академическими успехами, преподаватели вспоминали, что ребенком он был ленивым и непослушным. Но Оноре не был лишен интеллектуальных способностей и, прибыв в 1814 году в Париж (бизнес отца стал причиной переезда всей семьи), быстро обнаружил хватку и остроту ума; он получил должность в адвокатской конторе (знание хитростей и нюансов закона помогло в дальнейшей писательской деятельности). Оноре посещал лекции в Сорбонне, особенно любил слушать идеалиста-философа Виктора Кузена и литературного критика Абеля-Франсуа Вильмена, знатока французской литературы периода от Ренессанса до Великой французской революции. Уже тогда Бальзак решил стать писателем. Он проживал отдельно от семьи и писал поистине ужасные стихи, банальные истории, посредственные трагедии. В 1820-х годах тщеславный Бальзак решил обогатиться: он опубликовал серию сенсационных новелл, написанных в модной «безумной» манере, вложил деньги в бесполезные и заведомо провальные финансовые предприятия, на которых погорел, и к двадцати девяти годам от роду влез по уши в долги. Хуже того, его произведения открыто высмеивали. Тридцати лет от роду Бальзак выпустил в свет исторический роман «Шуаны», слепленный по подобию книг Вальтера Скотта и повествующий о возмутителях спокойствия — бретонских роялистах (их называли «chouans» от «chat-huant» — сова, крику которой подражали шуаны в своем условном сигнале). Роман мгновенно стал популярным благодаря сюжету, близкому по духу тоскующим роялистам времен Карла X. Книга являлась новым типом романа, где действия персонажей основаны на реальных жизненных обстоятельствах, а не на абстрактных идеалах свободы, равенства или справедливости. Писательская репутация Бальзака стала поправляться с появлением рассказов, адресованных женской читательской аудитории, которые он объединил под заголовком «Сцены из частной жизни» и публиковал в популярном журнале «La Presse». В 1832 году вышла в свет «Шагреневая кожа», почти автобиографическая повесть об амбициях, человеческом падении и похоти, действие которой разворачивается в самом сердце безжалостного Парижа. Роман одинаково жадно проглотили парижане и новоприбывшие в Париж провинциалы, узнававшие себя на каждой странице. Бальзаку удивительно удавалось описать рядовых парижан так, что они превращались в реальных и одновременно необычных героев. Бальзак росчерком пера провозгласил смерть романтизма и рождение современной литературы. Автору повезло родиться в эпоху революции и контрреволюции, которые продемонстрировали ему «принцип вечного двигателя», лежащий в основе развития человечества. Возмужал Бальзак во времена реставрации монархии Бурбонов, почти все произведения написал в эпоху Луи-Филиппа, а повествование чаще всего помещал во времена Реставрации с присущим им предчувствием близкой катастрофы. По мере признания писательского таланта возрастали и профессиональные амбиции Бальзака. Он напивался крепчайшим кофе, порой неделями работал без сна, строчил полные невероятной энергии и жизненной силы сочинения, пытаясь изменить мир, который считал прогнившим до дыр и готовым к переменам. Умер писатель в возрасте пятидесяти одного года: кофе и тяжелый труд вызвали острую язву желудка и повредили сердце. В стремлении представить Париж живым Бальзак безвозвратно подорвал свое здоровье. Сочетание бьющей через край нервной энергии и бойкого воображения автора является точным портретом парижанина среднего класса XIX столетия, застрявшего между тоской по стабильности прошлого и любопытством перед неизвестностью будущего. В 1832–1834 годах Бальзак решил объединить отдельные произведения под общим названием «Человеческая комедия». Его целью было представить читателю Париж во всей полноте, высветить его до мелочей, показать все нюансы, не упуская ни малейшей детали. К моменту своей смерти в 1850 году писатель успел опубликовать более тридцати произведений, создать более двух тысяч образов провинциалов и парижан. Бальзак был поклонником Джеймса Фенимора Купера и горел страстью описать неизведанный Париж подобно тому, как Купер обрисовал неисследованные территории Нового Света. Бальзаковский Париж, порожденный жестким динамизмом раннего капитализма, предстает перед читателем джунглями, чащобами, лабиринтами. Почти для всех персонажей Бальзака Париж — это целый мир. Даже герои-злодеи вроде Вотрена, подобно мечтателям о буколической утопии в Америке, обречены тосковать по Парижу, его памятникам, дворцам, зловонным площадям и грязным немощеным дорогам. Выжить в столице можно было благодаря хитрости, коварству и умению читать невидимые знаки на дороге от нищеты к волшебной жизни в элитных западных кварталах города. Есть в Париже улицы «благородные» и «изысканные», есть «убивающие» и «полные беззаконий». Признаком истинного парижанина считалось умение вести жизнь на грани света и тени. Бальзак считал себя неудачником, но еще при жизни критики и поклонники утверждали, что ему не только удалось нарисовать яркую картину парижской жизни, но и внести огромный вклад в культуру и политику города. Важно еще то, что тома «Человеческой комедии» объединены географически и генеалогически. Все события происходят внутри или вокруг Парижа, в повествовании участвуют одни и те же персонажи, которые разнятся лишь профессиями и возрастом, но все являются проводниками идей автора. Основная мысль, пронизывающая все труды Бальзака, писавшего о периоде Реставрации и Июльской монархии, — «деньги могут все». Это утверждение можно понять буквально: зло процветает, а такие люди, как Бальзак, не умеют зарабатывать или слишком жадны и глупы, чтобы осознать опасности, подстерегающие в столице. Париж времен Бальзака состоял из трех частей: Фо-бур Сен-Марсо — обнищавших ветхих районов левобережья, расположенных прямо напротив Фобур Сент-Антуан; Фобур Сент-Оноре — состоятельного района преуспевающих бизнесменов, банкиров-буржуа, чьи карманы туго набиты деньгами; и Фобур Сен-Жермен — места поселения старой аристократии. Бальзак в «Истории тринадцати» называет город «великой куртизанкой», «толстой королевой с неуемными желаниями». Он уподобляет Париж и «сладчайшему чудовищу», и вулкану, и джунглям, болотным землям и океану. Во всех своих книгах Бальзак предупреждает читателя об опасности, таящейся в излишествах — не только в сексе и деньгах, но также в скупости, как в «Евгении Гранде» и «Отце Горио». А Париж — это скопление всех излишеств.«Шагреневая кожа» монархии
В политике Бальзак был реакционером и не проявлял интереса к «туманным теориям» (как он их называл) утопических социалистов Парижа 1840-х годов, когда монархия шаталась, а революция готовилась к новому витку. Бальзак был достаточно проницателен, чтобы предвидеть крах существующего режима. Монархия падет, считал он, но не из-за своих слабостей, а потому, что монархи — люди недалекие, не соблюдают интересы собственных подданных, не обладают сколько-нибудь обоснованными гражданскими амбициями. Эта же причина, объяснял он, позволила «декадентству» после 1830 года овладеть лучшими молодыми умами Парижа, до того интеллектуально и нравственно ленивыми, что все их труды сводились к поиску удовольствий, а «путь истинный» никто не искал. Бальзак изо всех сил боролся с подобной «умственной» стерильностью общества. После событий 1830 года, когда Париж называли триумфатором, упрямый и ностальгирующий Бальзак по-прежнему обращался к столице в женском роде (все города Франции традиционно олицетворялись женскими статуями). В «Шагреневой коже» он описывает «бледные просветы между туч, которые придавали какой-то гневный облик Парижу, подверженному, подобно хорошенькой женщине, необъяснимо капризным сменам уродства и красоты». Бальзаковский Париж — место страшное, населенное демонами, возможно, самое страшное в мире: опасности таятся в грязи, в шуме улиц… Его персонажи, будто случайно, мелькают и растворяются в толпе, а настоящим бальзаковским героем выступает жизнь города — «изумительного чудовища». И в этом Бальзак современен, как никто другой. Возможно, его политические взгляды реакционны, но представленный писателем в мельчайших деталях Париж являет нам удивительно достоверный портрет общества, находящегося на грани славы и краха. Бальзак оплакивал уход Карла X и исчезновение вместе с ним «всякого закона и логики». Писатель мечтал увидеть город и страну объединенными одной верой и системой ценностей, хотя знал, что возможность достичь этого безвозвратно упущена. Бальзак был достаточно умен, чтобы видеть в «отъезде» монарха поворотный момент в истории Парижа, после которого возврат к прошлому невозможен. Образ политически и культурно целостного Парижа в первые годы «буржуазной монархии» был лишь миражом. Буржуазия и рабочий класс шли разными путями. Пройдет не так много времени, и это расхождение принесет столице много горя.Глава тридцатая Век презрения
Задолго до начала беспорядков весь Париж знал, что правление Луи-Филиппа добром не кончится. С начала 1840-х годов даже самые оптимистично настроенные властители умов считали, что будущее не принесет ничего хорошего действующему правительству, зацикленному на заведомо бесполезных попытках свести воедино республиканские устремления и ностальгию роялистов. Почти осязаемое недовольство простого люда, а также отказ или неумение Луи-Филиппа примирить социальные противоречия в обществе стали основными причинами падения режима. Парижане всех классов судили о власти Луи-Филиппа по трудам карикатуриста Оноре Домье. В сатирическом политическом журнале «Charivari» («Какофония») Домье изобразил Луи-Филиппа толстым тупицей с яйцеподобной фигурой, увенчанной гривой курчавых волос. Смешной и жестокий Домье, подобно Бальзаку, отобразил в своих произведениях весь век. Особенно полюбился парижанам персонаж Робер Макер — бандит и вор, которого с невероятным успехом позднее сыграл актер Фредерик Леметр. Герой Домье запомнился характерной для правительства Луи-Филиппа любовью к крючкотворству. Монарх правил восемнадцать лет. И этот факт удивлял многих парижан. Весь период правления Луи-Филиппа в Париже сохранялась напряженность; слабое правительство и жесткие меры по подавлению любого инакомыслия лишь ухудшали положение. Под гладью повседневной жизни города, едва не прорываясь наружу, кипели бунты и восстания. То те, то другие заговорщики готовили покушения на короля. Более всего парижанам было ненавистно, что монарх окружил себя иностранцами, хуже того, в основном англичанами, и это тогда, как сами горожане вынуждены выживать на грязных улочках столицы, полной грандиозных наполеоновских арок и статуй, вызывающе контрастирующих с нищетой восточной части города. Вся тревожная неуверенность режима проявилась в 1840 году в похоронах Наполеона — величественных и трогательных, на которых присутствовал весь Париж. Вне зависимости от отношения к корсиканцу парижане поголовно присутствовали на событии, которое дало возможность вновь почувствовать славное прошлое, ушедшее без возврата. Шаткость режима Луи-Филиппа подчеркивал тот факт, что все завершенные при нем проекты были спланированы еще во время правления Наполеона Бонапарта как часть программы по превращению Парижа в столицу Европы и в конце концов мира. Триумфальная арка Этуаль, церковь Мадлен и обелиск на площади Согласия появились при Луи-Филиппе, но были наследием ушедшей,крайне амбициозной эпохи, и ни один из этих проектов не был напрямую связан с «королем-гражданином». Даже Июльская колонна, установленная Луи-Филиппом в память о событиях 1830 года, после которых он захватил власть, рассматривалась как жест благодарности народу, а не символ славы монархии.Новая европейская идея
Новое слово и новая идея вошли в обыденную речь парижан 1840-х годов. То был «коммунизм», стремлением которого было создать новую идеальную цивилизацию, где все классы общества и все иерархии растворятся в полной и абсолютной свободе. Коммунизм тех лет, если верить его идеологам, был незамутненной мечтой революционеров 1789 года, уничтоженной позднее Террором и коррумпированными буржуазными либералами. Некоторые утверждали, что явные неудачи режима Луи-Филиппа стали дополнительным подтверждением тому, что идеальное коммунистическое общество — рядом и желанно, как никогда. Кровавая жертва станет лишь необходимым условием прихода нового мирового порядка. На парижских улицах, где нищета и голод входили в повседневную жизнь большинства (трупы умерших от голода бедняков частенько попадались даже на модных бульварах столицы), подобный аргумент обещал не просто надежду голодающим, но и месть тем, кому доставались все привилегии. Коммунистические идеи стали разменной монетой в радикальной политике Парижа с 1780-х годов (и слово, и теория были известны таким мыслителям, как Ретиф де ла Бретон и Франсуа Ноэль Бабеф, например). В 1840 году эта идея вошла в повседневный и политический язык после выхода в свет трудов «Что такое собственность?» Прудона, «Организация труда» Луи Блана, «О человеческой природе» Пьера Леру и «Книги компаньонажа» Агриколя Пердигье, каждый из которых осуждал финансовую, общественную и трудовую системы современности. В том же году парижский пролетариат стал участником так называемых коммунистических банкетов, которые устраивались в Бельвиле и Менильмонтане. На этих встречах радикально настроенные интеллектуалы, ремесленники, безграмотные рабочие и идеологически подкованные пролетарии дебатировали на открытом воздухе, щедро запивая споры вином. И вот 3 июля 1840 года Леон Фоше впервые в истории описал спонтанное рождение коммунистической партии. Сам термин «коммунист» распространил по Парижу журналист и юрист Этьен Кабе, урожденный дижонец и «эмигрант на час» в Англию, где он попал под влияние утописта Роберта Оуэна. Кабе заодно увлекся коммуналистской и утопистской философией Шарля Фурье и Бабефа, которые утверждали, что идеалы революции требуют конкретного практического воплощения. Фурье считал, что все общество должно строиться на коммунистических принципах; а человек дела и идей Бабеф планировал уничтожить Директорию, чтобы вернуть Великую французскую революцию на истинный путь. От Оуэна Кабе перенял идею о том, что средний индивидуум внушаем и что при создании идеальных условий родится идеальное общество. Вернувшись в Париж, Кабе недолго занимал государственную должность, но после тайных сношений со столичным пролетариатом стал еще радикальнее и оставил службу. Чтобы распространять собственные убеждения, он основал газету «Le Populaire», писал историю революции и «коммунистическую» новеллу «Путешествие в Икарию» — полуавтобиографию об Утопии, где после отказа всех основанных на прибыли экономических систем наступает вечное счастье. Книга стала бестселлером, а слово «коммунизм» — эмблемой поддержки парижской бедноты и ужасной угрозой для буржуазии. В 1848 году Кабе выехал в Соединенные Штаты Америки, где пытался основать «икарийскую коммуну», но столкнулся с проблемами из-за неоплаченных счетов. К тому моменту Кабе был готов взбунтовать весь Париж. В 1848 году, столкнувшись с волнениями горожан, с разветвленной организацией революционеров по всей Европе — от Парижа до Милана и Вены, режим Луи-Филиппа рухнул. Впервые показалось, что явившийся Карлу Марксу в Лондоне, но рожденный в Париже «призрак коммунизма» вскоре потрясет мир до самого основания.Написание и прочтение истории
Пока в Париже набирали силу голоса врагов существующего режима, газеты, журналы и альманахи процветали. Статистика утверждала, что в период с 1830 по 1848 год количество читателей периодической прессы возросло с 60 000 до более чем 200 000 человек. Цифры говорят не только об уровне образованности населения, но и об интересе к новостям и новым идеям. Более того, пресса тех лет выражала общественное мнение и подогревала негодование парижан. Страшась саботажа, правительство внимательно следило за публикациями в прессе и, насколько это возможно, за ее читателями. Поводов для волнений было множество. К 1830 году в среде парижской интеллигенции бытовало суждение, что пресса, рожденная в XVII веке на одной волне с «La Gazette», «La Muse historique», «Le Mercure gallant» и «Le Journal de Paris», внесла огромный вклад в великие перемены ушедшего столетия, оказала влияние на все события: от Великой французской революции до террора, Директории, Бонапарта и обеих реставраций. При Июльской монархии пресса набрала популярность и авторитет, которых не знала с начала XVIII века, со времен, когда новые идеи, информацию, теории и анекдоты распространяли по всему городу colporteurs[84]. Законы 1834 и 1835 годов, ограничивавшие количество уличных торговцев памфлетами и прочими потенциально опасными книгами, никак не повлияли на популярность средств массовой информации. В действительности эта судорожная слабая попытка подавить прессу только увеличила престиж редакторов и журналистов. Лучшей, по крайней мере, по уровню продаж, была основанная в 1815 году во времена наполеоновского Ватерлоо газета «Le Constitutionnel» — прогрессивное антиклерикальное издание. Луи-Филипп на короткое время закрыл заподозренную в бонапартизме газету, но издание продолжало пользоваться невероятной популярностью среди читателей, обожавших колонки литературных сплетен (нескончаемые нападки на движение романтиков ценили читатели из обывателей). Газета публиковала таких мэтров литературы, как Жорж Санд, Александр Дюма и Эжен Сю (позднее газета станет трибуной язвительного критика и комментатора Сент-Бева). Жесткую конкуренцию «Le Constitutionnel» составляла «La Presse». Она была гораздо дешевле, отчасти благодаря тому, что первой начала размещать на своих страницах рекламные объявления. Редакторы других изданий громко высказывались против такого способа ведения дел, но вскоре метод привлечения рекламы стал весьма популярным. К концу столетия «La Presse», в редакции которой практически был изобретен пост иностранного корреспондента, стала самой читаемой газетой Парижа и Франции. Было время, когда в Париже ежедневно выходили двадцать шесть изданий. Литература и политика в этом городе были неразрывно связаны. В тот же период взлетел до небес и спрос на книги всех жанров. Следствием высоких продаж стали огромные гонорары, которые книготорговцы выплачивали таким писателям, как Бальзак, Виктор Гюго и Шатобриан. Поговаривали, кстати, что барственный Шатобриан, чья своеобразная автобиография и элегия по ушедшей Франции «Mémoires d’outre-tombe» («Замогильные записки») — излюбленное чтиво французов всех классов, непомерными запросами разорил своего издателя. Бестселлеры, как, например, «Парижские тайны» Эжена Сю, как и лучшие бальзаковские романы, были известны даже неграмотному люду — их зачитывали вслух на перекрестках, в кофейнях или тавернах для увеселения публики. Благодаря книгам жители столицы оказались заворожены Парижем. Среди бестселлеров эпохи Луи-Филиппа присутствует собрание из пятнадцати томов эссе и стихов о столичной жизни — «Paris ou le livre des cent-et-un» («Париж, или Сто и одна книга»). В него вошли описание жизни парижан, уличные легенды, история города, рассказы о его памятниках и частных особняках, парижский фольклор. В 1835 году Жак Антуан Дюлор, урожденный Клермон-Ферран, убежденный республиканец, проработавший большую часть жизни на посту инженера, опубликовал монументальный труд из восьми томов по истории Парижа с начала времен. Увлекательное повествование представляет собой собрание самых любопытных слухов, благодаря чему этот труд стал источником бесчисленных пересказов о средневековом Париже, о бунтарском характере столицы, о повседневной жизни, о вредных привычках королей и прочем. Также пользовались популярностью иллюстрированный путеводитель по городу под редакцией Луи Лурена «Les Rues de Paris» («Улицы Парижа») и сборник популярных произведений разных авторов, собранных воедино писателем-юмористом Полем де Коком «Nouveau Tableau de Paris comique, critique et philosophique» («Новая картина Парижа — комическая, критическая и философская»). Де Коку вскоре начали подражать в Англии писатели Маколей и Элизабет Барретт-Браунинг. Парижане всегда считали себя единственными в своем роде. Расцвет издательского дела дал им возможность многое читать о себе. Неудивительно, что именно в тот период истории многие клише парижской жизни вошли в обиход, от парижских уличных мальчишек до фигуры типичного парижанина. Повышенное внимание к городу и его истории представляло собой определенный политический интерес. Но важнее то, что истории Эжена Сю и Дюлора открыли парижанам: они не просто пассивные наблюдатели разворачивающейся городской истории, а активные участники преображения столицы.Праздник жизни
Начало XIX века принесло резкую перемену в манерах парижан в целом и в их кулинарных пристрастиях в частности. Именно с тех времен Париж стали считать гастрономической столицей Европы. Репутация парижской высокой кухни взросла не в кофейнях, тавернах или питейных заведениях, а в появившихся в Париже в конце XVIII века ресторанах. До того момента кулинарные изыски были доступны исключительно аристократии. Примером невероятно высоких стандартов поварского искусства, принятых в аристократическом кругу, является судьба повара принца Конде из Шантильи Франсуа Вателя, заколовшегося в 1671 году от отчаяния из-за «двух неудавшихся блюд жаркого» и задержки с подачей морепродуктов на обед. Мадам де Севинье в мемуарах упоминает о неутомимой веселости аристократии, забывшей во время вечеринки о трагедии: несмотря на потерю шеф-повара, «ужин был великолепен, обед тоже. Они ужинали, гуляли, играли и охотились. Все было волшебно». О самоубийстве Вателя французская пресса вспомнила в 2003 году, когда шеф-повар Бернар Луазье из Бургундии застрелился из-за того, что его ресторан «Салье» был лишен одной мишленовской звезды. Некоторые утверждают, что самоубийство шеф-поваров — не что иное, как часть старой французской традиции абсолютной преданности профессии. В действительности вплоть до XVIII и даже XIX века большинство французов даже среднего достатка питались в основном черным хлебом и супами, которые готовились из того, что удавалось раздобыть. Париж, конечно, был исключением из правил: провинциалы изумлялись ассортименту продаваемой провизии — белому хлебу, свежему мясу и молочной продукции. Своим рождением рестораны обязаны характерному для XVIII столетия стремлению общества к современности и демократии. Первым и, возможно, самым известным из ресторанов «à la carte menu» являлось заведение «Бовилье» в галерее Валуа, открытое в 1782 году. Успех этого ресторана, гордившегося парадной подачей блюд и картой вин, в которой числились лучшие достижения французских виноделов, унаследовали в 1789 году пятьдесят или около того заведений. Революция и последующие годы стали временем расцвета ресторанов, которых к 1820 году в Париже было более 3000. Высокий класс обслуживания и изысканная кухня ресторанов объясняются тем, что многие из них были открыты не просто шеф-поварами, а выходцами из обедневших аристократических семей, которые, оставшись после революции без средств, стремились найти достойный источник заработка. Кроме того, причиной популярности этих заведений стало признание их демократичности, поскольку доступное ранее лишь узкому кругу избранных кулинарное искусство отныне служило всем. Якобинцам далеко было до утонченных манер высокородных господ, но гурманами они были известными (за исключением аскета Робеспьера). Рестораны скоро стали обязательным элементом политической жизни столицы. Конституцию Франции 1793 года революционные вожди писали в ресторане «У Мео», владел которым бывший повар принца Конде. Политика же была неразрывно связана с модой: ресторан «Три брата из Прованса», известный тем, что в 1800-х завсегдатаем его был Бонапарт, охотно посещали и парижане, и гости города, и порой выручка здесь составляла до 15 000 франков в день. В полном кофеен и ресторанчиков Латинском квартале можно было поесть дешевле, чем за франк, например в популярных заведениях «Вио» или «Фликото». За один франк и восемьдесят сантимов можно было получить обед из пяти блюд «У Дюфора» на улице Мольера. Сегодня лучшим заведением Парижа я считаю bouillon «Шартье» у Фоли-Бержер (когда-то bouillon назывались дешевые столовые), а полной его противоположностью — «Лаперуз» на левом берегу Сены. К середине 1840-х годов Париж, опередив все города-конкуренты, превратился в мировую столицу удовольствий. Доступные беднейшим из горожан рестораны и кофейни позволяли отдохнуть от гнетущих условий, в которых приходилось существовать большинству парижан. И, конечно, именно здесь в первую очередь распространялись новые идеи, отраженные в прессе и литературе тех времен, именно здесь зарождалось общество будущего, которое преодолеет наследие прошлого. Город был полон революционных клубов и кружков, дискуссионных клубов утопистов, где смелые и пылкие журналисты разжигали страсти. К 1847 году всем стало понятно, что Париж находится на грани взрыва.«Отомстим Луи-Филиппу!»
Как было сказано на страницах «La Presse» в статье сплетницы-журналистки мадам де Жерарден: «Небо темнеет, на вулкане идет пир! Все закончится революцией, мы в 1830-1792-1789!» Неурожаи 1846 и 1847 годов лишь обострили напряжение в городе. Но странным образом, когда в 1848 году Париж охватили революционные волнения, пресса не стала искрой, из которой разгорелось пламя, а лишь косвенно влияла на происходящее и уж тем более не явилась инструментом управления восставшими, как в прошлом. Причиной возмущений стал банкет «реформаторов», прошедший 20 февраля. Эти пиры на открытом воздухе организовывали радикально настроенные граждане среднего класса. Такие мероприятия прошли в Бельвиле, несмотря на запрет правительством всех публичных собраний. Влиятельные писатели, журналисты, депутаты Национального собрания и прочие недовольные граждане, критически настроенные в отношении правительства, не знавшего собственных целей и путей их достижения, пользовались такими собраниями, чтобы открыто выражать свое недовольство. До 20 февраля на протяжении нескольких недель страсти в Париже накалялись все сильнее. 12 февраля напротив парижского театра собралась толпа и принялась распевать песни революции 1789 года. Испугавшись возможных проявлений антимонархических настроений — ненависти, вспыхнувшей во время инцидента в Милане, где народ отказался жить под игом австрийской монархии, — власти в последний момент запретили банкет. Самоуспокоенность властей казалась необъяснимой. Отчасти из-за слепой веры информаторам из числа республиканцев войска не получили приказа выйти на улицы города, хотя уже повсюду шумели многочисленные демонстрации. 22 февраля толпа студентов и рабочих, распевавших под проливным дождем «Марсельезу» и скандировавших «Долой Гизо!», хлынула на Елисейские поля и площадь Согласия. Баррикады появились не только в традиционно бунтарских районах, но и по всему городу. Утром 23 февраля вожаки нескольких революционных клубов и тайных сообществ объявили, что пришло «время действий». К обеду мужчины и уличные мальчишки начали забрасывать солдат камнями. Ранним вечером у ворот Сен-Мартен произошли кровопролитные столкновения. Режим Луи-Филиппа оказался колоссом на глиняных ногах. «Король-буржуа» проживал со своей женой Марией-Амалией и пятью детьми во дворце Тюильри — воплощении спокойствия и домашнего уюта. Режим Луи-Филиппа провозглашал как истинное счастье дом, семью и здоровье, представляя тем самым полную противоположность идеологии бонапартизма, превозносившей героине-скую смерть во славу Франции. Неудивительно, что при Луи-Филиппе не появилось никаких значительных монументальных сооружений. Было возведено несколько церквей, да и те скромных размеров (Нотр-Дам де Лоретт на рю Шатодюн — прекрасный тому пример). К тому же Луи-Филипп был вовсе не простым семьянином, а королем с весьма высокими запросами. Парижане сознавали это и презирали монарха; да, жители столицы стремились к высоким запросам, и презирали монарха за то, что и он являлся таковым (Петэна столетие спустя презирали за то же самое). Первой реакцией Луи-Филиппа на поднимающуюся революционную волну стала отставка Гизо. Большинство горожан (в том числе ярый монархист Бальзак, заметивший, что это был первый шаг короля к изгнанию) посчитали отставку премьер-министра трусливым и глупым поступком; поговаривали, что король в своем упрямстве и нежелании взять на себя ответственность уподобился Карлу X. Ситуация вышла из-под контроля, когда по обе стороны Сены появились баррикады. Примерно в 10 часов вечера того же дня толпа с факелами попыталась ворваться в здание министерства иностранных дел на бульваре Капуцинов — штаб-квартиру Гизо и место скопления ненавистных иностранцев. Во время штурма как минимум пятьдесят бунтовщиков были застрелены, их тела погрузили на телеги и повезли по городу под крики: «Отомстим Луи-Филиппу!». К волнениям присоединились радикальные газеты. Сотрудники «Le National» и «La Réforme» напечатали плакаты с призывами снять голову с Луи-Филиппа и расклеили их по всему городу. В отчаянии, с просьбой взять ситуацию под свой контроль, король обратился к алжирскому мяснику, маршалу Бужо. Тот поклялся, что расстреляет десять тысяч или даже больше бунтовщиков и восстановит в городе порядок. Однако его солдаты были не слишком уверены в правомерности таких действий и один за другим начали дезертировать, передавая свое оружие бунтовщикам. В Париже было сооружено уже около 1500 баррикад, на которых часто стояли женщины, разбрасывавшие вокруг стекло и битый фарфор, чтобы повредить копыта лошадям кавалеристов. За баррикады можно было проникнуть сквозь узкий лаз сбоку. Солдат короля и государственных служащих осмеивали, их забрасывали дерьмом, валяли в грязи, били камнями. Поняв, что город его ненавидит, король тайно, под именем «мистер Уильям Смит», бежал в Англию. Толпа, громившая дворец Тюильри, среди прочего разломала трон — пьяные хулиганы топтали его обломки во дворе. В конце концов останки престола сожгли у подножья Июльской колонны. Правление последнего короля Франции завершилось.«Июньские дни» и еще один Бонапарт
Что бы там ни говорили о баталиях и героизме, «февральская революция» оказалась полным провалом. Предводители бунтовщиков, среди которых был поэт Альфонс де Ламартен, с балкона ратуши объявили об учреждении Второй республики. Новые власти незамедлительно начали программу преобразований: объявили всеобщее избирательное право для мужчин, отменили рабство во всех французских колониях и учредили десятичасовой рабочий день. Однако ярые парижские радикалы, жившие в восточных районах города, отказались принять так называемую буржуазную республику, оставаясь крайне опасными элементами. Новые власти в «июньские дни» 1848 года, когда Париж снова взорвался разрозненными уличными боями и штурмами баррикад, жестоко обошлись с этими группами, раздавив всякое сопротивление. На сей раз проигравшими стали радикалы и пролетарии. Более 1500 «красных» были убиты. Улицы, окружающие рю Бланш, источали зловоние гниющих трупов, долго лежавших без погребения. Тысячи бунтовщиков были брошены в тюрьмы или высланы в Алжир. Страх перед угрозой анархии заставил общество поддержать консервативное правительство и выборы апреля 1848 года стали тому доказательством. В декабре того же года Франция избрала Луи Наполеона Бонапарта — племянника первого и величайшего императора — президентом республики. Многие считают этот жест местью католической провинциальной Франции своей столице — Парижу. Наполеон воспользовался представленной возможностью и восстановил католичество в дореволюционных правах, даровав неслыханные дотоле привилегии крестьянству. Политическая элита Парижа сначала отказалась принимать нового Наполеона всерьез. Хуже того, она упорно отказывались видеть опасность в грандиозных замыслах и неуемных амбициях нового правителя, который вскоре вновь вернет в столицу имперские мечты.ЧАСТЬ ШЕСТАЯ КОРОЛЕВА МИРА 1850–1900 гг.
А если наша кровь течёт Где бы то ни было потоком, Мы за нее предъявим счёт Тиранам хищным и жестоким. Мы приберечь её должны До бурь земных или небесных. Сегодня мир сильней войны Для всех людей простых и честных. Пьер Дюпон. Песня французских рабочих (1851)[85]Вот плоды твои, о кровожадная Коммуна. Да, ты стремилась уничтожить Париж! Парижский памфлет «Развалины Парижа» (1871)
Когда так яростно твои плясали ноги, Париж, когда ножом был весь изранен ты. Артюр Рембо. Парижская оргия, или Париж заселяется вновь (1871)
Глава тридцать первая Империя кретина
Даже самые наивные из буржуа видели, что к концу 1840-х годов Париж находился в глубоком кризисе. В прошлом катастрофы относили на счет Бога или сил природы (неурожай 1846 года крестьяне считали следствием действия высших сил). Но нынешний кризис столицы по утверждению свободомыслящих граждан, считавших, что они понимают новую жесткую динамику капиталистического города, был связан исключительно с экономикой; перепроизводство и дикие финансовые аферы времен Луи-Филиппа заставили город сражаться с самим собой — богатые и бедные глядели друг на друга через баррикады. В ветшавшем Париже периодически строили новые здания, абсолютно не вписывавшиеся в городскую инфраструктуру, чудом существующую и едва подлатанную со времен Средневековья. Треть горожан теснилась в маленьких квартирках пятиэтажных домов на узких улочках восточных кварталов правобережья. Лишь одно из пяти зданий столицы имело водопровод. В Сену, Бьевр и Менильмонтан продолжали сливать сточные воды. Ровных дорог не существовало. Центр города, остров Ситэ, кишащий инфекциями, был темным грязным лабиринтом улиц, будто нарочно созданным для роста преступности. Все житейские противоречия середины XIX столетия сошлись в пассаже Денфер в Ситэ Казо, который и сегодня можно увидеть неподалеку от бульвара Распай в XIV округе. Этот пассаж состоит из двух рядов четырехэтажных зданий, вытянувшихся вдоль мощеной улицы. Сооружение было задумано и построено неким Пежори в 1855 году. Отсутствием пышных украшений и аскетическим шармом он символизирует стремление к гармонии и спокойствию посреди шума городского центра. Париж быстро расползался в размерах во всех направлениях. Ситэ Казо, напротив, был и остается островком покоя среди беспокойного моря вселенной. Интересно, что Ситэ Казо появился, когда Париж стоял на перепутье. С одной стороны, население города выросло с 786 000 жителей в 1831 году и в 1848-м превысило миллионную отметку. Промышленность развивалась невероятными темпами. Помимо того, город уже традиционно служил финансовым, торговым, культурным и политическим центром страны, что только способствовало дальнейшему его формированию. Бальзак называл столицу «бегущим потоком» идей, торговых сделок и культурных событий в полном соответствии со званием «королевы городов» или даже «королевы всего мира». Размах изменений в Париже этого периода соизмерим с прокладкой новых широких улиц с высаженными по сторонам деревьями, давшей свободный проезд экипажам и открывшей впечатляющие виды всякому отдыхающему. Однако путешествие из Парижа в другие европейские города было не таким уж легким. Вальтер Беньямин писал, что даже в 1847 году дилижанс, отправлявшийся каждое утро из Парижа в Венецию, прибывал к месту назначения только через шесть недель. Железная дорога, оживившая экономику первого конкурента — Англии, во Франции развивалась медленно, отчасти из-за изменчивой политической жизни Парижа, отчасти из-за недоверия французов к англосаксонскому изобретению. Тем не менее, как только в 1837 году власти объявили, что во все уголки страны следует проложить железнодорожные пути, их сеть начала расти с невероятной быстротой, а парижане впервые смогли воспользоваться поездками за город и в крупные промышленные центры Франции. Рост сети железных дорог заодно подстегнул операции на финансовой бирже, которые привели к кризису 1840-х.
 Развитие транспортных путей в Париже с 1850 по 1914 г.
Развитие транспортных путей в Париже с 1850 по 1914 г.
Новые технологии требовали нового слова в архитектуре. Первые железнодорожные вокзалы Парижа (вокзал Сен-Лазар появился в 1836-м; Северный вокзал начали строить в 1846 году, но кардинально перестроили в 1860-м) приводили в восхищение современников конструкциями из стекла и металла, наполняющими огромное пространство светом. Сначала парижане путешествовали с неохотой — отчасти из страха (скорость новых механизмов считали смертельно опасной), отчасти из-за дороговизны билетов. Но долго ждать не пришлось — в столицу потянулись транспортные потоки из провинций. Из Парижа можно было доехать до Брюсселя, Лондона и Амстердама. Пассажиропоток, почтовые, торговые, внутренние и международные перевозки обслуживались квалифицированным персоналом. Ради качественного сервиса улицы вокруг вокзалов заполнили гостиницы, brasseries[86] с ломившимися от морепродуктов и пива столами. На привокзальных площадях сновали жулики, воры-карманники и улыбчивые провинциалы, впервые созерцавшие великий город.
«Как выпадут кости»
Луи Наполеон Бонапарт с гордостью возглавил раздираемый на части, изменчивый и кипящий деловой активностью город. Он родился в Париже, был третьим сыном младшего брата Наполеона I — короля Голландии Луи Бонапарта. После падения Первой империи его семья эмигрировала в Швейцарию, где молодой Луи служил в федеративной армии. После смерти старшего сына Наполеона герцога Рейхштадтского Наполеон заявил о своих правах на французский трон как наследник Бонапарта и затеял ряд заговоров против Луи-Филиппа. В 1836 году он был сослан в Соединенные Штаты, но вскоре вернулся в Европу и обосновался в Лондоне, откуда распространял манифесты, в которых заявлял, что вскоре вернет Франции славные реформы Наполеона I. Его вновь изловили, обвинили в измене, осудили и заключили в тюрьму-крепость Ам на севере Франции. Наполеон бежал, вернулся в Лондон, где публиковал пропагандистские памфлеты до тех пор, пока февральская революция 1848 года не свергла французское правительство. К большому удивлению надеявшихся на восстановление республиканских ценностей радикалов и умеренных левых Наполеон III (как он теперь называл сам себя) при полной поддержке населения захватил власть и установил режим, который не был ни жестко революционным, ни слабо консервативным. Несмотря на обретенный в Англии и Германии заметный швейцарско-германский акцент, новый правитель был любим народом. Публика скандировала «Poléon, nous l’aurons» — «Нам нужен Наполеон» всякий раз, как он появлялся на публике. Сначала многие высокопоставленные персоны не принимали его всерьез (некий генерал назвал его «меланхоличным попугаем»), политическая элита страны считала Наполеона легкоуправляемым «кретином». Обидное прозвище, по слухам, дал Наполеону видный журналист и амбициозный политик Адольф Тьер, который впоследствии сыграет видную роль в жизни страны. Несмотря на сложившуюся репутацию и нелепое окружение, Луи Наполеон показал, что является не клоуном, а достойным учеником Макиавелли, и его единственной слабостью было ощущение собственной исключительности. Несмотря на учреждение всеобщего избирательного права, Наполеон испытывал плохо прикрытую неприязнь к демократии. Чтобы укрепить французское влияние в регионе и защитить церковь от нападок либералов, в 1849 году Наполеон ввел в Италию войска. Позднее он утверждал, что «не имел намерения послать армию в Рим, чтобы ущемить свободы итальянцев», но никто ему не поверил. Как бы то ни было, Наполеон умел манипулировать общественным мнением. Ему удивительным образом удалось подняться над итальянским инцидентом и явить себя перед левыми — умиротворяющим реакционное насилие умеренным политиком, а перед правыми — хранителем традиционных семейных и религиозных ценностей. Хуже всего пришлось консерваторам: когда в 1852 году срок президентства Наполеона подошел к концу, они думали, что наконец-то от него избавятся, и потому в стремлении получить большинство в Национальном собрании начали составлять план по отмене всеобщего избирательного права и замене бонапартистского узурпатора настоящим монархом. Сами того не зная, заговорщики сыграли на руку Наполеону: дали оправдание его coup d'état[87], совершить который он планировал еще в 1848 году. Переворот, который президент и его сообщники назвали операцией «Рубикон», выпал на 2 декабря 1851 года. Предшествовавшие ему несколько месяцев были очень напряженными. В высших политических кругах, как и в самых грязных закоулках столицы, ходили слухи о восстании и готовящемся жестоком его подавлении. Вечером 1 декабря президент устроил в Елисейском дворце прием и вел непринужденные беседы об уборке мусора, финансировании программ по повышению уровня санитарии в столице и прочих бытовых мелочах. Позднее тем же вечером семьдесят шесть самых влиятельных парижан, включая лидеров социалистических и радикальных группировок, были арестованы в собственных постелях и заключены в камеры Венсенского замка. Одновременно, чтобы проконтролировать издание «обращения к народу», в котором объявлялось о заговоре Тьера и прочих диссидентов, готовившихся «сбросить республику», полицейские отряды взяли под свой контроль парижские типографии. Проснувшись 2 декабря, парижане выглянули в окна и узрели шагающие по бульварам и набережным Сены войска; солдаты также расположились на площади Согласия, в Тюильри, Пале-Рояле и на Елисейских полях. Сначала горожане вздохнули с облегчением, и даже рабочие районы считали переворот меньшим злом, нежели возврат монархически настроенного Национального собрания. Но через какое-то время в Сент-Антуане, Сен-Мартене и Сен-Дени прошли демонстрации, были построены баррикады, раздалась ружейная стрельба. Несколько дней на мостовой восточных районов Парижа лежало более 400 тел убитых рабочих. Примерно в километре от тех мест под аплодисменты состоятельной публики и гуляющих по grands boulevards шел войсковой парад. Обеспеченному населению было указано держаться подальше от центра города, чтобы не мешать действиям армии, но рабочие районы были совсем другим миром, нежели город дорогих магазинов, пассажей и кофеен. Кровавая травля стала жестокой охотой со стороны состоятельного класса. Референдум 21 декабря показал, что население Франции в подавляющем большинстве одобрило переворот. Французы считали, что Наполеон своими действиями спас Францию от худшей участи. В первый день 1852 года в Нотр-Дам отслужили «Те Deum», Наполеон был коронован монархом Франции. Именно тогда, как заявляет Карл Маркс в работе «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», лозунг «Свобода, равенство, братство» был заменен на «Пехота, кавалерия, артиллерия».Аттила из Эльзаса
Легенда гласит, что Луи Наполеон в 1848 году прибыл на Северный вокзал с картой Парижа в руках и грандиозной мечтой о реконструкции города. Правда это или нет, мы не знаем, но после захвата власти в результате переворота 1851 года Наполеон недвусмысленно дал понять, что город безраздельно принадлежит ему и что он собирается превратить столицу в символ своего правления. Луи Наполеон, как и его дядя, взял Древний Рим за образец и начал методично преображать Париж в современный эквивалент древнего мегаполиса. Кроме того, он пребывал под впечатлением от энергии и величия Лондона, в сравнении с которым Париж казался грязным, тесным и убогим. В 1853 году на пост префекта Парижа Луи Наполеон назначил барона Жоржа Эжена Османа. До того момента Осман был загадочной для столицы персоной — всего лишь префект отдаленного департамента Вар на юге страны. Он родился в 1809 году в Париже на улице Фобур дю Роль в доме 55 (сегодня это улица Фобур Сент-Оноре) в весьма характерном hôtel particulier, особнячке с палисадом и задним двором. Особнячок был из тех, которые барон он с такой решимостью уничтожал позднее. Семья Османов была довольно богата и даже водила знакомство с семьей императора. Учился барон в лицее Генриха IV, довольно много свободного времени проводил на отцовской мануфактуре в Кольмаре, где и заслужил репутацию тяжелого на руку грубияна эльзасца. Мало кто из современников сказал об Османе что-либо хорошее (Жорж Санд, единственная, кто выразил хоть какую-то симпатию, назвала его «пылким молодым человеком и идеалистом»). Как Осман привлек к себе внимание Луи Наполеона, мы не знаем, но император был явно впечатлен административным талантом барона и сражен его непоколебимой верностью идеям императора (Осман действительно служил Луи Наполеону почти все его правление). Импонировали императору и методы, которыми барон, а тогда еще префект департамента Вар, боролся с республиканцами и социалистами: он заслужил репутацию бескомпромиссного переговорщика и убежденного монархиста. Подобно Луи Наполеону, Осман был для Парижа чужаком (император жил в столице лишь ребенком) и не страдал сентиментальной привязанностью к Парижу и парижанам. Не прошло и месяца со дня вступления Османа в должность, как начались работы по реконструкции Парижа: барон выпустил директиву, согласно которой все округа столицы подчинились центральному административному аппарату. Одновременно он создал план общего «наступления». План состоял в уничтожении всего, что лежало на пути нового строительства и прокладки прямых дорог. Основная цель проектов барона состояла в создании ряда крупных перекрестков в центре города, оси которых будут направлены на север, юг, запад и восток. От главных перекрестков планировалось проложить широкие дороги, бульвары и озелененные улицы, которые свяжут центр с железнодорожными вокзалами и главными выездами из города. Широкие дороги требовались также для того, чтобы открыть впечатляющие перспективы столицы, в лучшем виде явить взору ее памятники. Первым проектом Османа стало возведение в 1851 году «Форт де Л’Аль» в сердце города, комплекса из восьми зданий из стекла и металла, построенного на месте старинного парижского рынка. Эмиль Золя назвал эти районы «чревом Парижа», «современной машиной, живущей по собственным правилам», настоящим центром. Округа Л’Аль, что интересно, породила о себе столько же легенд и мифов, сколько весь старый город вместе взятый; но этот новый проект Османа имел сугубо практическое назначение. Составленный план действий воплощался со всей возможной, порой беспощадной эффективностью. Финансировался проект совместными усилиями частных инвесторов, биржевых дельцов и правительственных фондов. 26 марта 1852 года был принят закон, позволявший «Ville de Paris»[88]выкупать любую землю или недвижимость, стоявшую на пути нового строительства. Следующие семнадцать лет Париж выглядел как огромная строительная площадка. Старинные, веками стоявшие кварталы сносили и перестраивали. Тысячи и тысячи парижан были вынуждены переехать в другие районы города. Осман получил прозвище «Аттила из Эльзаса» (его семья была родом из Эльзаса), да и сам ненароком назвался «художником разрушения». Маклеры рынка недвижимости сколачивали немыслимые состояния, за бесценок выкупая лежавшие на пути нового строительства земли и перепродавая их строителям и архитекторам в несколько раз дороже. Луи Наполеон и Осман делили одну мечту: стремились выстроить новый исключительно функциональный город. Ко всему прочему, Луи Наполеон желал создать красивый и величественный памятник своему правлению, но, самое главное, столица XIX века должна была стать функциональной во всем. Император и барон не пытались сотворить эстетически красивый город, скорее, они желали выстроить столицу, которая будет соответствовать высшим стандартам гигиены, получив действующую систему канализации и удобную сеть транспортных путей. Да, Париж станет прекрасным, но только после того как избавится от зловония, а граждане его вдохнут свежий воздух полной грудью. Луи Наполеон и Осман одинаково равнодушно и презрительно относились к наследию прошлого. В начале XIX столетия иностранцы и парижане в равной мере считали столицу Франции великим культурным, политическим и торговым мегаполисом оттого, что на каждом шагу, на каждой улице можно было видеть следы прошлого; частенько сразу несколько исторических периодов проявлялись в архитектуре всего одной улицы, в пристрастиях и привычках ее жителей. Густая сеть аллей, узких улочек и пассажей собраны в идеализированный в народном сознании образ, возникший в начале XIX века под именем «Le Vieux Paris»[89]. Созданию этого образа немало способствовали сочинения Виктора Гюго и Эжена Сю, рисовавших Париж то тюрьмой, то адом, грязной преисподней или клубком злодеяний, но одновременно пристанищем хитрого, бойкого и бесконечно изобретательного народа. В своем стихотворении «Лебедь» Бодлер говорит об изменчивом городе, жалеет об ускользающей старине:Глава тридцать вторая Призраки при свете дня
Строительные нововведения в Париже начала XIX столетия не вызывали эмоционального отклика рядовых парижан, разве что заставляли их почувствовать недостаток наличных денег. Перестройка города обходилась недешево: в какой-то момент для финансирования строительных проектов налоги повысили до 80 % от доходов. Реконструкция Парижа Второй империей шла по-другому: Наполеон III и барон Осман решили создать «самый величественный город в мире», и барон взялся за дело со всем возможным усердием и презрением к загадочному миру Старого Парижа. При Османе город преобразился если не чудесным образом, то очень близко к этому. Посреди какофонии звуков, в пыли и разрушении, среди сносимых улиц и зданий парижане узрели, как новый мир возникает прямо на их глазах. Среди хаоса вырастал порядок. От Северного вокзала на юг к Обсерватории проложили широкую улицу и обсадили деревьями. На правом берегу Сены возникла сеть бульваров: между воротами Майо на западе и Венсенскими на востоке, например, появились бульвары Перейр, Мальзерб, Страсбурский, Севастопольский, Ришара Лену ара и Мажента (несмотря ни на что, истые парижане отказывались селиться восточнее Севастопольского бульвара). На левом берегу бульвар Сен-Жермен пробил дугу сквозь территории, где размещались старинные особняки — grand hôtels, воплощавшие архитектуру эпохи Ренессанса и дарившие незабываемый облик столице. Самой заметной «казнью» Османа стала расправа над островом Ситэ, где барон сносил средневековые здания, лепившиеся друг к другу неподалеку от собора Нотр-Дам. Именно эти кварталы были описаны Виктором Гюго, они веками служили источником бесчисленных мифов и историй, которыми полнился парижский фольклор. Осман твердой рукой превратил это место в перекресток трех основных городских артерий, а улицы, по которым ранее бродили каторжники, воры, жулики, шлюхи и убийцы, стали местом размещения главного полицейского участка города, а заодно крупного (и нелепого) административного комплекса Консерьежери, в котором трудились судейские чиновники и адвокаты. Главный, доживший до наших дней проект Османа — оптимизированные транспортные потоки столицы, или, если угодно, укрепленный политический и военный контроль над «оком бури» — восточными районами города: новые кварталы многоквартирных зданий, выстроенных вдоль удивительно прямых дорог по единому стилю. Император и барон стремились достичь эффекта торжественного величия, выстраиваяуходящие к горизонту перспективы, размеренную упорядоченность фасадов и балконов с коваными решетками. Самобытность и оригинальность ставились ниже впечатления, которое вызывали уходящие вдаль гармоничные, единообразные улицы. Зато интерьеры жилищ среднего буржуа, наоборот, были пышными, зачастую перегруженными романско-византийскими и восточными украшениями. Явный контраст эстетических вкусов — сухости серых зданий, строгости уличного освещения и пышности квартир — по сей день является отличительной чертой французского стиля, распространенного от Рабата до Бухареста. В середине XIX века этот стиль представлял собой победу единообразия городского пейзажа над индивидуальностью, а заодно воплощал парадокс, лежавший в основе режима Луи Наполеона. Этим объясняется крайняя усредненность архитектуры Второй империи. Выстроенный Османом город восхищал и подавлял одновременно. Порядок и новые технологии восторжествовали над прошлым. Церкви и прочие памятники, однако, строили по старинке, в традициях архитектуры прошлых веков. Лучшим примером архитектурного стиля Второй империи является монументальное и привлекающее своей вульгарностью здание Оперы архитектора Шарля Гарнье, протянувшееся от книжной лавки «Брентано» до авеню Опера. Широкая, украшенная деревьями улица Оперы величественна, но лишена шарма: слишком длинна для расслабляющей прогулки и чересчур широка для перехода без серьезного риска быть сбитым транспортом. Авеню Опера увенчана поставленным посреди оживленного перекрестка нелепым, украшенным в стиле римско-византийского храма зданием Оперы, воплощением грандиозных и напыщенных амбиций Второй империи. Закончено строительство Оперы было уже после падения Второй империи, когда архитектору пришлось платить за место в созданном им же здании, что довольно символично для тех времен.Путешественники
Заметной чертой городской жизни тех лет является появление на grands boulevards[92] впечатляющих grands magasins[93]. Эти храмы поклонения новому идолу — коммерции — превратили Париж в настоящий город современности. Теперь столицу Франции заполонили указатели и реклама, отчасти — политического содержания, но в большинстве кричавшие о чудесах новой эры. В них как в зеркале отразилась агония прежнего Парижа. Традиционное искусство политического плаката и бунтарских надписей на стенах еще жило, но разрушение старинных кварталов уничтожило братства и гильдии пролетариата, который не мыслил жизни без трущобного досуга и революционной агитации. Власти добивались, чтобы горожане забыли революционное прошлое и начали привыкать к великолепию османовских бульваров. Париж времен Второй империи был городом чувственных удовольствий: город считался мировой столицей гедонизма всех форм и видов. В «Путеводителе по Парижу» 1867 года неизвестный автор с трудом сдерживает собственное возбуждение, когда описывает все прелести авеню де л’Императрис (сегодня улица Фоша): «Леса! Озеро! Настоящие четырехместные коляски, наемные двуколки, повсюду улыбки, модно одетые люди… Как элегантно, как великолепно! Проси и получишь все радости любви. Поистине это мир удовольствий, готовый принять тебя!» Примерно в эти годы термины «bohème» и «bohèmian» («богема», «представитель богемы») вошли во французский язык. Ими описывали поколение молодых людей, ненавидевших деньги, работу и уныние буржуазного комфорта. Представителями богемы считали самых разных людей: бродяг, пьяниц, жуликов, поэтов, журналистов, сатириков, самовлюбленных модников, философов, — причем зачастую эти разнообразные ипостаси воплощались в одном лице. Впервые термин «богема» был использован в описании молодых романтиков 1830-х годов. Был среди них поэт Теофиль Готье, снимавший комнаты в тупике дю Дойенн, в квартале ветхих зданий напротив Тюильри, всего в паре шагов от Лувра. Это был самый центр города, загроможденный памятниками буржуазной монархии. Но для Готье — забытого обломка прошлого — эти старые здания представляли собой священный тотем, воплотивший в себе противоположность рационального прогресса и экономического развития, пропагандируемых меркантильным правящим классами. «Тупик выходит на клочок земли, обнесенный грубо сколоченным забором из потемневших досок, отодранных от дна лодок, — писал Готье. — Развалины церкви (половина купола и две-три колонны все еще стоят) способствуют ощущению запущенности и опасности […] здесь сложно вести жизнь Робинзона Крузо, это не острова Хуан-Фернандес, это истинное сердце Парижа». Подобные Готье богемные горожане искали на улицах города нечто странное, неизведанное, поэтическое и таинственное. Они превратили спонтанные, вроде бы бессмысленные прогулки в своего рода искусство. Такое времяпрепровождение назвали родившимся еще в XVI столетии словом «flânerie» — «гулять» или «плыть по течению». К началу XIX века этот термин прочно обосновался в лексиконе богемы, члены которой, как, например, Арсен Гуссе, Камиль Рожье и Селестин Нантейль, обозначали им прогулки по городу в поисках приключений, стремлении будоражить чувства и, если удастся, найти удовольствия. Сначала пресса считала «фланирование» очередной формой праздности, пустого времяпрепровождения: недавно прибывший в Париж провинциал и журналист Жюль Жанен в 1829 году сказал, что «фланер» — это «ленивец, которого ничто не интересует, тунеядец». В 1837 году в одном из своих романов Бальзак вывел персонажа, гуляющего (flâneur) по бульварам целый день и заходящего домой лишь пообедать. Ибо парижский гуляка-фланер зачастую является человеком отчаявшимся, но полным тщетных желаний. Примечательно, что под это описание попадает и сам Бальзак, которого частенько видели на бульварах даже в слишком поздние для прогулок часы. Автор авторитетной и популярной колонки в «Фигаро», журналист Гюстав Клоден вспоминал рассказ известного игрока Мери, который несколько раз подряд встречал на улицах Бальзака около четырех-пяти утра. «На третий день, — пишет Клоден, — он [Мери] спросил Бальзака, почему тот бывает в этих местах в столь ранний час. Покопавшись в карманах, Бальзак выудил альманах, в котором было указано, что солнце в этот день встает в 4:55 утра. “Меня преследуют сборщики долгов, — объяснил Бальзак, — и днем мне приходится прятаться. Но в данный момент я свободен, я могу прогуляться, и никто меня не арестует. Солнце еще не встало”. “Когда меня донимают подобные беды, — ответил Мери, — я не прячусь, а еду в Германию”. На том они пожали руки, и пошли каждый своим путем». Бальзак, когда за ним не гонялись кредиторы, любил в послеобеденный час или ранним вечером пройтись по бульварам, расчищая себе путь в толпе тростью распорядителя парадов с металлическим набалдашником. Подобные появления на бульварах давно стали традиционными для парижан-мужчин, предпочитавших политике, бизнесу и семье искусство и свободу. Они возвели публичный нарциссизм в принцип существования. В конце XVIII века эти элегантные модники были известны как «Muscadins» или «Incroyables» («щеголи», «невероятные»), их можно было узнать по женоподобной одежде, высоким прическам и мускусному аромату духов, которыми они пользовались. «Инкруабли» назывались так оттого, что притворялись, будто не могут произнести букву «р» и потому частенько произносили предложения вроде: «En véité, c’est incoyable!»[94] Женским эквивалентом «инкруаблей» стали «щеголихи», носившие платья по греческой моде и тосковавшие по неоклассицизму. Франты обоих полов были реакционерами: в 1793 году в Лионе и в 1796 году в Париже они участвовали в антиякобинских демонстрациях. Они презирали рабочий класс и сопротивлялись войскам с упорством, удивившим даже бывалых вояк, считавших модников слабыми гомосексуалистами. К началу правления Луи-Филиппа бульварная жизнь стала не в пример демократичнее. Бульварные франты перестали считать своим главным врагом пролетариат; теперь место противника заняла буржуазия, чьи сдержанные манеры и лицемерный стиль жизни подвергались бесконечным нападкам. Бульвары оставались главным местом прогулок исключительно состоятельной публики. Модники получили прозвище светских львов и вели себя с аристократической индифферентностью. В книге «Physiologie du Lion» («Физиология льва»), вышедшей в 1840 году с иллюстрациями Домье, журналист Феликс Дерьеж пишет о бульварных франтах, или львах, тех лет, которые «гуляют по бульвару, словно владеют им, выдувают в лица дамам клубы дыма своих гаванских сигар. К их туфлям привинчены шпоры, которые они снимают только перед сном или верховой поездкой». Излюбленным местом гуляний был Большой бульвар, позднее переименованный в Итальянский. Здесь располагались лучшие рестораны столицы, например «Английская кофейня», кафе «Золотой дом» и «Париж», стоявшие на пересечении бульвара с улицей Тет-бо, где писатель-социалист граф Орас де Вьель-Кастель заказывал знаменитый обед за пятьсот франков, во время которого съедал пирамиды неразрезанных трюфелей и запивал их бутылкой «Кло Вужо» 1819 года. Общественные классы разнились даже расписанием дня: пролетариат выходил на работу в шесть утра, а бульварный франт начинал обдумывать карту вин к обеду в одиннадцать. Обед ему подавали между шестью и семью часами вечера. Театральные представления начинались в восемь часов, кофейни оставались открытыми до полуночи. Для отъявленных полуночников существовали специальные заведения, к примеру кафе-варьете — излюбленное местечко журналистов и актеров — или boulangeries-pâtisseries[95] на бульваре Монмартр и на улице де Ришелье, где подавали жареных цыплят и разные другие assiettes[96]. К моменту, когда к власти пришел Наполеон III, город вырос, его жизнь усложнилась, пейзажи и улицы поражали воображение, бездумные прогулки по столице перестали быть прерогативой исключительно богемы и людей искусства: теперь эти занятия стали доступны и парижской буржуазии. «Фланер» османовского Парижа — это прогуливающийся господин (большинство фланеров были мужчинами), обозревающий городскую жизнь, словно спектакль: фланер тех лет дистанцировался от удовольствий, которые наблюдал. Изрядная тоска по старому Парижу и сострадание бедноте не мешали поэту Шарлю Бодлеру быть фланером более высокого разряда. Он стал по-настоящему знаменит в 1857 году, когда сборник его стихов «Цветы зла» был предан анафеме за «ересь и распутство». Шесть стихотворений были запрещены (и оставались в черном списке до 1947 года), а книгу, исключив их из цикла, продавать не имело смысла. Лучше всего поэту удалось описание старого и обновленного Парижа. Отношение Бодлера к «великолепному городу» откровенно двойственное. Стихотворный цикл, как подтвердят за 200 лет многочисленные поклонники, принес Бодлеру славу величайшего поэта Парижа эпохи модерна, несмотря на подробное изображение всех недостатков города. В то же время поэт не мог не любить город. Бодлер мучился, блуждал по улицам, выискивая в них черты прошлого и любуясь современностью. В стихотворении, посвященном непримиримому противнику Луи Наполеона Виктору Гюго, которого Бодлер считал единственным равным себе, поэт описывал Париж как город, полный снов и фантазий, «где сонмы призраков снуют при свете дня»[97]. Гюго в те годы бежал от властей, которые считал в равной мере преступными и корыстными, на остров Гернси; Бодлер относился к Луи Наполеону с той же ненавистью, но полагал, что для организации сопротивления, восстания против города современности и возрождения духа старых улиц следует оставаться в городе. Еще одним противоречием в творчестве Бодлера является тот факт, что пресытившийся гашишем поэт (ходили слухи, что в худшие времена он даже на завтрак ел гашиш или, если представлялась возможность, принимал опиум) с жаждой наркомана наслаждался походами по городским бульварам, магазинам, художественным галереям, музыкальным салонам и brasseries, черпал в них вдохновение, окунаясь в «бездонный океан электричества». Бодлеровский Париж — город осколочных впечатлений, людских трагедий, древних мифов, сублимации и изгнания: в отличие от масштабных панорам Парижа Гюго, столица Бодлера жива и узнаваема даже современным читателем.Вид из кофейни «Момус»
Позднее, когда осунувшийся Бодлер уже не мог с прежним шиком фланировать по бульварам, он стал завсегдатаем таверны «О Пти Рошер», располагавшейся неподалеку от здания Оперы — на углу улиц Наварин и де Бреда. Эта забегаловка также называлась «У Диношо», по имени первой владелицы мадам Диношо, оставившей дело своему сыну Жану-Эдуару. Скромный ужин обходился здесь в два франка, за ту же цену без ограничений предлагалось бургундское, которое, по словам одного посетителя, «сильно попахивало землей». Эта ресторация пользовалась популярностью среди писателей, художников и архитекторов. Жан-Эдуар частенько развлекал своих посетителей игрой на скрипке, а плату брал стихами или рисунками. Благодаря Жану и витавшему вокруг богемному духу заведение привлекало посетителей даже с далекого левобережья. Когда Бодлер появился здесь впервые, он уже был широко известен как суровый критик буржуазных ценностей. Его вздорный характер сказывался даже в заказе обеденных блюд и был необычен даже для таких беспокойных заведений, как «У Диношо». Максим Руд знавал журналиста, сказавшего, что Бодлер был «высоким, худым, с волосами, которые шутник Потрель называл “похожими на суфле”». Он же заметил, что изрядно сдавший поэт утратил искусство шокировать словом, вспоминая, что когда-то «Бодлер был одним из тех, кто тратит два луидора на котлету». «Иногда поэт ходил в ресторан в Фобур Сен-Жермен и ждал заказа, попивая кирш или горящий пунш. […] Однажды в ресторане, где Бодлер бывал не раз, он заказал себе хорошо прожаренный говяжий стейк. Когда блюдо подали, владелец ресторана, человек семейный и добропорядочный, подошел к посетителю, чтобы справиться, доволен ли он. “Именно такое филе я и хотел, — ответил Бодлер. — Нежное, как мозги маленького ребенка”». Молодым поэтам для вдохновения Бодлер советовал «напиться и оставаться хмельными до конца дней своих». Безграничное пьянство, смешанное с презрением к последствиям, среди богемы тех лет считалось высшей добродетелью. Такое поведение славил пьяница Фернан Денуайе, написавший застольную песню «Les rôdeurs de nuit» («Ночные бродяги»). Песня вошла в сборник «Chanson parisiennes»[98], большая часть стихов которого была хорошо известна посетителям «У Диношо» — еще бы, ведь их частенько исполнял хором весь зал. Песня Денуайе — шутливый пересказ вечера, проведенного в винном погребке, расположенном всего в нескольких шагах от бульваров:Луи Наполеон стремился прослыть «добрым тираном» и не понимал, что в сложившихся экономических и социальных условиях невозможно примирить интересы удобно устроившейся буржуазии и рабочего класса, политическая обособленность которого по мере роста экономики лишь усугублялась. Османовский Париж, порожденный стремлением к буржуазному комфорту и капиталистическому утилитаризму, воплотил в себе противостояние буржуа и пролетария в так называемой «либеральной империи». Луи Наполеон обещал реформы и заслужил прозвище «доброхот» за проекты, нацеленные на улучшение жизни бедноты. Он одобрил укороченный рабочий день, упорядочил систему здравоохранения, уничтожил старые тюрьмы, в которых заключенные содержались в антисанитарных условиях (вплоть до 1830 года осужденных заковывали в цепи и проводили через весь город), построил дома призрения и больницы. Он, как никто, знал, с какими трудностями ему придется столкнуться, и однажды в беседе с английским политиком Ричардом Кобденом заметил: «Мы во Франции не занимаемся реформами, мы делаем революции». В свою очередь и пролетариат формировал свои взгляды в ходе революций 1789, 1830 и 1848 годов, потеряв немало крови, но так ничего и не отвоевав.
Глава тридцать третья Красная молния
Основным недостатком Луи Наполеона была неспособность понять и контролировать внешнюю политику. Подданные считали, что главным его грехом является равнодушие к нищете, скрытой под тонким налетом лоска и великолепия империи. Обе эти слабости были очевидны посетителям второй Всемирной выставки, устроенной Луи Наполеоном для демонстрации собственной власти и богатства, а также достижений своего режима. Первая Всемирная выставка прошла в 1855 году и удостоилась личного посещения королевы Виктории, которая, к удивлению собственных придворных, по-девичьи флиртовала с галантным императором Франции. Высокий визит имел особенное значение — выставка и была организована с целью явить величие французской культуры, показать конкурентоспособность или даже превосходство Франции сравнительно с грубыми промышленниками-англичанами. Всемирная лондонская выставка 1851 года бледнела в сравнении с парижской, по крайней мере в глазах Луи Наполеона: выросший на западе левобережья городок выставочных павильонов казался гораздо внушительнее английского. Вторая парижская выставка должна была превзойти первую по всем статьям: в апреле 1867 года она раскинулась на Марсовом поле, ее посетили тысячи гостей со всего мира. На диковинки из Бельвиля и Менильмонтана пришли поглазеть даже пролетарии, с удивлением обозревая чудеса далекого от их жизни мира. Да, Париж эпохи Второй империи был городом противостояния богатых и бедных. Для немногочисленных амбициозных представителей высшего света, вернувшихся в Париж с Луи Наполеоном, краткий имперский период стал временем непрерывных экстравагантных празднеств. Первой реакцией великосветской публики на буржуазные ценности и обывательскую умеренность, охватившую Париж во времена Луи-Филиппа, стало подражание предреволюционной аристократии эпохи Людовика XV. Столичная жизнь превратилась в своеобразный спектакль, который все чаще казался изощренной провокацией, нежели обычной тоской по былому. Богатые аристократы не думали ни о чем, кроме того, как бы организовать пышные охоты в лесу Фонтенбло, чтобы они соответствовали изящной утонченности XVIII столетия. Париж превратился в столицу haute couture[100] (термин также принадлежит этой эпохе): портные, костюмеры и художники потянулись сюда в стремлении завоевать внимание монархии, элиты и столичных модников попроще. Женская мода тех лет пропагандировала завивки, глубокие декольте, тонкие талии, и щедрые метры дорогих материй. Мужчинам мода предписывала носить темные наряды сдержанных форм, скромность мужского костюма восполняли крайне дорогие аксессуары: заколки для галстука, запонки, шелковые галстуки. Малообеспеченные горожане также стали одеваться лучше, по крайней мере те из них, кто проживал в западных beaux quartiers[101]. К 1860-м годам османовский Париж стал центром удовольствий для всего цивилизованного мира. Первые так называемые колонны Морриса, круглые зеленые тумбы, на которых расклеивались плакаты с объявлениями о театральных постановках, появились в 1868 году. Идея этих сооружений пришла в голову печатнику с улицы Амело Габриэлю Моррису, осознавшему, что на рынке рекламного плаката одних только стен недостаточно. На улицах также появились элегантные «фонтаны Уоллеса» — фонтанчики для питья: их назвали в честь английского филантропа Ричарда Уоллеса, пожертвовавшего пятьдесят таких фонтанов французской столице после того, как он стал свидетелем гибели парижан от жажды во время осады 1870 года. К 1900 году по столице было разбросано более сотни питьевых фонтанчиков, ставших неотъемлемой частью парижской улицы наравне с синими адресными табличками, колоннами Морриса, зелеными газетными киосками, buvettes (торговыми прилавками с закусками) и vespasiennes — общественными мужскими туалетами, знаменитыми тем, что вокруг них ошивались воры и гомосексуалисты. Казалось, весь город функционирует с одной целью — удовлетворить потребности населения и продать ему побольше товаров. При Второй империи как в высшем свете, так и в модном обществе появился новый вид времяпрепровождения — балы-маскарады (Луи Наполеон и сам одевался в костюмы благородного гражданина XVII столетия). На этих приемах атмосфера похоти сгущалась донельзя. На знаменитом балу 1866 года в министерстве военно-морского флота гости восхищались tableaux vivants[102] четырех континентов, созданных в основном из обнаженных и полуобнаженных тел «туземок», застывших в самых разных позах. В вестибюле перед главным бальным залом живая картина быстро превратилась в оргию. Подобные развлечения были привычны для той эпохи и шокировали лишь иностранцев, которые, несмотря на осуждение этой практики, не могли не отмечать красоту вздымавшихся дамских бюстов и стать возбужденных мужчин. Сексуальный пыл высшего общества оказался заразительным. Полицейский отчет 1866 года сообщает, что официально в городе зарегистрировано 5000 проституток. По неофициальным же данным, в Париже еще около 30 000 женщин непрофессионально подрабатывали проституцией: их называли самыми разными именами, в том числе comédiennes, lorettes, glisettes и cocodettes[103], и это были самые сдержанные прозвища представительниц древнейшей профессии. Обычно торговали собой крепкие девушки из рабочих семей: они предлагали секс взамен обеда, похода в театр или билета на любое новомодное удовольствие столицы. С сексуальной жаждой парижан могло сравниться только пристрастие к экстравагантным экзотическим блюдам. Именно во времена Второй империи лучшие парижские рестораны достигли вершин своей славы. Прекрасным музыкальным сопровождением пиров той эпохи являлись бравурные сочинения Оффенбаха. Пышущий эротикой канкан, по слухам, вывезенный из дикого Алжира и еженощно исполнявшийся в театрах и кабаре столицы, звучал как апофеоз Второй империи.Предзнаменования
Расплатой за невоздержанность в удовлетворении чувственных желаний стали сифилис и голод. Всепроникающему злу ханжества и политического лицемерия требовалась жесткая цензура, об этом в 1857 году в романе «Мадам Бовари» твердил Флобер; руководствуясь этими же соображениями, журналисты ругали полотна Мане «Олимпия» и «Завтрак на траве», называли художника извращенцем и разложившейся свиньей. Мужчины и женщины всех сословий страдали от сифилиса, их изуродованные тела были привычной картиной посреди веселья кабаре, живым подтверждением слов «Memento mori»[104]. Из знаменитостей жертвами болезни стали Мопассан, Жюль Гонкур, Бодлер и «аморальный» Мане. Однако на севере — в Бельвиле, Менильмонтане, Сент-Антуане и в новых кварталах вокруг вокзала Сен-Лазар и Северного вокзала, где проживали иммигранты, главным убийцей была не болезнь, а голод. Вот что происходило в столице в 1867 году: Всемирная выставка завершилась грандиозным военным парадом (более 30 000 солдат выстроились на ипподроме Лоншан) и покушением на императора. Нападение, однако, совершено было не на Луи Наполеона, а на Александра II, присутствовавшего на войсковом смотре. Российский император, прекрасно знавший о политических заговорах на родине, никак не ожидал, что террористы последуют за ним в Париж, и был буквально шокирован случившимся. Луи Наполеон отнесся к инциденту иначе. Он и сам в 1858 году чуть не погиб от рук итальянца Феличе Орсини, считавшего императора препятствием на пути Италии к свободе. Луи Наполеон отказался верить, что покушение на русского императора организовала группа заговорщиков, и считал это делом рук одинокого фанатика. Русский царь, однако, списал такое отношение на присущее французам легкомыслие, и, усомнившись в надежности режима Луи Наполеона, отказался подписать с Францией какие-либо соглашения. Это был ощутимый удар по гордости французского правителя, уверенного в стабильности и всемирном признании подчиняющейся ему страны. Неприязнь масс к Луи Наполеону с 1860-х годов стремительно росла. Одной из причин непопулярности режима стал провал военных кампаний 1864 и 1867 годов в Мексике. Эта имперская авантюра преследовала исключительно корыстные цели. Луи Наполеон стремился взыскать с мексиканского правительства долги, но затем решил установить власть империи над всей страной: предприятие закончилось позорным крахом и дискредитацией внешней политики Франции. Жители столицы совершенно не интересовались никем, кроме самих себя. Они были далеки от политических игрищ, но неудачные военные кампании ударили по карманам парижан, и тогда интерес вспыхнул — и нешуточный. Худшее, однако, было впереди. В 1870 году Луи Наполеон своими махинациями добился того, что Франция вступила в войну с Германией. Предмет конфликта — спор за испанскую корону — рядовым парижанам был не интересен, но провальная война не только уничтожила империю как таковую, но вновь принесла террор и разрушения в столицу. 19 июля Франция объявила войну Германии. Новости об этом были встречены восторженными криками «À Berlin!», они неслись из баров и кофеен, слышались на бульварах. Посетивший Францию еще в 1867 году Бисмарк заметил, что французская армия к серьезным столкновениям не готова. Нынешний император существенно уступал в стратегическом мышлении Наполеону I, и к тому же так страдал от камней в почках, что еле сидел на лошади. Это обстоятельство прекрасно иллюстрирует и спесь монарха, и переоценку собственных сил, ставших причиной падения империи. Всего через шесть недель после обмена оскорблениями и объявления войны французская армия развалилась под напором прусской военной машины в сражении при Седане, а сам Луи Наполеон был взят в плен. Совсем скоро германские соединения окружат Париж и с высоких холмов направят стволы своих пушек на горожан и столицу. Всего три года назад, в 1867-м, никто из посетителей Всемирной выставки не мог и помыслить о том, что на месте пышной демонстрации достижений человечества будут лежать тела французских солдат и горожан, а люди будут есть крыс, лишь бы не умереть от голода. Вот до чего довели столицу глупость Луи Наполеона и его самонадеянность в отношении боеспособности страны. Луи Наполеон, кричавший на весь мир о том, что французская столица — «королева мира», всего за несколько лет умудрился крайне ослабить Париж. В течение девяти месяцев, с сентября 1870-го по май 1871 года, процветавший и снискавший славу лучшего города мира Париж подвергнется невиданным прежде испытаниям.Осада
Луи Наполеон так глупо проиграл хитроумному Бисмарку, что парижане не смогли этого ему простить. Даже строжайшие из критиков императора были поражены жесткостью и невыполнимостью требований, предъявленных прусским канцлером властям Парижа. Видя, что его претензии не удовлетворены, Бисмарк приказал своим войскам окружить город и начать осаду. И вот 4 сентября парижские депутаты низложили императора и объявили о создании временного правительства. Одновременно толпа возмущенных парижан заняла дворец Тюильри и потребовала провозгласить республику, что власти со всей поспешностью и сделали. Этот радикальный шаг никак не способствовал облегчению участи столицы, с 25 сентября находившейся в полной блокаде со стороны прусской армии. Первое время парижане были очень уверены в своих силах. В столице находилось 350 000 бойцов Национальной гвардии, а стены, укрепленные Адольфом Тьером в момент приступа столь нехарактерной для Второй империи предусмотрительности, были крепкими, толстыми, надежными. Но пруссаки штурмовать город не собирались. Они спокойно проводили взглядами воздушные шары, с помощью которых жители столицы посылали вести во внешний мир. На одном из таких шаров летел оратор Леон Гам-бетта, покинувший город с целью собрать в провинциях армию и привести ее на помощь Парижу. Поступок оратора казался бесшабашным, если не сказать глупым, но, бесспорно, это был крайне отважный жест патриотизма. Воздушные шары считались ненадежным и опасным транспортным средством и являлись легкой целью для прусских снайперов. Экстравагантная смелость и бесполезная бравада были типичны для представителей французского общества эпохи заката Второй империи. Вскоре стало очевидно, что прусские генералы решили уморить Париж голодом. Состоятельные горожане думали, что пережить осаду будет легко: еще со времен поражения под Седаном многие из столичных буржуа запаслись продовольствием. Лучшие рестораны продолжали кормить посетителей, а богатые обыватели жаловались лишь на нехватку свежих морепродуктов и овощей. Появилась даже мода заказывать отбивные из мяса слона, верблюжьи почки или бобровый суп: в зоопарке забивали животных. Гурманы обсуждали виды крыс: самых жирных из этих животных мясники продавали как нечто среднее между «свининой и куропаткой». Запивали эти изыски дорогими винами, шампанским и ликерами, запасы алкоголя в городе были огромные. Настроения среди населения колебались от крайней напряженности, вылившейся в шпиономанию, когда людям повсюду мерещились германские лазутчики, до почти фанатичной самоуверенности. Очевидец тех событий, англофил Дабо описал свое посещение лавки башмачника, где произошла типичная для конца осени сцена:«Хотел бы я прочесть сейчас английскую газету, — сказал один посетитель, — ваша “Times” твердила, что мы должны уступить Эльзас и Лотарингию, но теперь-то редактору придется признать, что Париж неуязвим». Я ответил, что уверен: редактор каждый день убеждается в этом. «Никакого примирения! — вскричал маленький портной, который в своем воображении уже скакал на коне и убивал воображаемых пруссаков. — Мы заключили договор со смертью; мир знает, что произойдет, если на нас напасть». После зашел обычный разговор о выживании, и некто заметил, что говядина тухнет быстрее баранины. «Нам следует научиться, — патетически произнес бакалейщик, — подавлять требования желудка. Даже те, кто ненавидит баранину, обязаны принести свои вкусы в жертву интересам страны». Я робко заметил, что через несколько недель тем желудкам, которые не желают принимать крысиное мясо, придется привыкать к нему волей-неволей. Настроение болтунов моментально испортилось. Башмачник с таинственным видом прикрыл дверь и прошептал: «Сегодня утром хороший друг генерала Трошу по секрету сообщил мне, что существует туннель, соединяющий Париж с провинциями, и по нему в город стадами перегоняют скот». Новость сразу же подняла дух[105].
Вдалеке от жизни богатых кварталов и открытых террас кафе, парижские бедняки и в мирные-то времена жили впроголодь. Когда осада затянулась, беднота начала выкапывать трупы на кладбищах, перетирать в муку кости и готовить из нее жидкую похлебку. Настоящее бедствие началось в середине октября, когда холодная осень превратилась в необычайно холодную зиму. На Елисейских полях и бульварах срубили все деревья — городу не хватало топлива. Осада больше не служила поводом для веселья и превратилась в кошмар даже для самых богатых парижан. 10 ноября пророчество Дабо сбылось: он увидел, как в Л’Аль продавали крыс по 25 сантимов за штуку. Представитель дипломатического представительства США Уикман Хоффман писал, что «собак продавали за 80 сантимов и дороже: все зависело от размера животного и его упитанности. Теперь крыса считалась изысканным блюдом. Грызунов даже делили на тех, что происходят из пивоварен и канализации. Понятное дело, вкормившиеся солодом и ячменем грызуны были деликатесом». В довершение всего Бисмарк потерял терпение и предпринял попытку захвата гордой столицы. 5 января 1871 года, когда наступили самые холодные дни зимы, он приказал своим артиллеристам начать безостановочный обстрел города. Три недели город подвергался артобстрелу. Дома и улицы превращались в развалины, минимум четыреста парижан погибли от снарядов, выпущенных из пушек, которые еще в 1867 году стояли на парижской выставке как экспонаты. Несмотря на все лишения, простой люд Парижа только окреп в решимости дать отпор прусским солдатам. Состоятельные горожане, однако, все сильнее волновались, боялись лишиться своих владений из-за затянувшихся военных действиях или в результате перемирия с мстительными пруссаками. В начале февраля 1871 года под давлением консерваторов и буржуазии Национальное собрание начало переговоры о мире. 21-го числа того же месяца в Зеркальном зале Версаля французы подписали с имперским правительством Германии Франкфуртское соглашение. Условия перемирия были крайне унизительными. Франция вновь теряла Эльзас и Лотарингию и к тому же платила огромные деньги по контрибуции. Последним унижением стал военный парад: 30 000 германских солдат, покидая французскую столицу, прошли строем по Елисейским полям — своеобразное пророческое предупреждение о грядущем унижении XX века. Правящие классы вздохнули с облегчением и принялись мечтать о возврате в город предреволюционного богатства и процветания. Но классовая ненависть, вспыхнувшая с новым жаром во время войны и осады, не угасала. Пролетариат не доверял новым консервативным властям республики из-за того, что те продолжали править из Версаля — подальше от города и его проблем. Жестокая и беспощадная фискальная политика правительства, например, повышение налогов, высокие кредитные проценты и отмена ежедневного довольствия Национальной гвардии, лишь усилили ненависть простолюдинов к властям. Каждый парижанин, уцелевший в лютую стужу, переживший голод и помнивший крыс и похлебку из тертых костей, вновь почувствовал себя преданным теми, кто заботился лишь о своих доходах и ничего не делал для блага города.
Парижская песнь войны
Волнения, охватившие город в первые десять недель весны 1871 года, начались с незначительного инцидента на Монмартре. На главную площадь округа, который в те времена выглядел запущенным и деревенским, 18 марта строем вышел отряд правительственных войск с целью реквизировать у населения 200 артиллерийских орудий. Эти орудия были приобретены для обороны города на деньги его жителей, так что попытка версальского правительства, не заплатив ни су, реквизировать оружие, глубоко возмутила всех патриотов-парижан. Вокруг солдат быстро собралась толпа недовольных. Начались волнения, в военных полетели камни; толпа росла с каждым часом и беспорядочно металась по городу. На улице де Розьер были застрелены два генерала, а их трупы для утехи толпы повешены у всех на виду. Пушки отбили, восставшие торжествовали. Возглавлявший правительство Адольф Тьер отдал войскам приказ немедленно покинуть столицу. За солдатами прочь из города потянулись чиновники и состоятельные парижане. Столица перешла в руки народа и, преобразившись, стала выглядеть угрожающе. Новое восстание не стало неожиданностью. Город, стоически переживший иноземную осаду, не дождавшись помощи властей, теперь кипел революционными страстями. Первое антиправительственное восстание произошло 31 октября 1870 года: по городу пошли слухи, что прусская армия захватила Метц, а в сдаче столицы виноват Тьер. В тот раз бунт родился на площади Согласия, толпа двинулась к городской ратуше и потребовала создания Коммуны. Слово «коммуна» в те времена было связано не с «коммунизмом», но обозначало форму городского самоуправления, известную еще со Средневековья и первых бунтов против налогов и короны. Длительное время значение термина не было определено, однако в конце XIX века это слово обрело такой заряд патриотизма и революционных настроений, что мгновенно зажигало население. «Коммуну!» — во время второго восстания 22 января 1871 года кричала толпа, собравшаяся у Отель-де-Вилль. После неудачного прорыва блокады люди требовали отдать бразды правления в их руки и выпустить всех арестованных во время октябрьского бунта. В тот раз толпу расстреляли. Поворотный момент настал 28 марта 1871 года, через десять дней после эвакуации Тьера, когда шестьдесят четыре народных представителя вышли на крыльцо ратуши и объявили, что с этого часа столица Франции находится в руках Коммуны — самообразованного совета, который служит народу. Состав совета Коммуны был довольно пестрым: девятнадцать ее членов ранее состояли в Национальной гвардии; некоторые были якобинцами старой закалки и их экстремистские революционные взгляды все еще находили сочувствие в некоторых слоях общества, например среди последователей радикала Огюста Бланки или анархиста Сюлли Прудона. Вошли в совет и случайные люди, известные, впрочем, своей эксцентричностью: мистик и ясновидец Антуан Арно и Жюль Алли — автор труда «Человеческая жизнь соответствует жизни звезд», ветеран, владелец борделя, консьерж и завзятый пьяница. Дух Комунны — ее анархический и спонтанный характер и презрительное, почти мистическое отрицание любых форм власти — в полной мере отражают призывы Артюра Рембо к безоглядной субъективности в искусстве и жизни. В свои произведения, вдохновленные Коммуной 1871 года (включая письма), Рембо вплетал шум улиц — пропагандистские призывы, подслушанные разговоры, отрывки популярных песен. Песен коммунары сложили множество. «Les trois cerises», например, дожила до наших дней и продолжает пользоваться популярностью. Самыми заметными произведениями тех лет являются поэмы «Парижская песнь войны» («Chant de Guerre Parisien»), славившая голодранцев столицы, и «Парижская оргия». Последняя воспевает «город страждущий»:Рабочие, не обманывайтесь! Это великая борьба. Это противостояние паразитизма и труда, эксплуатации и полезного труда. Если вы устали от жизни во тьме, туберкулеза и нищеты, если желаете, чтобы ваши сыновья были не животными, но взращенными для битвы людьми, если не хотите, чтобы ваши дочери, которых вы не можете ни вырастить, ни защитить, стали инструментом получения удовольствий аристократии или богачей, если стремитесь увидеть воцарившуюся Справедливость: рабочие, восстаньте!
Как позднее заметил Карл Маркс, коммунары сумели бы победить, если бы без промедления двинулись на Версаль и взяли с собой 200 отбитых у солдат пушек. Но вместо того чтобы взять ситуацию в свои руки и раздавить легковооруженную и малочисленную охрану Версаля, Парижская Коммуна 1871 года слишком много времени потратила на создание и обсуждение пустых декретов. В их число входили такие документы, как «Обупразднении ночной смены в пекарнях», «Об основании рабочих кооперативов», «О ликвидации имущества», «О максимуме заработных плат рабочих в 6000 франков» (уровень оплаты работы каменщика и плотника). Пока коммунары наливались сознанием собственной важности и пустозвонили, вер-сальцы вызвали подкрепление и перегруппировали войска. Нападение парижан легко отбили. В 1840 году Тьер лично контролировал строительство оборонительных рубежей Парижа и знал все сложности их штурма как снаружи, так и изнутри. Когда ранним утром вино, а вместе с ним и эйфория выветрились, десятки и сотни пролетариев сложили горячие головы в попытке выйти из города. Сотни захваченных в плен коммунаров были отправлены в лагерь для заключенных Сатори близ Версаля, где их казнили для устрашения будущих мятежников. Следующие несколько дней бои вспыхивали то тут то там; особенно кровопролитные схватки прошли в Исси и Ванве. Как только распространились известия о расправе версальских властей над пленными, на бой поднялись парижанки. Одетые в черные платья, с красными бантами на шляпках, они планировали идти в Версаль посланницами мира. Национальная гвардия, считавшая, что шансы на победу еще не потеряны, во имя окончательной победы рабочего класса пресекла это «глупое выступление». Настроения в обществе ожесточились. Страсти отчасти накалились из-за бойни в Ванве и других районах на юге столицы, а также из-за действий 24-летнего префекта полиции Коммуны Рауля Режо. Этот бывший представитель богемы, завсегдатай кафе «Мадрид» и друг поэта Поля Верлена проявил одержимость и бескомпромиссность, столь характерную для фанатиков XX столетия. Прежде чем стать известным политическим журналистом, Режо был блистательным и старательным учеником богемы, вкусившим все прелести ее образа жизни. Он был приверженцем идей Огюста Бланки, который проповедовал полную свободу и бескомпромиссную борьбу с государственной властью. Бланки был избран в Коммуну, но все время конфликта находился в тюремном заключении. Его верный ученик Режо поклялся претворить идеи учителя в жизнь. Уже тогда молодой человек был известен среди политиков правого крыла как «fanfaron de perversité» (развращенный фанфарон), «bambin méchant» (злобное дитя), «canaille» (каналья) и «aristocrate de la voyoucratie» (аристократ-хулиган). Журналист провоцировал своих читателей при помощи черных шуток: он утверждал, например, что изобрел гильотину, которая может рубить триста голов в час. Став префектом полиции, а позднее и Procureur de la Commune[107] (этот чиновник обладал практически безграничной властью), он щеголял в форме, сшитой по его собственным эскизам (алый сюртук с золотым кантом и желтые перчатки). Он с неизменным успехом соблазнял женщин, не щадя девственниц и почтенных матерей семейства. «Хочу промискуитета. Внебрачное сожительство — общественная догма!» — вот его любимая максима. Одновременно он сыпал кровожадными афоризмами: «Революционные законы не могут быть слишком жесткими» и пропагандировал новую юридическую систему, в которой «сыновья будут судить отцов, осужденные — судей». В ответ на сообщение о разгроме похода на Версаль Режо приказал арестовать несколько дюжин видных парижан, в основном священнослужителей, в ряды которых попал архиепископ Парижский, и объявил их заложниками. Архиепископ Дарбуа был посажен в одиночную камеру в тюрьму Мазас. Этот случай и ряд других происшествий заставили Виктора Гюго разразиться обычной для него громогласной поэмой. Жесткий, беспощадный, эстет от политики, Режо не обращал внимания на либералов, подобных Гюго. Наследие богемных лет — черный юмор и поклонение маркизу де Саду — не оставили его: он с удовольствием проводил допросы духовенства, во время которых провозглашал Бога «бродягой» и грозился выдать ордер на его арест. Исходя из того же извращенного чувства юмора, он приказал расстрелять всех заключенных, которые ему не нравились, в том числе и злосчастного архиепископа.
«Огонь с небес!»
Париж времен Коммуны не являлся ни бесконечным праздником, как полагали ностальгирующие либералы и анархисты 1960-х, ни, как утверждали бесчисленные реакционные историки, прямым прообразом жесточайшего тоталитаризма XX столетия. Правительство тех лет было пестрым собранием якобинцев, анархистов, коммунистов, эксцентричных денди, садистов, авантюристов, наемников; их социальная программа была непоследовательна, а военные таланты смехотворны. Но сомнений в «народности» Коммуны не возникает. Это очевидно, потому что парижане и парижанки, стар и млад — все были готовы отдать за Коммуну жизнь. Отныне народ мог влиять на собственную судьбу: жители столицы пылали революционным рвением, которого не знал ни прежний режим, ни тем более недавние восстания. Утверждение большинства историков, что причиной появления Коммуны является стремление рабочего класса Парижа, униженного и изгнанного из столицы капитализмом и османизацией (неразрывно связанных между собою), отвоевать себе место в городе, возможно, является истиной. Многим современникам Коммуны действительно казалось, что Париж всегда находился «en fête», «в праздничном настроении». 16 мая группа коммунаров взорвала колонну на Вандомской площади, этот славный акт политического надругательства был свершен под надзором художника Гюстава Курбе в атмосфере злобного ликования: под звуки оркестра и при стечении аплодирующей толпы. Ночью того же дня, чуть за полночь, около трех сотен коммунаров вломились в винные погреба Гран-Отель-дю-Лувр, где «во имя справедливости» перепились до бесчувствия, выкурили дорогие сигары и съели все запасы продовольствия. 21 мая, в воскресенье, в садах Тюильри Коммуна организовала пышный концерт, в котором приняли участие более 1500 музыкантов. Позднее в тот же день на нынешней площади Гонкур мемуарист и социалист Эдмон де Гонкур наблюдал огромную толпу, окружившую карету, из которой некто кричал, что собственными глазами видел, как версальские войска вошли в город. Весть оказалась правдивой. Пока парижане пили, спали или веселились допоздна, солдаты правительственных войск вошли с запада в Париж и, пройдя по Пасси и Трокадеро, дошли до Триумфальной арки, не встретив почти никакого сопротивления и ни одной баррикады на своем пути. Весь следующий день через неохраняемые ворота у Пуан-дю-Жур в столицу проникали войска. Часть армии выдвинулась в сторону Сен-Жермен-де-Пре и бульвара Сен-Мишель, другая — в сторону известного революционными традициями Фобур Сент-Антуан. Следующие несколько дней в городе творилась неслыханная дотоле жестокость и лилась кровь, а ведь Парижу подобные события были не внове.Первой причиной кровопролития стал недвусмысленный приказ, отданный войскам: врагам — никакой пощады. Второй была оборона, беспорядочная и хаотичная, сформированная безграмотными в военном деле и неорганизованными коммунарами. По мере сдачи городских районов версальцам не сумевшие оказать сколько-нибудь серьезный отпор коммунары прибегли к тактике выжженной земли. Когда правительственные войска приблизились к центру города, главные здания в нем запылали; даже сегодня мы не знаем, кто отдал приказ поджечь столицу и почему. Новости о невероятном событии облетели весь мир. Это не имело никакого смысла с точки зрения военной стратегии и не давало ни малейшего шанса предотвратить драматический исход борьбы. Огненный апокалипсис породил множество противоречивших друг другу слухов, в том числе историю о том, что пожары начали «pétroleuses»[108] — женщины из рабочего класса и девушки из сиротских домов. Некоторые утверждали, что видели женщин средних лет, в черных платьях и красных косынках, которые за десять франков бросали наполненные керосином молочные бутылки в здания. Ни одна женщина не попала под суд, но пресса полнилась дикими слухами и карикатурами, изображавшими уродливых мутноглазых старух, прятавшихся в тени и готовых в любой момент метнуть зажигательную бомбу. Актриса и знаменитая куртизанка Мари Коломбье описывает город времен петролейщиц в мрачных тонах:
Когда опускались сумерки, мы, находившиеся в ссылке в Сен-Жермен, собирались на террасе, с которой открывался вид на Париж; далекая столица казалась землей обетованной. Однажды вечером мы увидели поднявшееся над городом зарево, оно превратилось во всполохи огня, которые вытягивались вверх красными языками, заполнившими весь горизонт, — ужасный пылающий рассвет. Мы посмотрели друг на друга — все было понятно: «Боже мой! Эти сумасшедшие подожгли Париж!» Коммуна выбросила над столицей красное знамя. Пожар басовито гудел и порой взрывался резким треском. Огонь был столь ярок, что освещал всю террасу: страшный апофеоз. […] Спустя восемнадцать столетий ужасное преступление, подобное падению Рима, разгоралось под тишью звездных небес: Париж пылал. […] Ничего, кроме огненной сарабанды pétroleuses.
Нет сомнения, что страх и фантазии буржуазии о поджигательницах вызваны тем, что среди вожаков Парижской Коммуны действительно присутствовали женщины, что, возможно, стало величайшим достижением той смуты. Худшей из них (во всяком случае, по мнению политиков правого крыла) была Луиза Мишель по прозвищу Красная Дева — поэтесса, школьная учительница и анархистка. В 1850-х она открывала бесплатные школы, в которых проповедовала свои республиканские убеждения. Этим она навлекла на себя гнев полиции и, соответственно, сблизилась с диссидентами, подобными Жюлю Валлесу и Эжену Сю. Во время Коммуны она вступила в Национальную гвардию и сражалась наравне с мужчинами, организовала центральный комитет Женского союза. Мишель свято верила, что революционерки борются яростнее мужчин, потому что подверглись большему гнету. Ее назвали Красной Девой из-за отказа выйти замуж, что не помешало ей, однако, во имя полной свободы завести сонм любовников. За один день 18 марта Луиза Мишель сделалась легендой: не страшась пушечных ядер и пуль, она стояла на баррикаде и махала красным флагом перед строем версальских солдат. Но все эти геройские поступки не пошли впрок. Пока пылал центр Парижа, отряды коммунаров отступали в восточные округа столицы. Наступающие версальцы уничтожали всех, кто попадался им на пути. Были среди убитых и беспризорники, сотни которых храбро сражались у Шато д’О, но были беспощадно расстреляны. Улицы потемнели от крови. Страшнее всего были недомыслие и автоматизм, с которым вершились подобные зверства; по всему городу сотни и тысячи горожан пали перед расстрельными командами, их тела складывали в кучи, а хоронили лишь позднее. К запаху пожаров примешалось зловоние горящей плоти, свертывающейся крови и гниющего мяса. Лояльная Версалю пресса только подзуживала войска. «Париж потерял моральное право называться столицей Франции, — голосила «Le Soir», — и если он избежит огненной кары с небес, то от человеческого презрения не избавится никогда». До конца мая убийства продолжались; город презирали, но не жалели. Маркиз де Галлифе, утонченный садист, известный еще до войны, превзошел себя в жестокости: обняв любовницу, пальцем показывал на тех, кого оставит в живых, а кого казнит. Последним рубежом обороны коммунаров стало кладбище Пер-Лашез, расположенное в самом сердце рабочего района Бельвиль. Обреченные, но решительно настроенные коммунары погибли в перестрелке на его дорожках среди могил Бальзака, Нерваля, Шарля Нодье и Казимира Делавиня. Выживших в побоище переловили, выстроили у восточной стены кладбища и расстреляли. На этом же месте всех «подозреваемых», арестованных в следующие дни и даже месяцы, расстреливали с помощью последнего достижения технического прогресса — пулемета: сотни граждан были казнены без особого труда для палачей. По всему городу без всяких церемоний хоронили коммунаров. Не слишком щепетильные жители столицы пробирались среди тысяч тел, лежавших по всему Трокадеро. Несколько дней беспрерывно шел дождь, улицы превратились в грязный и опасный лабиринт, в котором в клубах дыма прятались снайперы-коммунары и бродили патрули версальских войск. Сторонники правительства открыто ликовали: враждебно настроенный к простолюдинам журналист Шарль Луандр объявил, что для него счастьем было увидеть конец «оргии власти, вина, похоти и крови, известной под именем Коммуны». Последнюю баррикаду на улице Рампоне в Бельвиле разгромили 28 мая. Некий снайпер держался против версальцев несколько часов, а потом скрылся, оставшись неузнанным и на свободе. «На сегодня борьба окончена», — объявил командующий подавлением бунта маршал Макмагон.
Глава тридцать четвертая После оргии
Период с 1880-х годов и до начала Первой мировой войны в первую четверть XX столетия назвали la belle époque — «прекрасной эпохой». Термин этот придумали французские журналисты и историки, ужаснувшиеся ожесточенностью столкновений и ностальгирующие по идиллии жизни довоенного Парижа. Город идеализировали, называя его столицей искусства, эротики, музыки, поэзии, кухни, литературы, философии и ничем не ограниченного гедонизма. Причиной тому стала уникальная красота Парижа. Культурная жизнь города была богата, его кабаре, бары, театры и рестораны влекли интеллектуалов, художников и искателей удовольствий со всего мира. Именно мегаполис периода «прекрасной эпохи» создал тот образ, который по сей день тревожит воображение туристов всего мира. Но даже на пике лучших времен, когда «город-светоч» поражал воображение планеты красой и стилем, Париж раздирали жестокие противоречия. Если точнее, за несколько быстро пролетевших десятилетий избавиться от тяжелого бремени насилия было нелегко. «Невинная благостность» тех лет — не более чем опасная иллюзия, досужий миф. Под поверхностным благополучием дремала катастрофа, коренившаяся в неразрешенных конфликтах и ядовитых обидах прошлого. Первой и самой значимой проблемой была огромная цена, которую парижанам пришлось заплатить за Коммуну. В течение нескольких месяцев, последовавших за ее разгромом, более 40 000 человек были арестованы и осуждены как «бунтовщики» даже по простому подозрению в участии. Из них 20 000 были расстреляны. Остальные попали в тюрьмы, были сосланы, например, на печально известный остров Дьявола во Французской Гвиане — гнить в тропических тюрьмах. Правительственные войска потеряли в конфликте не более тысячи солдат. Тем не менее Тьер бескомпромиссно стремился уничтожить оппозицию. Множество казней прошло в парке Монсо и в Люксембургском саду. Места, которые были созданы для достойной современности удобной и светлой жизни, превратились в территорию ужаса и жестокости. Была объявлена Третья республика, но власти не доверяли простому люду. Правительство нового президента — маршала Макмагона, раненного в боях в Седане, оставалось в Версале до 1879 года, но даже когда решило вернуться, делало это медленно и осторожно. Власти призывали народ к покаянию. Горожане подозрительно отнеслись к этому требованию, даже те, кто не был активистом Коммуны, возмутились. Презрев молчаливый протест народа, в 1873 году власти издали указ возвести на Монмартре искупительную базилику — Сакре-Кер. Парижский пролетариат, может, и был побежден, однако прощать обид буржуазии не собирался. Приходившие на строительство храма рабочие ежедневно слышали лозунг «Vive le Diable!»[109], который громко выкрикивали пешеходы. В популярной песенке тех времен есть строки: «L’Bon dieu dans la merde» («Благой Господь в дерьме!»). В припеве эти слова рабочие выплевывали в лицо начальству, буржуа и священникам, прежде чем повесить врагов на фонарных столбах[110]. Базилика Сакре-Кер стояла недостроенной до XX века, и до сих пор вокруг нее кипят страсти. Многие парижане с неприязнью воспринимают не только имитацию романо-византийского архитектурного стиля, их раздражает и тот факт, что храм олицетворяет победу правящего класса над простым людом. При этом базилика, несмотря ни на что, стала туристической меккой для провинциалов и иностранцев.Жизнь после Коммуны полна исторических коллизий. Пожары в центре столицы, устроенные коммунарами во время отступления, помогли реализации стратегических архитектурных проектов Османа, которые к 1870 году претворялись в жизнь не столь динамично, как ранее, и хуже финансировались. В 1876 году муниципалитет решил, что масштабные градостроительные проекты помогут установить в столице порядок. Городские власти договорились о получении огромного займа и возобновили, в частности, работы над благоустройством улицы Оперы (соединенной с рю де Риволи) и бульваром Генриха IV. Теперь строительство шло стремительнее и стоило дороже, чем до 1870 года: улицу Оперы проложили, разрезав надвое район Бютт де Мулен и разрушив сотни старых домов, владельцам которых выплатили компенсации. Новая улица обошлась городу в 45 000 000 франков — неслыханную дотоле сумму. Стоимость прокладки бульвара Генриха IV, выходившего на бульвар Сен-Жермен, в менее состоятельном округе Арсенал, была вдвое дешевле. По всему правобережью выравнивались улицы: рю Франш-Конте, например, соединили с бульваром дю Тампль; улицы дю Лувр, Ремур и Жана-Жака Руссо расширили. Эти работы способствовали модернизации системы уборки улиц и оптимизации транспортных потоков, но одновременно были уничтожены уникальные старые кварталы центральной части Парижа. Весь город заполонили тысячи серых единообразных зданий. Париж заслужил наконец статус самого прогрессивного и наилучшим образом спланированного города планеты, но, как жаловались художники, писатели, архитекторы, инженеры и обыватели, произошло это ценой потери самобытности французской столицы. Радикалы также заметили, что широкие прямые улицы идеальны для ружейных залпов — неотъемлемой черты бунтарского периода. «Прекрасная эпоха» отмечена иррациональностью во всех сферах жизни, от политики до поэзии. И эта особенность парижского бытия манила художников, поэтов, писателей, политиков Франции и всей Европы — всех тех, кто проповедовал экстремизм в своей области. Париж превратился в город многочисленных и резких контрастов. К молодым учениям коммунизма и социализма добавилось возрожденное католичество, к 1879 году завоевавшее средний класс. Противоречия культурной жизни облеклись в материю. Сена перестала служить декоративным элементом городских набережных и превратилась в пронизывающую центр города артерию коммерции. Она заполнилась грузовыми баржами, плавучими прачечными и речными трамваями, перевозившими жителей пригородов в центр Парижа. Елисейские поля были больше чем просто масштабным памятником архитектуры, они служили местом для гуляний и верховой езды. Монмартр продолжал хранить пасторальную старину множества мельниц, виноградников, выпасов и крестьянских домиков. Центр города, напротив, стал двигателем промышленности и торговли, заполнился машинами и деловыми людьми. Целое поколение художников — Клод Моне, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Берта Морисо, Мари Кассат — стемились отразить свое восприятие эпохи в полотнах, наполненных игрой света и движения. Присутствовавшие на их первой выставке в 1874 году критики назвали вышеупомянутых художников импрессионистами за то, что те своими картинами вместо статического, близкого к реальности рисунка, изображали движущиеся «впечатления»[111]. Сначала художники противились прозвищу и утверждали, что их картины вполне «завершены» (то есть не являются зарисовками «впечатлений») и показывают реальность такой, какая она есть. Однако по мере того как идеи, технологии и эксперименты во всех областях человеческой деятельности набирали ход, даже великие импрессионисты и их последователи начали отставать от ускорившегося века.
Похороны
В парижском воздухе 31 мая 1885 года царила атмосфера необычайной торжественности, ставшей почти осязаемой, когда на столицу опустился вечер. Кофейни были забиты до отказа. Даже благонравные горожане в тот вечер пили больше обычного. Причиной тому стали государственные похороны Виктора Гюго — событие, которое позднее расценили как поворотный момент в истории французской столицы конца XIX столетия. Каким-то неясным образом парижане тех лет явственно ощущали, что умирает одна эпоха и наступает новая. С исторической точки зрения смерть Гюго ознаменовала переход от сложившихся устоев XIX века к неизведанному грядущему XX столетия. Для современников смерть писателя стала одновременно трагедией и освобождением от прошлого. Виктор Гюго умудрился соединить в своем лице роли громоподобного пророка, величайшего летописца жизни нищих парижан и слабого здоровьем сентиментального старого глупца. Но для всех парижан, даже тех, кто не читал его произведений, писатель стал воплощением недавнего прошлого столицы. Гюго родился в эру имперской славы, пережил революции, кровопролитные столкновения и бунты, вспыхивавшие во имя свободы, и только в конце жизни примирился с Богом и миром. Простое и ясное завещание писателя является величайшей из его идей: «Оставляю пятьдесят тысяч франков бедным. Хочу, чтобы меня отвезли на кладбище в катафалке для бедняков. Отказываюсь от погребальной службы любых церквей. Прошу все души помолиться за меня. Верую в Бога. Виктор Гюго». Тело писателя сутки покоилось в огромной урне на вершине Триумфальной арки, охраняемое молодыми поэтами, одетыми в древнегреческие тоги. В знак скорби о великом человеке шлюхи отказались брать плату с клиентов и, собравшись в районе Елисейских полей, безвозмездно оказывали услуги всем желающим («Началась странная оргия, — заметил некий иностранец, — абсолютно типичная для Парижа и в то же время небывалая прежде»). Более трех миллионов человек на следующий день пришли посмотреть на похоронную процессию. Кортежу потребовалось почти шесть часов, чтобы достичь Пантеона, построенного Жаком Жерменом Сюффло как церковь в 1764 году, преобразованного в мавзолей для упокоения великих мужей Франции и задрапированного к печальному событию в черные цвета[112]. Словно какое-то бремя свалилось с плеч парижан после похорон писателя. Будущее вступило в суету обновленных городских улиц. Даже в рутине повседневной жизни что-то изменилось. Теперь каждый гуляющий по большим бульварам не мог не заметить эффектно оформленные витрины магазинов, преобразившие город в истинную столицу торговли. Первым настоящим grand magasin стал «Бон Марше», открытый в 1876 году на улице дю Бак в здании, спроектированном Луи-Шарлем Буало и Гюставом Эйфелем. Уже само здание было предметом искусства: достойные оперного театра широкие, монументальные лестницы соединяли галереи и возвышающиеся друг над другом этажи, все было залито светом, проникавшим сквозь стеклянный потолок. Товары продавались по жестко фиксированным ценам и, по крайней мере теоретически, были по карману покупателям всех сословий. К концу 1870-х годов магазин добился оглушительного коммерческого успеха, так что в 1880-х похожие заведения множились на правом берегу Сены от улицы дю Лувр до южной окраины Бельвиля. Наиболее известными магазинами тогда были «О Принтемп», «Ла Белль Жардиньери» (расположенные в рабочем квартале неподалеку от Лионского вокзала) и «Галери Лафайет». Левые считали, что развитие коммерческой жизни города «демократизировало» бульвары и превратило их в место общения всех социальных классов. Примечательно, что рассвет коммерции зародился в руинах Коммуны. Несмотря на попытки политиков и крупных дельцов, считавших, что социальные различия в будущем растворятся в массовой культуре, уравнявшей потребителей всех сословий между собой, после Коммуны межклассовая пропасть стала шире, чем когда-либо. Обновление Парижа бароном Османом сильно подкосило ностальгирующих, революционно и поэтически настроенных мечтателей, похожих на Виктора Гюго. Но совершенно бесспорно одно: обновленный Париж работал как часы. Благодаря системе канализации, транспортной сети, магазинам, театрам, издательствам, кофейням, ресторанам и бульварам столица Франции стала удачной моделью структуры функционирующего организма. Такого в истории человечества еще не было. Даже самые яростные диссиденты были вынуждены признать, что родившийся в 1880-х годах новый город из-за своей бьющей через край творческой энергии был одновременно удивительным и величественным.Восхождение из низов
Незадолго до этого мальчик-поэт, содомит и покровитель первых представителей богемы Артюр Рембо славил грядущее поколение как «дикий парад» анархистов, лентяев и пьяниц, которые противопоставят науке буржуазного века волшебство, искусство и революционный мятеж и сметут рационализм технического прогресса. Распространенный в «прекрасную эпоху» миф утверждал, что Париж стал настоящей столицей удовольствий. Основная причина тому была сугубо экономической — город рос и развивался. В 1789 году в Париже действовали примерно 3000 кофеен и питейных заведений. К 1885-му, поскольку Вторая империя не вмешивалась в дела хозяев кафе и рестораторов, было выдано около 30 000 лицензий на продажу алкоголя. Их количество было выше, чем в любом другом городе мира (Лондон мог похвалиться примерно 5000 пабов, а Нью-Йорк 10 000 баров). Называли такие заведения по-разному, а некоторые из подобных терминов дожили до XX века (бистро, кафе, кабаре, brasserie): самыми распространенными были такие названия как «bос», «bibine», «boîte», «cabremont», «caboulot», «cargot», «abreuvoir», «assommoir», «bastringue», «boucon», «bouffardière», «bousin», «cabermon» и «troquet». Все заведения, от самого уважаемого буржуазного ресторана до «tapis franc» («логова воров»), походили друг на друга рядом черт: оцинкованной стойкой бара, всемогущим патроном (хозяином заведения) и мучимой жаждой клиентурой. В кофейнях находили удовлетворение самые разнообразные желания посетителей: здесь подавали еду, питье, в большинстве этих мест продавался секс, тут обменивались идеями, устраивались дискуссии, организовывались культурные сообщества, завсегдатаи отдыхали от трудов, назначали деловые встречи, нанимали на службу, увольняли нерадивых работников, просто согревались рюмочкой-другой. Все без исключения властители Парижа с подозрением (вполне оправданным) относились к кофейням, ведь их роль рассадника революционной заразы в 1789 году была общеизвестна. Авторитетные врачи-гигиенисты и филантропы-социологи настойчиво предупреждали о смертельной опасности неумеренного потребления алкоголя и угрозе распространения венерических заболеваний, но никто из погрязших в этих пороках к ним не прислушивался. Болезнь под названием алкоголизм была официально открыта в 1853 году шведским врачом Магнусом Гуссом, который первым определил пьянство как первопричину ряда смертельных заболеваний и источник серьезных психических расстройств. С его идеями, однако, не соглашался сонм медицинских светил Парижа, считавших алкоголь «живой водой» для рабочих и источником радости для состоятельного населения. Проблема алкоголизма, если он вообще существует, утверждали эти доктора, является бедой только северных народов и без того мрачных из-за сурового климата. В 1873 году при Медицинской академии и под патронажем таких светил, как Ипполит Тэн, Луи Пастер и барон Осман, было образовано общество против «усиленного потребления алкогольных напитков» — «Société française de tempérance» («Французское общество умеренности»). Но их считали всего лишь компанией чудаков. Излюбленным напитком в ту времена был знаменитый «fée verte» — «зеленая фея» — абсент, который частенько превосходил крепостью семьдесят два градуса. Полицию не волновали мораль и здоровье общества, но она все же приглядывала за питейными заведениями, особенно теми, что располагались в рабочих районах. Шпики в основном следили за преступными элементами, затерявшимися среди посетителей. К вящему облегчению жандармерии османизация уничтожила такие подозрительные заведения, как «У Поля Нике» на улице Фер, дом 36, и «Лапин Блан» на улице Фив. Политиков беда алкоголизма заботила и того меньше. Вторая империя издала ряд законов, нацеленных на борьбу со всеобщим пьянством: ввели предупреждения, штрафы и даже тюремное наказание, но радикальных шагов по борьбе с главным эликсиром парижской жизни сделано не было. Более существенным было то, что кофейни служили основным местом встреч интеллектуалов левого толка и политически ненадежных граждан, стремившихся сыграть важную роль в истории. Неудивительно, что в большинстве ужасов Коммуны винили всеобщее пьянство, вырвавшееся из питейных заведений на улицы города. А пылающий Париж времен «semaine sanglante»[113] в глазах правых политиков превратился в заурядную «пьяную пироманию». Правящие классы Парижа считали пьяное существование пролетариата одновременно угрозой для себя и увлекательным зрелищем. Ведь любой порок имеет сексуальный оттенок. Считалось, к примеру, что все сидящие в кофейне женщины из рабочего класса — проститутки. Понятно, что такое суждение ошибочно. В кофейнях женщины низших сословий пили и курили. Они вели политические споры так, что шокировали своих буржуазных сестер, предпочитавших столики кафе на бульварах. Вот, кстати, где женщины чаще были профессиональными или начинающими шлюхами.Ночной Париж
Лихорадочное кипение противоречивого духа Парижа, словно в зеркале, отражалось в его богатой и бурной ночной жизни. Ее сердцем был Монмартр, именно здесь парижане всех сословий могли заполучить желанные выпивку, секс и адреналин (от близкого присутствия настоящих canaille и преступных элементов из соседних Бельвиля и Менильмонтана). Здесь родилось кабаре — место, где можно было есть и пить, приправляя пиршество острыми злободневными сатирическими выступлениями. Первейшим среди них было кабаре «Черный кот» на бульваре Рошешуар, открытое в 1881 году неудавшимся художником Родольфом Сали. Рождением своим эти заведения обязаны группе богемных поэтов и студентов, сообщество которых было популярно в конце 1870-х годов и называлось «гидропаты». Название кружка намекало на то, что его члены вечно жаждут «хлебнуть» культуры или просто выпить. Видными фигурами кружка были известный своим сарказмом друг Рембо и Верлена поэт Шарль Кро и писатель Альфонс Алия. «Гидропаты» не просто просиживали вечера в «Черном коте», но и развлекали публику скетчами, пели песни и разыгрывали «события» — своеобразные шаржи-импровизации на постоянных посетителей, которые порой обижались за это на Сали. В «Коте» царила атмосфера ностальгии и патриотизма. Плохо вышколенные официанты носили зеленые значки Академии Франции. На «украшенных» паутиной стенах висели «чашки, которыми пользовались сами Вийон, Рабле и Юлий Цезарь». Кабаре являло абсолютную противоположность добродушной атмосфере левобережья, полного левых политических активистов, но было намного популярнее. «Черный кот» выпускал даже собственную газету, редактировали ее все те же «гидропаты» и сонм мелькнувших на литературном небосклоне звездочек. После оглушительного успеха «Кота» у него появились подражатели, среди которых была «Ле Мирлитон» («Дудочка») Аристида Брюана, бродившего с таинственным видом среди посетителей и высмеивавшего парижскую жизнь в скабрезных песнях и историях вполне в духе того времени. В городе функционировала примерно дюжина подобных заведений, включая открывшийся в 1889 году «Мулен Руж», где посетителям предлагались искусство, выпивка, интеллектуальные игры и адреналиновые приключения. Вот тогда-то термин «авангард» завоевал место в парижском лексиконе. Изначально это был чисто военный термин, обозначавший небольшую группу солдат, задачей которых являлось первыми вломиться в ряды противника и пробить брешь в его обороне. Уже в 1848 году это слово приобрело политический оттенок: журналы наградили им левых революционеров, которым пророчили историческую победу. В 1863 году при Наполеоне III, который патронировал выставки самых разных художников (в том числе Мане, Сезанна и Писарро, официально исключенных из участия в Парижском салоне), термин вошел в мир искусства. К 1880-м годам авангардистскими называли небольшие художественные и литературные кружки, все действия которых были вызовом установленному порядку. Многие самозваные авангардисты тех лет считали себя декадентами (этот термин впервые и в уничижительном смысле использовал поэт Жюль Лафорг) и объединялись в литературные кружки «лохмотьев», «зютистов» или уже упомянутых «гидропатов». В сфере литературы и философии они противопоставляли новизну косности мышления, а в области литературы ужасное — банальности «красивости». Их идеалами были Бодлер, Рембо и другие, ратовавшие за восстание и боровшиеся против ортодоксальности общественных канонов. Кажущиеся не связанными друг с другой сочинения Гюисманса, Лотреамона и Стефана Малларме, никто из которых в полном смысле слова декадентом не был, как и не были они единомышленниками, оказались объединены между собой стремлением к разрушению стереотипов. В том, что именно это настроение, которое определит весь XX век французской столицы, зародилось в эпоху, названную «прекрасной», определенно содержится некоторая ирония, как и в том, что ночная жизнь Парижа в целом и Монмартра в частности превратилась в туристическое клише, воплощение духа противления, которое по сей день играет немалую роль в мифологии мегаполиса.Классовые войны
В Париже тех лет витало не только всеобщее стремление к удовольствиям, но и случались вспышки бессистемного насилия. Фигура бомбиста-анархиста, уничтожающего толпы мирных граждан без разбора и без всякой видимой причины, вошла в жизнь и сознание всех парижан и превратилась в символ неуправляемого пролетарского насилия. Географическое разделение столицы на восточные кварталы революционного рабочего класса и западные «beaux quartiers» буржуазии превратилось в пропасть. Несмотря на попытки облагородить восток Парижа, это деление существует и сегодня. Я короткое время жил в Менильмонтане и частенько, мучаясь похмельем, добирался до буржуазного центра XVI округа на метро. Я не раз удивлялся и даже восхищался видом жителя тех кварталов, который в 6:48 утра с гордостью нёс в руках пакет с красным вином и выглядел так, словно сошел со страниц «Le Père Peinard» — провокационной анархической газеты 1880-х. Да, квартал принадлежал ему, не мне. Анархическая революция родилась на юге Франции и развивалась в основном в Лионе, где единый и сильный рабочий класс частенько сталкивался (и побеждал) с государственными властями и воротилами промышленности. В середине столетия движение распространилось на север страны, а по-настоящему расцвело после Коммуны в Париже, где антимилитаризм, антикапитализм и антиклерикализм слились в единое анархистское движение. Лучше всего анархисты чувствовали себя в Бельвиле, в неофициальной штаб-квартире всех революционных течений города. Такие руководители движения, как интеллектуалы Жан Грейс и Эмиль Готье, открывали на левом берегу газетные редакции, в основном около улицы Сюффло и Муфтар, но основная пропагандистская деятельность шла на востоке Парижа. В Бельвиле 1870-х насчитывалось несколько групп анархистов — «Les Libertaires», «Les Travailleurs Communistes», «Le Drapeau Noir», «Le Groupe Anarchiste du Père Lachaise»[114]. Разрозненным кучкам «новых революционеров» не хватало организованности и единой философии. Общая идея оправдала бы хаос как путь к совершенному обществу, состоящему из «автономных групп» трудящихся, которые, в свою очередь, своим существованием отменят социальную иерархию капитализма. Эта идеология особенно нравилась жителям ремесленных и промышленных районов Парижа, ведь они не понаслышке знали, что на их труде и произведенной ими продукции наживаются капиталисты. Пролетарии предпочитали иметь дело с мелким скромным бизнесом бедных кварталов, а не с обезличенной машиной коммерческого города, который теперь назывался «новым Вавилоном». Анархизм стал неотъемлемой частью жизни районов, которых не коснулся комфорт османизации и бездушная меркантильность буржуа. Полиция внимательно следила за известными анархистами, записывала разговоры, которые они вели в кофейнях и барах на улицах Менильмонтан, Бельвиль, дю Тампль и на бульваре Шаронн (здесь стояло «Кафе де ла Насьон»). Это был жестокий и мрачный мир, далекий и от света бульваров и фривольностей левобережных богемных кружков и студенчества. Анархисты проповедовали среди жуликов, пьяниц, бродяг и преступников, они делали ставку на так называемый опасный класс, отлученный от сверкающей жизни столицы, класс, которому нечего терять, а следовательно, осталось только впитывать политическую философию, оправдывающую разрушение как первый шаг к созданию нового мира. Самым знаменитым из всех анархистов можно считать Франсуа-Клавдия Равашоля, известного также как Кениг-штейн, или Леон Леже. В кругах богемы Равашоль даже дал краткую жизнь новому глаголу «ravacholer» — «стирать с лица земли, уничтожать». Ему приписывали пять убийств и ряд неудачных покушений на видных членов магистрата. В 1892 году его гильотинировали. Поэт Стефан Малларме, чьи стихи яркими абстракциями завоевали широкую популярность, защищая Равашоля в суде, сравнил его с представителями литературного авангарда, борющимися против отупляющих буржуазных ценностей. Писатель Октав Мирбо открыто объявил себя сторонником анархистов и пошел даже дальше: он считал преступления Равашоля единственным путем к уничтожению капиталистической цивилизации и спорил с теми, кто считал Франсуа-Клавдия рядовым убийцей. Среди менее «поэтических» преступлений Равашоля было убийство молотком владелицы лавки и ее дочери. Если верить Мирбо, анархисты имели полное право «делать что хотели, чтобы вселить страх, а правительства не в силах устоять перед необратимым». Он писал: «Мы находимся на переломе истории человечества. Старый мир рушится под бременем собственных преступлений. Мир сам поджигает бикфордов шнур бомбы, на которой сидит». Все эти разглагольствования литературный критик Лоран Тальяр свел воедино в застольной речи, сказав: «Что там человеческие жизни, когда прекрасен сам жест». Через два года критик потерял глаз от взрыва бомбы, которую анархисты бросили в тот же ресторан. Однако признать ошибочным высказанное ранее мнение отказался. Примеру Равашоля последовали многие впечатлительные молодые люди, включая буржуа Эмиля Анри, пойманного во время закладки бомбы в кафе «Терминус» на вокзале Сен-Лазар. Несмотря на бессмысленность и кровожадность террористических акций, в Париже анархисты пользовались поддержкой масс. То была естественная симпатия рабочего класса, считавшего анархистов-бомбистов солдатами давней революционной войны с вечно мутирующим, неотступно наступающим капитализмом. Завсегдатаи баров и кофеен Бельвиля аплодировали взрывам бомб, называли их «смелыми действиями», пели песни в честь Равашоля и прочих «врагов существующего порядка». Прометеевскому духу террористов симпатизировали и литературные объединения: не только отдельные, не слишком известные личности, вроде Малларме, но и целое поколение молодых людей и девушек с радостью приняли идеи террора и других преступлений против существующего порядка как единственно верную реакцию на загнивающее общество. По этой причине общественные суды над анархистами, в том числе над писателем Феликсом Фенеоном, ярым поборником идей импрессионизма, в 1894 году привлекли внимание всего Парижа. Финал судебных заседаний был комичен: государственный обвинитель вскрыл посылку, в которой, как он считал, находилась взрывчатка, а нашел кучу вонючих экскрементов. Когда же судебный чиновник удалился, чтобы вымыть руки, Фенеон воскликнул: «Никогда еще со времен Понтия Пилата законник не мыл свои руки с такой помпой!» Галерка разразилась бурной овацией. В 1890-х годах анархисты внезапно пропали, словно их и не было. Но даже за краткий период своего царствования террор внушил страх горожанам, заставил столицу радоваться уничтожению грязи и нищеты обычной жизни во имя разума и прогресса.«Конец комедии»
Город, где сталкивались идеологии и различные интересы, вдохновил прибывшего в Фобур Сен-Марсель из Экс-эн-Прованса еще молодого Эмиля Золя на стремление найти и понять невидимые течения городской жизни. Поиски длиною в жизнь… Золя считал себя ученым и разработал теорию «naturalisme»[115], объяснявшую его наполненные минутными зарисовками, но порой громоздкие и путаные романы. Между 1871 и 1893 годами он опубликовал двадцать романов цикла «Ругон-Маккары» с подзаголовком «Естественная и социальная история одной семьи в эпоху Второй империи», где постарался во всех подробностях отразить жизнь Парижа времен Второй империи (столица Франции является сценой десяти романов). Но лучшие страницы в творчестве Золя те, где он абстрагируется от своих идей и учений позволяет историям жить собственной жизнью, открывая читателю беспокойный многонаселенный город. Лучшие описания Парижа Золя дал в романах «Чрево Парижа» и «Дамское счастье», действие которых проходит в Л’Аль и в вымышленном магазине на одном из бульваров. Золя разделял левые идеи, и его романы рисуют город с точки зрения обездоленных и угнетенных. Париж изображен как механизм, всепожирающий гигантский двигатель, разрушающий человеческие судьбы во имя капитализма. Город разъедает капиталистический дух торгашества и коммерции. «Вдали простирался Париж, — пишет он в романе «Дамское счастье», — но Париж уменьшенный, как бы обглоданный этим чудовищем: дома, стоявшие рядом с ним, смотрели жалкими хижинами, а дальше лишь невнятно намечался лес дымовых труб; даже памятники архитектуры, и те почти совсем растаяли, — налево двумя штрихами был намечен собор Парижской Богоматери, справа небольшая дуга обозначала Дом Инвалидов, а на заднем плане приютился сконфуженный, никому не нужный Пантеон величиною с горошину». Политические противники Золя — правые — мечтали отомстить Германии за поражение 1870 года. Наступившее процветание Франции, и Парижа в частности, не принималось во внимание, считалось, что позор унижения может стереть лишь военный реванш. Всемирная парижская выставка 1878 года, продемонстрировавшая всему миру выдающиеся достижения французской промышленности и успехи колонизации, отчасти восстановила веру нации в себя. Но утраченных земель это не вернуло, и уязвленное национальноесамолюбие по-прежнему страдало. Своим героем националисты избрали генерала Жоржа Буланже — патриота, республиканца, уверенного в том, что спасителем Франции является армия. Буланже был известным сердцеедом и политиком-популистом, он не боялся завоевать приверженность электората призывом к уничтожению столицы Пруссии. В 1886 году генерал получил пост министра военных дел и, появившись на публике, произвел неизгладимое впечатление своей окладистой бородой (отличительным признаком настоящего республиканца), черной кобылой и громкими заявлениями — например, «Армия держит нейтралитет». Он вошел в парижский фольклор в популярной песне «En revenant de la revue»[116], славившей события четырнадцатого июля: «Все, что мне осталось — восхищаться нашим смелым генералом Буланже». В 1889 году он был избран в Национальное собрание и стал еще известнее, вступая в союзы то с роялистами, то бонапартистами или радикалами. Устав от шаткости собственного положения и невероятно высокой популярности Буланже, правительство Клемансо депортировало любовницу генерала мадам де Боннемен в Бельгию. Страсти закипели в день ее изгнания: толпы народа вышли на улицы с призывом к Буланже возглавить поход на Елисейский дворец и взять власть в свои руки. Существует знаменитая история о том, как генерал в это время обедал в ресторане «Дюран» и прекрасно слышал все лозунги толпы. Недолго думая, генерал на следующий день отправился за любовницей в Бельгию. Через год она умерла. А еще через год тело Буланже было найдено на ее могиле — он закололся. Парижане долго смаковали детали этой мелодраматичной и таинственной истории, хотя в действительности это, скорее, вымысел. Услышав о смерти Буланже, Клемансо с присущей ему живостью цинично заметил: «Что ж, конец комедии». В 1890-х, однако, во Франции произошло событие, сокрушившее и без того хрупкий мир во всей стране. Это было так называемое дело Дрейфуса, начавшееся с анонимного письма, полного военных секретов Франции, перехваченного в 1894 году разведкой на пути к германскому военному атташе в Париже. Письмо связали с капитаном Альфредом Дрейфусом — обладателем до того момента безупречного послужного списка, чьим единственным грехом во времена юдофобии среди парижан всех политических взглядов было еврейское происхождение. Кстати, многие из депутатов Национального собрания получили свои места благодаря программе, построенной исключительно на антисемитизме. Когда позднее (в 1896 году) оказалось, что письмо принадлежало руке майора Эстерхази, офицера с крайне сомнительной репутацией, эту информацию военное министерство утаило. Когда же на суде над Эстерхази (который, к слову сказать, был оправдан) военный трибунал выяснил, что Дрейфуса подставили, Францию охватил кризис, высветивший глубокое разделение между диссидентами и теми, кто верил в непогрешимость правительства. Противниками Дрейфуса стали все приверженцы диктатуры закона и военных порядков. Его сторонники утверждали, что закон не может существовать, если не опирается на истину и правосудие. Кульминацией конфликта стал опубликованный в 1898 году памфлет Золя «Я обвиняю!». В этой статье писатель требовал пересмотра дела и обличал прогнившую основу общественной жизни страны, потерявшей веру в правосудие. Памфлет был так непопулярен, что Золя пришлось бежать на год в Лондон из страха за собственную жизнь. Золя с тех пор считают прародителем писателей-«интеллектуалов» XX столетия, борцов со своим временем и, если необходимо, его творцов. В этом смысле Золя можно считать отцом поколения «верных», поколения Сартра и Камю. «Дело Дрейфуса» в какой-то мере предварило удушающую политическую атмосферу Парижа 1930-х годов, когда евреев постоянно травили как «изменников» и «предателей республики».Предзнаменования
Создание Эйфелевой башни было призвано даровать всему миру символ грядущего столетия. Это необычное сооружение задумывалось как главный экспонат Всемирной выставки 1889 года, которая в свою очередь должна была всем продемонстрировать достижения Франции со времен Великой французской революции. Непонятным приезжей публике и совершенно очевидным поводом, возмутившим парижан, стало то обстоятельство, что выставка и башня символизировали возобновление притязаний Парижа на мировое господство, впервые озвученное накануне «ужасных» 1870 и 1871 годов. Уже по этой причине жители столицы отреагировали на сомнительную достопримечательность скептически, они громко выражали свое недовольство «металлической спаржей» или «суппозиторием», поставленным посреди Парижа. Иные противились из эстетических побуждений и утверждали, что «стальной монстр» портит панораму Парижа. Но самой распространенной жалобой, высказывавшейся в темных переулках и салонах высшего света было то, что постройка башни является «спесивым жестом» и дурным предзнаменованием. Не стоит сбрасывать со счетов царившие в обществе мистические настроения: в конце XIX столетия город охватили возродившийся из мглы Средневековья оккультизм и фанатичный католицизм, население поголовно ждало близкого конца света (моду на символизм в поэзии можно объяснить повальным увлечением иррациональным и фатальным). Предвестия неминуемой катастрофы, знаки неотвратимых опасностей, таящихся в современности, легко можно было найти на любой улице города. Самой известной из всех стала трагедия на благотворительном базаре 1897 года, соединившая в себе буржуазное развлечение и новые технологии — кинематограф. Мероприятие проходило в деревянном, крытом брезентом и тканью павильоне на Елисейских полях; его организовали и проводили дамы из высшего света, пожелавшие демонстрировать посетителям всех сословий — но, конечно, в основном богатым и знаменитым — все модные новинки сезона. 4 мая 1897 года те же светские львицы организовали показ недавно изобретенного и уже завоевавшего Париж кинематографа братьев Люмьер. Для освещения случайно использовали испорченную газовую лампу, которая взорвалась, когда служитель пытался вновь ее зажечь. Затянутые тканью стены занялись мгновенно, в секунды павильон превратился в ад. Сотни зрителей попали в ловушку меж турникетов, задыхались и сгорали заживо. Точного количества погибших никто не знает, но их не менее двухсот человек. Шок и ужас от случившегося усугублялись тем, что среди погибших были представители высшего общества Парижа, хуже того, в большинстве своем дамы. Трагедия никак не повлияла на политику государства, но ужаснула парижан всех сословий, и без того имевших все причины бояться огня, новых машин и и больших скоплений людей. Тогда же по городу начала бродить странная история о графе Робере де Монтескье, чья жена погибла в огне. Граф был известным денди и славился элегантностью и изысканными манерами. Ходили слухи, что он стал прообразом Дезэссента в романе Гюисманса «Наоборот» — декадента и эстета, отвергающего объективную реальность ради возвышенных образов извращенной красоты. Точно известно, что граф послужил моделью пру-стовского дегенерата барона де Шерлюса. Дезэссент может претендовать на роль самого неприятного и отвратительного героя мировой литературы, а Монтескье в реальной жизни был его двойником: свидетели утверждали, что видели, как он на опознании тростью приподнимал сгоревшую одежду на обугленном трупе жены. Поэт-символист Анри де Ренье позднее утверждал, что, оставив жену гореть заживо, Монтескье тростью проложил себе путь из пылающего павильона. Парижане верили инсинуациям, подтверждавшим их неприятие излишеств века и монстров, которых тот породил.ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ МАГНЕТИЗМ 1900–1939 гг.
Глава тридцать пятая Новый виток
В следующем столетии население Парижа выросло, столица Франции стала самым богатым городом мира. Мегаполис, однако, остался затянутым в тугой пояс внешней кольцевой дороги — boulevard périphérique[119]. Иными словами, в отличие от Лос-Анджелеса или Лондона, столица Франции со времен Средневековья территориально так и не расширилась. И проблемы Парижа остались прежними: древнее традиционное противостояние богатых и бедных, давних традиций и прогресса проявится и в XX веке. Новый век стал эрой великих потрясений. Но по-прежнему равнодушные к страданиям народа политические вожди вновь и вновь предавали и унижали парижан в годы всех испытаний: в кровопролитии сражений Первой мировой войны, в пришедших в город послевоенных болезнях и бунтах, в кризис 1930-х годов, когда в стране чуть не разразилась гражданская война, а также в 1940-х, во время нацистской оккупации. Революционный пыл «опасных классов» XIX века растворился в препирательствах компартии, считавшей единственной надеждой человечества Москву, с различными фракциями правых, которые во имя республики, в которую и сами-то не верили, с распростертыми объятиями принимали квиетизм[120], цинизм и даже фашизм. Столица идей и идеологий, Париж стал городом, в котором интеллектуалы самого разного толка находили оправдания наихудшим преступлениям, совершенным во имя прогресса человечества. Гитлер, Мао и Сталин — каждый из них на какое-то время становился здесь героем. План парижского метро 1900 г. (© Collection Roger-Viollet)
План парижского метро 1900 г. (© Collection Roger-Viollet)
Начало XX века породило разнообразные авангардистские течения, от кубизма и сюрреализма до экзистенциализма и множества иных «-измов». Все они полагали, что обеспечивают политическое и культурное противодействие жестоким силам исторического развития, грозившим временами захлестнуть столицу. Однако, несмотря на все громогласные заявления, авангардисты принадлежали к элите и не имели никакой связи с массами. Сознанию масс были чужды все эти проблемы; зимой 1899 года, парижане вступали в новое столетие, не испытывая особого подъема. Осень того года была холодной и сырой, горожане мерзли и болели, к тому же столица освещалась крайне слабо. Никто не думал о переменах в политике, литературе или повседневной жизни. Большинство обывателей заботило исключительно собственное выживание в столице, провозгласившей себя образцом города будущего, но бессильно завязшей в трясине разногласий прошлого. В Париже возбужденно обсуждали обстоятельства дела Дрейфуса и скандала по поводу Панамского канала — финансовой аферы 1893 года, обанкротившей многих парижан и вызвавшей подъем и без того яростного антисемитизма. Да, с ненавистью к евреям в те годы могут сравниться лишь антибританские настроения, проявившиеся, например, в ликовании прессы по поводу военных поражений Англии в Южной Африке. Смерть королевы Виктории в 1901 тоже послужила поводом для глумлений. Сразу после ее похорон в Париже вошли в моду фетровые шляпы, которые надевали, демонстрируя поддержку буров. Городские власти рассчитывали, что перелом столетий ознаменуется искрящимся фейрверком достижений искусства и техники. Омытая зимними штормами Эйфелева башня поблескивала в сыром сером воздухе как символ слияния дизайнерского гения, инженерной мысли и утопических идей: редкий случай, когда эти три аспекта сошлись воедино. Прекрасным примером такого союза является Всемирная выставка 1900 года, размахом которой организаторы стремились превзойти все предшествовавшие ей мероприятия, в том числе выставку 1889 года, когда пред изумленными взорами публики предстала Эйфелева башня. И это удалось благодаря тому, что главным экспонатом новой выставки стал сам Париж: его представили как мировую столицу модерна и технического прогресса. Специально к выставке возвели Большой и Малый дворцы из стекла и бетона — результат смелых архитектурных решений, настоящие шедевры. К событию было приурочено и открытие моста Александра III. Статус Парижа как центра мировой цивилизации подчеркивали колониальные приобретения, представленные на разбросанных по территории выставки экзотических экспозициях: иными словами, вместо того чтобы распространять Париж по всему миру, все страны были в него «импортированы». Выставка была открыта до ноября, ее посетили свыше 50 000 000 гостей — больше, чем население Франции тех лет. Территорию, превышавшую размером две квадратные мили, освещали электричеством, а в ночное время пять тысяч лампочек сияли на фасаде Дворца электричества, приводя публику в восторг. «Старый Париж» принадлежал истории и сохранился лишь в фольклоре, в виде стилизованных под старину зданий, шпилей и фронтонов на правом берегу Сены. Горожане должны были видеть и сравнивать прошлое и будущее. Кроме того, парижане и гости столицы могли подивиться на сказку восточных базаров, арабских кофеен, минаретов и гаремов, устроенную организаторами выставки, чтобы показать Франции частичку ее колоний. Гости поражались покорившимся Парижу землям, а горожане наполнялись патриотизмом и гордостью за страну. По крайней мере, так было задумано. Сомнений нет, жизнь в Париже и провинциях с середины XIX века постоянно улучшалась. Страна обогатилась, как никогда, среднестатистический сельский житель при желании мог заработать на хлеб, вино и одежду, существовать в сносных условиях и рассчитывать на квалифицированную медицинскую помощь. Однако в Париже продолжали существовать трущобы, более того, они разрослись, вышли за границы города XIX века и слились с пригородами (banlieue), этими неизведанными и не нанесенными на городские карты территориями; но даже сюда проникла надежда на лучшую жизнь, даже здесь можно было найти работу и заработать на еду. Политические страсти бурлили как прежде, крутились вокруг дела Дрейфуса, а последнее, вызывая бурные дебаты, тем не менее не возбуждало революционных настроений, от которых столица так устала за последнее столетие. Вместо этого парижанам предстояло погрузиться в искусство отдыха и потребления. Город превратился в храм коммерческой рекламы, население блуждало в джунглях вывесок, зовущих «lecher les vitrines» (поглазеть на витрины, буквально — «облизать» их). Популярным развлечением новой эпохи стало кино, в конце 1890-х кинотеатры стояли отдельной строкой в перечне достопримечательностей Парижа. У кинотеатров был сильный конкурент: бульварные театры, в которых, благодаря таким деятелям, как сочинитель комических пьес Жорж Фейду, шли фарсы на все вкусы. К 1913 году в Париже были открыты тридцать семь кинотеатров, в том числе обладатель самого большого в мире экрана — «Пате» в Доме Инвалидов; к 1920 году только в центре столицы их насчитывалось более 200. Многие кинотеатры строились с размахом и, чтобы отразить «новый дух» эпохи, пышно украшались. Ярким представителем того времени является «Ле Гран Рекс» на углу бульвара Пуассоньер, где и поныне демонстрируются фильмы. Прокладка парижского метрополитена велась с тем же размахом: строительство началось в 1898 году, первая линия открылась уже в 1900-м (она протянулась от Венсенского леса до ворот Майо со станциями вдоль Елисейских полей, специально для посетителей Всемирной выставки того года). Работы по строительству метро затянулись ввиду того, что власти никак не могли договориться по поводу финансирования проекта, а потому первыми, уже к 1870-м годам, подземные поезда пустили Лондон и Нью-Йорк. Парижскому метро удалось-таки занять достойное место благодаря таланту инженеров и искусству дизайнеров. В основном это заслуга архитектора Эктора Гимара, получившего заказ на оформление метрополитена в 1898 году. Гимар принадлежал к поклонникам стиля модерн (le style moderne), или «ар нуво» (art nouveau). Эта школа дизайна стремилась создать контраст безликой монументальности и достигала совершенства в едином союзе индивидуальных талантов творцов. Во французском и европейском ар нуво (в Германии это течение называли «югендштиль», в Испании — «модерниста») прослеживаются заимствования от английских прерафаэлитов, наиболее видными теоретиками которых были Джон Рескин и Уильям Моррис. Дизайн знаменитой станции метро Гимара включает плавные и прихотливые линии растительного орнамента, что является противопоставлением жестким, математически «правильным» линиям города барона Османа. Новые станции метрополитена сразу же понравились парижанам, ведь они оживили городские улицы, внесли в их облик чувство гармонии, индивидуальности и живости. Использование новых технологий в метро казалось воплощением утопии — парижане видели город будущего мегаполисом скоростей и постоянного движения, — но оно не замедлило продемонстрировать новые опасности. В 1903 году на недавно открытой ветке метрополитена, протянутой от площади Этуаль до площади Нации, из-за скачка напряжения произошло короткое замыкание. Минимум 84 человека оказались в ловушке темных задымленных тоннелей; умерших от удушья пассажиров долгое время глодали крысы. Подобные инциденты рассматривались как необходимые жертвы во имя прогресса и нового века, который принесет человеку счастье, основанное на принципах разума и науки. Еще в 1863 году Жюль Верн в романе «Париж в XX веке» нарисовал столицу будущего. Сегодня этот писатель известен как автор приключенческих романов и отец научной фантастики, чьи произведения исполнены оптимизма и надежды на грядущую лучшую жизнь. Однако Жюль Верн питал серьезные литературные амбиции (его труды полны аллюзий и цитат из Гюго, Бодлера, Дидро, Эдгара Аллана По и многих других) и сумел распознать тяжелые испытания, ожидающие человечество в будущем. Именно из-за мрачных пророчеств Герцель, издатель Верна, отказался публиковать рукопись о Париже XX века: уж очень депрессивную картину столицы 1960-х рисует автор: город предстает бездушным и мрачным, в нем все подчинено нуждам производства и капитала. Книга, однако, предсказала ряд достижений нашего времени: среди прочих — факс, современные транспортные средства, а также тот факт, что парижские писатели 1960-х годов посвятят свои таланты написанию невозможных к прочтению книг, смысл которых не смогут объяснить даже сами. Смотреть на грядущее как на источник катастроф в XIX веке было не принято. На рубеже веков парижане всех сословий нуждались в надежде на лучшее будущее.
Хозяева террора
Другой причиной для оптимизма, подпитывавшего Всемирную выставку и породившего в прессе разговоры о «золотом веке» Парижа, стала всеобщая убежденность в том, что любого рода преступность имеет право быть овеяна романтическим флером. Благодаря этому семантическому кунштюку особенно прославился район Монмартр, игравший двойственную роль: городского центра удовольствий и очага беззаконий (от революционной пропаганды до коммерческого секса). Париж со времен Вийона и Картуша служил прибежищем преступных гениев. Еще в эпоху Просвещения преступниками восхищались, их «таланты» и умение одержать верх над буржуазными властями превозносили. Мода на культивирование выдающихся преступников пришла в 1790-х вместе с толками и пересудами по поводу бандита и полицейского информатора Эжена Видока, дьявольски ловкого, известного мастерством перевоплощения и умением смешаться с представителями любого класса общества — от высшей знати до трущобных «каналий». «Поэт, убийца и денди» Пьер Франсуа Ласнер в 1836 году талантом оратора и искусством одеваться очаровал двор, а также объявил себя врагом общества, находящимся над законом (и все равно был осужден за убийство трансвестита и неудачное ограбление банка). Ласнер стал вдохновителем одного из главных персонажей фильма Марселя Карне «Дети райка» (1945) и, скорее всего, прототипом злого гения Вотрена в бальзаковском «Отец Горио». Однако были в Париже преступники, представлявшие гораздо большую угрозу. Например, расплодившиеся банды уличных хулиганов, которых называли «апашами», то есть «апачами» (термин этот вошел в обиход после появления на выставке 1900 года Буффало Билла). Из-за красных шарфов на шее, ножей в карманах, пристрастия к выпивке и избиению женщин (все эти самобытные мотивы воплотились в «танце апашей», который нынешний турист увидит в любом кабаре на Монмартре) эти молодчики быстро превратились в легендарные фольклорные персонажи. На самом же деле все обстояло так: крепкие агрессивные парни из бедноты, не желавшие работать, жили воровством и разбоем. Статья 1905 года в американской газете «National Police Gazette» описывает бесшабашную смелость апашей, особенности их ремесла, в том числе известный «coup de Père François»[121] — ограбление «клиента» с предварительным легким придушением. Журналист замечает, что герои песен и романтическое украшение столицы — апаши — стали угрозой центрального Парижа:…Целый час площадь Бастилии была местом побоища, на котором полиции пустили кровь. Стражи порядка дрались с боевиками банды «Американские кулаки», вооруженными дубинками, тростями со свинцом или клинками и револьверами внутри. Однако излюбленным оружием этих молодчиков служит длинный тонкий острый нож «zarin», которым они владеют виртуозно. Застрявший в Париже американский чернокожий, видевший драку из окна винной лавки, в которой работал, уволился в тот же день и даже не попросил выходного пособия. «Чет-то слишком для Дэна, — рассказывал он другу, — пинали друг друга по яйцам зда-аравенными ботами, топтали ихние головы, стреляли и резали ножами — страсть». Если бы драка вполовину менее агрессивная прошла в Нью-Йорке на Парк-роу или, скажем, на Юнион-сквер, все газеты Европы трезвонили бы о происшествии. Здесь же об инциденте забудут, поскольку подобное случается ежедневно.
Этот рассказ напоминает о множестве столкновений между конкурирующими бандами предместий, регулярно происходящих в Л’Аль и на площади Этуаль, пугающих туристов и праздношатающихся парижан XXI века. Да, если говорить о превентивных мерах против вспышек гражданского насилия в среде малообеспеченного населения, за столетие мало что изменилось (включая глупую привычку полицейских неумело воспроизводить говор чернокожих американцев). Апаши являются продолжателями традиций дворовых банд и хулиганов, существовавших еще в Средние века. В новом веке Париж терроризировала «Bande a Bonnot» (банда Бонно) — так называемые бандиты из трагедии, пользовавшиеся последними достижениями технического прогресса: они первыми во Франции использовали для ограбления автоматическое оружие и скрывались с мест преступления на автомобилях. Банда эта назвалась политическим образованием, члены ее объявили себя анархистами и завоевали поддержку неимущего пролетариата смелостью операций, ограбив, к примеру, банк «Сосьете Женераль» на улице Ордене в 1911 году. Главарь банды Жюль Бонно родился в Монбельяре и появился в Париже после того, как наделал бед в Женеве, Лионе и Лондоне, где какое-то время служил шофером Артура Конан Дойла. Бонно был идейным врагом буржуазии и считал убийства формой «революционной пропаганды». В конце концов Бонно блокировали на «малине» в Шу-ази-ле-Руа. Тысячи зевак со всего Парижа собрались посмотреть на пятичасовую осаду, закончившуюся «геройской» смертью Бонно, расстрелянного и взорванного динамитом. Поговаривали, что прямо перед гибелью Бонно крикнул: «Сволочи!» Истории о главаре банды стали легендами и дожили до XX века. Во время майских волнений 1968 года, например, амфитеатр оккупированной Сорбонны бунтовщики назвали его именем, а позднее о бандите сняли фильм с Жаком Брелем в главной роли.
Новые течения
Всю зиму 1909/10 годов лил дождь. К 29 января вода в Сене поднялась на восемь с половиной метров — выше было только в наводнение 1740 года. Удержать реку в берегах не удалось, и потому ушли под воду двор Школы изящных искусств и железнодорожная станция на набережной Орсе. Вскоре новомодное метро, как и остальной транспорт города, прекратило работу. Мосты скрылись под водой. Население всерьез опасалось крокодилов, которые, по сообщениям прессы, сбежали из зоопарка. Когда весной вода наконец отступила, более 200 000 зданий оказались сильно поврежденными. Материальные и моральные потери были огромны. В том же году политические баталии, которые, казалось, давно утихли, вспыхнули с новой силой. В 1905 году был издан долгожданный закон об отделении церкви от государства. В результате раскол между правыми и левыми (и без того обострившийся из-за дела Дрейфуса и борьбы за власть) превратился в непреодолимую пропасть. Хуже того, во главе армии стояли не хладнокровные профессионалы, а активисты-католики правого толка. Левые, в свою очередь, громогласно выказывали антивоенные настроения, им удалось склонить к дезертирству около 100 000 военных. Столкновения с Германией в Марокко в 1905 и 1911 годах сильно пошатнули авторитет властей, но повседневная жизнь большинства парижан не изменилась, и они не сознавали ни угрозы с Востока, ни того, что процветание общества, провозглашенное политиками, есть лишь иллюзия. В политической жизни Парижа наступил застой. С начала столетия каждое новое правительство, приходившее к власти, заботилось лишь о росте собственной популярности, играя на таких внутренних конфликтах, как дело Дрейфуса, и не занималось долгосрочными проектами, на которые благодаря почти случайному экономическому росту XIX века денег имелось предостаточно, а также не уделяло должного внимания выстраиванию внешней политики государства. Несмотря на небольшую популярность правых, страх перед волнениями внутри страны — память о Коммуне до сих пор не исчезла, — широко распространенные ксенофобия и антисемитизм гарантировали, что в стране всегда будет присутствовать консервативное большинство, которое сдержит самых ретивых активистов из левых и поддержит в столице спокойствие. Словно во сне, Франция шла к катастрофе.Изобретая XX век
Следует отметить, что величайшие свершения Парижа тех времен произошли не в политической сфере, не в технологиях, а в искусстве, особенно в литературе. В апреле 1902 года премьерные показы оперы Дебюсси «Пелеас и Мелисанда», созданной по мотивам пьесы символиста Мориса Метерлинка, продемонстрировали новые веяния в музыке, изменившие традиционные линейные структуры оперного искусства. В первых рецензиях холодно-отстраненные интонации переходили в открыто враждебную критику. Сам Метерлинк был так разъярен тем, что Дебюсси выбрал для исполнения первой партии Мэри Гарден, американку шотландского происхождения, что пытался устроить кулачный бой. Но пышностью и многослойностью смысла, отчасти навеянными символизмом, новая опера представила миру новый образ музыкального театра, где не только разворачивалось зрелище, но и звучала новая поэзия. Не столь провокационным, но не менее значительным событием того же года стал выход в свет книги Колетт «Клодина в Париже», в которой рассказывается о сапфических приключениях самой писательницы — энергичной и дерзкой лесбиянки — в сугубо мужском городе, обитатели которого даже не верили в существование подобных «экзотических» существ. В 1900-х годах Париж влюбился в нового антигероя — Фантомаса. Этот книжный персонаж, плод вымысла писателей Пьера Сувестра и Марселя Аллена, впервые он появился в коротких рассказах, которые каждый месяц публиковало издательство «Arthème Fayard». Парижане жадно проглатывали истории, в которых вежливый и обходительный злой гений (Фантомас традиционно носил костюм, шляпу, трость и маску) сеял террор в городе ради собственной забавы. Среди его злодеяний были замена духов в бутылочках дорогого парижского магазина на серную кислоту; запуск стаи зараженных чумой крыс на океанский лайнер; убийство неверного ученика с помещением того внутрь колокола вместо языка, в результате разбитое тело молодого человека оросило улицы внизу своей кровью. Дочь Фантомаса, прекрасная Элен, имела неопределенную половую ориентацию, носила мужскую одежду, день и ночь курила опиум. Особенно запомнились публике афера с похищением сусального золота с купола Дома Инвалидов, диверсии на поездах и пароходах, погоня по улицам Парижа за каретой, на облучке которой стоял мертвец с облезшим до костей черепом. Фантомас стал героем одной из первых экранизаций парижской киноиндустрии: Луи Фьюлад в 1913 и 1914 годах снял о нем сразу пять кинокартин (в 1970-х пересняты заново). Чтобы посмотреть, как злодей виртуозно обтяпывает свои делишки, облапошивает буржуазию и вечно преследующую его полицию, собирались толпы. Отчасти популярность этого персонажа обуславливалась тем, что все приключения разворачивались в Париже, знакомом читателям и зрителям. В основном Фантомас действовал на востоке и севере столицы: в Бельвиле, Менильмонтане или на Монмартре. Особенно он любил улицы де Музайя, Компанс, де Соле, Барбе-Рошешуар, площади Клиши, Пигаль и дю Рен. Поместив вымышленного Фантомаса в реальную среду, в которую в любое время дня и ночи мог попасть всякий парижанин, авторы внесли тревожную таинственность в обыденную жизнь столицы. Помимо эффектных трюков героя и необычности его образа, именно синтез вымысла и реальности вдохновлял грядущее поколение парижских авангардистов от Макса Жакоба до сюрреалистов. Поэт Робер Десно называл Фантомаса «возникающим в тишине сероглазым призраком». На картине Хуана Гриса «Фантомас» 1915 года на столе кафе лежит бестселлер о гении-злодее. По ряду причин литературные критики считают год 1913-й истинным началом XX столетия. Именно в том году вышел роман Марселя Пруста «По направлению к Свану», Андре Жид заканчивал свой гениальный труд «Подземелья Ватикана», а тридцатитрехлетний поэт Гийом Аполлинер выпустил сборник «Алкоголи». Каждое из этих произведений представило литературу «новой волны», которая предпочитала субъективность мироощущения в творчестве застывшему описательному изложению романов и поэм XIX столетия, где всегда, от Гюго до Золя, предполагалось всесильное присутствие автора (эта «новая волна», на какое-то время по крайней мере, прикрыла собой гомосексуальность Жида и Пруста). Для Леона-Поля Фарга современность лежала на улицах Парижа: город — волшебное полотно, сотканное из переплетенных друг с другом необычных ощущений. Такая философия, казалось, замыкалась в символизм, но неутомимый Фарг, исходивший город вдоль и поперек, видел истинный Париж, сверкающий «анархией деталей», по меткому выражению Бодлера. Вот одно из лучших стихотворений Фарга о городе: «На брусчатке, уложенной перед борделями, чьи окна мутны, около уродливой, заклеенной внахлест видными в отблесках света рекламными объявлениями стены стоит на страже шлюха. Тонкий луч света из таверны, где играет музыка, высвечивает затаившиеся фантомы… рваные образы вечера». Гийом Аполлинер считал, что всякий современник обязан сомневаться в традициях стихосложения прошлого. Стихотворения сборника «Алкоголи», подобно полотнам кубистов — современников поэта, не описывают город традиционными фразами (или, если придерживаться языка изобразительного искусства, не копируют традиционный образ мира), а стремятся воссоздать его новым языком исусства. Аполлинер родился в Риме, его мать была полькой, но все свое творчество он посвятил Парижу, куда без гроша в кармане прибыл в 1898 году. Город, который поэт увидел, никак не похож на уютный «старый Париж». Автор обращает свой взор на окраины, промышленные ландшафты, трущобы и рабочие кварталы; каждый кусочек Парижа Аполлинера полон призраков и мифов:Глава тридцать шестая Новые войны
Начало войны в августе 1914 года застало парижан врасплох. Словно никто в столице Франции не следил за течением европейской политики, не предвидел опасностей, связанных с политическими играми властей и недальновидными союзами политиков, стремившихся опередить конкурентов-колонизаторов. Никто не хотел войны, а когда она пришла, никто не знал, зачем она нужна. 31 июля вождя социалистов Жана Жореса расстреляли за обедом в «Кафе де Круассан» на улице Монмартр. Жорес был видным противником милитаризма и союза Франции с Россией, свято верил, что братья-социалисты из Германии не станут нападать на его родину. Убийство Жореса явилось жестоким, но неизбежным прологом к готовому разразиться кризису. Пресса и завсегдатаи парижских кофеен и баров считали начало войны «une bavure» — «промашкой» правительства и сетовали на глупость властей. Но как только в стремлении отомстить за убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда Австрия напала на Сербию, Европа словно обезумела. По всему континенту шла мобилизация: Франция собирала войска в ответ на рост армии Германии, которая в свою очередь наращивала силы в ответ на милитаристические настроения России. Изначально скептически настроенные, парижане теперь с восторгом провожали войска, отбывающие с Северного вокзала, ни секунды не думая о последствиях происходящего. Горожане старшего поколения, помнившие суп из крысятины и свист пуль 1870 года, начали запасаться продуктами и забивать досками окна. Другие же, возбужденные грядущими битвами, в безумии прокатились волной по улице Монторгей, круша все, отдаленно напоминавшие «тевтонские» витрины, а производитель супов Куб, живший неподалеку от рю Тикетон, пострадал из-за слуха, что добавляет в свою продукцию яд. Портной Ярф, чья мастерская стояла на той же улице, повесил на окнах лавки триколор и кричал, что его настоящее имя Фрей и он готов присоединиться к погромам. Как только война была объявлена, власти столкнулись с недвусмысленной угрозой всеобщей стачки. В преддверии военных событий уже случился ряд пролетарских забастовок, но правительство не сумело понять, были они организованы официальными тред-юнионами, анархистами или коммунистами. К удивлению власть предержащих, революционный настрой рабочего класса сошел на нет. Его ненависть обратилась на внешнего врага. С Восточного и Северного вокзалов под звуки военного оркестра пролетариат добровольно и массово уходил на фронт. Уже в действующих войсках они пытались бунтовать, но армейская дисциплина легко с этим справлялась и безжалостно карала виновных. Первые ужасы войны накатили на парижан 26 августа 1914 года, когда передовые части германской армии были замечены на подступах к Парижу, а основные силы дошли до Марна. Немецкая кавалерия захватила Шантильи и придвинулась к Парижу так близко, что стала видна с Эйфелевой башни невооруженным глазом. В городе то тут то там вспыхивала паника: лавки, рынки и улицы были полны слухов, что осада 1870–1871 годов вот-вот повторится. Париж начал вооружаться. Эйфелеву башню окружили пулеметными гнездами. По всему городу разместили более сотни тяжелых артиллерийских орудий. Официальные въезды в столицу забаррикадировали, в центр города гнали стада животных, везли продовольствие. Париж «традиционно» заполнился беженцами из пригородов и не только, среди которых было множество иностранцев, говоривших на французском языке с сильным акцентом, из-за чего их часто подозревали в шпионаже в пользу Германии. 2 сентября правительство выехало из столицы в Бордо. Другой поезд вывез в неизвестном направлении золотой запас Банка Франции. Парижские буржуа на задних дворах своих домов закапывали столовое серебро. Горожане всех сословий вновь обращались к святой Женевьеве, моля о чуде, о спасении от напасти с востока. Любому грамотному военному было очевидно, что Парижу еще одной осады не выдержать. Остатки оборонительных сооружений 1870 года полуразвалились. Население выросло настолько, что запасенного продовольствия хватило бы всего на несколько недель. Ветерану, побывавшему в плену после Седана и пережившему Коммуну, главнокомандующему обороной Парижа генералу Галлиени не оставалось ничего другого, как решиться на контрнаступление. Оставалось непонятным, когда наступать и как? Спасшее город так называемое «чудо на Марне» было везением. Первой удачной случайностью стало обнаружение трупа германского кавалерийского офицера, на теле которого была найдена окровавленная карта наступления немецких войск. Французская разведка незамедлительно доставила документ Галлиени, который обнаружил, что германские войска планируют обогнуть Париж с востока и прижать французскую армию у границы со Швейцарией. Самое главное — это наступление открывало незащищенный участок на фланге немцев. Генерал Галлиени решил ударить всеми силами и 6 сентября реквизировал парк парижских таксомоторов, чтобы доставить все имевшиеся в наличии войска к незащищенному участку фронта. Это решение спасло город, замедлило и в конце концов остановило наступление германцев. Однако парижане не забыли, что, несмотря на выказанную смелость, многие парижские таксисты требовали оплатить проезд войск, двигавшихся на поле брани, чтобы пожертвовать собой во имя нации.«Столетие скорости!»
Безумную атмосферу Парижа в предвоенный период и в самом начале войны прекрасно передал Луи-Фердинанд Селин в своем знаменитом романе «Путешествие на край ночи». Книга была впервые опубликована в 1932-м и стала так популярна, что Селина прозвали «новым Золя». Настоящее имя литератора — Детуш, а основной его профессией была медицина: он служил врачом в бедных северных районах Парижа, где научился состраданию к слабым и ненависти ко всякой власти государства. Он воевал, был ранен, награжден медалями за храбрость, со временем стал яростным пацифистом и ненавистником войны. Однако Селин полностью дискредитировал себя, когда в 1930-х годах опубликовал длинные (и прекрасно написанные) трактаты против евреев и «англосаксов» в поддержку идеи великой Европы под управлением Гитлера. «Путешествие» начинается с бурной и забавной перепалки двух студентов-медиков, главного героя книги Бар-дамю и Артюра Ганате (быстро пропавшего из виду) в кафе на площади Клиши летом 1913 года. Согласно сюжету, оба героя, воспитанные на принципах анархизма, что типично для молодых людей тех лет, стараются перещеголять друг друга в оскорблениях государства, Бога, капиталистов и милитаристов, читают антикапиталистические и пацифистские стихи. «Вот так все началось, — говорит Бардамю. — Я ничего-то и не сказал. Ничего». Ганате начинает с общих нападок на самодовольство и апатию населения, обычных для предвоенного Парижа:Парижане всегда выглядят занятыми людьми, но в действительности они шляются по городу, ничего не делая, с утра до ночи. Доказательством тому служит факт, что, когда на улице слишком жарко или холодно, все они собираются в питейных заведениях и пьют café-crèmes или пиво. Так все и есть. Столетие скорости? Где же оно? Все твердят о великих свершениях! И что? Ничего ведь в действительности не изменилось. Они восхищаются друг другом, это и ваш удел! Но все это пустое. Может, речи и меняются, но отдельными словечками, и тех маловато. Пара-тройка то тут, то там…» Гордясь тем, что высказали эти полезные истины, мы откинулись на спинки стульев и окинули взглядом дам, сидящих в кафе. Никто из литераторов XX столетия не сравнится с умением Селина ухватить мелодику, рисунок, непереводимые ритмы повседневной парижской речи. Похожее на рваный шаг, на то убыстряющийся, то замедляющийся бег первых черно-белых кинокартин, селиновское повествование перескакивает со сцены в кафе в год 1914-й. Вдруг Бардамю, ранее изливавший потоки издевок в адрес французской нации, добровольцем идет на передовую. И оказывается «в ловушке, словно крыса». В ужасе он наблюдает, как голову его полковника отрывает снарядом, а кровь в порванном горле «булькает, словно кипящее варенье». Контуженный Бардамю отослан обратно в Париж, который находится на военном положении, погружен во тьму, повседневная жизнь заменена ощущением нереальности происходящего, присущего всем жестоким временам. Хаос на фронте сопровождался переменчивостью настроения граждан. Большую часть войны Париж был осажден — хотя в этот раз осада ни в какое сравнение не шла с бедами, причиненными германцами в 1870 году, — тогда город служил убежищем для раненых, контуженных и изможденных войск и беженцев. Столицу захлестнула волна антигерманских настроений, задев даже элиту. Ученик Ницше Андре Жид стал одним из множества тех, кто называл немцев «варварами». Марсель Пруст описывал «дьявольских» пруссаков. Бывший символист Октав Мирбо, и сам не чуждый извращенных сексуальных утех, рассуждал, что в Берлине гомосексуализм достиг невероятного размаха. Менее уточненные парижане говорили, что свинорылые «боши» — убийцы младенцев и каннибалы и олицетворяют полную противоположность всем ценностям цивилизации. Всякий раз, когда кабаре и кинотеатры показывали спектакль или фильм «антигуннского» свойства, зал заполнялся до отказа. Из подозрений, что «Богема» Пуччини выражает прогерманские настроения, Опера-Комик сняла ее с репертуара. Даже дети были охвачены антигерманской горячкой; члены подростковой банды «Никелированные ноги» взрывали военные заводы германцев, а милая бретонская школьница Бекассин ухаживала за ранеными. Уличные продавцы торговали игрушечными солдатиками, флагами, кольцами и шарфами, сделанными руками рекрутов изсписанного обмундирования и амуниции. Пасхальные яйца и рождественские поленья декорировались как пушки, а ясноглазые, сияющие свежими личиками детишки хором пели антигерманские гимны, например «La Chasse aux barbares» («Охота на варваров») или «Culot d’Alboche» («Последний бош»). Когда давление на Париж ослабло, жизнь более или менее вернулась в прежнее русло. Дефицит в потребительской сфере остался — в основном недоставало горючего, масла и других продуктов первой необходимости, — но жизнь была не в пример легче, чем в прошлую осаду города. Сильнее всего население страдало от отсутствия свежих новостей с фронта, так что журналы и периодические издания повысили свои тиражи. Лучше других расходилась газета «Le Parisien», но жажда периодики была столь сильна, что на перекрестке бульвара Пуассоньер и рю Монмартр, где располагались штаб-квартиры и печатные цеха большинства издательских домов, частенько собирались толпы народа, расхватывавшего свежие номера. Парижане терпеть не могли цензуру и были в ярости, когда в январе из соображений секретности газеты не дали отчета о разрушенных германскими обстрелами зданиях. Другие подлоги, как, к примеру, заявление «Le Matin» о том, что рядовые в окопах живут не дольше недели, принимались с такой неприязнью, что угрожали стабильности правительства. Было время, когда власти запретили астрологам и провидцам предсказывать плохие вести. Сатирическая бульварная газета «Le Canard enchaîné» появилась в 1916 году как реакция на прямолинейную государственную цензуру. Настроение на улицах отличалось резкими переходами от грусти к бесшабашному веселью; бульвары, кофейни и театры полнились военными в увольнении и женщинами, готовыми их развлечь, но дух отчаяния и чувство близости фронта довлели над толпой. 21 февраля 1916 года началась самая ожесточенная битва войны — Верденская операция. Она продлится до декабря того же года и унесет 400 000 жизней одних только французов. В тылу, в Париже, жизнь текла тихо и даже благополучно. Худые вести из-под Вердена замалчивались, так что вернувшиеся из окопов солдаты с неприятным удивлением видели, что столица живет как всегда — в ресторанах подают еду и выпивку, на улицах предлагают развлечения и секс. В 1915 году ненадолго, ради экономии масла, запретили печь круассаны, власти также просили граждан сократить потребление мяса, хотя бы до раза в неделю (но мало кто прислушался), — черный рынок и перекупщики процветали. Многие солдаты затаили злобу на столицу, но это не повлияло на их желание пользоваться парижскими удовольствиями. Война по-настоящему дала о себе знать зимой 1916/17 годов, в начале Верденской операции, когда поставки продовольствия стали крайне нерегулярными. Верден объявили великой победой, но пережившие битву знали правду об ужасах, грязи и горах бесчисленных трупов, заваливших территорию площадью около десяти квадратных километров. Та зима была непривычно холодна и ветрена, и, когда парижане и жители Франции в целом наконец ощутили тяжесть военного положения, новости о проигранных битвах добавили новую волну депрессии и страха. Слева и справа все громче раздавались пораженческие лозунги и требования мира. Пронзительнее других звучал голос издания «Bonnet Rouge», которое поначалу ратовало за войну, но, сориентировавшись, переметнулось к пацифистам. В 1917 году выяснилось, что газету финансируют прогерманские силы, которые и заставили ее призывать к разного рода мятежам на фронте. Скандал накалился донельзя, когда выяснилось, что радикально настроенный министр Луи Мальви оказался ключевой фигурой заговора, будучи связанным с германскими финансистами. Министра обвинили в измене, но, в отличие от его сообщников, не казнили. Политическая решимость воевать рушилась. Худшее, однако, было впереди. В начале 1918 года, когда Россия вышла из войны, армия Германии двинулась на Париж. Под руководством генерала Людендорфа немецкие войска прорвали британские оборонительные рубежи и стремительным маршем устремились на город. Париж постоянно бомбили аэропланы «Гота», а позднее начала обстрел гигантская пушка, которую прозвали «Большой Бертой». Теперь парижане без всякого предупреждения могли погибнуть в самом сердце города. На Страстную пятницу во время мессы снаряд «Большой Берты» специально направили на церковь Сен-Жерве. Семьдесят пять человек погибли от одного-единственного выстрела. Более сотни были ранены (стены церкви до сих пор хранят следы шрапнели). Впервые с 1914 года парижане начали подумывать о бегстве из столицы. Лишь твердая рука пережившего Коммуну и в возрасте семидесяти шести лет ставшего во главе Парижа Жоржа Клемансо успокоила все страхи. Поворотный момент в войне наступил только летом, когда наступление войск Людендорфа остановилось. При поддержке американцев, которым война была внове и не успела надоесть, и англичан, 8 августа прорвавших линию обороны германцев, французы смогли вырваться из ловушки, в которую были загнаны на два года, и под предводительством генерала Фоша развили стремительное контрнаступление. К концу октября германская армия потерпела полное поражение. Ровно в 11 часов 11 ноября 1918 года Первая мировая война закончилась.
В окружении «зоны»
Весть о прекращении огня парижане встретили с радостью и облегчением. Первая «тотальная война» XX столетия была губительна для Франции, однако худшего Парижу избежать удалось. Город устоял, разрушения от артобстрелов были незначительны, удалось избежать оккупации. Утро 11 ноября в Париже было сырым и холодным. Когда с церковных колоколен зазвучал набат во славу победы союзных войск, на улицы высыпали горожане всех сословий и солдаты самых разных национальностей. На улице де Риволи, площади Согласия и у здания Национального собрания собрались толпы, Клемансо произнес прочувствованную речь, славящую победителей и оплакивавшую погибших. Торжественные дневные речи сменились угаром ночного разгула и ликования. Эйфория продлилась недолго. Война искалечила миллионы жизней. Полтора миллиона французов погибли — таких военных потерь мировая история еще не знала. Вдовы и девушки надели траур — долгий и глубокий. Эпидемия испанки убила еще тысячи горожан, в том числе поэта Гийома Аполлинера, умершего в горячке всего за несколько дней до конца войны. Он умирал, а толпа патриотов под его окнами ревела: «Guillaume — à bas!», и в смертельном бреду ему казалось, что они требуют: «Долой Гийома!», хотя ревели они: «Долой Вильгельма!»[122]. Правительство Клемансо вполне оправданно опасалось возмущения возвращавшихся с передовой солдат и, помня о том, что случилось в прошлом году в России, не разоружало армию, внимательно следило за происходящим и держало город на военном положении еще двенадцать месяцев. Продукты первой необходимости продолжали выдаваться ограниченно, частенько столице не хватало горючего и еды. Жестокие условия капитуляции Германии 1919 года были отчасти нацелены на немедленное умиротворение настроений французского общества, хотя их выполнение никак не разрешало жестоких противоречий, раздиравших страну в только что прошедшей войне и вспыхнувших вновь в следующей. В Париже к Версальскому договору отнеслись со скептицизмом: в день подписания соглашений коммунисты, поддержанные всеми видными политическими фракциями левых диссидентов, к которым примкнули обиженные poilus[123] и парижане, устроили массовую демонстрацию. Многие левые считали, что война ознаменовала собой переход у новому периоду, который естественным путем перерастет в революцию. Войны имеют смысл, продолжали они, только в том случае, если считать их инструментом для расчистки дороги в будущее. Эти мысли понравились многим, в том числе Андре Бретону, Луи Арагону, Роберу Десно и прочим авангардистам, боровшимся в те годы с властями. Главной задачей муниципалитета было восстановление Парижа, чтобы укрепить уверенность горожан в себе и дать им надежду на лучшее будущее. Война стоила Франция более четверти финансового резерва, так что инвестиции в тяжелую промышленность стали невозможны. Париж не столько пострадал от военных действий, сколько пребывал в запустении и утратил сверкающий лоск «прекрасной эпохи». Власти вновь взялись за украшение города, что было дешевой и политически выгодной заменой долгосрочным инвестициям и подавлению инфляции. Основные работы шли вокруг старых оборонительных сооружений, окружавших город, доказавших свою ненужность в войне и с середины XIX столетия служивших приютом столичным маргиналам и бедноте. «Зона», как назывался пояс стен и бастионов, окружавших Париж, прочно вжилась в городской фольклор. Здесь, например, жили chiffoniers, бродячие тряпичники, упомянутые Бодлером и Вальтером Беньямином, которые взирали на жизнь города свысока (географически «свысока»: пролетарский Париж чаще всего описывается авторами от Золя до Селина взирающим на центр города с высот окраин). «Зоны» боялись еще оттого, что она была приютом легендарных и страшных апашей, хулиганья из рабочих, которые даже если и существовали в 1918 году, то, скорее, как жупел антипролетарской пропаганды буржуазного Парижа. Как бы то ни было, в 1919 году муниципалитет выпустил закон о выкупе земель у военных (которые формально владели «зоной») и передачи их городу для последующего развития. Многие zonards (обитатели «зоны») отказались переезжать в дешевое муниципальное жилье, построенное специально для них, в эти уродливые НВМ («Habitations а bon marché»). Они до последнего держались старых традиций и даже говорили на своем особенном языке. Только после завершения следующей войны власти смогут избавить земли «зоны» от ее коренных жителей и подготовить территории к прокладке «смертельно опасных» дорог и мостов boulevard périphérique, которые и сегодня опоясывают Париж. «Зона» тряпичников, поэтов и падших ангелов превратилась в пустыню, где шлюхи с мертвыми глазами поджидают своих клиентов на обочине.Глава тридцать седьмая Парижские крестьяне
Финал войны вызвал у французов смешанные чувства. С одной стороны, парижане были счастливы — Франция вернула себе земли Эльзаса и Лотарингии, словно унизительных уступок 1870 года и не было. Но к концу второго десятилетия XX века всем стало понятно, что победа далась страшной ценой. Война искалечила целое поколение. Настроения недовольства и злобы тех лет прекрасно выражены в фильме «Я обвиняю!» (1919) Абеля Ганса, в котором убитые на фронте солдаты воскресают, чтобы спросить, за что же они погибли. Художественное воздействие фильма усиливалось тем, что роли многих воскрешенных солдат сыграли настоящие ветераны войны. Но в реальности мертвых было не вернуть, тысячи парижанок превратились во вдов и старых дев, причем многим оставалось лишь смириться. «Пусть я буду все еще красива, когда мальчики вернутся домой», — вот самая популярная девичья молитва военного времени, адресованная святой Женевьеве; теперь возвращаться было некому, а тела и души вернувшихся были искалечены болью и пулями. Чтобы достичь предвоенного уровня жизни только в экономической сфере, Франции потребуется несколько десятков лет. В политике реальная власть принадлежала grande bourgeoisie — промышленникам и сливкам общества. Тех представителей власти, из числа столь часто сменявших друг друга группировок, что пытались провести более или менее реальные реформы, быстро одергивали инвесторы, немедленно выводившие свои капиталы из ценных государственных бумаг. Правые и левые с презрением отнеслись к программе 1924 года, названной «объединение Гоше». Выдвинувшая эту программу умеренная коалиция социалистов под предводительством Эдуара Эррио и Аристида Бриана предложила заняться неудавшимися проектами националистического блока правых, взыскать, например, репарации с Германии. «Объединение Гоше» кануло в лету в 1926 году под давлением бизнесменов и по причине безразличия левых фракций, традиционно предпочитавших революции реформам. Пост премьер-министра занял Раймон Пуанкаре, его поддержали умеренные и правые политические фракции. Он стремился преодолеть разногласия в правительстве, но единства достичь не удалось, и реальной власти он так и не получил. Так Франция скатывалась к депрессии и жестоким политическим раздорам 1930-х годов. Левые перессорились между собой из-за различия в отношении к Советскому Союзу. Умеренные левые и центристы придерживались позиции ослабленного «священного союза» всех политических партий, просуществовавшего всю Первую мировую, пережившего ссору с социалистами и даже революцию 1917 года в России. Неразбериха в политике открыла пути новым «бошененавистникам»-националистам и прочим радикалам с политическими амбициями, которых на дух не выносили либералы старой формации, подобные Клемансо. В результате обострились и в течение следующих десяти лет лишь усиливались споры в верхах: между контролировавшими правительство бизнесменами, власть имущими и изменчивой коалицией левой оппозиции, считавшей войну пирровой победой, единственным следствием которой должны стать долгожданные социальные реформы. Активисты двух партий частенько дрались даже на улицах Парижа 1930-х годов. Несмотря на многочисленные политические свары, отовсюду слышались разговоры о свободе действий. Казалось, война выпустила на свет все негативные эмоции, которые, разрядившись, открыли путь истинному прогрессу. Левые и правые фракции Парижа считали, что мировая столица западной цивилизации — Париж, сдержав орды «варваров с востока», может наконец использовать свой потенциал. Пресса наперебой твердила, что Париж станет воплощением столицы XX столетия и, как в прошлом веке, достигнет славы «королевы мира». Самой заметной переменой в повседневной жизни стало ускорение уличного движения: теперь горожан перевозили безлошадные экипажи, автобусы и метро. В соответствии с духом модерна парижские женщины начали требовать дополнительных свобод (хотя ни разу не требовали права голоса на выборах): они курили на публике, занимались спортом, открыто жили со своими любовниками или любовницами, надевали юбки до колен и выше, носили короткие прически. Архитектура тех лет отражает немного наивное поклонение геометрически правильным пропорциям, которые считались признаком современности (невероятно уродливый Музей человека в Трокадеро — прекрасный пример «неофашистской» эстетики). Но это были перемены, очевидные всем. В 1919 году будущее большинству парижан казалось крайне туманным. Новости из новой мировой столицы пролетариата Москвы провоцировали частые забастовки и волнения в Менильмонтане, Бельвиле и других рабочих пригородах, власть правительства в которых была крайне слабой. Париж выглядел запущенным обветшалым городом даже несмотря на то, что успел оправиться от войны. Рабочий класс и мелкие буржуа столицы жили в условиях немногим лучше тех, что существовали в 1850-х, а в ряде случаев, к примеру в Фобур Сен-Марсель, где промышленное загрязнение атмосферы стало источником заболевания населения, гораздо хуже. Пока политики всех толков спорили о миссии Франции в новом веке скоростей, в эру технического прогресса и цивилизации, беднота столицы страны умирала, как и прежде: неопознанными, неоплаканными, часто в страданиях и без надежды на переход в лучшую жизнь в этом или ином мире. Преданные лживыми политиками и лицемерными религиозными лидерами, горожане считали освещение церкви Сакре-Кер в 1919 году и канонизацию в 1920-м Жанны д’Арк двойным оскорблением.Революция умов
Другим следствием Первой мировой войны стали сомнения общества в самом понятии «цивилизация». И сомнения эти высказывали не только социально активные интеллектуалы. Прошедшие окопы передовой, видевшие своими глазами кровь и зверства войны ветераны не могли забыть, что все злодеяния вершились во имя высоких идеалов французской культуры. Во французской армии не существовало культа смерти, присущего германским войскам; французам чужд был мистический восторг германских офицеров, преклонявшихся перед разрушением и отождествлявших себя с тевтонскими рыцарями прошлого. Солдаты Франции возвращались домой далеко не патриотами, они ненавидели военное командование и власти, а доверяли лишь своим братьям-пролетариям. Французские левые часто враждовали между собой, но ненависть к «цивилизационным» ценностям объединяла их с рабочим классом и была настоящей опасностью. Поэтому труд немецкого философа Освальда Шпенглера «Закат Европы» (1918) — пространное произведение, полное разочарования западной цивилизацией, оплакивающее ее скорое падение под ударом орд с Востока, — стал любимой книгой всех разочарованных войной французов. Слово «цивилизация» со времен Просвещения служило стержнем и сутью веры парижан в себя и определяло качество французской жизни, суть которой — триединство: свобода, равенство и братство. Да, Великая французская революция действительно вершилась во имя всех этих ценностей. Война же безжалостно явила миру, что даже самые благородные идеалы человечества есть не более чем ложь. Капиталистическая «цивилизация» XIX века, великие проекты прогресса и совершенствования всех систем, истоком которых была республиканская вера в возможность построить лучшее общество, произвели на свет только более совершенные машины для убийства еще большего количества рабочего класса ради защиты собственных интересов. Подобная риторика была свойственна всем левым фракциям 1920-х годов. Ее вполне разделяли и группы представителей буржуазного авангарда, чье мнение было наиболее весомым среди парижских диссидентов послевоенного периода. Самым заметным явлением авангарда и инакомыслия стало движение дадаистов, основанное в 1916 году в Берлине и Цюрихе. В 1918-м их идеи были завезены в Париж. Дадаизм (название, возможно, происходит от французского слова «dada» — детская деревянная лошадка — и точной смысловой нагрузки не несет) зародился как отрицание всей системы моральных ценностей, на которой стоит западная мысль. Дадаисты выступали против рациональности, порядка, определенности и иерархии, проповедовали безграничный иррационализм, выступления против существующего уклада, а также анархию. Движение задумывалось не как новое течение в искусстве, но как политическое оружие, тщательно откалиброванное, заряженное и нацеленное в трепещущее сердце прогнившего, уничтожившего миллионы душ капиталистического мира. Когда румынский поэт Тристан Тзара завез дадаизм в Париж, в столице существовало целое поколение молодых людей, выросших на отрицании всего и вся и тем самым подготовленных принять «дада». «Манифест» дадаистов, опубликованный Тзара в третьем выпуске бюллетеня «дада», обращен напрямую ко всем, кто потерял веру в родину и цивилизацию.Я пишу этот манифест с целью показать, что можно предпринимать акции протеста и одновременно быть свободными; я против действий; если говорить о поддержке чего-либо или противлении всему, так я ни за, ни против и ничего не хочу объяснять, потому что я выражаю очевидное общее чувство… Сожалений нет. После резни нам осталась надежда на очищенное человечество… Пусть каждый осознает, что работа великого разрушения должна быть выполнена…
В кругу учеников Тзара были Луи Арагон, Андре Бретон и Филипп Супо — молодые интеллектуалы, ненавидевшие войну и принявшие решение посвятить свое литературное творчество борьбе с обществом, которое не щадит чужих жизней. Дадаисты (Тзара и его последователи) принимали участие в театрализованных представлениях, проводили публичные дебаты и активно публиковались. Супо, Бретон и Арагон основали журнал «Littérature», превратив его в трибуну поэзии отрицания (редакторская линия издания была ярко антилитературной, издание руководствовалось на саркастическом высказывании Верлена: «tout le reste est littérature» — «все прочее — литература»). Когда теория всеобщего отрицания дадаистов потеряла свою популярность, эстафету борьбы с обывательским обществом подхватило новое течение — сюрреализм, — основанное все теми же Бретоном, Супо и Арагоном, сохранившими верность деструктивной сути дадаизма и стремившимися к основанию общества нового типа. В 1917 году термин «сюрреализм» вошел в жизнь с легкой руки Гийома Аполлинера, обозначившего им свою «протодадаистскую» пьесу «Сосцы Тиресия», премьера которой в театре «Саль Мобель» на Монмартре прошла при переполненном зале. Под руководством Бретона сюрреалисты объявили, что стремятся создать новое общество, которое будет существовать по «младенческим» законам, руководствуясь инстинктами, а не требованиями, навязанными потребительской культурой. Следовательно, глобальной целью движения стала трансформация всего человечества, революция разума, которую поколением раньше поэт Артюр Рембо призывал среди развалин Коммуны. И нет ничего удивительного в том, что сюрреалисты считали Париж полем битвы за чистоту современного мышления, где они призваны сражаться с рациональностью «цивилизации машин» оружием мечты — стихами и пьесами. В небольшом, но полном сюрреалистических идей романе «Парижский крестьянин» Луи Арагон призывал сотворить современную мифологию мегаполиса, которая утвердит Париж как новую Утопию неограниченного субъективизма. Амбиции парижских сюрреалистов не знали предела, что было довольно типично для этого движения в целом. Как бы то ни было, Арагону удалось нарисовать живую и реальную картину Парижа начала XX столетия, места, где капитализм вставал на пути всех, кто посмел мечтать о свободе. Более того, возможно, Арагон лучше других сюрреалистов понимал, что определяющим жизнь Парижа фактором является человек. Сюрреалисты особенно любили обращаться к образам и объектам, которые либо только-только вышли из моды, либо начали терять свое оригинальное предназначение. Они постоянно навещали пассажи правобережья, которые превратились в лабиринт пыльных аркад и переходов со стеклянными крышами, стиснутый величественными османовскими бульварами, полный магазинчиков, торгующих всем подряд — от перьев для шляпок до манекенов. Пассажи и сегодня стоят в том же обличье: можно бродить по их переходам часами, даже не зная, где находишься, забывая что ищешь. Визуально передать повседневную жизнь города, превратить столицу в «магнитное поле», как сказали бы Андре Бретон и Филипп Супо, где современность истончается и магически преображается усилием ума индивидуума, — вот смысл движения сюрреалистов 1920-х годов.
Иностранцы
Одна из самых известных фотографий Андре Бретона, сделанная в 1920-х годах, изображает его стоящим в характерной пафосной позе на бульваре Монпарнас, напротив американского бара ресторана «Купол». Фотокарточка любопытна по ряду причин: например, несмотря на веру сюрреалистов в поэзию городских улиц, это одна из немногочисленных фотографий Бретона на открытом воздухе. В тот момент писатель пребывал на пике увлечения сюрреализмом, и политика и слава еще его не испортили. Снимок служит лишним подтверждением того, что центр парижских удовольствий и литературы переместился с Монмартра на Монпарнас. Интересно и то, что фотография ставит бок о бок два символа 1920-х: яркий новомодный bar américain и героя революционного авангарда. Несмотря на частые посещения этого заведения писателем, культурная пропасть между двумя идолами тех лет была непреодолима: Бретон был ярым противником вторжения американской культуры в Париж, a bar américain, напротив, привнес в столицу новые, раскованные и свободные формы поведения и развлечения (джаз, танцы, экзотические коктейли), которые в начале XX века считались чуждыми традиционным ценностям города. Французское общество придерживалось самого нелестного мнения об американцах, живших в Париже 1920-х. Первыми из граждан США попали во Францию солдаты, гостившие в столице в 1917 году. Обратно на родину они увезли рассказы о безграничном парижском гедонизме и жажду полной свободы личности, неизвестную на их строгой пуританской родине. Шлюхи Парижа стали у американских солдат притчей во языцех, известной всем и каждому от Нью-Йорка до отдаленной фермы на Среднем Западе. Афро-американцы не чувствовали во Франции каких-либо формальных или социальных ограничений, что в их глазах превращало США в несправедливую и жестокую страну. Решившие остаться в Париже чернокожие музыканты пользовались невероятной популярностью, привнося самобытность в традиционные музыкальные направления и развивая собственные, непривычные парижскому уху музыкальные стили. На этих исполнителей возник невероятный спрос в среде ценивших экзотику парижан всех сословий. В труппе «Revue Nègre» выступали оркестр Клода Хопкинса, звезда-саксофонист Сидни Беше, танцор Джо Алекс, певица и танцовщица Жозефина Бейкер со своим «danse sauvage»[124]. Жозефина дебютировала перед парижской публикой в 1925 году на Елисейских полях и, став в одночасье звездой сезона, собирала на свои выступления огромные толпы со всего города. И годы спустя кабаре Жозефины Бейкер на улице Фонтэн пользовалось неизменным успехом. На волне первого триумфа и «негрофилии» «le jazz nègre» («черный джаз»), как называли его горожане (лишь позднее возникло наименование «le jazz hot» — «горячий джаз»), завоевал Париж. Самыми популярными джазовыми заведениями были «Le Caveau de la Gaoté» («Погребок веселья») на монпарнасской улице Тэте и «Пигаль» и «Палас» на севере города. Импрессарио Юг Панасье в 1927 году представил публике Луи Армстронга и Бесси Смит, совершенно изумив слушателей. В 1928-м в Париж впервые приехали Дюк Эллингтон и Фэтс Уоллер. Музыкальная труппа «Черные птицы», образованная по подобию «Revue Nègre», выступала в битком набитых залах «Мулен Руж» (среди зрителей присутствовал писатель, философ и эротоман Жорж Батай, восхищавшийся примитивной сексуальностью представлений). Неудивительно, что увлечение культурой американских чернокожих совпало с авангардистской модой на «примитивное» искусство Черной Африки. Зачинщиками стали Пикассо и сюрреалисты, превозносившие африканский примитивизм за первобытный шарм (в 1927 году Филипп Супо опубликовал эссе «Le Nègre», а коллекция африканского искусства Андре Бретона была знаменита в самых широких кругах). Не чувствовавшие ни капли презрения к себе, афро-американцы наслаждались неслыханным дотоле вкусом свободы творчества и социального равенства. За несколько лет сложился лживый миф о том, что Париж — «город без расизма». Именно этот миф в 2004 году бесконечное количество раз оживал в речах на площади Бастилии во время празднования пятидесятилетия освобождения Парижа от нацистов. Мои соседи по улице Вертбуа не верили в этот миф — они, беженцы из Руанды и Конго, полгода подвергались нападениям белых подонков. В действительности жизнь примерно пяти тысяч чернокожих, в основном выходцев из африканских колоний, поселившихся в Париже в 1920-х, была невероятно тяжела. В большинстве своем это были молодые холостяки, бывшие солдаты французской армии, не имевшие семей или прочного места в обществе. Были среди них студенты и слуги, приехавшие во Францию с семьями из колоний. Большинство чернокожих служили на должностях разнорабочих, за мизерную плату трудились долгие часы на автомобильных заводах «Рено» и «Ситроен», на кондитерской фабрике «Амье» и прочих предприятиях столицы. Парижанки всех сословий слетались в кабаре на улице Бломе в XV округе, где собирались выходцы стран Карибского бассейна (между ними и африканцами присутствовал дух конкуренции, так как последних считали всего лишь лакеями из колоний). Жизнь же самих иностранцев в трущобах «зоны» была не так ярка: в работе с рассвета допоздна не было «экзотичной чувственности». За первыми переселенцами 1920-х в Париж потянулись представители высшего общества и богачи Америки. Они ехали сюда за благами, описанными поселенцами первой волны: за сексуальной раскрепощенностью и социальной свободой, которых недоставало США. В моду во французской столице, например, вошли лесбийские отношения (самым знаменитым баром, где встречались парочки нетрадиционной ориентации, стал «Монокль» на Монпарнасе). Бисексуальность и гомосексуализм во всех районах города считались нормой поведения. В конце 1920-х годов текущий в Париж ручеек иностранцев превратился в широкую реку: в столицу Франции ринулось целое поколение молодежи, искавшей в равной мере выпивки, культуры и секса. В то время как «сухой закон» в США стал невероятно жесток, Париж не только превратился в убежище для богемы и диссидентов, но и стал идеальным сочетанием коктейль-бара и борделя для состоятельных иностранцев. Самыми знаменитыми персонажами из волны мигрантов были Эрнест Хемингуэй, Фрэнсис Скотт Фитцджеральд, Джон Дос Пассос и Гертруда Стайн, чья квартира на улице Флери служила своего рода американским литературным представительством. Однако настоящим центром американских литераторов в Париже стал магазин «Шекспир и К°» на улице Одеон. Управляла им уважаемая Адриенн Монье, не боявшаяся финансировать и популяризировать труды Джеймса Джойса, в то время как власти англоязычного мира осудили его как непристойного и вульгарного писателя. С точки зрения литераторов-мигрантов, Париж 1920-х годов был храмом модерна. Центром же изобразительного искусства, литературы, секса и пьянства служил Монпарнас. Никто не может объяснить, почему авангардисты покинули бурлящий Монмартр. Не проливает свет на причину этого и множество теорий, как, например, идея миграционных течений (Монмартр якобы заполонили выходцы из Восточной Европы, даже Ленин и Троцкий побывали здесь), теория изменения вкусов в еде, напитках и манере поведения (по сей день самые большие и изысканные бары Парижа расположены на Монпарнасе, например «Купол» или «Элегант»). Возможно, главной причиной перемещения культурного центра стало то, что Монпарнас больше соответствовал характеру мегаполиса XX века: здесь не было провинциальной «деревенщины», мещанского ханжества и тоски по прошлому, как на Монмартре. И сегодня Монпарнас — это набор острых углов и прямых перспектив, сугубо городская культура. Американская диаспора слабо влияла на общественную жизнь Парижа, горожане тех лет почти не замечали ее присутствия. Мало кто из американцев свободно говорил на французском языке, их связь с культурой города ограничивалась контактами с официантами, проститутками и сутенерами, хотя состоятельные мигранты старались изменить эту ситуацию и внедриться в аристократические слои парижского общества. По всем признакам американское сообщество было колонией, в отличие от французов — колонией без империи. Среди немногих американцев, старавшихся вникнуть в политическую и интеллектуальную жизнь Парижа тех лет, был молодой писатель Пол Боулз, только начинавший свою карьеру, которая позднее поведет его по миру в погоне за острыми ощущениями. Молодой автор, еще не определившийся со своей сексуальной ориентацией, был введен в кружок Гертруды Стайн, однако истинной его страстью был сюрреализм: он старался найти связи с этим течением и даже опубликовал несколько стихотворений в сюрреалистическом журнале «Transitions». Боулзу удалось взять интервью у самого Тзара, он не уставал восхищаться коллекцией африканских масок лидера дадаистов. Однако первый из сюрреалистов больше походил «на врача, чем на поэта». Если Боулз и был разочарован, то всего чуть-чуть, эта встреча стала отправной точкой путешествия автора в неизведанные и опасные земли Северной Африки, подальше от серой пустыни интеллектуального Парижа.Глава тридцать восьмая И пала тьма
Неистовый разгул гедонизма, характерный для 1920-х, длился недолго и являлся привилегией небольшого числа избранных, среди которых было мало не только коренных парижан, но и французов. За сияющими хромированными стойками модных brasseries Монпарнаса, танцами обнаженных красоток, пьянством художников и упоением вседозволенностью таился страх, который доминировал в послевоенных настроениях парижан. Главным мотивом служил ужас (и вполне оправданный, следует заметить) перед возможностью новой войны. Помимо этой, существовали другие реальные опасности, угрожавшие благополучию пролетариата и буржуазии Парижа. Сильнее прочих проблем парижан беспокоило изменение состава населения столицы, усиливавшееся с начала столетия. В конце 1920-х — начале 1930-х годов незаметно для постороннего глаза Париж заполонили представители самых разных национальностей, на его улицах звучало множество языков. В начале столетия по сравнению с Лондоном и Нью-Йорком население Парижа было однородным и небольшим. Сократившееся в войну число горожан следовало как-то восполнять, а наиболее дешевым и легким способом было привлечение иммигрантов. Массовый приток чужаков будто взорвал Францию. В 1921 году иностранцы составляли 5 % от населения Парижа. К 1930 году их число удвоилось. Уровень преступности за тот же период взлетел до небес, и, согласно отчетам полиции, четверть всех преступлений совершили иностранцы. Парижский пролетариат, в чью жизнь вторгались как левое, так и правое крыло политического бомонда, чувствовал нависшую угрозу. Отчасти это была подсознательная и неоправданная реакция на усиление культурной разнородности столицы, но иногда ею управляли политические активисты, которые, эксплуатируя идею спасения французской нации, стремились укрепить собственные позиции. Подъем фашизма в Италии и волнения по всей Европе никак не развеяли страхов горожан перед неотвратимо надвигавшимся столкновением интересов правительства страны и различных политических сил и течений. «Отбросы мира съезжаются во Францию и собираются захватить Париж» — вот общепринятое мнение улиц и прессы тех лет. В те годы популярным «газетным» термином стало слово «métèque». Этот неологизм произошел от древнегреческого слова «метек», как в древних Афинах называли иноземных поселенцев. В разгар разбирательства дела Дрейфуса в 1890-х годах это слово вспомнил правый политик Шарль Моррас, и французы быстро приспособили его к обозначению иностранцев в целом. Этот термин был унизительным, если не расистским, для всех чужаков. Когда после краха Уолл-стрит в 1929 году экономический кризис докатился до Франции, и правые и левые политики все чаще указывали на métèques как на источник всех проблем страны. По стране и в ее столице расизм был обычным делом: на итальянцев нападали в Лионе, марокканцев убивали в Марселе. В барах, кафе и кинотеатрах Сен-Дени, оплоте коммунистического движения, когда правительство в начале 1931 года объявило, что иностранные рабочие облагаются более высокими налогами, чем французы, высказывали громкое одобрение. Лозунг «Франция для французов!» стал традиционным кличем левых, хотя непоколебимый в своих убеждениях коммунистический лидер Морис Торез позднее объяснял, что речь шла лишь о намерении избавить страну от шпионов и агентов других стран. Первой крупнейшей группой переселенцев в Париж в те годы стали бежавшие от режима Муссолини итальянцы (после похода дуче в 1922 году на Рим поток иммигрантов резко вырос). Остальные итальянцы называли новых иммигрантов «fuorisciti» (буквально «те, кто извне»), а последние даже гордились этим именем. Но многие приезжали из Италии просто в поисках лучшей жизни, не имея никаких политических взглядов. Все они селились в северо-восточных районах города, где встречали русских, поляков, армян (большинство которых осели в столице, бежав от турецкой резни) и евреев из многих стран. Работы было мало, денег не хватало, но Париж все равно оставался убежищем и давал надежду на лучшую участь. Итальянцев никто не желал видеть, как, собственно, и остальных эмигрантов, но эти, по крайней мере, были «латинянами» — говорили на родственном романском языке и считались частью большого мира, раскинувшегося от Лигурии до Румынии, а следовательно, имели представление о цивилизации. Самой крупной и политически противоречивой группой эмигрантов, осевших в Париже в 1920-х годах, были североафриканцы. Особенно тяжелой была жизнь алжирцев, которые, по сути, являлись французскими подданными, но из-за расовых отличий, другого языка или религиозной принадлежности с ними обращались как с métèques. Алжирцев, как и выходцев из Южной Италии, считали в большинстве своем преступниками, а разница между ними, по мнению общества, состояла в том, что итальянцы совершают насилие из нужды в деньгах, а алжирцы раздражительны, коварны и жестоки по природе. Были среди североафриканцев и харизматические лидеры, например Хадж Абдель Кадер, который ранее был коммунистом и основал движение «Étoile Nord-Africain» («Звезда Северной Африки») — националистическое движение, защищавшее права алжирских рабочих. Антагонизм с североафриканцами ужесточился во время войны в Риффе в 1925–1927 годах. Это было восстание против французского правления в Марокко, возглавил которое эмир Абдель-Керим, ставший благодаря своей смелости героем для всех живущих в метрополии выходцев из Северной Африки. Восстание было подавлено с помощью французских военно-воздушных сил, столкновения отличались крайней жестокостью. Громче других существовавшим порядком возмущались левые, в частности — сюрреалисты, утверждавшие, что одна цивилизация не может стоять выше другой. И неслучайно, что в год подавления восстания Абдель-Керима на окраине Ботанических садов была построена Большая мечеть Парижа. Это религиозное сооружение создано в прекрасных традициях испано-мавританского стиля, а его уютный сад — одно из лучших в Париже мест, чтобы в солнечный день выпить послеобеденного чая. (Консервативные мусульмане XXI столетия относятся к этому сооружению с презрением, считают его воплощением гротескного колониального пафоса и предательством свобод, которых они еще не добились.)Новый Сион
В начале 1930-х годов большинство парижан не поддерживали знакомства с евреями, и естественно, что евреи образовали собственный замкнутый анклав, а некоторые постарались ассимилироваться. Зато почти каждый в Париже имел собственное мнение по так называемому «еврейскому вопросу» и мог дать множество рекомендаций, как следует его решать. Большинство правых политиков были откровенными антисемитами и с 1890-х годов (после скандала из-за дела Дрейфуса) даже носили антисемитские значки как признак патриотизма. Изданием, на страницах которого развернулись основные споры по еврейскому вопросу, стала «La Libre Parole», некогда подогревавшая страсти вокруг процесса Дрейфуса, а к 1930 году превратившаяся в газету для католиков. В издании газеты участвовал Жорж Бернанос, бывший активист «Action Française»[125] Шарля Moppaca и яркий деятель правого политического крыла. Правые, как в дикое Средневековье, нападали на евреев. Разделяемый далеко не всеми французами антисемитизм тем не менее понятен был всей стране, ведь существовал издавна, как и сам Париж, и проявился еще в погромах при Филиппе-Августе. Самым тревожным, однако, было то, что сильно беспокоило сторонников левых революционеров и авангардистов (эти сообщества к 1930 году более или менее оформились и вошли в силу), — рост ненависти к евреям среди рабочего класса и левых политиков, объединенные силы которых в глазах радикалов-мыслителей формировали парижскую действительность. В 1920 году одновременно с эпидемией холеры в Бельвиль прибыла новая волна евреев-переселенцев. Коммунистическая газета «L’Humanité» и социалистическая «L’Oeuvre» сразу же откликнулись, повторив расхожее мнение парижских рабочих кварталов: евреи, мол, несут Парижу болезни и смерть. Когда их не выставляли разносчиками заразы, то считали жадными зажравшимися капиталистами, чья единственная цель — подчинить себе и эксплуатировать урожденных парижан. Подобные настроения в начале 1930-х не казались чем-то из ряда вон выходящим. Ненависть к иностранцам была не просто распространенной, она почиталась за добродетель, а евреев ненавидели не сильнее других наций, съехавшихся в Париж. Писатель и дипломат Поль Моран, чей антисемитизм укрепился во время долгого проживания в Румынии, не менее рьяно возражал и против пребывания в столице Франции кубинцев и бразильцев. Многие из весьма уважаемых писателей, в том числе Андре Жид, Ромен Роллан и Франсуа Мориак, были неприкрытыми антисемитами. Подобные предубеждения считались, как сказал некий современник, вполне «невинными». Все переменилось в 1933 году, когда Германия отдалась в руки нацистской партии. К концу того года более 20 000 немцев бежали во Францию. А к концу десятилетия больше 55 000 беженцев из Германии прошли через Францию или осели в ней. Многие из них были евреями, и термин «беженец» быстро превратился в синоним слова «еврей». Сменявшие друг друга правительства Третьей республики слабели под напором требований защитить парижского рабочего и буржуа от наплыва иностранцев. «Париж стал новым Сионом, — писал Моран. — Сначала приехал один, после десяток, сотня, пятьдесят тысяч». Слово «вторжение» звучало даже в кругах самых умеренных парижан. Народ опасался союза новых переселенцев с рожденными во Франции «оседлыми евреями» и заговора против своей родины. Однажды у Восточного вокзала разъяренная толпа набросилась на двух евреев, говоривших между собой на идиш, решив из-за немецкого звучания языка, что те сочувствуют политике Гитлера. Еще двоих чуть не до смерти забили в Бельвиле рабочие, которым почудилось, что евреи выкрикивают на иностранном языке: «Да здравствует Гитлер! Да здравствует Германия!» Когда знаменитый ныне писатель Луи Фердинанд Селин в 1938 году выпустил длинную, талантливо написанную и насквозь пропитанную злобой диатрибу «Bagatelles pour un massacre» («Безделицы для погрома»), все посчитали ее гениальной, а не умышленно провокационной. Слова диатрибы изливаются стремительным потоком злобы, сарказма и яда, адресованного англосаксам и продавшимся губителям-евреям. Памфлет выплескивает яростную ненависть к евреям и поддерживает нацизм. Даже через семьдесят лет после написания селиновская речь производит сильное впечатление и вызывает отвращение читателя наших дней. Современники этого труда считали его отражением общего настроения и проницательности писателя. «Война и так принесла море буржуазного дерьма, — писал Селин, — но теперь нужна война против евреев… полунегров, полуазиатов, полукровок, дворняг человечества, чьим единственным желанием является уничтожение Франции».Бунты и заговоры
Вряд ли какие-либовласти смогли бы контролировать подобные настроения в обществе, и потому в феврале 1934 года никто не удивился тому, что ненависть выплеснулась на улицы столицы в таких масштабах, с которыми могут сравниться лишь уличные бои 1871 года. Волнения развернулись на фоне нараставшего разочарования только что образованным правительством Камилла Шотана, оказавшегося на краю пропасти после скандала со Стависким[126]. В период 1932–1933 годов в стране сменились пять правительств, однако заседавшие в них чиновники оставались такими же, как публика, которой они были избраны служить, во всяком случае, были так же циничны. Сам Серж Ставиский был не столько политиком, сколько финансистом; о его национальности доподлинно не известно. Кто-то его считал югославом, кто-то — поляком, румыном и, конечно, многие — евреем. В действительности он был сыном украинского дантиста еврейского происхождения. Ходили слухи о его тесных отношениях со многими крупными игроками на рынке недвижимости, а также политики и права, что, однако, в 1933 году не спасло Сержа от следствия и обвинений в коррупции. Слухи и домыслы оказались правдой, но полицейское расследование погрязло в непрофессионализме, пресса твердила, что силы правопорядка сами увязли в паутине зла, раскинутой шикующим Стависким, который не только «метек», но еще и масон. Правительство Шотана пало в конце января 1934 года, просуществовав чуть более двух месяцев, и сменилось коалицией, во главе которой встал Эдуар Даладье, стремившийся к республиканскому единению. Однако парижская публика к тому моменту на дух не переносила никаких пертурбаций во власти. Почва для столкновения правых и левых была подготовлена даже несмотря на то, что оба политических крыла считали, что Франции необходима сильная рука, которая отвела бы угрозу войны с Германией и катастрофы. Память об ошибке, которая привела к кровопролитию Первой мировой, еще не стерлась из народной памяти. Движение правого крыла возглавила коалиция «Лига», которой не была свойственна риторика фашизма Муссолини, она также не имела ничего общего с революционной идеологией нацистской партии Берлина. Отчасти эта «Лига» напоминала Католическую лигу, которая некогда мутила воду, втягивая людей в религиозные конфликты. В рядах «Лиги» состояли «Camelots du Roi» («Королевские молодчики»), ярые католики, роялисты и драчуны. Они были связаны с «Аксьон Франсез», боровшимися с большевиками «Jeunesse Patriotes» («Молодыми патриотами») и «Solidarité Française» («Французской солидарностью»), возглавляемой знаменитым парфюмером Франсуа Коти организацией, боевики которой маршировали по городу одетыми в неофашистские костюмы: голубые рубашки и черные кепи, походившие на форму боевиков Муссолини. Но самой популярной из всех была группировка «Croix de Feu» («Огненный крест»), состоявшая из ветеранов войны под командованием полковника Казимира де ла Рока, именем простого солдата поклявшегося вычистить коррупцию из сердца французской республики. Именно де ла Рок занялся организацией взаимодействия всех группировок на марше перед зданием Национального собрания 6 февраля, во время которого протестующие осудили слабость и нестабильность властей, погрязших в коррупции и оскандалившихся в деле Ставиского. Сам аферист к тому времени покончил жизнь самоубийством или был убит — точно никто не знал, но память о нем продолжала будоражить людские умы. Весь январь между членами «Лиги» и полицией шли короткие перестрелки и рукопашные схватки, однако силы правопорядка особенно не давили на группировки, так как разделяли их взгляды (префект Парижа Жан Кьяп был известным пособником Ставиского, что приводило в ярость всех левых). Из-за нестыковок в расписании отправки поездов на Северном вокзале случился бунт, а пресса повсюду искала повод для драки и пестрела такими заголовками, как, например, «Долой режим!» или «Пришло время чисток!». И все равно, когда 6 февраля ветераны, а затем и остальные члены «Лиги» заполнили площадь Согласия, настрой толпы был относительно спокойным. Около двух часов толпа молча стояла перед цепью вооруженных гвардейцев, отделявших ее от властей. Еще за несколько дней до демонстрации пресса начала громко кричать о том, что власти планируют жестоко подавить выступление, пугала читателей танками, пулеметами и батальонами чернокожих солдат, которых бросят против французов. Так как ничего подобного не произошло, пришлось стращать народ другим. Насилие произошло, оно воплотилось в столкновениях самых безумных членов «Лиги» с несколькими фракциями левых партий, которые выступали против «фашистов», подозревая их в подготовке государственного переворота. Полиция утратила всякий контроль над ситуацией: киоски и автобусы переворачивали, фонари превращали в оружие, брусчатку вырывали и метали в противников — все во имя человеческого достоинства. Когда голоса, распевавшие «Марсельезу», заглушили звуки «Интернационала», на секунду показалось, что левые бунтовщики вот-вот начнут революционное восстание. Сегодня мы знаем, что до крайностей не дошло. Правительство Даладье ушло в отставку на следующий день, но, несмотря на шедшие по всему городу демонстрации левых и выступления их противников правых, население в большинстве своем радикальных перемен не требовало. Из 400 000 демонстрантов в новое правительство вошли 16 человек. Буржуазный Париж волновался: классовую вражду, не утихавшую со времен Коммуны, игнорировать далее не было возможности.Великая иллюзия
Париж все более погружался в затяжной политический кризис, в котором увязли все властные структуры. Сразу после февральских волнений левые в ужасе ждали переворота, который, по их мнению, в любой момент мог устроить де ла Рок и его собратья по «Лиге». В ответ на это коммунистическая партия призвала единомышленников объединиться перед лицом новой опасности. Удивительно, но целый ряд левых партий сумел образовать союз и даже провести забастовку. В июле лидер социалистов Леон Блюм и председатель коммунистической партии Морис Торез подписали соглашение, объединившее две партии единой политической программой. Вместе обе фракции представляли около полумиллиона граждан и собрали своих сторонников на площади Бастилии 14 июля 1935 года, чтобы выразить протест молодчикам «Огненного креста», маршировавшим неподалеку, на Елисейских полях. Под знаменами Народного фронта социалисты и коммунисты возглавили движение под лозунгом «Мир, хлеб, свобода». По городу ходили слухи о гражданской войне, а когда над толпами взвилось красное знамя, добавились толки о близкой революции — на сей раз точно неотвратимой. Поворотным для страны моментом стала победа Народного фронта на майских выборах 1936 года. Это был бескровный переворот, значение которого парижане осознали не сразу. Крики «Vive le Front Populaire!» («Да здравствует Народный фронт!») быстро сменили лозунги «Vive la Commune!» («Да здравствует Коммуна!»), а у Стены коммунаров собрались около 400 000 парижан, считавших коммунаров настоящими героями. Ситуация в стране переменилась практически за одну ночь. Впервые в истории Европы была были законодательно закреплены сорокачасовая рабочая неделя и оплачиваемый отпуск. Наконец-то рабочие почувствовали, что власть находится в их собственных руках. Беда заключалась в том, что они не понимали, чем именно обладают. Единственным инструментом, которым пролетариат пользовался умело и с удовольствием, были стачки. Всего через несколько недель после победы Народного фронта по стране прокатилась волна забастовок, остановившая ряд важных военных и гражданских заводов и угрожавшая причинить экономике больше вреда, чем смог бы сделать своими распоряжениями любой бездарный министр. Стачки проходили часто в обстановке пролетарского праздника и пьянства и не прекратились, даже когда правительство согласилось выполнить отдельные требования бастующих, а Морис Торез попросил своих приверженцев прекратить саботаж. Однако эти беспорядки были вполне безобидными — рабочие на демонстрациях вместо «Интернационала» пели популярные песенки, например «Auprès de ma blonde» («Рядом с моей блондиночкой»), — забастовки были, скорее, новым видом развлечений. В памяти горожан времена Народного фронта связаны с велосипедными прогулками за город, поездками на побережье, огромными толпами болельщиков на футбольных матчах, воскресными пикниками, флиртом, а также — с чувством гордости за свое рабочее происхождение. В магазинах появились новые продукты, к примеру, масло для загара «l'Огёаl» или апельсиновая газировка «Orangina»: товары, ранее доступные только состоятельным французам, стали предметами массового спроса. Париж считали таким же пролетарским городом, как Москва. Конечно, это была лишь иллюзия. Прошло совсем немного времени, и инфляция поползла вверх, заработки — вниз, а требования пролетариата обернулись против него самого. Правая пресса, всегда готовая бить в набат из-за «красного террора» в Париже, начала публиковать карикатуры на рабочих, где они насилуют богатых старушек, пользуясь своими «правами». Страх вновь стал лейтмотивом повседневной жизни города. Когда Франко осадил Мадрид, по Парижу поползли слухи о том, что де ла Рок также готовит захват города. Антисемиты, травившие Ставиского, теперь набросились на открыто поддержавшего Дрейфуса Блюма, к тому же еврея, и обвинили его в том, что он вместе с тайными сообщниками, «смертельно опасными» англичанами, якобы планировал погубить Францию. Бульварная пресса публиковала невероятные слухи, которые никто не опровергал из страха оказаться жертвой нападок. Газеты выступали с самыми дикими предсказаниями ужасного будущего, в котором так или иначе Франции предстояло погибнуть навсегда. Между тем парижанам хотелось жить и радоваться жизни. Несмотря на рост безработицы и снижение уровня заработной платы, бары, кабаре и рестораны были полны народа. В те же годы стало модным ходить в кино, не только из-за развития французского и американского кинематографа, но также из-за того, сумрак новых элегантных кинотеатров на бульварах скрывал эротические удовольствия, как вполне допустимые, так и предосудительные. Парижане желали веселиться и щекотать нервы, так что творения Голливуда, от Фреда Астера до Диснея и братьев Маркс, всегда пользовались успехом. А затем и французские фильмы, такие как «Пепе ле Моко» Жюльена Дювивьера или «Отель дю Нор» и «Набережная туманов» Марселя Карне, составили достойную конкуренцию голливудской продукции как популярностью, так и содержательностью. Характерной чертой французского кино было сентиментальное отношение к Парижу, городу, который, как думали горожане, ускользает от них, уходит в прошлое. Слезы умиления вызывала песня «Где они?» — гимн старому Парижу от всего сердца пела Фреель для парижского гангстера Пепе, бежавшего в Алжир и тоскующего по дому (этого героя сыграл Жан Габен). Зрители смеялись до колик, узнавая себя в образе героини Арлетти из фильма «Отель дю Нор», вышедшей из рабочей среды парижанки (нечто среднее между молодой Барбарой Виндзор и Твигги). Арлетти с возмущением отвергает предложение своего любовника переехать за город ради «атмосферы», произнося знаменитую фразу, ставшую частью парижского фольклора: «Атмосфера? Атмосфера? Слушай, дружок, я что, похожа на девочку, которую интересует атмосфера?» Больше других спорили о шедевре Жана Ренуара «Великая иллюзия», антивоенной притче, претерпевшей от цензуры. Фильм шел при полных залах, расчувствовавшиеся зрители хором подпевали во время эпизода, когда заключенные исполняют «Марсельезу». Прискорбно только, что многие, подпевая, отдавали фашистский салют.«Поднимающаяся волна убийств»
Однако даже самые патриотично настроенные парижане заявляли, что разочаровались в политиках и государстве, что с радостью примут Гитлера, как горькое, но необходимое лекарство от болезней общества. Так же думал и Селин, который в «Bagatelles» и других памфлетах высказывал общепринятое мнение, что полная катастрофа лучше нынешнего унижения. Были и другие, более изощренные и образованные интеллектуалы, чем Селин (например, влиятельные писатели и критики Робер Бразийяк и Люсьен Ребате), которые по своим причинам поддерживали идеи нацизма — из эстетических симпатий, ненависти к состоятельным буржуа, антисемитизма или простого стремления следовать за сильным лидером. Странным образом французский перевод «Mein Kampf», имевший хождение в Париже, опускал те сентенции Гитлера, где автор утверждал, что Франция является историческим врагом Германии, как географически, так и по сути своей. Результатом слепоты интеллектуалов стало крайнее ожесточение борьбы между правыми и левыми, и без того усиленной гражданской войной в Испании 1936 года: в конце концов все отношения между политическими противниками были прекращены, а сами они называли себя революционерами. Среди тех левых, которые пытались изнутри постичь природу фащизма, был писатель и критик Жорж Батай, оказавший значительное влияние на поколение Мишеля Фуко и ставший связующим звеном между модернистским авангардом начала XX века и меланхолическим скептицизмом эры постмодернизма. В те годы Батай служил скромным архивистом, но приобрел известность сначала как автор рассказа «История глаза», порнографической истории о подростковом петтинге и убийстве, — а затем благодаря общественным диспутам с сюрреалистами и самим Андре Бретоном (назвавшим Батая «сексуальным извращенцем»). В 1935 году Батай начал работу над романом «Голубой небосвод». Главный персонаж книги — разочарованный левый по имени Тропман (имя позаимствовано у убийцы XIX столетия, которым крайне интересовался Рембо). Герой большую часть времени проводит за выпивкой или в похмелье, посреди являющейся ему сквозь пелену пьяного угара умирающей Европы. Он путешествует из Лондона в Париж, из Парижа в Барселону и наконец на родину Маркса в Трир, где на кладбище в суицидальном некрофилическом бреду занимается сексом со своей любовницей Дороти по кличке Грязнуха, которая притворяется мертвой, в то время как мимо проходят нацистские молодчики. Этот роман по сей день остается достойным прочтения откровенным рассказом о Европе, стремящейся уничтожить саму себя. Батай весьма выразительно описывает опасную, нестабильную атмосферу Парижа, где революционно настроенные левые ссорятся между собой, обнаруживая полную беспомощность перед силами, ведущими цивилизацию к разрушению. Пьяный Тропман слоняется по столице, куда его только не заносит: от самых модных баров Монпарнаса, где его тошнит от бормотанья интеллектуалов, сливающегося в нестройный гул, и до грязнейших борделей, где среди шлюх он ищет смерти в бесчисленных стаканах виски. Батай утверждал, что фашизм является скорее религиозной, нежели политической проблемой. Эта мысль вдохновила его основать в 1935 году совместно с другом и художником Андре Массо журнал и тайную организацию «Асефаль», задачей которой было создание и изучение общества, в котором религия и ритуалы веры подменены культом вождя. Однако Батай не открыл никому истинного плана: высшей ступенью посвящения должно было стать убийство, и убийство настоящее, — человеческое жертвоприношение. Избранному всеми члену «Асефаль» предстояло принять смерть от Батая во время специального общего ритуала. Это преступление было призвано объединить членов сообщества обетом молчания и общей скорбью, которые, как считал Батай (основываясь на «Золотой ветви» Дж. Фрэзера — модном тогда среди политиков-интеллектуалов чтении), лежат в основе всякой религии, в том числе и фашизма. Никакого убийства не произошло. Когда уже в 1950-х годах Батай был редактором влиятельного журнала «Critique» и пользовался авторитетом в интеллектуальных кругах Парижа, он объяснял свою попытку основать новую религию. Только так, утверждал он, можно было постичь психологию фашизма, погрузившись в реальное переживание священного террора, а не с помощью псевдонаучных теорий, основанных на философских спекуляциях. Неудивительно, что в свое время и Батай, и Жан Поль Сартр, и другие посещали лекции о Гегеле, которые читал русский иммигрант Александр Кожев. Вниманию слушателей предлагалась необычная трактовка идей немецкого философа (ее часто называют «террористическим» восприятием Гегеля), принимающая насилие и разрушение как необходимые и жизненно важные условия исторической диалектики. Согласно такому подходу, марксизм и нацизм имели одинаковые этические ценности. Опасные игры Батая с «Асефалем» были попыткой испытать настоящее, живое переживание, созвучное с идеями «террористического» восприятия Гегеля. Позднее сам идеолог «Асефаля» назвал историю с тайным обществом «безумием». Но в контексте конца 1930-х годов, когда Европа вновь стремительно катилась в бездну катастрофы, идеи Батая в сравнении с так называемым рациональным подходом политиков, генералов и финансистов, ответственных за «поднимающуюся волну убийств, охватывающую всю Европу», не казались такими уж сумасшедшими. Конец десятилетия не принес Батаю, как и многим парижанам, ничего, кроме разочарования в политике, отвращения к общественной жизни и коллективному труду. Вместо этого он обратился в себя, принялся практиковать йогу, медитацию и созерцание «мира в огне». Образы, которые носились в его голове, были настоящим пророчеством, что вскоре и будет доказано.ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ СТОЛИЦА ПРЕДАТЕЛЬСТВА 1940–1944 гг.
Париж прекраснее всего, когда его покидаешь. Робер Бразийяк (1945)Глава тридцать девятая Ночь и туман
Простым парижанам было все равно, что происходит в интеллектуальной среде левобережья. Война же и оккупация напрямую затронули жизнь обывателей. К концу десятилетия, когда военная угроза придвинулась вплотную, парижане испытывали не только чувство страха, но и ощущение нереальности происходящего. С середины 1930-х годов и далее мысль о неотвратимости открытого конфликта с Германией проникла во все слои общества. Неизвестно было только одно: когда начнется война и как она повлияет на общество. В 1938 году, когда германские войска вошли в Австрию, недовольство французов собственным правительством достигло пика. Практически развалившийся Народный фронт оказался бессильным в мире реальной политики. Ни один член французского кабинета министров не был ни достаточно хитер, ни умен, ни опытен для оказания сколько-либо серьезного сопротивления Германии, в то время как население изо всех сил противилось грядущей войне. Даладье, который в сентябре вновь возглавил правительство, подписал в Мюнхене соглашение с Германией, в котором отказался от права Франции вмешиваться в агрессивную политику немцев. У Мюнхенского соглашения были свои сторонники, хотя большинство парижан считало его крайне унизительным. Подписанный документ приблизил войну настолько, что дороги мгновенно заполнились автомобилями и фургонами бежавших из столицы мирных граждан. Год 1939-й был полон неестественной напряженности. Вследствие правления пролетариата, начавшегося с приходом к власти Народного фронта, интерес инвесторов к Франции резко снизился: франк стремительно обесценивался, инфляция росла. Муссолини и Гитлер тем временем захватывали огромные территории Европы. Парижская пресса либо замалчивала случаи агрессии Германии и Италии, либо кричала о англо-американских и еврейских заговорах, либо старалась заговорить зубы волнующейся публике. Никто не посмел напомнить о том, что именно Франция несет ответственность за реваншистские устремления Германии и попытки освободиться от гнета Версальского договора 1919 года. Позор: не прозвучало ни единого выстрела, а власти и интеллектуальная элита страны — Пьер Дриэ ля Рошель, Робер Бразийяк, Абель Боннар — вовсю пособничали Германии. А обыватели — завсегдатаи кинотеатров — привыкли к «патриотической» пропагандистской трескотне и к мрачным выпускам новостей о распродажах оружия, и это за два года до того, как коллаборационистское правительство Виши начало систематическое уничтожение всего, за что с 1789 года боролись левые политики Парижа. Даже празднование 150-летнего юбилея Великой французской революции в 1939 году для большинства парижан прошло незаметно. Немецкие уличные указатели в Париже. 1942 г.
Немецкие уличные указатели в Париже. 1942 г.
Летом 1939 года пресса уделила огромное внимание суду над Эженом Вейдманом, немецким аферистом и убийцей, назвав слушанья свидетельством развала Европы. Преступления Вейдмана особым размахом не отличались: он грабил посетителей парижской выставки 1937 года, зарезал американца, эльзасца, земляка-немца и некоторых других. Он не скопил своими преступлениями богатства, но заворожил публику, особенно женщин, хладнокровием и повадками хищника. Дамам было запрещено появляться на слушаньях в коротких юбках, но сотни вызывающе одетых женщин пришли поглазеть на гильотинирование Эжена — последнего публично казненного преступника Франции. Общество разделилось: одни считали, что войну можно предотвратить, пусть даже ценой унизительного Мюнхенского соглашения, другие, точнее большинство, были уверены, что она неотвратима. Объединяло две эти группы одно: войны не хотел никто. Больше всех сложившейся ситуацией были обеспокоены высокопоставленные военные командиры, они-то прекрасно знали, что, несмотря на протяженность линии Мажино, пролегавшей вдоль восточного оборонительного рубежа страны, войска в массе своей не имеют ни желания, ни возможности сдержать непобедимую военную машину нацистов.
Великий страх
Август 1939 года выдался особенно мрачным: весь месяц небо над Парижем было затянуто тучами, а люди напряжены до крайности. Как обычно, те, кто мог себе это позволить, уехали на отдых к морю или в глубь страны. Оставшиеся надолго запомнили тяжелый воздух столицы, которым, казалось, невозможно дышать. 22 августа грянул гром, разрядивший напряжение: до Франции дошли вести о пакте между нацистской Германией и сталинским СССР. Не прошло и недели, как гитлеровские дивизии перешли польскую границу. А 3 сентября 1939 года Великобритания и Франция объявили Германии войну. Первой реакцией на начало войны стало неверие в реальность происходящего — горожане попросту пожимали плечами и возвращались к своим делам, а если и прислушивались к новостям с фронта, то с большим скепсисом. Поразительно, но скандалы и мелкие ссоры, подмочившие в прошлом репутацию властей в глазах избирателей, продолжались. Зимой 1939/40 годов и последующей весной — хорошо это или плохо, судите сами — жизнь Парижа впала в некий застой, когда большинство горожан не придавали значения войне или вообще игнорировали угрозу наступления. Театры и мюзик-холлы продолжали давать представления, залы заполнялись до отказа, даже после введения комендантского часа в январе 1940 года многие спектакли заканчивались после десяти вечера. Культура тех лет в определенном смысле демонстрировала высокомерное равнодушие: прославленный критиками Гастон Бати в театре Монпарнас поставил свою «Федру». «Сирано де Бержерак» и «Мадам Сан-Жен» с успехом шли в Комеди Франсез. Известный эстет, знаменитый своей индифферентностью к суетному миру поэт Поль Валери прочел лекцию «Мысль во французском искусстве» избранным представителям пяти крупнейших академий Парижа. Власти запоздало ограничили мясной рацион: граждан просили на два дня в неделю становиться вегетарианцами. Население проигнорировало эти распоряжения: мысль об обеде без мяса как тогда, так и сейчас неприемлема для парижан. Горючее расточительно продавали всем желающим, горожане продолжали ездить за город на пикники. Большинство парижан всех сословий погребли свой страх перед войной под завесой не знающего меры гедонизма. Популярные песни, как, к примеру, «On ira pendre notre linge sur la ligne Siegfried» («На линии Зигфрида развешаем белье») Рэя Вентуры или «Paris sera toujours Paris» («Париж всегда Париж») Мориса Шевалье, выражали крайнюю степень равнодушия к происходящему. Самыми популярными поговорками тех лет стали: «Зачем нам умирать или страдать ради каких-то неизвестных людей, которых мы в глаза не видали?» или «Если Гитлеру так нужна Европа, пусть забирает». Даже радикальные активисты из левых не считали зазорным высказывать подобные пораженческие сентенции. Трактат анархиста Луи Лекуана «Paix Immédiate» («Немедленный мир»), подписанный такими уважаемыми гражданами и друзьями простого люда, как Жан Жионо, имел хождение и пользовался одобрением в кофейнях и барах Бельвиля. Настроения на фронте были и того хуже. В штабе армии служили умные и дальновидные офицеры, например Шарль де Голль, которые, видя недостатки линии Мажино, требовали переподготовки рядового состава, чтобы войска сумели справиться с новой тактикой «блицкрига», предполагавшей мощное стремительное наступление и полное подчинение захваченных территорий противника. Но высшее армейское руководство ничего не предпринимало. Наряду с пораженческими настроениями в армии царило повальное и бесконтрольное пьянство. На парижских вокзалах создали специальные «Salles de deséthylisation», где трезвели новобранцы, прибывавшие к поездам такими пьяными, что не стояли на ногах. В арьергарде солдаты гоняли мяч, в окопах бездельничали, играя в карты и слушая дружелюбные выкрики немецких солдат: «Не стоит умирать за Данциг! Поляки и британцы не стоят ваших смертей! Мы не станем стрелять, если вы не начнете». Понятное дело, их обещания были блефом. В начале мая, сметая все на своем пути, германские дивизии промаршировали по Голландии и Бельгии. Но даже во время наступления нацистов на Париж столичные рестораны и театры принимали посетителей. По мере роста потока беженцев правительство под предводительством Поля Рено выпускало противоречащие друг другу указы: то муниципалитету предписывалось оставаться в столице, то сообщалось, что населению нечего беспокоиться, то вдруг Парижу все-таки предлагалось начинать готовиться к обороне. Большинство парижан и гостей столицы считали бегство единственно верным решением, и в конце мая дороги заполонили автомобили, фургоны, автобусы и тележки переезжающих парижан. Эту волну паники пресса окрестила «la grande peur» — «великим страхом». Более четверти населения города оказалось в пути: их расстреливали немецкие самолеты, и некоторые от безысходности возвращались обратно — навстречу полной неизвестности. Тысячи детей потеряли родителей. Многие семьи так и не воссоединились. В рамках только что созданной коалиции 16 мая на встречу с французским правительством и генералитетом армии прибыл Уинстон Черчилль. Он поразился царившему в городе хаосу. Когда англичанин вернулся в Лондон, Рено организовал в соборе Парижской Богоматери богослужение святой Женевьеве, на котором присутствовало множество народа. В конце первой недели июня правительство бежало в Тур. Спустя несколько дней начались авиационные налеты. К 10 июня ручеек беженцев превратился в бурный поток, а военное командование спорило — стоит ли организовывать оборону столицы. Наконец 11 июня генерал Максим Вейган объявил Париж «открытым городом». Это заявление было оправдано с военной точки зрения: город не был приспособлен для серьезной обороны от авианалетов или артиллерийского обстрела — непростым и смелым решением военные спасли множество жизней. 14 июня в 5:30 утра войска 17-й армии генерала фон Кюхлера вошли в Париж. Две германские дивизии строем прошли до Эйфелевой башни и Триумфальной арки. К полудню генерал фон Штудниц занял кабинет в особняке Крийон на площади Согласия. Столица Франции не выказала и намека на сопротивление. Германия, и Гитлер в частности, усмотрели в этом доказательство морального разложения французской нации.«Смерть евреям!»
Прежде чем взяться за «слабых» французов, нацисты решили разделаться с проблемой расовой чистоты. Гонения на парижских евреев начались сразу после вступления нацистов в Париж. Немцы быстро нашли добровольных помощников среди членов муниципалитета, а самых рьяных из них — в полиции, которая была только счастлива выместить собственные унижение и страх на выдуманном внутреннем враге. Германское присутствие проявилось незамедлительно и прямолинейно: на улицах Парижа появились указатели на ненавистном тевтонском языке, указывающие немцам путь к военным объектам и к местным увеселительным заведениям. Одним из первых нацистов, посетивших Париж, стал сам Адольф Гитлер. Утром 24 июня он устроил себе трехчасовую прогулку по городу в сопровождении архитектора Альберта Шпеера и художника Арно Брекера, считавших Париж жемчужиной западной цивилизации. Чтобы еще сильнее унизить французов, Гитлер устроил так, что подписание капитуляции прошло в железнодорожном вагоне в лесу под Компьеном, где больше двадцати лет назад германцы сами были унижены, подписывая Версальские соглашения. Британская пропаганда выпустила тщательно смонтированный фильм, в котором Гитлер во время капитуляции Франции, ликуя, танцует как безумный. Зрители Германии видели более правдоподобную версию этого события: фюрер утвердительно топает ногой сразу после подписания соглашений. Это был единственный визит Адольфа Гитлера в Париж. В память о победе над Францией фюрер снялся на фоне опустевшего Трокадеро и Эйфелевой башни — грандиозного символа XIX века и воплощения эстетики века XX. Спустя несколько дней после визита в Париж Гитлер рассказал о своих впечатлениях: «Я был рад увидеть город, аура которого меня всегда влекла. На нас лежала ответственность сохранить это чудо западной цивилизации неприкосновенным. И нам удалось это сделать». Под пятой нацистов город стремительно и неотвратимо преображался. По всему Парижу были расквартированы войска, здесь же расположилась штаб-квартира гестапо. Центром операций оккупационных войск служил особняк Мажестик на авеню Клебер, где расположилась Главная военная комендатура, Militârbefelshaber Frankreich (MBF), возглавляли которую Ханс Шпидель и писатель, солдат и мистик Эрнст Юнгер. Их задачей было не только удерживать стратегически важный Париж под контролем рейха, но уничтожить его культурное влияние на мировое сообщество. Эту стратегию разработало и внедрило Бюро пропаганды Парижа (Propagandastaffel der Gross Paris), расположенное на бульваре Ланн, дом 57, которым твердой рукой правил Гельмут Кнохен. Этот офицер стал известен всему Парижу благодаря изысканным вечеринкам, которые он устраивал как для коллаборационистов, так и для противящихся режиму промышленников, художников и журналистов. На приемах подавались вино и ужин, обсуждались политика и экономика. Пытками и казнями занимался заместитель Кнохена, выходец из Бреслау Курт Лишка, который своей жестокостью и эффективностью методов прославился даже среди нацистов. Его излюбленной пыткой, над необычностью и комичностью которой частенько смеялись на вечеринках Кнохена, было кормление заключенных исключительно соленой сельдью. Лишка гордился тем, что самые стойкие заключенные не выдерживали даже двух дней такой диеты и ломались, мучимые жаждой. Его ценили за внимание к деталям: первое, что он сделал после назначения на пост заместителя, — запасся инструментарием, который приказал доставить в свою штаб-квартиру на улице Соссей, дом И. В заказ вошли пятьдесят коробов сверх положенного снаряжения: 150 наручников, плотные шторы для автобусов, перевозивших арестантов на казнь, 2000 литров горючего для сожжения тел казненных на кладбище Пер-Лашез, виски, вино, закуски для расстрельных команд. Крупнейшей операцией Лишки в Париже стало решение «еврейского вопроса». Спустя пару недель после начала оккупации во всех кинотеатрах начали показывать ролики, в которых утверждалось, что Франция пала исключительно по вине евреев, масонов и англосаксов, одержимых стяжательством и стремлением разрушить образ жизни рядовых французских граждан. Такие пропагандистские фильмы как, например, «Опасность еврейства» («шедевр документального кино», если верить писателю Люсьену Ребате) и «Коррупционеры», «Оккультные силы», являли собой весьма впечатляющие жуткие короткометражки, в которых перед глазами зрителя представали крючконосые евреи, хихикающие над гибелью христианской цивилизации. К этим роликам писались продуманные сценарии, они были прекрасно сняты и с убийственной точностью прорисовывали парижские реалии (постоянно, к примеру, встречается в них улица Кадет, на которой располагалась штаб-квартира парижских масонов). Осенью 1941 года совместно с французскими властями на Итальянском бульваре нацисты организовали выставку «Евреи и Франция». Посмотреть на нее пришли тысячи посетителей, а осуждающих ее не нашлось вовсе. Выставку назвали «неоценимым вкладом в образование». Всем гостям показывали огромного паука, висевшего над входом, и объясняли, что «паук представляет собой еврейство, сосущее кровь нашей Франции». Другим расхожим образом этой выставки, как и сценариев пропагандистских короткометражек, служил сказочно богатый еврей, который, не будучи настоящим европейцем («словно паразит»), кормится эксплуатацией добродетельных французов. Причина, по которой многие парижане никогда не встречались с евреями, объясняли нацисты, в том, что все евреи живут во дворцах или на французской Ривьере. В действительности же большинство парижских евреев проживали в Марэ — в плеиле («местечко» на идиш), куда с 1880 года они бежали от нищеты и гонений из Восточной Европы. Для одних эта округа стала домом, для других — временной передышкой перед дальнейшим путешествием в США или Палестину. Марэ был одним из самых ветхих и грязных районов столицы, но, по крайней мере, до начала 1930-х годов служил единственной территорией, свободной от антисемитизма, охватившего столицу Франции. Большинству парижан, каковы бы ни были их взгляды на «еврейский вопрос», работы в этой округе не имелось, а потому не было и личных контактов с местными жителями. Коллаборационистская парижская пресса начала громкую кампанию против «ядовитых чужаков». Типичным примером пропаганды тех лет является вышедшая в марте 1941 года в «Au Pilori» статья, автор которой истерически, навзрыд требовал истребить еврейский народ.Смерть еврею! Смерть всему ложному, уродливому, грязному, противному, негроидному, полукровному, еврейскому! Смерть! Смерть еврею! Да! Повторим это. СМЕРТЬ! С-М-Е-Р-Т-Ь ЕВРЕЮ! Ибо еврей не человек. Он вонючее животное. Мы защищаем себя от зла, от смерти, и, следовательно, мы против евреев!
Примечательно то, что написал статью не немец, а коренной парижанин. В августе вышли первые антиеврейские законы, которых парижане даже не заметили. Евреям запретили пользоваться телефонами, становиться в общую очередь в продуктовых магазинах, владеть бизнесом, ездить на велосипедах, появляться в плавательных бассейнах. Им предписывалось совершать покупки лишь в определенные часы дня, ездить исключительно в последнем вагоне поездов метрополитена, не позволялось менять место жительства, преподавать в высших учебных заведениях и участвовать во многих сторонах общественной жизни города. С 29 мая 1942 года им надлежало носить желтую звезду Давида, пришитую к одежде. Французская компания «Барбе-Массан Поплен» охотно предоставила 5000 метров материала, необходимого для производства как минимум 400 000 звезд. Желтую звезду, как гласил указ, cледовало носить всем евреям старше шести лет «на видном месте слева на груди, тщательно пришитую к одежде». После 2 октября 1941 года, когда тишину парижской ночи нарушил ряд взрывов, напряжение в обществе достигло предела. Мины взорвались на улицах Турель, Нотр-Дам-де-Назаре и Виктори: каждая бомба должна была уничтожить по синагоге. Народ терялся в догадках, кто и зачем это сделал. Немцы, которые и устроили теракты, утверждали, что взрывы являются частью волны спонтанных еврейских погромов, которые устраивают обозленные жители столицы в отместку за покалеченный иудеями Париж. Рассвет евреи встретили в страхе перед будущим. Долго им ждать не пришлось. Гауптштурмфюрер СС Теодор Даннекер служил в Париже с сентября 1941 года. Двадцатисемилетний офицер прибыл в город по рекомендации самого Адольфа Эйхмана, любимчика Гитлера. Даннекер слыл упрямым и бесчеловечным, но эффективным чиновником, специалистом по решению «еврейского вопроса». Именно он вскоре сыграет ключевую роль в планировании и осуществлении операции «Окончательное решение» во Франции. Его «трудам» способствовала лютая ненависть, которую он питал к евреям: Даннекер тщательно планировал и исполнял программы массовых репрессий. Даннекер ехал в Париж заниматься не пропагандой, а убийствами. Под его жестким руководством парижская антиеврейская кампания перешла от выставок, статей в газетах, фильмов и анекдотов к организованной депортации на восток. К концу 1941 года город бурлил антисемитскими настроениями: оптик Лиссак разместил в витрине своего магазинчика плакат со словами «Лиссак не Исаак», а популярное кафе «Дюпон» в Латинском квартале повесило на дверях «шуточное» объявление о том, что вход в заведение запрещен «собакам и евреям». Облавы начались уже в начале 1941 года, когда евреев-иммигрантов «пригласили» зарегистрироваться в полиции. Евреев, объявившихся в участке, быстро направляли в тюрьмы Бье-ла-Ро-лан и Питивьер.
«Весенний ветер»
Даннекеру такой метод решения проблемы казался непрофессиональным и слишком медленным. Он планировал как можно быстрее разделаться не только с восточноевропейскими евреями, набившимися в плецлъ, но и с местными уроженцами, «внедрившимися и, словно раковая опухоль в теле, подтачивающими французское общество изнутри». Единственным решением проблемы он видел масштабную общегородскую операцию. Собрав подчиненных в штаб-квартире гестапо на авеню Фош, Даннекер представил им собственный план «Vent Printanier» («Весенний ветер»). Целью операции было при поддержке парижских властей собрать до 28 000 евреев, выслать их в концентрационные лагеря на восток или приступить к их уничтожению самостоятельно. Ничего подобного раньше не проводилось, и потому в случае успеха эта операция стала бы показательным образцом решения «еврейского вопроса» для всей оккупированной нацистами Европы. Даннекер был не просто амбициозным карьеристом, он искренне любил свою работу. Получив одобрение высшего командования на проведение операции «Весенний ветер», он с энтузиазмом взялся за дело, и это было больше, чем служебное рвение, замечали его подчиненные. Первым делом ему следовало убедить парижский муниципалитет и военные оккупационные власти в важности плана и в реальности его выполнения, а затем следить, как операция набирает ход. Никто из высших чиновников Парижа ни на первой, ни на последующих встречах с Даннекером и слова не сказал против плана. Кто-то лишь отметил, что предположительная дата облавы, ночь с 13-го на 14 июля, не очень удобна, так как это день взятия Бастилии, и парижане будут пьяны и неуправляемы. По совету французов с великой неохотой Даннекер перенес дату операции на 16–17 июля. Многие евреи знали, что власти планируют какую-то крупную операцию — отчасти благодаря здравому смыслу и интуиции, отчасти из новостей еврейского подполья «Solidarité», которое добывало точную информацию через сеть информаторов и сочувствующих. Но ни точных дат, ни того, что именно произойдет, не знал никто. То, что случилось на улицах Парижа 16 июля, шокировало всех горожан — евреев и неевреев. Даннекер дал своему окружению недвусмысленные инструкции: при успехе операции «Весенний ветер» все должны подумать, что это исключительно французское изобретение. Он лично сформировал 900 патрулей из офицерского состава. Всего в операции участвовало около 9000 человек. Приказ был ясен: «Идентифицировав еврея, немедля для его ареста вызвать патруль, который обязан зарегистрировать всякую попытку сопротивления — физическую и вербальную… Каждого еврея следует препроводить в пункт сбора вне зависимости от состояния его здоровья». В четыре часа утра в дома всех официально зарегистрированных парижских евреев ворвалась французская полиция. Сначала, узнав французскую речь, бедняги вздохнули с облегчением. Только после они осознали, что зачистка идет во всех домах, что целые семьи гонят вниз по лестницам, что на улице их ожидают автобусы и фургоны «Compagnie des transports»[127]. Те из парижан, кто проснулся в столь ранний час, — рабочие, официанты, горничные, консьержи, — беспомощно и в большинстве своем с состраданием наблюдали за происходящим. Около 7000 человек — из них 4000 детей — к полудню были согнаны на велодром де Ивер на улице Нелатур, который парижане называли Вель-д-Ив. Это место для арестованных семей стало уменьшенной копией концлагеря. Некоторых сразу гнали в лагерь, расположенный в северном пригороде — Дранcи, чтобы оттуда отправить в страшное путешествие на восток. Несмотря на все усилия Даннекера, на Вель-д-Ив среди заключенных царил хаос: переполненные автобусы прибывали каждые десять минут. Еды арестантам не раздавали, здесь царила полная антисанитария (десять туалетов на 7000 человек). Случались на стадионе попытки лишить себя жизни (десять удались): большинство самоубийц бросались вниз с верхних трибун. У некоторых беременных женщин начались схватки. Бушевали диарея и дизентерия. Многие умирали. Французские и немецкие власти отдали приказ, ограничивший количество врачей, одновременно находившихся на стадионе, всего до двух человек. В редкий момент милосердия нацистов, в ночь на 16 июля председатель «Union Générale des Israélites en France» («Генеральный союз израильтян Франции») Андре Баур получил возможность посетить Вель-д-Ив. Позднее он описывал увиденный кошмар, словно сцены Судного дня: «У сестер милосердия на глаза навернулись слезы, — писал он, — даже полицейские были удручены». Врач из той же организации рыдал, увидев девочку, молившую о свидании с родителями: «Она была больна. Ее глаза не отпускали меня, она умоляла, чтобы я попросил солдат освободить ее. Она хорошо вела себя весь год, ведь за это можно избавить ее от тюрьмы». Глава правительства Виши Пьер Лаваль одобрил депортацию детей: этим коллаборационистское французское правительство показало, что добровольно и активно участвует в «окончательном решении» еврейского вопроса. Поразительно, но операцию посчитали провальной: слишком многие из запланированных 28 000 евреев сумели бежать или покончили с собой. Адольф Эйхман в беседе сГитлером заметил, что всегда сомневался в способности парижан исполнить «долг». Даннекера отозвали в Берлин и заменили Хансом Ротке, который заявил, что программа по депортации евреев будет длиться, покуда сами власти Франции того желают. Прошло немного времени, и машина Даннекера заработала: поезда начали перевозить евреев в Дранcи, который дети, ошибочно считавшие, что их везут на игровую площадку, назвали «Pitchipoi», а затем дальше на восток — к смерти от голода или в газовой камере. Облавы и лагерь на Вель-д-Ив являются самыми страшными событиями в истории Парижа. Горожане затаились. Да, правда, что мало кто из парижан знал правду о происходящем, а рассказы еврейского подполья считали обычной пропагандой. Однако вонь и крики, доносившиеся со стадиона, потоки мочи, стекавшие по его фундаменту, были ясным и недвусмысленным сигналом внешнему миру о преступлении, творившемся внутри. Точно так же и опустевший Марэ, всегда бурливший жизнью, полный жителей и непрекращающегося шума, затих; теперь здесь слышался только топот сапог по мостовой — явный признак того, что произошло нечто ужасное. Хуже всего то, что в операции «Весенний ветер» участвовали девять тысяч французов и француженок. Они-то знали, что делают. И примирились со своей ролью. Довольно долго после окончания Второй мировой войны французские власти страдали глубокой амнезией и не вспоминали о событиях 1942–1944 годов, когда правительство страны при активной поддержке значительного числа соотечественников, по собственной воле и с энтузиазмом посылало десятки тысяч невинных людей умирать в лагеря смерти. Даже когда силы союзников были на подходе, с холодящей кровь регулярностью поезда увозили людей на смерть. По пути к голоду, пыткам и смерти через Париж прошли около 80 000 французских евреев. Отказом французских властей признать существование геноцида и наказать виновных парижские евреи были оскорблены не меньше, чем самим фактом репрессий во время войны. Префект полиции времен оккупации Рене Буске, человек, который несет полную ответственность за облавы и депортацию, был привлечен к суду лишь в 1993 году (до слушаний он не дожил — его застрелили). В своем фильме 1955 года об Освенциме «Ночь и туман» Ален Рене показал парижским кинозрителям реальность, ожидавшую евреев на другом конце путешествия на восток, и обвинил «тех, кто ничего не видел и до конца не слышал криков». Для того, чтобы до парижан дошло, какие ужасы творились в их городе, понадобилось много времени. Сегодня на восточной оконечности острова Ситэ стоит официальное признание случившегося — мемориал в память о депортированных в темные годы евреях. Даже в тихий летний день памятник мрачен, каким и должен быть символ памяти о погибших.Подполье
До 1942 года страдания евреев не вызывали в парижанах никаких эмоций. Бесчеловечные облавы, лагерь в Вель-д-Ив и ужасные сцены на вокзале Дранcи видели многие, но обсуждали происходящее по домам и с соседями единицы, однако, чтобы породить волну симпатии и сочувствия к репрессированным, хватило даже малого числа сочувствующих. Тогда-то и появилось активное меньшинство населения, которое шептало слова поддержки евреям, своим друзьям и коллегам, на улице и в метрополитене; были такие, кто, подобно некому католическому священнику, в знак протеста носил желтые звезды. Но в целом, как бы то ни было, подспудный антисемитизм и эгоизм удерживали большую часть парижан на почтительном расстоянии от творившихся на их глазах беззаконий. Гораздо сильнее зимой 1940 года горожан шокировал расстрел Жака Бонсержена, молодого инженера, арестованного за перепалку с германским солдатом в баре. Бретонец по рождению, Жак был одним из десяти детей бедной семьи из Лорьяна, приехавшим в Париж на заработки в 1939 году. Когда его задержали за пьяную ссору у вокзала Сен-Лазар, он отказался выдать своих сообщников, бежавших с места драки. Бонсержена схватили за то, что он нецензурно честил немцев, и обвинили в терроризме. Молодой человек высмеял подобные обвинения и одному из своих братьев, который приехал, чтобы навестить его, говорил, что уверен в скором освобождении, так как проступок его не политический, а немцы, по его мнению, люди обязательные и разберутся во всем. Он не знал, что нацисты решили использовать его как пешку для шантажа Виши и восстановлении на посту главы правительства «лучшего из коллаборационистов» Пьера Лаваля, изгнанного маршалом Петэном за двурушничество. Позднее Петэн еще сильнее задел Гитлера, отказавшись приехать в Париж и принять прах сына Наполеона графа Рейхштадтского (после смерти в Вене останки графа по приказу фюрера в знак добрых отношений выслали в Париж). Невиновный Жак Бонсержен, к вящему удивлению и даже шоку парижан, утром в Рождество оказался лицом к лицу с расстрельным взводом. Ранним утром 24 декабря по всему Парижу появились объявления о том, что «инженер Жак Бонсержен приговорен к смерти и казнен немецкой расстрельной командой за акт насилия против солдата германской армии». Женщины несли цветы и возлагали их под плакатами. Когда же немцы их убирали, парижанки приносили новые. Горожане считали этот жест пусть незначительным, но все равно смелым актом сопротивления оккупантам и убийцам. Зима в том году выдалась на редкость суровой. Стоял жесточайший мороз, еды катастрофически не хватало. Ограниченный рацион питания был учрежден еще в августе, а мясо и масло исчезли из продажи и того раньше. Самым распространенным видом транспорта стал велосипед. К ужасу консьержей и брезгливых соседей на случай голода многие стали разводить кроликов и голубей. И только теперь парижане начали по-настоящему ненавидеть нацистов. Среди диссидентов тех лет были влюбленные в джаз молодые парижане, презиравшие и осуждавшие нацистов с тем же жаром, с каким раньше ненавидели преподавателей и священников. Самые горячие поклонники американского джаза приобретали мешковатые костюмы в полоску, делали прически в подражание актерам, которых они видели в голливудских фильмах, прошедших немецкую цензуру. Прилизывая волосы, они называли себя «Зазу» — исковерканным галльским произношением песенного припева «за-зу-за» Кэба Кэллоуэя. Уже в 1942 году журналист Реймон Ассо писал в коллаборационистской газете «La Globe» об «угрозе Зазу». Журналист рассказывал о «группах молодчиков», цель жизни которых — вызывать раздражение германских властей по поводу и без повода. Большинству из них не было еще и двадцати одного года («Зазу» также называли «Дж-3», намекая на продовольственные карточки для парижан, не достигших определенного возраста). Молодые люди носили дикие наряды, выделявшие их из толпы, и собирались на террасах кофеен Елисейских полей — «Пам-Пам», «Куполе», «Дюпон-Латин», «Ле Пти Кью» и «Кафе Клюни» Латинского квартала. Юношей-«Зазу» отличали не только американские костюмы и тенденция изобретать сленг из исковерканных английских словечек, надерганных из джазовых песен, а также пижонские привычки, как, например, тугие узкие узлы галстуков или зонты в руках. Девушки были бесстыдно сексуальны: использовали яркую алую губную помаду, носили платья из тонкой ткани в крупную клетку, короткие юбки и туфли на высоких каблуках. Модным считалось пить пиво с гренадином (эта гадкая смесь по сей день является излюбленным студенческим напитком и называется «Монако») или, что самое странное, заказывать морковное пюре к каждому блюду. «Зазу» любили пошутить и уже за десять лет до официального появления поп-культуры послевоенной Европы слыли бунтарями. Было бы глупо утверждать, что они представляли какую-либо угрозу оккупационным властям, однако неприятности доставляли, по-юношески громко выражали свое недовольство и, как всякое молодое поколение, не поддавались контролю властей или общества. Изредка, к ужасу буржуазных семей, молодых людей обвиняли в «преступлениях против общества» и высылали из города на сельскохозяйственные работы, где крестьяне стесывали с их характера все шероховатости. Но подобные наказания лишь ожесточали отношение общества к властям. Неудивительно, что многие из этих юношей и девушек ушли в Сопротивление, где стали истинными борцами и оказали значительное влияние на исход войны.Сопротивление
Оккупация повредила здания, но в целом город остался нетронутым. Французы возненавидели оккупантов (что стоило бы сделать до прихода войны в страну), — Сопротивление пополнило свои ряды, горожане превратились в искусных снайперов, диверсантов и бунтовщиков. Оккупация нанесла сокрушительный удар по самоуверенности французов и Европы в целом. Одним движением нацисты упразднили столицу прав человека, и город передовой интеллектуальной мысли превратился в мрачное убежище лжецов, предателей и убийц. Но когда шок, вызванный оккупацией, прошел, французы обнаружили униженное положение покоренного народа и все, даже самые миролюбивые (кроме, конечно, коллаборационистов, которые давно уже отдали свою судьбу в руки нацистов), отказались с этим смириться. Сопротивление и неповиновение властям казались единственным выходом из сложившейся ситуации. Упадок духа, свойственный первым месяцам оккупации, не мог длиться вечно. Первый серьезный удар по захватчикам был нанесен в девять часов вечера на станции метрополитена «Барбе» 21 августа 1941 года. На платформе был застрелен офицер германского флота Альфонс Мозер. Убийцей был двадцатидвухлетний боевик-коммунист Пьер Феликс Жорж, которого с тех пор называли «полковник Фабьен». Легенда гласит, что молодой человек выстрелил офицеру в грудь и неспешно затерялся в толпе пассажиров. Это был поворотный момент, утверждали коммунисты: Франция подняла голову и «начала вооруженное сопротивление оккупантам». Убийство вывело из себя нацистов и шокировало коллаборационистов-французов. Остальные же радовались тому, что наконец-то началась реальная борьба. Жизнь в те годы была такой же жесткой и недвусмысленной, как творящиеся преступления. Несмотря на свою молодость, Пьер Феликс Жорж давно состоял в коммунистической партии и считался первоклассным боевиком, готовым на смелые и беспощадные действия. Раньше он швырял камни в окна пособников Гитлера, живших на бульваре Филь-дю-Кавальер, воевал на стороне республиканцев во время гражданской войны в Испании и участвовал в серии демонстраций против оккупантов, закончившихся кровопролитными столкновениями. Будущий «полковник Фабьен» задумал свою акцию в июне 1941 года, сразу после вторжения Гитлера в Россию. Новое наступление нацистов сильно облегчило напряженное положение левых во Франции и Европе, с оружием в руках сражавшихся против нацистов, — коммунисты конца 1930-х годов считали эту тактику единственно верной. Перемена в настроениях горожан отчасти была вызвана ходом военных действий на фронтах, а также повседневной жестокостью, с которой действовали нацисты, расширяя пропасть между собой и рядовыми парижанами. Но кардинальные изменения в отношении парижан к оккупантам были вызваны не слухами о депортациях евреев и прочих пленных в лагеря смерти, не ежедневными притеснениями, не нехваткой продовольствия в суровую зиму 1940/41 годов, а осознанием того, что после ужесточения контроля нацистов над Парижем под угрозой окажется культура Франции.Глава сороковая Патриоты и предатели
Однако не все парижане считали германское присутствие обременительным. Сначала нацисты вели себя подчеркнуто вежливо, что очень нравилось парижским буржуа. Многим импонировала суровая подтянутость настоящих солдат, изрядно отличавшихся от оборванных и вечно пьяных французских и английских новобранцев, отступавших через город в недавнем прошлом. Были и другие, менее явные причины, по которым парижане восхищались немцами. В трагедии Сартра «Дороги свободы» главный герой Даниэль чувствует душевный подъем и даже некоторое сексуальное возбуждение, когда видит, как строй немецких солдат входит в город и марширует по Елисейским полям. Похотливым взором молодой человек взирает на солдат вермахта, на их крепкие мускулы, голубые глаза и светлые волосы. Он мечтает изнасиловать их, мечтает о том, чтобы они изнасиловали его, и поражается удовольствию, которое испытывает от этой фантазии. Автор не случайно списал Даниэля с Жана Жене. Книги и персонажи этого сироты, вора, проститутки и писателя в те годы очень сильно нравились Сартру. Особенно его интересовали идеи о «предательстве» и «измене» — Жене вкладывал в эти понятия смысл, полностью противоречивший буржуазной морали, которую так ненавидел Сартр. В своем рассказе о предвоенном бродяжничестве по Европе 1930-х годов, книге «Дневник вора», Жене рассказывает о путешествии на южный край Испании, где, глядя на Гибралтар, он увидел далекий, сверкающий, словно жемчужина, берег Северной Африки — город Танжер. Это место, говорит он, имеет репутацию гнезда воров, бандитов, педерастов, убийц и сексуальных извращенцев и заслуживает титула «столицы предательства». В 1940 году Жене уже не надо было ехать в Северную Африку: теперь и Париж наполнился предателями всех мастей, стремившимися претворить в жизнь собственные извращенные мазохистские фантазии. Сартровский Даниэль стал отражением реальной жизни, тех пронацистски настроенных интеллектуалов, которые в период оккупации присвоили себе роль светочей французской мысли. Среди них были писатели Робер Бразийяк, Люсьен Ребате и Пьер Дриэ ля Рошель, каждый из них мнил себя «истинным гласом Парижа», хотя идеологию им диктовал Берлин, куда в начале войны они и переехали. Жан Жене и Даниэль Сартра хотя бы имели смелость признаться в том, что их мечты о доминировании нацистов и собственной подчиненности в основе своей были обычными сексуальными фантазиями. Интеллектуалы-коллаборационисты, однако, считали, что вышли в моральный крестовый поход, который приведет белых гетеросексуальных европейцев к новому мировому порядку, о котором мечтает высшее командование нацистов. Пионерами коллаборационизма стали члены осевшего в тихом провинциальном городке Виши правительства, возглавили которое маршал Петэн и Пьер Лаваль. Правительство Виши появилось на свет в хаосе 1940 года как исключительно французский орган управления, призывавший граждан к сотрудничеству с Германией, так как это якобы патриотично. Правительство Виши держало в Париже на улице Гренель странное «посольство», которое должно было укреплять добрые отношения между французскими интеллектуалами и немцами. Среди тех, кто уже двинулся по пути политического коллаборационизма, находился бывший коммунистический вожак Жак Дорио, основавший пронацистскую Народную партию Франции (НПФ) и яростно выступавший против войны ради «счастья рабочего люда». По крайней мере, он действовал в соответствии с собственными убеждениями, а многие писатели поддались на обещанные золотые горы и должности редакторов популярных журналов, которые сулили им немецкий посол Отто Абетц и его доверенное лицо Эрнст Юнгер. Журнал «Je Suis Partout» под руководством Робера Бразийяка выступал в предвоенной Франции как один из самых громких прогерманских голосов. Теперь же это издание наряду с газетой «Au Pilori» вышло на передовую как ведущий рупор правых и отщепенцев-левых, ненавидевших собственную страну. Среди журналистов, с энтузиазмом присоединившихся к коллаборационистам, следует назвать Абеля Боннара, Фернана де Бринона, Жана Люшера. Общая идея этих писак, ратовавших «за спасение Отечества», заключалась в том, что падение морального духа во Франции после Первой мировой войны чревато (из-за лидирующего положения французской культуры) опасностью разрушительного влияния подобного «декадентства» на общеевропейскую культурную жизнь. Фашизм — единственная надежная защита от набирающего силы коммунизма. Мюнхенские соглашения 1938 года немного ослабили этот аргумент, зато союз нацистов с Советами можно было рассматривать как временную оборонительную тактику против «англосаксонского» демократического либерализма, который превратился в тягловую лошадку жестокого и неуправляемого капитализма. Исходя из подобных рассуждений, посол Германии Отто Абетц и строил свои планы: ему приходилось иметь дело не только с французскими правыми радикалами — они и без того довольно быстро присоединились к нацистам, — но и заигрывать с писателями, интеллектуалами и политиками, которые, как и раньше, продолжали придерживаться левых политических убеждений, но успели разочароваться в упадочной политике и культуре Парижа. Этим объясняется парадокс 1941 и 1942 годов, когда в оккупированном городе известные писатели левых убеждений, в том числе Реймон Кено, Маргерит Дюрас, Симона де Бовуар, Альбер Камю и Жан-Поль Сартр, публиковали труды в поддержку нацизма и даже восхваляли его. Примкнувший к коммунистам бывший сюрреалист Луи Арагон даже стал популярен благодаря своим «патриотическим» стихам, которые настроем походили на громогласные призывы Виктора Гюго к объединению нации перед лицом агрессоров. В стихотворении 1943 года «Радио — Москва» Арагон являет пример странного, присущего только Парижу, союза коммуниста и патриота (чем он после публикации стихов в издательстве «Галлимар» одновременно разъярил цензоров и завоевал популярность масс):Пророк
Самой горькой приправой в ядовитом месиве идей, бродивших по Парижу, конечно же, был яростный антисемитизм. Симпатизирующий нацистам романист Луи Фердинанд Селин в предвоенном памфлете писал, что «смерть миллиона вонючих иудеев не стоит и ногтя арийца». Он же объявил, что приход немцев стал «необходимым и освежающим». Единственное, о чем он сожалел, так это о том, что война, по его мнению, недостаточно разрушительна. В 1932 году, после успеха своего романа «Путешествие на край ночи», Селин уже был испорчен славой, деньгами, пятизвездочными отелями и дорогостоящими путешествиями, которые прилагались к популярности. Его ненависть, однако, не ослабела, а труды его оставались истинным голосом парижских трущоб. Свой антисемитизм, кстати, он вынес именно оттуда. Нацисты с удовольствием пользовались его ненавистью для пропаганды собственных идей, но самого писателя удержать в узде было невозможно. Селин был нигилистом в полном смысле этого слова и потому доставлял немцам некоторые проблемы: приветствуя антисемитизм как идеологическое направление, нацизм предпочитал придавать этой позиции хотя бы налет культуры и утонченности, например, с помощью Люсьена Берате или Бразийяка облекал его в оболочку древнеримской и древнегреческой эстетики. Такие деятели культуры, как Жан Кокто, которые хотя и не были активными коллаборационистами, постоянно распространялись об общности «европейской культуры» и легко смешивались с толпой хитрецов, циников и бонвиванов, обедавших как ни в чем ни бывало в особняке Отто Абетца на улице Лилий. Селин был откровенно грубым и активным врагом культуры haut bourgeois. Как бы то ни было, у Селина хватало поклонников и среди нацистов. Самым видным среди них был Карл Эптинг, восхищавшийся не только стилем, но и мыслями Селина. Еще в 1938 году он писал Селину письма, полные восторженных отзывов о памфлетах «Bagatelles» и «Les Beaux Draps». В те годы Эптинг служил младшим атташе по культуре при германском консульстве. Он считал «Les Beaux Draps» («Красивые простыни» — намек на то, что французское правительство ложится, когда его насилуют вероломные английские и американские жидомасоны) глубоким и мудрым пророчеством и писал Селину, что тот возродил язык Рабле. Однако памфлет в своей дикой, яростной ненависти к истекающему кровью, агонизирующему европейскому обществу был довольно далек от официальной нацистской идеологии. «Если вы действительно хотите избавиться от евреев, — писал Селин, — на это существует 36 000 способов, но и общество скорчит 36 000 мин: это, мол, расизм! Одного боятся евреи: расизма! И не расизма слабого, передвигающегося на цыпочках, но смелого, развернувшегося вовсю. Тотального, неумолимого. Тотального, как пастеровская стерилизация». Когда в 1941 году Эптинг занял пост директора Германского института Парижа, он пригласил Селина и Юн-гера к себе, так как считал, что эти двое лучше других писателей познали природу и последствия современной войны. Труд Юнгера «Война как внутреннее переживание» не так давно был переведен на французский язык, вышел под названием «La Guerre, Notre Mère» («Война, наша мать») и пользовался популярностью в Париже. Юнгер, однако, на сближение с Селином не пошел, называя его маньяком и неразумным кельтом (Селин громко похвалялся своим бретонским происхождением). Так что в Институте евгеники, главном штабе антисемитской пропаганды, Селин получил лишь пост советника. Как бы то ни было, он всей душой ненавидел евреев и яростью своих тезисов, высказанных на организованных в 1941 году встречах в штаб-квартире антисемитской газеты «Au Pilori», произвел впечатление на таких видных коллаборационистов, как Анри Пулен, Марсель Деа и Пьер Константини. Неудивительно, что Селин стал одной из главных мишеней Сопротивления, члены которого регулярно доставляли небольшие черные гробики в его квартиру, чтобы напомнить о вынесенном смертном приговоре. Сегодня Селина как лучшего прозаика-стилиста столетия сравнивают с Прустом. Его повествование о бомбардировках Парижа — еще одно доказательство тому, что Селин умел писать живо, буквально завораживающе. Его характерная речь в ритме стремительного стаккато отлично передает напряжение осажденной столицы. В описании бомбежек Монмартра в 1944 году союзниками Селин далек от лиричного автора цикла «В поисках утраченного времени».Баррррум!.. Врррррум!.. Они срезают город!.. Улица проваливается вниз… в «Гран Кафе» грохот!.. Мимо со свистом рассекает воздух пролетающий стол!.. Вращаясь, он бьет окно на тысячу осколков… Мясо, повею-ду мясо! Ужасный хаос… мир разваливается на куски! Речной ил заляпал все вокруг… пластами упал на захлебывающуюся криком толпу… мост затрясся… Сарабанда террора… карнавал посреди грохота взрыва!.. Но мы не умираем… ворочаемся, извиваемся, стонем… Мы акробаты смерти!..
В жизни Селин был способен на злые, даже опасные для жизни других поступки. Он в печати заявил о еврейском происхождении своего личного врача и другого доктора, медицинского светила Менкевича. Это была не безобидная ложь (Менкевич — поляк, исповедовавший католицизм, а врач Селина — православный армянин), она спровоцировала рейды германской полиции к обоим оклеветанным, что чуть было не завершилось для них поездкой с билетом в один конец в лагеря смерти. После войны сам Селин едва не предстал перед расстрельной командой французов, отсидел в тюрьме, а после убрался в свою «нору» в парижском пригороде и там, нераскаявшийся и злобный, затаился, продолжая бубнить о еврейских заговорах и конце света. Его ненависть к евреям, скорее, патология, чем политические убеждения. Но именно поэтому, для того чтобы понять эмоциональный настрой Парижа во время оккупации, читать следует именно Селина. Этот вывод, который ни в коем случае не хвала Селину, а обвинение, сделал Сол Беллоу, который со студенчества не бывал в Париже и лишь через тридцать лет, в 1983 году, вернулся в город. Еврей и сторонник либерального гуманизма Беллоу заметил, что англоязычные страны никогда всерьез не воспринимали опасность и количество того яда, который пропитал насквозь и в конце концов уничтожил политическую жизнь Франции. Искусство тех лет ясно указывало на это; более того, ужасы 1940-х годов были предопределены ненавистью и террором 1930-х. Кроме того, продолжает Беллоу, Селин не просто великий писатель, но еще и пророк. «Великая европейская литература рассказала нам, чего следует ожидать, — писал Беллоу. — Селин откровенно предрек будущее в своем “Путешествии”».
«Лишь один враг — захватчик»
Когда в первый год оккупации реалии войны окутали Париж, в городе появились первые признаки организованного сопротивления германским властям. Столица Франции идеально подходила для подполья: парижане, с молоком матери впитавшие бунтарский дух, были готовы бороться с властью; городские аллеи, лабиринты улиц, дома, имевшие черные лестницы и сквозные подъезды, были многочисленны, да и город в целом был достаточно велик, чтобы в нем не составило труда затеряться. Первая волна неповиновения поднялась в 1940 году среди учащихся и студентов, которые призывали к стачкам, начали демонстрации, скандируя лозунги в поддержку де Голля, причем, по крайней мере сначала, — в относительной безнаказанности, так как немцы не хотели показать себя детоубийцами. По всему городу на стенах появилась буква «V», обозначавшая победу — викторию — и Лотарингскии крест[129]. Среди первых ячеек Сопротивления была так называемая группа «Нотр-Дам», сплотившаяся вокруг некоего «полковника Реми», прибывшего по приказу Лондона в Париж из Нанта. Эту ячейку уничтожили предатели, но за ней пришли новые — «Сеть Сен-Жак» и «Сеть Нимврод», работавшие под началом харизматического «капитана де Этьена де Орве», убитого в 1941 году. Значительных успехов добилась ячейка из Музея человека в Трокадеро, возглавил которую лингвист академик Борис Вильде. Члены этой группы помогали бежать британским и французским офицерам ВВС, занимались саботажем и даже выпустили небольшой трактат под названием «Сопротивление», призывавший всех французов воссоединиться в борьбе против «одного врага — захватчика», публиковавший новости радио «Би-би-си» и указы правительства «Свободной Франции», расположенного в Лондоне. Группа из Музея человека презирала инертность и трусость парижан и, чтобы осудить их, опубликовала знаменитый памфлет «К оккупированным», где перечислялись способы обращения с захватчиками. Брошюра описывает множество методов борьбы с захватчиками в повседневной жизни: «Сделайте вид, что не знаете их языка или забыли его, — гласил памфлет. — Если к вам обращаются по-немецки, знаком покажите, что не понимаете и уходите без угрызений совести». Или: «…Они упиваются вашим бесчестием. Досадите им, сделав вид, что вы их в упор не видите, а просто изучаете витрины»; или: «Голос доктора Геббельса должен пробуждать в вас отвагу». Один из самых смелых членов группы, уборщик музея, ездил на велосипеде и расклеивал на задних бортах немецких грузовиков листовки, славившие де Голля. Группа из Музея человека просуществовала до 1942 года и была предана внедрившимся в ее ряды вишистом. Членов группы казнили или выслали, но их операции вдохновили остальные ячейки Сопротивления на опасные игры с сильным врагом. Несмотря на сложности операций внутри города, где сосед для соседа был потенциальным предателем, а над головами парижан постоянно висел дамоклов меч пыток и казней, борцы Сопротивления были смелыми, верными своему делу и вдохновлялись патриотической пропагандой из Лондона, а после вступления Москвы в войну с Гитлером — из «страны победивших рабочих и крестьян». Немцы называли бойцов Сопротивления коммунистами, хотя далеко не все отчаянные боевики состояли в коммунистической партии и мало кто из них мечтал о послевоенном социалистическом мире. Их питала не только пропаганда из-за границы, но и традиционный парижский бунтарский дух и стремление отстоять человеческое достоинство. Весной 1942 года, когда гитлеровские войска наступали в глубине российских территорий, просоветские ячейки получили указание использовать против оккупантов снайперов. С каждым новым поворотом войны коммунисты из Сопротивления укреплялись в мысли о том, что новый мир приближается. В попытке запугать парижан нацисты казнили у Мон Валерьен более семисот человек, обвинив их в принадлежности к компартии, однако добились противоположного — коммунисты Парижа лишь укрепились в решимости бороться, чему немало способствовали вести о Сталинградском сражении, прошедшем в сотнях миль к востоку от повседневных реалий рабочих пригородов Менильмонтана и Бельвиля. Когда в 1943 году война в Европе обернулась против немцев, ряды движения Сопротивления значительно пополнились. Хотя между коммунистическими ячейками и голлистами шла невидимая стороннему взгляду борьба — оба лагеря по-разному видели послевоенное будущее Парижа, — на время оккупации все парижане объединились в борьбе с захватчиками.Париж обороняется
Партизанская война достигла пика 18 августа 1944 года. Американские и английские союзники под руководством генерала Эйзенхауэра в июне высадились в Нормандии и планировали в наступлении на восток обойти Париж, который не считали стратегически важным пунктом, где Сопротивление слабое и значительной поддержки не окажет. Когда союзные войска придвинулись к столице, объединенные французские внутренние силы — так теперь называли себя сплотившиеся борцы Сопротивления (им также дали прозвище «fifis»[130]) — решили организовать восстание против германских властей. Основными идеологами восстания стали коммунисты из Сопротивления, которые стремились не только к освобождению Парижа, но и к полномасштабной французской революции, эпицентром которой должна была стать столица. Восстание началось 15 августа с забастовки полицейских отрядов города. Нацисты принялись разоружать полицию, и те стражи порядка, что ранее из трусости и малодушия сотрудничали с немцами, получили возможность сохранить остатки чести. Многие полицейские вдруг (ко всеобщему удивлению) объявили себя коммунистами, так как считали, что это поможет выжить в послевоенном городе. Стачка сил правопорядка переросла во всеобщую забастовку. Утром 18 августа прозвучали первые выстрелы вооруженного восстания, а по всему городу распространились коммунистические листовки. По Парижу рассредоточились снайперы Сопротивления, готовые поддержать горожан, откликнувшихся на призыв идти на баррикады. Когда редкие перестрелки вылились в полномасштабные бои, бойцам французских внутренних сил, посланным в город по приказу де Голля только для контроля событий, не оставалось ничего другого, как присоединиться к восстанию коммунистов. Несколько дней по всему городу шли жестокие схватки. Самая кровопролитная борьба развернулась вокруг площади Сен-Марсель, где французы загнали в засаду и сожгли несколько единиц нацистской бронетехники. На расположенной неподалеку улице Сент-Андре-де-Ар разместился полевой госпиталь. На улице Де Сен разъяренные немцы расстреливали все, что двигалось. По приказу «fifis» повсюду возвели баррикады, мешавшие передвижению нацистов (этот урок коммунисты усвоили еще в боях в Мадриде и Барселоне в 1936 году). Было видно, что баррикад явно меньше в богатых XVI и VIII округах, чем в традиционных левых кварталах: в Бельвиле, Менильмонтане и Сен-Марселе целыми домами жители трудились над тем, чтобы заблокировать улицы брусчаткой и подручными материалами, мечтая выпить и отпраздновать, как они думали, праздник революции. Немцы под предводительством фон Холтица (или — на французский лад — Шолтица) бились отчаянно. Борцы Сопротивления были слабо обучены и плохо вооружены. В городе их было около 15 000 человек, вооружены не более 2000, а немцев насчитывалось 16 000 человек. За несколько дней до восстания боевики нападали на отдельных солдат оккупационных войск и завладевали их оружием. Более двух тысяч человек погибли в первые дни столкновений. Для многих подпольщиков восстание стало боевым крещением. И все равно немцы не выстояли: весь город обернулся против них с великой ненавистью, распаленной воспоминаниями об унижениях оккупации. Даже самые холодные головы, как, например, романист и философ Альбер Камю, который провел войну в рядах Сопротивления и пылал такой же яростной ненавистью, что и его оппонент Селин, теперь утолили жажду мщения в полной мере. В конце «Письма к немецкому другу» — в своеобразном монологе, оформленном как дневник, который Камю писал в последние дни войны, — он говорит, что обращается из города, известного уважением к правам человека, однако в темное время оккупации всякое представление о человечности было растоптано. Вину за это Камю возлагает исключительно на нацистов, жестоких, «аккуратных лощеных монстров», которые «изувечили души и разорили землю». Отвага бойцов Сопротивления оказалась заразительной. Молодые французы окружали и уничтожали немецкие патрули численностью менее пяти человек, хотя вооружены борцы за свободу часто были лишь дубинками и пистолетами. Ярость французов, однако, была столь сильна, что в бою они оказались непобедимы. Нацисты передвигались по городу на бронетранспортерах или танках; на улицу Сюффло, например, для уничтожения снайперов, засевших в здании городской администрации V округа, была направлена дивизия пехоты и пять бронетранспортеров. Битва за Париж стала захватывающим зрелищем для неосторожных зевак: народ наблюдал за происходящим из окон и с балконов. Сражение послужило благодатной почвой для проявления безумной храбрости: угона немецких бронемашин или нападений на солдат — подвигов, которыми хвалились герои и которым аплодировали зрители. Когда де Голль вернулся из Алжира во Францию и ему донесли о том, что происходит в Париже, восстание бушевало уже два дня. Он опасался двух вещей: во-первых, что восстание может привести к захвату Парижа коммунистами и, во-вторых, что без поддержки союзных войск бунт может захлебнуться в собственной крови. Де Голль призвал союзников направиться к городу, что они 22 августа и сделали. Одновременно он решил возглавить восстание, для чего выехал в Париж. Главной задачей голлистов было захватить столицу Франции и добиться, чтобы весь мир узнал, что город освободили исключительно французы, без всякой посторонней помощи. Не послушав приказов американского командования удерживать захваченные позиции, 25 августа французская армия под предводительством генерала Леклерка с юга вошла в столицу и пробилась к зданию ратуши на Гревской площади. Когда солдаты вступили в город (по пятам шли американцы), по всему Парижу зазвучали колокола. По радио передавали запрещенную все четыре года оккупации «Марсельезу». В это многоголосье вплетались звуки ружейных выстрелов и артиллерийская канонада. Фон Холтиц сдал город французским внутренним силам 25 августа на улице де Риволи в особняке Морис. К его заслугам, если можно так сказать, стоит отнести неподчинение приказу фюрера сжечь Париж до основания в отместку за бунт. Когда Холтица конвоировали из Отель-де-Билль на церемонию подписания капитуляции, на улице собралась толпа, выкрикивавшая гневные обвинения. Вечером того же дня де Голль занял здание военного министерства на улице Сен-Доминик и произнес у ратуши вдохновенную речь, где объявил, что Париж наконец-то «освободил себя». Как и всегда, де Голль интуитивно угадывал глубинные течения, бурлившие под поверхностью общих политических событий. Освобождение Парижа, как сказал Эйзенхауэр, стратегической важности в большой войне, шедшей по всей Северной Европе, не имело. Но то, что парижане сами отбили свой город, имело огромное психологическое и символическое значение.ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ ОБЩЕСТВО СПЕКТАКЛЯ 1945–2001 гг.
«Красота вырвалась на улицу!» Плакат. Париж, май 1968 г.Глава сорок первая Пейзаж после битвы
Прошло несколько дней после освобождения, и парижане осознали, что город находится в уникальном положении: разрушения войны его не коснулись. Город бомбили нацисты и союзники, но бомбы падали в основном на окраины, так что великие памятники столицы остались практически нетронутыми. Жилые кварталы тоже практически не пострадали после локальных артобстрелов и уличных боев. Всякий, кто помнил Париж 1918 года, без труда узнал бы его и в 1945 году, даже парижане 1870-х годов легко опознали бы в нем столицу XIX века. Общность с пострадавшими от войны городами у Парижа все-таки была — он тоже выглядел запущенным и обшарпанным. Фасады были испещрены следами от пуль и заляпаны грязью. Уличное освещение отсутствовало, кругом лежали груды мусора, не вывозившегося с начала оккупации. В битве за освобождение Парижа в августе 1945 года наводнившие Сопротивление молодые люди восхищались тем, что на мостовую пролилась кровь немецких солдат. «Chacun son boche!» — «По немцу каждому!» — идя в атаку, кричал полковник Анри Роль-Танги, коммунист и глава городских повстанцев. Теперь же, когда все закончилось, тело города покрывали шрамы. В воздухе стояла мешавшая дышать пыль, люди травились ядовитыми веществами, которые, как поговаривали, из мести распылили отступающие нацисты. Все последующие горькие культурные и политические раздоры, потрясавшие город, были делом рук исключительно парижан. Сразу после освобождения по Парижу прокатились волны мести так называемым collabos, то есть коллаборционистам: начались аресты и самосуды над всеми, кто сотрудничал или только подозревался в сотрудничестве с нацистами. Началось L'épuration sauvage («дикое очищение»). Осенью — зимой 1944/45 годов волна ярости охватила горожан, жаждавших справедливости. Все происходящее походило на мрачную оргию ненависти и отмщения. Первыми пострадали известные шпики, полицейские осведомители и дельцы черного рынка, которым платили (или кого подозревали в том, что им платили) нацисты. Большинство из них были казнены без всякого суда и следствия. Ходили слухи, что в первые месяцы после освобождения страны по всей Франции было казнено до 100 000 коллаборационистов; позднее утверждали, что эти данные завышены теми, кто пытался выставить предателей невинными жертвами и показать «освободителей» кровожадными варварами. Правые назвали месть толпы эхом Террора 1793 года. В этом была доля правды: большинство казней происходили из мести, что отличало революционный менталитет 1790-х годов. Можно с уверенностью сказать, что казней было как минимум 10 000 (это подтверждает официальная статистика). «Красота вырвалась на улицу!» Граффити. Париж, май 1968 г.
«Красота вырвалась на улицу!» Граффити. Париж, май 1968 г.
Настоящей проблемой стало определение самого понятия «коллаборационизм». Дело, казалось бы, несложное: кто настоящий коллаборационист, было понятно — все видные деятели Виши и публичные персоны времен оккупации. С этими все было ясно: они выступали заодно с идейными нацистами, мечтавшими о господстве своей расы, а если и проявляли себя как французы, то искали мести за дело Дрейфуса и множество других преступлений, совершенных против европейской цивилизации от имени социализма или демократии. Так что коллаборационистом в этой трактовке автоматически становился всякий, кто принял решение о сотрудничестве с нацистами в октябре 1940 года, когда маршал Петэн призвал в радиообращении каждого француза «явить искреннее сотрудничество, преисполниться терпимости и доверия». В 1940-м множество парижан были «петэнистами», даже не являясь сторонниками нацистов. Война, однако, внесла свои коррективы в толкование термина «коллаборационизм». Неясности в терминологии появились во времена оккупации, когда практически каждый житель города в определенный момент был вынужден подчиниться нацистам, пусть и неохотно, но сотрудничать с ними. Еще хуже дело обстояло с определением пассивных коллаборационистов: является ли преступлением, например, секс с немецким солдатом, особенно если это любовь? Является ли «политическим коллаборационизмом» согласие налить воды на вежливую просьбу со стороны офицера германской армии? А пение, или участие в театральном представлении, или публикация книги? А донос на соседа, который, возможно, был коммунистом или евреем? Если обобщить, то к 1943 году «все были коллаборационистами». Четко размеченной шкалы злодеяний не существовало.
Спектакль правосудия
Среди постыдных картин тех лет особенно запомнились сотни женщин, которым брили головы в наказание за «горизонтальный коллаборационизм» — за то, что они спали с врагами. В Париже, и особенно в рабочих районах столицы, стало даже модным присоединиться к толпе, которая нападает на подобных женщин и издевается над ними. В XVIII округе шлюху, обслуживавшую немецких пехотинцев, беснующаяся толпа забила ногами до смерти. Та же участь постигла известных гомосексуалистов, продававших себя светловолосым «арийским бестиям». Железнодорожные рабочие, четыре года терпевшие издевательства мелких чиновников, давили им яички или увечили иначе — всегда так, чтобы те остались нетрудоспособными инвалидами. Ходили слухи, что молодые борцы Сопротивления собираются отрезать грудь даже любимице парижан Арлетти, общавшейся с бошами в лучших салонах и на приемах. Актрису арестовали. Освободившись, она появилась в свете с тюрбаном на голове, из-за чего пошли слухи о том, что ей обрили голову (Арлетти выпускали из тюрьмы на съемки парижских сцен для фильма «Дети райка» Марселя Карне). Некоторых женщин обливали смолой и валяли в перьях, на других рисовали знаки свастики и гнали по улицам, третьих прилюднопытали. Ликование палачей, которым сопровождалось человеческое страдание, позднее замалчивалась левыми «освободителями». Не менее жестокое «очищение» шло в рядах интеллектуалов и политиков — единственное отличие состояло в том, что большинство процессов проходило официально, а не было самосудом ярых мстителей (многие из которых и сами имели преступное прошлое). Судебные слушанья начались весной 1945 года, которая выдалась солнечной и теплой и была полной противоположностью мрачной атмосфере, нависшей над залами наспех собранных судов, пропустивших сквозь себя за короткий период времени огромное число обвиняемых. Той же весной дух мщения получил дополнительный импульс: в Париж начали возвращаться заключенные из концентрационных лагерей. Они выделялись в толпе неуверенной походкой, почерневшими зубами, тонкими как спички руками и ногами. Встречая их на улице, многие парижане не могли сдержать слез. Прошли недели и месяцы после освобождения города, и те, кто во время оккупации оказывал немцам поддержку, поняли, что попали в смертельную ловушку. Среди них начались таинственные «самоубийства», некоторые пропали без вести. Многие попрятались по темным квартирам в надежде на то, что беда обойдет их стороной. Когда начались суды, напряжение сразу спало. Самые ожидаемые парижанами слушания — над маршалом Петэном и Пьером Лавалем — прошли летом — осенью 1945 года. Парижане чувствовали себя преданными и испытывали гнев, наблюдая за тем, как Лаваль пытался покончить с собой, но все равно, был публично казнен, а Петэн получил пожизненное заключение. Горожане считали, что в этом случае возмездие никак не соответствовало совершенным злодеяниям. Многие известные коллаборационисты надеялись отвертеться от наказания, судьи же, что называется, ходили по тонкому льду — с одной стороны, в зале сидела разъяренная толпа, жаждавшая возмездия, с другой, над ними стояло правительство, ожидавшее, что слушания пройдут в соответствии с законом. Видным пособником нацизма, у которого было множество друзей в верхах, в том числе во Французской академии, был Робер Бразийяк (среди тех, кто подписал прошение об отмене ему смертной казни, были Поль Валери, Франсуа Мориак и Поль Клод). Как бы то ни было, Бразийяка казнили, и мало кто о том сожалел. Лишь эстет, гомосексуалист, арабист, друг и любовник Пруста, коллаборационист (и фанатичный поклонник Гитлера, прозванный «la Gestapette»[131]) Жак Бенуа-Мешен высказывал странную причину, по которой не стоило казнить Бразийяка: «Нельзя убивать поэта!» Сам Бенуа-Мешен едва избежал встречи с расстрельной командой и вновь появился на политической арене Франции в конце 1950-х годов как советник правительства де Голля по связям с арабским миром. Никто не сомневался в том, что Бразийяк является преступником. Его ненависть к парижским евреям ошеломляла даже руководящую верхушку нацистов (во время операции «Весенний ветер» он громко жаловался Даннекеру, что захвачено слишком мало еврейских детей). Его судили по обвинению в измене родине и казнили 6 февраля 1945 года. «Париж наиболее прекрасен, когда его покидаешь», — сказал он при аресте. Бразийяк был отъявленным злодеем, но его анализ политики «очищения» был острым и проницательным. Прячась от ареста, он назвал восстание против нацистов и освобождение столицы «предательством истории».У меня нет иллюзий в отношении военных подвигов так называемой «недели славы», — писал он. — Я помню, что в городе оставалось всего несколько тысяч немцев, я не верю в миф о героизме восстания. […] Я читал некоторые книги Арагона, в том числе отрывок, где он говорит о «дерьме французской армии», а также его недавние стихи… Газеты твердят мне, что освобождение Парижа есть славный военный подвиг, но я знаю об убийствах, случаях личной мести и гнусных преступлениях[132].
Неприязнь Бразийяка к Луи Арагону, который цинично играл роль поэта-патриота в оккупированном Париже, вполне оправдан. Напрочь забыв о свободолюбии сюрреализма, Арагон стал ярым сталинистом, неприкрыто старавшимся обернуть «чистки» после освобождения столицы на пользу коммунистической партии. Так, в своей газете «Les Lettres françaises» Арагон призвал обрушить полноту гнева борцов Сопротивления на всех, кто хоть как-то выступал против компартии. Он вел кампанию против маститого романиста Андре Жида, чьи антинацистская позиция и нелюбовь к СССР были общеизвестны. Подобных нападок не избежал и писатель Поль Низан, который до соглашения между Советами и нацистами в 1939 году был коммунистом. Он слыл смелым бойцом и погиб во время отступления в Дюнкерке в 1940 году. Попыткам Арагона представить его «полицейским шпионом» воспротивились многие деятели парижской литературы и науки, например Андре Бретон и Жан-Поль Сартр, но упрямые коммунисты подхватили эту ложь и понесли ее, словно знамя. Вскоре Арагон заработал кличку «Робеспьер освобождения». Его жесткая позиция не лезла ни в какие рамки. Его симпатии были непредсказуемы. Он, например, защищал Дриэ ля Рошеля, называл его писателем, идеи которого неверно истолкованы из-за сменившихся исторических обстоятельств. Ля Рошель же, впав в отчаяние от того, что Европу «теперь разорвут русские и саксы», 15 марта покончил с собой. После его похорон, на которых присутствовали видные антифашисты, скажем, Андре Мальро, лихорадка «чисток» пошла на спад. Ряд видных коллаборационистов избежали смертной казни: Люсьен Ребате и Шарль Моррас (сейчас ему почти девяносто лет) отделались тюремным заключением. «Очищение» Парижа тех лет считали одновременно «жестоким и слабым». Это мнение, о котором пишут Бивор и Купер, отчасти оправданно. Даже самые мстительные борцы Сопротивления быстро заскучали или устали от ужасов происходящего. Государственные суды работали в спешке, были неорганизованны или коррумпированы, а в результате многие преступники, ответственные за самые ужасные деяния в истории Парижа, получили слишком мягкие приговоры или вовсе избежали наказания. Поэтому вера в сменявшие друг друга после войны правительства была подорвана. То чрезмерно жестокая, то подозрительно мягкая месть победителей усилила напряженность в парижском обществе, а чувства справедливого возмездия не принесла. Парижане были словно загипнотизированы спектаклем, идущим на арене правосудия, даже ведущие политики и интеллектуалы тех лет потеряли ощущение реальности происходящего на пыльных серых улицах обнищавшей столицы мира.
Нынешние времена
В основном «очищение» вызывало тоску и неприязнь, так что когда начались официальные судебные слушания, ни правые ни левые уже не желали копаться в прошлом глубже, чем необходимо. Альтернативой прошлому был, конечно, взгляд в будущее, что и объясняет возникшую после 1945 года страсть к новшествам, особенно проявившуюся на левом берегу Сены. Теперь жизнь кипела не на Монпарнасе, который ассоциировался с довоенным упадком духа и предчувствием грядущей катастрофы в канун оккупации, а на терассах кофеен, окружавших перекресток Сен-Жермен-де-Пре, где улица Ренн встречается с бульваром Сен-Жермен. Самым известным из всех были «Café de Flore», «Café Deux Magots» и пивная «Lipp», прославившиеся тем, что их завсегдатаями являлись Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар и Альбер Камю, всевластные редакторы и издатели газеты «Nouvelle revue française», издательского дома «Gallimard» и множества иных изданий, журналов и литературных альманахов. Именно здесь послевоенное поколение, которое только позднее определило себя таковым, экспериментировало с новыми образами мышления и моделями поведения, создавало политические и философские теории, описывающие мир. Всякий желавший приобщиться к интеллектуальной жизни Парижа конца 1940-х годов шел сюда — в треугольник, расположенный в нескольких минутах ходьбы от Сены. У всех на устах звучало новое словечко — «экзистенциализм». Оно впервые было использовано для описания философии, представленной такими немецкими мыслителями, как Мартин Хайдеггер или Эдмунд Гуссерль, философии, которая утверждала, что само существование не имеет смысла, общепринятая мораль является результатом вымысла и требует нового осознания. Поколение Жана-Поля Сартра, так называемые экзистенциалисты, впервые столкнулись с этой идеей, изучая метафизику в Париже и Берлине. В послевоенный период Сартр выделился тем, что попытался соединить эту нигилистическую идеологию с постулатами традиционной этической французской философии. Из этого исходил журнал «Les Temps Modernes», основанный в 1945 году Симоной де Бовуар и Сартром как трибуна для дебатов о будущем страны после Второй мировой войны. 29 октября 1945 года в клубе «Maintenant» Сартр прочел лекцию «Экзистенциализм как форма гуманизма». К вящему удивлению писателя, лекционный зал на улице Жана Гужона был переполнен, а речь пришлось читать перед бурно реагирующей публикой, состоявшей из серьезных девушек и молодых людей[133]. Эта лекция стала наглядным примером того, что экзистенциализм вышел за стены университетских аудиторий и сделался неотъемлемым элементом жизни целого поколения молодежи, пережившей войну, но продолжавшей сомневаться во благах западной цивилизации. Со всей Франции молодые люди устремились на Сен-Жермен-де-Пре, чтобы поучаствовать в бурных культурных потрясениях, которые станут первым шагом к послевоенному обществу поп-культуры. Экзистенциализм оказал влияние как на стиль жизни многих парижан, так и на их философию. Активисты движения пользовались собственным сленгом, пестрившим немецкими словечками, предпочитали повседневную одежду черного цвета, одинаковую для обоих полов. Мужчины зимой носили la canadienne (тяжелые зимние полупальто, рассчитанные на суровые канадские зимы) или montycoat — толстые шерстяные спортивные куртки. Девушки щеголяли в легких, похожих на балетные туфельках без каблуков, в моде были челки. И те и другие предпочитали свитеры с высокими воротниками. Аккомпанементом культурной, сексуальной и политической жизни тех лет служил джаз — музыка угнетенных американцев. Самым знаменитым — и столь любимым «Зазу» еще со времен оккупации — джазбэндом тех лет был ансамбль Клода Лютера «Les Lorientais», который играл в подвале особняка де Карме. Джаз считался музыкой интеллектуалов, и Борис Виан, автор очень смешной сатиры на Сартра и его культ, гордился умением играть на трубе не меньше, чем своим несомненным писательским даром. Духовной штаб-квартирой «поколения экзистенциализма» стал ночной клуб «Le Tabou» на улице Дофина, когда-то здесь любили собираться посыльные из редакций газет, а теперь — все, кто прогуливал ночи в «Bar Vert», «Montana», «Mabillon», «Chez Cheramy» и других кафе округи. Прошло немного времени, и пресса возвестила о новой охватившей молодежь левобережья моде. В мае 1947 года журнал «Samedi Soir» опубликовал сенсационную статью «Вот так живут троглодиты Сен-Жермен!». Автор описал «гигантские оргии молодых экзистенциалистов», которые проводят жизнь, «предаваясь пьянству, танцам и любви в подвалах, и будут делать это, пока атомная бомба, которую они так ждут, не упадет на Париж». Именно эта версия экзистенциального стиля жизни обошла весь мир и породила миф о разнузданности Сен-Жермен-де-Пре, райского местечка для битников того времени. Это был сверкающий мир ночной жизни, населенный усердно выпивающими молодыми литераторами и студенточками, податливыми, легковерными и изощренными в искусстве любви. Этот мир славили песни. Стефан Гольман проникновенно пел:Культурные войны
В определенном смысле освобождение Парижа не внесло никаких перемен в повседневную жизнь населения столицы. Экономика страны была разрушена, за пределами шумной ночной жизни Сен-Жермен-де-Пре большинство горожан жили в условиях, которые если не ухудшились, то никак не улучшились со времен оккупации. В рабочих округах Бельвиль и Менильмонтан проживало множество искалеченных ветеранов войны, они не могли найти никакой работы и потому пили дни напролет. Обычным рационом тех лет была вареная капуста и набор продуктов, которые удавалось приобрести на самопроизвольно возникающих рынках улицы Менильмонтан. Когда дизайнер модной одежды Кристиан Диор организовал фотосъемку коллекции «Новый образ» в «типично парижском» окружении уличных рынков Монмартра, представительницы рабочего класса набросились на манекенщиц и в ярости посрывали с них одежду. В 1947 году США разработали план Маршалла и вложили миллионы долларов в промышленность Франции. Страна облегченно вздохнула, но большинство французов знали, что эта стратегия является превентивным ударом по растущему влиянию коммунистов и их идей, столь популярных в народе. К тому времени Европа политически разделилась на Запад и Восток: на зону влияния бывших союзников и страны коммунистического блока, контролировавшиеся из Москвы. Для жителей Запада свободный Париж стал гарантией независимости всего континента, только что вышедшего из самого кровопролитного конфликта в истории человечества. Подобное восприятие Парижа как некоего тотема свободы подверглось испытанию уже осенью 1947 года, когда по всем промышленным предприятиям Франции прокатились самые мощные со времен 1930-х годов волнения рабочих, спровоцированные коммунистами. Страхи и напряженность, вызванные стачками и столкновением идеологий, только способствовали упрочению позиции Франции среди стран Западного блока в «холодной войне». И вновь политическая нестабильность тех лет странным образом обогатила культурную жизнь страны. Такие французские писатели, как Жан-Поль Сартр, Альбер Камю и многие другие, возвели французскую литературу на высоты, которые можно сравнить лишь с эпохой Вольтера и Руссо. Отчасти культурный подъем был вызван изменением менталитета нации, героически победившей в борьбе с мощной военной машиной. Именно притягательность парижской атмосферы способствовала рождению новых теорий: переосмыслению марксизма и фрейдизма и появлению на свет экзистенциализма и новой науки — структурализма, претендовавшего на фундаментальную роль в области гуманитарного знания.Глава сорок вторая Седьмая «вилайя»
Главной нотой политической жизни 1950-х годов, в противоположность расцвету интеллектуальной жизни левобережья, стали упаднические настроения. Четвертую республику — череду слабых режимов, первый из которых начал свое правление в 1946 году, — в условиях не менявшейся с 1930-х годов конституции непрерывно сотрясали перетекающие друг в друга кризисы. Смена властей происходила из-за непостоянства настроений внутренней политической жизни, упадка внешней политики и перманентного экономического кризиса. Правительства этого периода не имели ни реальных полномочий, ни генерального плана развития страны. Взявший бразды правления страной сразу после ее освобождения де Голль в 1946 году подал в отставку, отмежевавшись от политического хаоса следующих тринадцати лет. Начавшийся сразу после войны рост населения столицы продолжался все эти годы, появились первые ростки потребительской культуры, сопровождавшей подъем французской экономики. Власти Франции не поспевали за развитием страны, которая каждый раз, когда менялось правительство, оказывалась на грани хаоса. Чувство недовольства, отличавшее парижан тех лет, преобразилось в примитивный антиамериканизм, который не имел объяснимых оснований. Парадоксально, но парижане в конце 1940-х годов любили громогласно утверждать, что искренне ненавидят все американское — и при этом обожали культуру США: от джаза и фильмов до одежды. Среди левых эта противоречивая мода привела к несколько шизофреническому раздвоению сознания молодых интеллектуалов, которые, будучи рабами американской культуры, громко и с гордостью провозглашали свою любовь к Москве, которая, по их мнению, была философской и идеологической столицей мира. Остальные парижане, разочарованные беспомощностью политики и политиков, впали в апатию и самодовольство. Недолгая популярность пужадизма (реакционного движения правых, которое возглавил владелец газетного киоска Пьер Пужад) стала недвусмысленным свидетельством кризиса политики и морали тех лет. У сторонников Пужада, кроме неприязни к иностранцам и недоверия ко всем политикам, определенной политической программы не было. Одновременно с 1945 года на другом берегу Средиземного моря зарождалась новая война, которая потрясет Францию до основания. Жизнь французов вскоре будет определять не только Париж, но и Алжир. Но в данный момент мало кого из жителей столицы волновали события, происходящие вдалеке от города. Однако долго не замечать происходящее было невозможно. Очень скоро эхо алжирских событий прокатится по улицам Парижа. Новая катастрофа разразилась в 1945 году: до Парижа дошли тревожные слухи о пролитой крови на тихом рынке городка Сетиф в Алжире. Поговаривали, что алжирские мусульмане превратили демонстрацию в восстание. Митингующие алжирцы среди флагов стран-победителей Англии, Франции и России несли знамя родного Алжира. Когда полицейские попытались его отобрать, началась стрельба. Вооружившись топорами и ножами, демонстранты напали на европейских поселенцев, на так называемых «pied noirs» («черноногих»). За пять дней боев были убиты более ста европейцев: многим перерезали горло, других изувечили до неузнаваемости. Мужчин кастрировали, женщин наси-ловаловали. Местные религиозные лидеры объявили джихад и провозгласили долгом каждого мусульманина убивать всех неверных. Неслучайно печально известное восстание началось 8 мая — в День победы, когда нацисты прекратили военные действия в Европе. Понятное дело, в Париже все новости из-за границы растворились в пьяных оргиях, танцах и гуляниях. Ни одна парижская газета не посчитала нужным выслать в Алжир собственного корреспондента. Даже де Голль отмахнулся от этих новостей, посчитав, что Франция имеет дело с «локальным восстанием в Константине, <…> которое прозевал генерал-губернатор Шатено». Реакция Франции была жестокой — войска за несколько недель уничтожили около 6000 мусульман. Военные показали «крепкую руку» (и выместили злобу за недавние унижения от немецких оккупантов). Каирское радио объявило, что погибли более 45 000 алжирцев, и алжирские националисты поверили в эту статистику. После случая в Сетифе алжирский кризис свелся к отдельным стычкам между французской армией и националистами из Народной партии Алжира (НПА), которая позднее была преобразована во Фронт национального освобождения (ФНО). Вялая реакция властей дала алжирским националистам время спланировать и организовать продолжительную и жестокую войну. Заодно они уладили все внутренние раздоры. В 1954 году ФНО, получавшая деньги от арабского мира, оснащенная новым оружием и марксистско-ленинистской идеологией, взяла ситуацию дома и во Франции в свои руки. Война в Алжире официально началась в праздник Всех святых, после того как ФНО в ответ на взрывы и памфлеты, подогреваемый радиопередачами из Каира, объявил о своей программе «восстановить государство Алжир, превратить его в независимое, демократическое и с основанное на принципах ислама общество»; причем допустимыми считались любые методы достижения этой высокой цели. Для упрощения операций руководители ФНО разделили Алжир на шесть «вилайя» (арабское слово, обозначающее территорию, находящуюся под правительственным или военным контролем). Другой пункт партийной программы ставил целью донести «войну до Франции» и превратить Париж в «седьмую вилайю».Битва за Париж
Возобновление вооруженного противостояния в Алжире сопровождалось массовым бегством мирных граждан в Париж. Иммигранты прибывали не только из Алжира, но и со всего североафриканского побережья. Официальная статистика утверждает, что в период между 1947 и 1953 годом из Алжира в Париж переселилось 740 000 человек. Реальные цифры, скорее всего, были значительно выше. Изначально беженцы из Северной Африки селились в центре столицы, где в 1920-х и 1930-х годах проживали их земляки: на площади и улице Мобер, в Л’Аль, на окраинах Клиши и Женевилье (где издавна обосновались марокканцы). Поколение предвоенных иммигрантов давно состояло на учете и находилось под особым надзором сил правопорядка. Префект полиции Кьяп в 1925 году даже создал специальное отделение, которое должно было держать североафриканское население Парижа под контролем. Особое полицейское подразделение базировалось в доме № 6 на улице Леконт в XVII округе столицы. После освобождения города от нацистов отряд упразднили — сотрудники, набранные из экс-колонистов, подозревались в связях с гестапо и вишистами. Парижские североафриканцы быстро поняли, что многочисленные обещания властей освобожденного города о расовом равенстве выполнять никто не будет, хуже того, они уже нарушаются. Беженцы ежедневно сталкивались с предубежденным отношением и, подобно евреям, стали селиться кучно в попытке обеспечить собственную безопасность. Они формировали политические организации, которые немедленно объявлялись вне закона парижскими властями. В 1952 году лидер запрещенной алжирской националистической организации «Движение за торжество демократических свобод» (ДТДС) Мессали Хадж был отдан под суд, который запретил ему покидать Париж, а горожане в ходе слушаний узнали, что такие алжирские националисты, как Абдеррахман Ясин, Си Джилани и Мохаммед эль-Маади, сотрудничали с немцами. Левые и правые жаловались на то, что иммигранты разводят антисанитарию, что ислам и «европейская цивилизация» несовместимы и что «североафриканская преступность» набирает силу. Приехав в Париж, многие иммигранты обнаруживали, что жизнь здесь еще опаснее и контролируется жестче, чем в колониях. Тревогу столичной полиции вызывали идеи о панарабском национальном освободительном движении, воплощением которого стал харизматический президент Египта Насер. Во множестве создавались проарабские газеты, их немедленно закрывали. В начале 1950-х напряженность стала очевидна даже на улицах: регулярные массовые демонстрации арабов часто заканчивались вспышками насилия. 14 июля 1953 года группа алжирских боевиков из ДТДС была расстреляна полицией, разгонявшей демонстрацию, в которой участвовало около 4000 националистов, собравшихся на площади Нации, чтобы потребовать освобождения Мессали Хаджа. Через несколько недель более 20 000 арабов из разных стран вышли на арену де Ивер в знак солидарности и скорби по погибшим. Первый секретарь префекта полиции Морис Папон (участвовавший в депортации евреев с Вель-д-Ивер) быстро создал особое соединение — lа Brigade des aggressions et violences (BAV, Бригада подавления агрессии и насилия) для решения «алжирской проблемы». Именно тогда колониальная война шагнула на улицы столицы (и тогда же термин «bavure» — «ошибка, путаница» — стал общепринятым отзывом о Бригаде Папона). Ситуацию усложняла и подпольная война между ФНО и конкурентами-националистами, сражения разыгрывались прямо на улицах Парижа в XIII, XV и XVIII округах. В XIX округе на улицах Пети и Mo между ФНО, ДТДС и НПА не раз случались перестрелки. Морис Папон пользовался услугами информаторов-алжирцев, он создал целую сеть harkis — верных Парижу, а не Алжиру арабов, чьей задачей являлось наблюдение и информирование властей о затеях компатриотов. Националисты презирали harkis, считали их предателями и коллаборационистами. Французские правоохранители скрывали существование информаторов, равно как и пытки заключенных и собственное умение выбить из арестанта любую информацию. Пока алжирцы грызлись между собой, полиция была довольна. Всю вторую половину 1950-х в Париже шла подпольная и кровопролитная война между ФНО и конкурентами-националистами. Газета «L’Aurore» писала, что в 1957 году окрестности улицы Готте-де-Ор, прозванной «парижской Мединой», стали запретной зоной для любого европейца и местом, где боевики ФНО и ДТДС средь бела дня ходят с автоматами наперевес. Но страшнее других были улицы северного Парижа, где «полиция не смела появиться»: рю Шарбонье, рю Шартр, улица Мира и рю Стефенсон, лежавшие в двух шагах от станции метрополитена «Барбе». Французские левые в большинстве своем симпатизировали движению алжирцев, многие считали, что единственным способом их поддержать является активное участие в борьбе. Преподаватель философии и близкий друг Сартра Франсис Жансон создал в Париже организацию по поддержке ФНО, за что в 1960 году был арестован и предан суду. Жан-Поль Сартр ратовал за Алжир, что вылилось в знаменитый, подписанный ведущими интеллектуалами тех лет «Манифест 121». Общество считало, что французы в Алжире ведут себя не лучше, чем нацисты десятью годами ранее во Франции. Когда слухи о творимых французской армией пытках и убийствах стали широко известны и получили подтверждение, даже самые умеренные граждане не могли найти алжирской войне никаких оправданий. Шарль де Голль вернулся в правительство, когда алжирский кризис перерос в беспорядки, грозившие гражданской войной, и полностью уничтожил всякое уважение к режиму президента Рене Коти. В том обстоятельстве, что де Голля во власть вернул Алжир, есть немалая ирония. Поводом к конфликту в мае 1958 года послужила массовая забастовка и захват резиденции генерал-губернатора в Алжире, провели который офицеры из правых и рядовые из «черноногих», окончательно разуверившиеся в политике Парижа. Де Голль из осторожности держался от «путчистов» на расстоянии, но воспользовался их действиями, чтобы в соответствии с конституцией возглавить правительство и взять ситуацию в свои руки. В 1959 году, к вящему неудовольствию приветствовавших его приход правых, де Голль утверждал, что единственный выход для «великой нации» — дать алжирцам право на самоопределение. С возвратом де Голля французская власть вернула себе уважение народа, но спокойствия на улицах столицы так и не прибавилось. Военные действия лишь ожесточились, началась «битва за Алжир» — террористическая кампания ФНО 1957 года, сопровождавшаяся взрывами и перестрелками с целью запугать парижан-европейцев. Столичная полиция обрушилась на всех алжирцев без разбора: и тех, кто хоть отдаленно походил на выходцев из северной Африки, и потенциальных террористов. Наконец Морис Папон совершил худшее — установил комендантский час для «французских мусульман североафриканской внешности». Такая политика привела к катастрофе: 17 октября 1961 года десятки тысяч алжирцев собрались в центре города на демонстрацию с требованиями мира и независимости. Полиция отреагировала жестоко и беспощадно, чем напомнила обществу о депортациях евреев с Вель-д-Ивер: Папон пригнал полицейские фургоны и грузовики, в которые, жестоко избивая, грузили демонстрантов и свозили на стадион де Кубертен, во Дворец спорта и Шато де Венсенн. Перепалка между демонстрантами и полицией на мосту Нейи переросла в настоящее сражение: тяжеловооруженные полицейские отряды напали на толпу, убили двух и ранили множество демонстрантов. После этого полиция начала убивать алжирцев без счета и сбрасывать тела в Сену. Позднее этот конфликт назвали «битвой за Париж», хотя в действительности это было очередное из множества кровопролитных столкновений в истории Парижа. Теперь Папон думал лишь о том, как скрыть содеянное. Утром после трагедии небольшая группа активистов компартии — все европейцы, кстати, — под предводительством писателя Артюра Адамова и режиссера Жана-Мари Биноша пришла на мост, чтобы написать на нем: «Здесь убивали алжирцев!»; когда дело было сделано, они вернулись в бар «Олд Нэви» на бульваре Сен-Жермен. Надпись быстро смыли, но уничтожить все свидетельства убийств полицейским не удалось. Распухшие трупы алжирцев несколько недель обнаруживали рядовые граждане, прогуливавшиеся по набережным Сены. Но и это было не все: демонстрация за мир и против акций ТВО («Тайной военной организации» — террористической организации правого толка, образованной в Алжире «черноногими»), проходившая в феврале 1962 года, была разогнана полицией. В этот раз в столкновении на станции метро «Шаронн» погибли девять и были ранены сотни человек. Алжирская война прочно вошла в повседневную жизнь Парижа: террористы ТВО взяли на себя ответственность за взрывы аптеки на Елисейских полях, штаб-квартиры газеты «France Soir», здания министерства иностранных дел на набережной Орсе и квартиры Жана-Поля Сартра на улице Бонапарта. Они также планировали подрыв Эйфелевой башни и покушение на самого де Голля (в 1962 году у Пти-Кламар ТВО предприняла неудавшуюся попытку убить президента). Парижане крайне критически встретили очередную волну насилия, которое, казалось, не кончится никогда. Когда де Голль в том же году даровал Алжиру свободу, большинство жителей столицы встретили это событие с облечением и ощущением, что справедливость восторжествовала.«Форма города…»
Действительно, котел «алжирских страстей» второй половины 1950-х годов уже остывал, и внимание рядовых горожан и политиков страны все чаще обращалось к менее трагическим событиям. Первым требовавшим срочного решения вопросом стал рост населения и, следовательно, нехватка жилья. Недостаток жилых зданий в городах Франции, особенно в Париже, отчасти являлся наследием прошедшей войны. Почти четверть жилого фонда страны в период 1940–1945 годов была разрушена или повреждена. После войны правительству пришлось разрабатывать в первую очередь масштабные программы по восстановлению инфраструктуры — железных и автомобильных дорог, портовых сооружений. Поэтому в начале 1950-х почти 90 % домов Парижа не имели простейших удобств — душа, туалета или ванны. Многие кварталы ныне модного центра столицы, огромные участки левобережья близ Сены и внешние районы правого берега походили на помойку и были населены разнорабочими и иммигрантами. Отдельных квартир в этих районах почти не имелось: большинство местных жителей ютились в обветшалых дешевых мотелях или общежитиях. Повсюду, не только в рабочих районах, стояли бесплатные кухни для бедноты. Хуже всего были «bidonvilles»[135], скопления халуп, выстроенных из кусков бетона и листов гофрированного железа, разбросанные вокруг Парижа и по окраинам бывшей «зоны» — в Нуази, Иври, Вильжю-фе, Нантерре. Эти кварталы позорили столицу, и левые политики все громче призывали власти исправить ситуацию. Простого решения этой проблемы, однако, не существовало: требовалась масштабная реконструкция центрального Парижа — крайне непопулярное решение среди политиков и архитекторов — или переселение пролетариата в и без того неспокойные banlieue. Но переезду рабочих противилось левое политическое крыло, лелеявшее мечту о «красном Париже». Еще в 1948 году правительство разработало план по строительству жилья — так называемых habitations à loyer modéré (жилых домов за умеренную плату, HLM). Это были высококачественные здания, часто строившиеся в центре города или в особо привлекательных районах, но их катастрофически не хватало, и цены на квартиры в них были запредельными. В начале 1950-х годов программу HLM возродили, но теперь муниципалитет стремился строить так называемые grands ensembles, многоэтажные кварталы за внешним кольцом опоясывающих Париж дорог, соседствующие с загородными виллами. Самый известный ансамбль — район Сарсель, расположенный на севере города. Строительство комплекса, вмещающего около 10 000 человек, было завершено в 1954 году. Однако среди его поселенцев быстро распространился синдром нарушения психики жителей больших современных кварталов — странная форма аномии XX века, коренившаяся исключительно в скуке и безысходности жизни в высокотехнологичной среде, где нет места кофейням, барам, маленьким улочкам, магазинчикам, рынкам и любому другому элементу традиционной суетной жизни Парижа, богатой разнообразными мелочами. «Успех» Сарселя подстегнул градостроителей, и к концу 1950-х годов Париж окружили более девяноста уродливых, построенных за небольшие деньги районов, вгонявших в депрессию своих жителей и гостей. Теснота в Париже постепенно исчезала, но далось это нелегко. Горожане преклонного возраста заметили, что освобождение столицы от нацистов уничтожило многие аспекты культурной жизни Парижа, которые безвозвратно канули в прошлое. Припоминаются бодлеровские стихи XIX века, поэт говорит о вымирании старого Парижа: город преображается в «мегаполис, который меняется, увы, быстрее смертного сердца человеческого». Жертвой городских перемен пали традиционные полуофициальные бордели, существовавшие, сколько столица себя помнила. Кампанию по уничтожению публичных домов возглавила некая Марта Ришар (сама шлюха в отставке и полицейский информатор); так как после войны бордели считались признаком упадка, который и развалил старую добрую Францию, этой даме было несложно заручиться поддержкой прессы. Хуже того, всем было известно, что дома терпимости не бедствовали и при оккупантах, принимали их с тем же гостеприимством, что французов. Как только был принят закон 1946 года, более 180 публичных домов Парижа были закрыты, в том числе знаменитые «Шабанэ» (известный с 1820 года), «Сфинкс», и «Ле Уан Ту Ту». Бордели были не просто неотъемлемой частью парижского фольклора и местом, куда, чтобы вкусить легендарных удовольствий столицы, приходили иностранцы, но также элегантными и богато украшенными памятниками, посвященными всем формам сексуальных удовольствий человечества. Такие заведения, как «Сфинкс» или «Ле Уан Ту Ту», предлагали посетителям не только секс за деньги, который можно было приобрести на любом углу города, но и специальные «шоу» и «спектакли» на любой вкус клиента, предварявшего сексуальные утехи обедом в местном ресторане. Лицемерие сенаторов, проголосовавших за то, чтобы закрыть бордели, не убедило знаменитую патронессу «Ле Уан Ту Ту» Фабьен Жаме. Распознав среди голосующих несколько завсегдатаев своего заведения, она вслух высказала сожаления в адрес их жен, так как их мужья больше не познают высот наслаждения. Проституция, понятное дело, никуда не пропала, а просто перекочевала на улицы. Продажные девки работали по всему городу, особенно бойко дело шло на улице Сен-Дени, на задворках Пигаль и в коротеньких узких улочках вокруг здания Оперы. Закрытие борделей было воспринято как очередной шаг на пути отдаления общества от старой Франции и приближения к современной англосаксонской модели, завоевавшей весь мир. Гибель домов терпимости тихо оплакивали те, кто понимал, что уничтожена часть сложной, веками складывавшейся парижской культуры удовольствий. Удивительно, но Париж был как никогда красив и фотогеничен именно в период послевоенной разрухи и последующего возрождения. Опустошенные улицы открыли новые виды и перспективы города, что превратило Париж для таких фотографов, как Робер Дуано и Анри Картье-Брессон, стремившихся отобразить изменчивый лик повседневной жизни столицы, в бесконечный спектакль. Подобно своим предшественникам Эжену Атже и Дьюле X. Брассайю, послевоенные фотографы запечатлели городские пейзажи в момент перехода от прошлого к неизведанному будущему. Сюжеты фотографических снимков, полные малозаметных оттенков, разворачиваются на фоне исковерканных войной зданий, полуразрушенных квартир и почерневших от копоти помещений, но всегда освещены маленькой деталью — улыбкой девочки, игрой бродяги с псом, поющей со слезами на глазах женщиной в кофейне. Внимательный взгляд репортеров, вглядывавшихся в повседневную жизнь тех лет, повлиял на кинематограф «новой волны», на таких его деятелей, как Франсуа Трюффо и Жан-Люк Годар, чье революционное творчество рождалось на тех же улицах. Созданное ими кино полно мелких деталей: стука шагов по мостовым, тесных помещений в «400 ударах» Трюффо, манящей яркости кофеен и улочек в «Банде посторонних» Годара. Все эти детали превращают ландшафт города в бесконечную череду приключений и шансов на приключения. Ключом к пониманию кино «новой волны» является осознание того, что построено оно на импровизации, которая разыгрывается в окружающей среде. Целью нового кинематографа, как рассуждал в журнале «Cahiers du Cinéma» Франсуа Трюффо, является создание тщательно проработанного «чувственного» сценария, где режиссер является автором (творцом в полном смысле слова), зачастую — актером и, следовательно, непосредственным участником фильма. Результатом такого подхода явилась живость и яркость образов, от которой буквально перехватывает дыхание, особенно характерных для ранних и лучших творений представителей «новой волны» (в основном Годара и Трюффо), когда смелые и богатые находками визуальные шедевры сливаются с высокой поэзией модернизма. Самое главное, в начале 1960-х годов в политике и культуре Париж начал возрождаться из руин первой половины столетия; улицы столицы стали местом мини-революции в киноиндустрии, которая разглядела в них сцену новой драмы и красоту, а не поле битвы. Однако очень скоро на них развернется трагическая и масштабная революция, так и не набравшая ход.Глава сорок третья Расплывчатый заговор
В начале 1960-х ничто не предвещало бури на парижских улицах, которая к концу десятилетия парализует деятельность французского правительства и практически свергнет его. Все это случилось в мае 1968 года, когда волнения и бунты молодежи левобережья подхватили многие города страны. Все соглашались в одном: беда пришла ниоткуда. Как бы то ни было, май 1968 года ознаменовал поворотный момент в истории XX столетия для всей Европы. Этот мятеж не стал чем-то новым — в истории Парижа таких было множество: например, Народный фронт 1936 года, Парижская Коммуна 1871-го, революционные восстания 1848-го, 1831 год и даже Великая французская революция 1789-го. Отличительной чертой нынешних волнений, однако, стало то, что это не был бунт нищих и голодных низших слоев общества, не организованная подпольщиками акция, а выражение недовольства студентов из среды среднего класса, сыновей и дочерей тех, кто больше других выиграл от перемен в послевоенной Франции. Для многих левых, умеренных и активистов, боровшихся за повышение заработной платы и улучшение условий жизни, восстание именно этих представителей общества было одновременно необъяснимым и шокирующим. Однако парижане, которые были близки пережившему все послевоенные трудности и перемены революционному авангарду, прекрасно понимали, что происходит. Среди прочих в ряды восставших влились члены революционных групп сюрреалистов, коммунисты-радикалы, анархисты и другие мелкие организации, продолжавшие действовать в Сен-Жермен-де-Пре и Латинском квартале, публиковавшие памфлеты и трактаты и яростно обличавшие друг друга. Их объединяла лишь идея о том, что все утопические обещания авангардистов начала столетия следует соблюсти. Все они для себя решили, что подпольная деятельность и саботаж являются главным двигателем истории Парижа — эту теорию не так давно подтвердили борцы Сопротивления, — и действовали в соответствии со своими убеждениями. Революционные программы всех подобных групп свела воедино настенная надпись мая 1968 года: «Будь реалистичен, требуй невозможного!». Откровенно говоря, некоторые предвестия надвигавшейся бури бросались в глаза. Десятилетие началось при крепком правлении де Голля, чей авторитет, несмотря на алжирский конфликт, оставался непререкаемым. Редкие волнения студенческого сообщества, забастовки в Страсбуре и Нанте в середине 1960-х годов, объяснялись левыми как случайность, порожденная скорее излишком комфорта и скукой, но никак не стремлением к серьезной политической конфронтации. Новая культура андеграунда — джаз, рок-н-ролл и литература битников — считалась импортнымпродуктом, который не может ни заменить народную мудрость Парижа, ни составить ей конкуренцию. Однако похороны Эдит Пиаф в 1963 году общество посчитало концом уютной народной культуры. Социолог Эдгар Морен придумал термин musique yéyé («музыка йе-йе»), которым описывал различные нестройные звуки, вторгнувшиеся в Париж из Нью-Йорка, Сан-Франциско и Ливерпуля. Молодежная культура Франции, как подтверждают примеры поклонника Элвиса Пресли, Джонни Холлидея и обаятельной Франс Галль, старательно копировала образы иностранных поп-идолов и веяния зарубежной культуры. Но это продолжалось недолго: Серж Гинсбур и Мишель Польнарефф, поп-дива Франсуаза Харди и другие быстро наполнят поп- и рок-музыку галльским духом. Молодежь 1960-х годов отличало отрицание устоявшейся морали и упаднические настроения. Большинство молодых людей жили с родителями или в атмосфере скучнейшего университета, а образ жизни столицы был для них либо слишком дорог, либо чужд в культурном аспекте — кроме разве что гетто или Латинского квартала. В отличие от своих англоязычных сверстников, которые стали у себя на родине движущей культурной и политической силой, французские студенты оставались под гнетом жесткого патернализма и были вписаны в жесткую иерархию общества. Революционный всплеск 1968 года, несомненно, стал реакцией на традиционные устои, о чем твердили радикально настроенные авангардисты и левые активисты, начитавшиеся Маркса и Гегеля.Быстроград
Париж оставался все таким же грязным и серым городом, что и в начале 1960-х. Отчасти это случилось из-за того, что после войны власти были заняты неотложными делами и для уборки в столице времени уже не хватало. Фасады большинства домов, даже самых богатых особняков, стояли закопченными. Роман Парижа с автомобилем только усугублял ситуацию: пересечь главные транспортные артерии столицы — бульвары — и не задохнуться стало практически невозможно. Более того, оказалось, что город, переделанный в XIX веке Османом, не вписывается в рамки XX столетия. Словно Осман сделал все наполовину: к широким бульварам Парижа, например, примыкал лабиринт мелких улиц, крытых переходов, тупичков и пассажей, которые были слишком узкими для проезда современного транспорта и сильно замедляли, если не останавливали автомобильные потоки. Архитекторы и строители мечтали перестроить Париж в соответствии новейшими техническими достижениями века: они грезили о подземных тоннелях, небоскребах и огромных торговых центрах, посетители которых легко перемещались бы на метро из дома в магазин, на работу, а затем вновь домой, не ступая на землю и не сталкиваясь с какими бы то ни было дорожными сложностями. Этот Париж высмеял в сатирическом фильме «Время развлечений» Жак Тати: главный герой картины теряется в бесчеловечной антиутопии из стекла, движущихся тротуаров и транспортных потоков, единственными встреченными на пути человеческими существами являются американские туристы, бездумно слоняющиеся по фантастическому городу. Неудивительно, что сразу после премьеры в 1967 году картина была раскритикована в пух и прах и признана убыточной; многие парижане все еще хотели верить в то, что их город является оплотом будущего в той же мере, в которой служит хранителем прошлого. Наряду со страстью ко всему новому в городе присутствовало почти инстинктивное желание сохранить и восстановить старый Париж. В конце 1950 года вокруг улицы Лафайет и вокзала Сен-Лазар развернули проект по чистке и реконструкции окрестностей. Все произошло благодаря инициативе министра по строительству Пьера Сюдро, который считал, что чистый и украшенный город увеличит приток туристов. Домовладельцы сомневались в полезности проекта, колебались и неохотно платили невысокие земельные налоги, из которых и финансировались все работы по реконструкции района. Остальные парижане и пресса, наоборот, с энтузиазмом отнеслись к идее восстановления этой местности и поддержали Сюдро, даже когда он предложил подвергнуть Нотр-Дам, Лувр и Дом Инвалидов пескоструйной обработке, дабы обнажить цвет каменной кладки, скрытый под грязью веков. В 1962 году министр культуры в правительстве де Голля Андре Мальро разработал закон, в котором центральные части города были разделены на «сектора сохранения» и определялись по своему вкладу в историю. Сначала в реестр защищенных районов попал Марэ — самый обветшалый, заброшенный и опасный район столицы. Многие дома этой округи не ремонтировались сотню лет и дольше; на улицах теснились ранее величественные, а ныне обшарпанные здания эпохи grand siucle, покосившиеся сараи, магазинчики, лавки и студии. Выглядел этот ансамбль колоритно, но смердел ужасно: в большинстве домов не было канализации, водопровода и электричества. В первую очередь власти приказали соскоблить с фасадов грязь и снести и без того разваливающиеся сооружения, открыть дворы, расчистить арочные галереи и вернуть достоинство, присущее району в прошлом. Другие проекты по развитию города такого успеха не имели и потому популярностью не пользовались. Снос Л’Аль, воплощения старого Парижа (по крайней мере, эпохи Второй империи), широкой поддержки в обществе не нашел. Л’Аль был не просто местом, где проходили продуктовые ярмарки; до конца 1950-х он оставался микромиром, населенным шлюхами, ворами, лоточниками и жуликами, — все они даже общались на своеобразном старомодном жаргоне, напоминавшем о недавнем прошлом. Если тоску по минувшему не принимать в расчет, следует помнить хотя бы то, что вокруг Л’Аль проживали множество рабочих, вовсе не желавших перебираться в многоквартирные загородные кварталы и при этом не имевших достаточного заработка, который позволил бы им продолжать жить в центре Парижа. Власти стремились проредить население столицы, чтобы сохранить историческую основу города, однако претворение этого плана требовало человеческих жертв. Тогда же горожане начали жаловаться, что столица Франции превращается в съемочную площадку или музей. В сатирической повести 1965 года «Вещи» писатель Жорж Перек описывает жизнь двух молодых парижан, Сильвии и Жерома, которые бесцельно бродят по городу и восхищаются его видами; город порождает в них мечты об идеальной жизни, к которой им не дано прикоснуться и никогда не достичь в действительности. Париж стал всего лишь набором видов, жаловались и интеллектуалы, и художники, и рабочие. Даже компартия считала многие проекты по сохранению старого города реакционными — пустым отказом принять прогресс.Париж и андеграунд
Однако уже в начале 1960-х годов в Париже появились упрямцы, которые не желали терпеть тяжелую патерналистскую руку сторонников де Голля или коммунистов. В основном это были студенты, анархисты, движение которых впервые с 1890-х годов переживало подъем, недовольные жизнью рабочие и не примкнувшие ни к левым, ни к правым партиям иммигранты. В начале 1960-х в Париже расцвело движение андеграунда, как, собственно, в Великобритании и США. Неудивительно, ведь герои парижского андеграунда были те же, что и в остальном мире — от Майлза Дэвиса и Джека Керуака до «Роллинг Стоунз». Париж и сам недавно был столицей контркультуры, сюда в конце 1950-х ехали американские битники, которых влекли интеллектуальный снобизм и сомнительные наслаждения столицы. Штаб-квартирой битников в Париже служила небольшая гостиница на улице Жит-ле-Кер, прозванная даже «Бит-Отелем», управляла которой мадам Рашу. Именно здесь Уильям Берроуз и Брион Гайсин ели сырой опиум, курили гашиш, творили волшебство и изобретали «машину мечты», которая должна выпустить в мир чудовищные силы бесконечной субъективной реальности. Однако парижская наркокультура была не так распространена, как в англоязычных странах, она оставалась принадлежностью небольшой элитной группки, тесно связанной с отмирающим движением авангарда из кофеен Монпарнаса и Сен-Жермен-де-Пре. Так что использование наркотиков в начале 1960-х годов, по крайней мере, было, скорее, сознательным «интеллектуальным» занятием, а не болезнью, как в остальном западном мире. Для молодых мыслителей и актеров, например для начинающих писателей Жана-Пьера Кальфона и Жана-Клода Байи, моделью для подражания считался кружок «Le Grand Jeu» («Большая игра»), отпочковавшийся от сюрреалистов, дискутировавший с Андре Бретоном в 1920-х годах о потенциале галлюциногенных наркотиков в сюрреализме. Бретон разошелся с ними во мнениях, а группа продолжала экспериментировать, обкуривалась опиумом, устраивала коллективные асфиксии в стремлении добиться магического сопереживания. Единомышленники Кальфона принимали наркотики, стремясь достичь мгновенного просветления, по-новому узреть город, по-новому его расцветить. Чаще других наркотиков молодые люди курили марихуану, она доставлялась в Париж из Алжира или Марокко, порой имела примеси опиума и была весьма популярна в забегаловках, например на улицах Ксавьер-Прива или Муфтар. ЛСД пришел в Париж одновременно с возвращением Жана-Пьера Мерля, давнего соратника Тимоти Лири — американского гуру употребления галлюциногенов. Центром психоделической культуры Парижа стал магазин «Мандала» на улице Вавен. Там галлюциногены распространялись под англо-американский ритм-н-блюз или этнические ориентальные песнопения. Парижане не на шутку увлеклись психоделической музыкой: появились группы «Мажун» и «Ред Нойз». Американский центр на бульваре Распай стал еще одним «местом свободы», средоточием наркотиков, секса, политического инакомыслия и трансцендентальной философии. Наркотики добрались и до мира кабаре и шансона. Самым интересным и необычным плодом этого слияния стало творчество Брижит Фонтэн — певицы, актрисы и феминистки, творившей под руководством своего друга, поэта-песенника Жака Ижлена и алжирского музыканта Араски Белкасема, — «страшненькой Жюльетт Греко», как называли ее в народе. Фонтен начала свою карьеру как исполнительница традиционного французского шансона — в жанре, где сверкали такие звезды, как Жак Брель, Жорж Брассанс и Лео Ферре, где слова ценились выше музыки, где в каждой песне разыгрывалась мини-трагедия или комедия. Брижит создала собственный ироничный и саркастичный стиль исполнения, похожий, пожалуй, на манеру Сержа Гинсбура. Альбом «Brigitte Fontaine est folle» («Брижит Фонтэн сошла с ума») является прекрасным образцом ее стиля, а песня «Cet enfant que je t’avais fait» («Дитя, что я дала тебе») стала звуковым сопровождением жизни Парижа 1960-х годов. Фонтэн совместно с Араски экспериментировала с этнической музыкой, вплетала в собственное творчество арабские нотки Востока. Она сотрудничала с «Art Ensemble of Chicago», осевшим в те времена в Париже и часто игравшим на открытых фестивалях в Американском центре на бульваре Распай. После забвения 1980-х ее вновь вспомнило новое поколение музыкантов, например, «Нуар Дезир», Этьен Дахо или дуэт «Рита Мицуко» (пожалуй, самые успешные представители этого поколения), — благодаря им дива снова считается уважаемым представителем парижского андеграунда и героиней психоделической эры столицы. Подобно англо-американской рок-музыке, галлюциногенные наркотики не имели мгновенного ошеломительного успеха даже среди «продвинутых» членов парижского андеграунда. Журнал «Le Crapouillot», обычно поддерживавший все новинки движения, выпустил номер «против ЛСД», где объявил наркотик «американской модой для кретинов». Единственной возможностью двигать общество вперед, как утверждали радикальные журналы «Groupe Artistique Révolutionnaire» и «L’Internationale situationniste», являются политика и протест.Мечтатели
Отличительной чертой майского восстания 1968 года было отречение от всех благ, которые предлагает человеку загнивающее западное общество. Единственным лекарством от недуга является полная трансформация социума, тотальная революция, утверждали многочисленные лекторы на семинарах и терассах кофееен левобережья. Это мнение воцарилось в умах не только благодаря культуре — фильмы и музыка все равно были лишь частью «цивилизации зрелищ», которую надлежит упразднить, — но и благодаря резкому разрыву с прошлым и всеми его табу. Такая бескомпромиссность, упрямство и смелость в убеждениях красной нитью проходят через фильм Бернардо Бертолуччи «Мечтатели» (2004). Режиссер описал и проанализировал инцест и бисексуальность ménage à trois[136]студента-американца и брата и сестры из буржуазной семьи левобережья. Эту картину, особенно во Франции, критиковали как гладенький и вычищенный по сравнению с реальной яростью уличных волнений рассказ[137]. Как бы то ни было, в несколько вялой манере, с легким налетом таинственности картина повествует о подростковом стремлении к абсолютной и немыслимой в приличном обществе свободе, которое реализуется на фоне бунта и столкновений на бульварах Сен-Мишель и Сен-Жермен. Более того, кажется, Бертолуччи старается донести до зрителя мысль, что взрыв насилия на левом берегу Сены является одновременно и медицинской патологией, и политическим процессом, — иными словами, революционный пыл студенчества вызван сочетанием бушующей подростковой гиперсексуальности и искренней жажды удовлетворения радикальных политических требований. Одна из групп, утверждавшая, что с самого начала эти молодежные настроения являлись движущей силой революции, называлась «L’Internationale situationniste» («Интернационал ситуационистов», или ИС). Это был кружок немногочисленных хулиганствующих интеллектуалов, возглавлял которых тридцатишестилетний Ги Дебор; посиживая в различных кофейнях Латинского квартала, он основал одноименный группе журнал. Ситуационисты были мало известны, а их журнал если и читали, то всего лишь в узком кругу единомышленников — левобережных интеллектуалов. Сам Ги Дебор был хитрым и харизматичным возмутителем спокойствия, любил выпить и потолковать о самых радикальных теориях. Вдохновенный поэзией Бодлера и Лотреамона, критическими произведениями Маркса и Гегеля, трудами дадаистов и сюрреалистов, Дебор считал ситуационизм движущей силой революции, «расплывчатым заговором», который оставит позади «старый мир» и перейдет к «новому искусству будущего, к ситуационному творчеству»[138]. Дебор утверждал, что призыв к восстанию был обращен к деятелям искусства и политикам, которые ненавидели давящий авторитет «спектакля» (теория «общества спектакля» утверждает, что всеми человеческими отношениями управляют телевидение, киноиндустрия, реклама, газеты и журналы). «Спектакль» является врагом полной страстей жизни человека: «Все, чем мы раньше жили, превратилось в спектакль», — писал Дебор в своей первой книге «La Société du spectacle» («Общество спектакля»), которая вышла в Париже в 1967 году с целью «разрушить общество спектакля». Это произведение станет одним из самых знаменитых трудов о майских событиях 1968 года. Теория «общества спектакля» быстро завоевала популярность среди радикально настроенных парижан. Следует, однако, понимать, что «спектакль» — не только тиражируемые средствами массовой информации образы. Теория о связи проникших в общественную жизнь объектов-образов играла важную роль в идеологии «ситуационистов». Дебор назвал это проникновение «угнетением повседневной жизни». Опираясь на такие суждения, ситуационисты стали непримиримыми врагами всех форм поп-культуры. Ибо в поп-культуре сильнее всего проявляется разделение общества на спектакль и наблюдающую за ним публику. Несмотря на собственную воинственность, ситуационисты были уверены, что именно молодежь, которая является первейшим потребителем дешевых продуктов общества «спектакля» — музыки, одежды и наркотиков, — станет движущей силой революции. Эту идею еще в 1940-х годах в «Трактате по ядерной экономике: восстание молодежи» высказывал основатель «Леттристского интернационала» Исидор Ису. В своем труде, сильно повлиявшем на ситуационистов, Ису объявил, что молодежь исключена из экономической жизни потому, что не имеет обменной ценности: без работы, семьи и накоплений юноша или девушка не считается человеком, а служит лишь «предметом роскоши», «атрибутом». Призыв писателя к восстанию леттристов зиждился на философии отвержения, требовавшей возврата общества к собственным истокам, а затем полной его трансформации. Вместо того чтобы подчиниться фальшивым требованиям «культурного спектакля», ситуационисты решили жить как можно свободнее, презирать семью, труд, учебу, досуг и деньги, обратиться вместо этого к пьянству, необузданному сексу и бессмысленной жизни в отелях, дешевых съемных квартирах и ночлежках. Они ненавидели вычищенные модернизированные улицы города и выискивали в ландшафтах так называемую психогеографию, которая должна преобразить всю структуру столицы. Психогеография — своего рода игра или даже серия игр, когда участники стремились создать атмосферу, которая могла бы нарушить рутину и механику повседневной жизни. Выпивка, наркотики, музыка, скука, отчаяние, страх и восхищение выполняли роль игрового инструментария. Основной задачей в «психогеографических» играх было уничтожение различия между значением и функцией города[139]. Однажды в своем журнале ситуационисты объявили, что метро следует открыть для пешеходов, что аптеки должны торговать сигарами, а на каждый уличный фонарь следует установить выключатель. Их целью было смутить повседневную жизнь города и привнести в нее новые страсти. Ключевой книгой ситуационизма стал труд Рауля Ванейгема «Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations» («Опыт о познании жизни и использовании молодого поколения», переведена на другие языки под неверным названием «Революция повседневной жизни»). Книга вышла в 1967 году и стала первым конкурентом сочинений Дебора по популярности и влиятельности. Более того, в книге Ванейгем обращается к сюрреализму, хвалит его за превознесение трансцендентных страхов, галлюциногенного буйства и эротизма над требованиями рационализма. Проблема западного сообщества в том, что оно отвергает «иррациональные практики и предпочитает им порядок, дисциплину и смысл»». Ванейгем объявил, что как ситуа-ционист он стоит за тотальную свободу, особенно в сексе, где надо смело ломать даже табу на инцест. «Именно поэтому нынешнее поколение тяготеет к идеям ситуационизма», — объяснял он. Несмотря на заявления о том, что слова их пророческие, ни ситуационисты, ни сам Ванейгем не могли и предположить, что революционные возмущения в Париже настолько близки.Свободу сейчас!
Семена восстания были посеяны за пределами Парижа — в университете Нантерра. Это заведение, комплекс довольно мрачных учебных корпусов, было открыто в 1964 году как «образцовый университет», то есть место, где будут учиться поколения будущих технократов, которые легко смогут влиться во французское общество и способствовать его продвижению к светлому будущему. Пригород Нантерр располагается далеко от центра Парижа, добраться туда можно, доехав до конца ветки метрополитена или преодолев сложный путь по трущобам округи. К 1967 году общежития Нантерра были переполнены, в них проживало около 12 000 студентов. Молодежные выступления против драконовских правил студенческого городка стали неотъемлемой частью жизни его обитателей, а памфлеты левых и ситуационистов, призывавшие к противодействию властям и объединению студенчества, пользовались популярностью. Страсти в Нантерре накалились до предела 22 марта, когда группа симпатизирующих ситуационистам студентов, назвавшихся enragés («бешеными», в честь экстремистов 1789 года, так напугавших Робеспьера), оккупировала главное здание университета. Их быстро выбили, но внимание международной прессы студенты привлечь успели. Одновременно в студенческом городке таинственным образом появились лозунги ситуационистов: «Долой работу!», «Скука контрреволюционна!», «Все возможно!» 3 мая, когда суд Сорбонны выдвинул обвинения против активистов Нантерра, волнения переместились в Париж. Слушания были назначены на 6 мая, но уже к полудню 3-го атмосфера накалилась до предела. После появления в Сорбонне членов радикальной правой студенческой ячейки «западников», боровшейся с «большевиками», ситуация вышла из-под контроля. «Бешеные» и другие гости со стороны начали крушить столы и вооружаться их ножками, чтобы «защитить себя» от боевиков-«западников». Именно тогда власти решили обратиться к полиции. К 4 часам дня университет окружили республиканские роты безопасности (РРБ), печально прославившиеся жесткими методами подавления забастовок. РРБ времени терять не стали и немедленно арестовали бушующих молодчиков и всех, кто выглядел подозрительно. Увидев, что происходит, студенты высыпали из кофеен, книжных магазинов и баров и встали на защиту товарищей. Когда метание камней и драки на бульваре Сен-Мишель переросли в самый настоящий бунт, власти приняли решение закрыть Сорбонну. За семьсот лет существования университета подобное случилось лишь однажды — во время оккупации нацистами в 1940 году. В этот раз закрытие Сорбонны оказалось предзнаменованием ужасных событий. Когда бои затянулись на выходные 4–5 мая, стало понятно, что де Голль недооценил угрозу, которое это восстание представляло для его власти. Политики побоялись вверить свою безопасность полиции. Общество видело, как силовые структуры проявляют крайнюю жестокость и не обращают внимания на мнение окружающего мира. Юношей и девушек избивали на глазах их друзей и журналистов со всего света. Одна медсестра вспоминала, как ее арестовали и заключили в Бижон на выходные: «Нас выгрузили из автобусов и избили, а затем, проведя меж двух шеренг солдат РРБ, вывели на обнесенный по периметру колючей проволокой стадион… Боец РРБ сказал мне: “Давай сюда, я тебе сбрею кудряшки”. Он ударил меня. Тут вмешался офицер, но девушке в очереди передо мной волосы уже состригли. Меня отвели в камеру размером три на шесть метров. Через пять часов нас было уже 80 человек. Приходилось стоять. Мне был виден двор: по нему шел полураздетый молодой человек, чьи ноги были исполосованы следами от ударов дубинкой, у него шла кровь, он держался за живот и обмочился прямо на ходу. Девушка, которая была с ним, рассказала, что солдаты РРБ избили его до потери сознания на улице, арестовали и после били по гениталиям до тех пор, пока кожа не повисла лоскутами». Полиция ворвалась в известную студенческую забегаловку «Мэрия» на площади Сен-Сюльпис и избила всех без разбору. Молодого человека, заявлявшего, что он иностранец, солдат РРБ ударил в лицо и сказал: «Да, ты приехал во Францию, чтобы гадить на нас». Столкновения были жестокими и страшными и превзошли даже самые худшие ожидания. Студенты и присоединившиеся к ним левые (в том числе — ситуационисты) возводили баррикады и в конце концов захватили всю Сорбонну. В ответ полиция начала обстреливать демонстрантов гранатами со слезоточивым газом. Ранее такие гранаты использовались только во время войны во Вьетнаме. Бунтовщики упорствовали и не сдавались — жгли автомобили, бросали в полицию бутылки с зажигательной смесью. Девушки, иностранцы, рабочие — все присоединились к битве. Каждое утро после ночи боев улицы Латинского квартала выглядели так, словно здесь бушевала полномасштабная война. На стенах пестрели лозунги ситуационистов и анархистов. Например: «ВОПЛОТИ СВОИ ЖЕЛАНИЯ», «ВООБРАЖЕНИЕ ВОШЛО В СИЛУ», «БУДЕМ ЖЕСТОКИМИ!». А над кровопролитной бойней стоял зачинщик Ги Дебор и предрекал приход безграничной свободы. «Мы не боимся разрушений», — объявил он.«Вперед, товарищ!»
Вышедший из-под контроля бунт был опасен, но, как утверждала полиция, о полноценной студенческой революции не могло быть и речи. Дела пошли еще хуже, когда 14 мая по Франции прокатилась волна рабочих забастовок — замерла промышленность всей страны. Именно этого и боялись власти — пролетариат и студенчество объединились в союз, который стал достаточно силен, чтобы сместить правительство. Когда же к забастовкам присоединились работники почты, учителя, владельцы маленьких магазинов и служащие сферы услуг, показалось, что Париж находится на грани анархии и беззакония, которой не бывало с 1871 года. Объединение протестующих прокомментировала оптимистическая надпись на стене: «Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi!» («Вперед, товарищ, ибо старый мир идет по пятам!»). Большую часть восстания де Голль пропустил, так как находился с президентским визитом в Румынии. Ходили слухи, что он боится возвращаться во Францию. Вечером 24 мая, как и во время прошлых конфликтов, де Голль решил обратиться к нации. Адресовав свою речь непосредственно восставшим, он высокомерно обвинил их в том, что они «гадят в собственных постелях». Президент не удовлетворил никаких требований бунтовщиков — тем более что восставшие избегали конкретики, большинство претензий и не заслуживало ответа, — но признал, что старый порядок власти разрушен и пришло время для «изменения нашего общества… пришло время каждому заняться своим делом». Вдохновенная речь, однако, не произвела на бунтовщиков никакого эффекта. Ночь на 24 мая оказалась страшнее других. В Бордо, Нанте и Лионе, где к тому же убили офицера полиции, появились баррикады. Двигавшаяся к площади Бастилии тридцатитысячная демонстрация встретила на своем пути полицию. Толпа начала выворачивать брусчатку, хватать стулья и столы кофеен, бросать в полицию всем, что подвернется под руку. Растянув ряды, РРБ и полиция окружили Отель-де-Вилль, Елисейский дворец и прочие главные государственные сооружения. Бунтовщики прознали, что здание Биржи не охраняется. Тяжеловооруженные отряды бросились туда и с криками «Храм золота!» подожгли здание. Казалось, что хуже уже некуда. Экономическая жизнь Франции замерла, страна находилась на грани финансового краха. Власти осознали, что для предотвращения полного объединения студентов и пролетариата следует договариваться с профсоюзами. В особняке дю Шатле на улице Гренель в 3 часа пополудни представители правительства и профсоюзные боссы подписали соглашение о повышении заработной платы, чем предполагали положить конец конфликту. Однако профсоюзы, почувствовав свою власть, отказались принять подачку. Не менее оппортунистически выступили левые политические фракции, возглавляли которые объединившие всех левых воедино Франсуа Миттеран и Пьер Мендес Фран. Де Голль вновь покинул пределы Франции. В то время как по городу пошли слухи о его скорой отставке, президент, чтобы убедиться в собственных силах на случай революции, встречался в Рейне с генералитетом страны. До крайностей не дошло. Вместо этого в 4:30 утра 30 мая де Голль вновь обратился к бунтующей стране. На сей раз он объявил, что через сорок дней пройдут выборы, которые заменят «саботаж гражданским действием» и снимут опасность «тоталитарного коммунизма». С чувством огромного облегчения и триумфа голосовавшая за де Голля патриотическая Франция восстала: тысячи горожан праздничным парадом прошли по Елисейским полям, размахивая трехцветными флагами и скандируя: «Франция, вернись на работу!», «Вычистим Сорбонну» и постыдное «Алжир французам!». В самой же оккупированной Сорбонне «революционный праздник» давно обернулся кошмаром. Грязные коридоры воняли и кишели крысами. По ним бродили обкуренные оборванцы хиппи. Радикально настроенные «политические» студенты-революционеры осознали, что сосуществуют с мелкими наркодилерами, преступниками и шлюхами, привлеченными в университет анархией, поиском наркотиков и жаждой секса. Группа наемников — выходцев из Катанги[140], состоявшая из дезертиров, хулиганов и отбросов общества, образовала «комитет по обороне» и пыталась навести порядок в бушующем хаосе, но склонностью к неадекватному насилию быстро отвратила от себя свободолюбивых студентов, которые выгнали их с территории университета в начале июня. 16 июня беззащитную «коммуну» захватила полиция. Историческая битва за Утопию закончилась. Мечта о тотальной свободе умерла.Глава сорок четвертая Убийство Парижа?
Сразу же после восстания власти залили бетон поверх брусчатки Латинского квартала. Правительство утверждало, что это сделано из экономической целесообразности, но символизм поступка не прошел незамеченным в городе, где история формировалась на баррикадах, сложенных из булыжников, вывороченных из мостовых столицы. В мае 1968 года на всех стенах писали: «Sous les pavés, la plage» («Под брусчаткой лежит пляж»): остроумный намек на то, что Утопию можно найти, лишь разворотив улицы и взяв булыжник (традиционное оружие борьбы за свободу) в руки. Обновленные улицы Парижа 1970-х лишили горожан этой возможности. Культурная и политическая жизнь столицы Франции двадцати последних лет XX века определялась сокращением рядов правых и утратой иллюзий у левых. Де Голль ушел с поста президента в 1969 году. Несмотря на огромный вклад в историю страны, он уходил в отставку разочарованным. Он проиграл на референдуме отчасти потому, что был связан с майской смутой 1968 года. Через год его хоронили с огромными почестями, как великого государственного деятеля, но в целом его считали частью ушедшего прошлого. Преемником де Голля на посту президента стал флегматичный и хитроумный Жорж Помпиду, а премьер-министром — Жак Шабан-Дельма, стремившийся во всем следовать современным веяниям. В действительности же основы их политики были заложены еще при де Голле. Вследствие действий властей Париж все более отдалялся от основного течения передовой мировой мысли, что не мешало ему утверждаться в роли политического центра Европы. Правые правительства 1970-х годов не были радикальными, а их руководители, от Помпиду до Жискар д’Эстена, думали о собственном месте в европейской истории, а не об улучшении жизни обычных парижан. Развитие Парижа в последние два десятилетия XX века зеркально отражает положение дел в высших политических кругах. В 1970-х муниципалитет решил было последовать примеру Манхэттена и советам Корбюзье, то есть радикально оторваться от прошлого и «осовремениться» любой ценой — даже принеся в жертву парижский силуэт и построив небоскребы. Этим проектом власти стремились улучшить положение «îlots insalubres» («антисанитарных кварталов») — обветшавших районов на окраинах Парижа, раскиданных с XII по XX округ. Лишь в 1974 году Валери Жискар д’Эстен наложил вето на эти проекты, запретил строительство небоскребов из эстетических соображений. Так, площадь де Фет в XIX округе Парижа была когда-то очаровательна, а теперь испорчена теснящимися вокруг башнями, выраставшими с 1971 года по округе, словно грибы после дождя. С тех пор в центре французской столицы сохранились башни Монпарнас, а в Жюссе — Замански. Жискар д’Эстен заодно приостановил реализацию планов по преображению кварталов вокруг Л’Аль. Проекты в Л’Аль и Бобуре прославились больше других и сегодня являются ярким свидетельством футуромании, характерной для градостроительства конца 1960-х и начала 1970-х годов. Окрестности изуродованы одинаково громоздкими и малофункциональными современными зданиями. То же можно сказать и о деловых кварталах Дефанс, и о башне Монпарнас. Создается ощущение, что муниципалитет с 1968 года словно задался целью уничтожить знаменитый стиль парижских улиц, заменить его безликой архитектурой, представляющей мертвую власть, захватить пространство и громко заявить о своем контроле над ним.«Париж-Лас-Вегас: город, который полюбят лишь американцы»
Работы по переносу Л’Аль возобновились при Жаке Шираке, который в 1977 году стал мэром столицы. Старое «чрево Парижа» застроили балюстрадами из стекла и бетона, имитировавшими оригинал XIX столетия — павильоны Бальтара, — куда, чтобы почувствовать терпкий вкус жизни пролетариата, приходили несколько поколений горожан. Торговый центр вгрызся глубоко в землю Л’Аль — удачным это решение считали только его создатели — архитекторы Клод Васкони и Жорж Пенкреак: результат — перевернутый вверх тормашками и врытый в землю небоскреб в самом центре Парижа. Уродливость этой постройки сравнима лишь с тоской, в которую вгоняет ее вид парижан и гостей столицы. А расположенный неподалеку Центр Помпиду (иногда его называют Центр Бобур — по имени, под которым этот «îlots insalubres» известен с 1932 года) — прекрасный пример архитектурной аскетичности и художественного воплощения потенции авторов. Его спроектировали англичанин Ричард Роджерс и итальянец Ренцо Пьяно. Центр простоит весь XXI век, если его не разъест коррозия, не разобьет транспорт и не разнесут на сувениры туристы, как памятник таланту архитекторов, которые ценили эффектность выше красоты или стиля. Парижские интеллектуалы считали, что таким образом власти и силы правопорядка столицы мстят за бедлам «революционного праздника» мая 1968 года. По этой причине в 1970-х годах весьма популярным стало небольшое произведение Луи Шевалье «L’Assassinat de Paris» («Убийство Парижа»). В книге автор утверждает, что Париж покатился по наклонной в конце 1960-х — начале 1970-х годов, когда де Голль и Помпиду принялись за выпрямление дорог, уборку обветшавших кварталов и переселение рабочего класса на окраины. С тех пор город преобразился так, что даже предыдущее поколение не смогло бы его узнать. Шевалье прославился как историк «опасных классов» Парижа XIX столетия, знаток жизни бродяг, иммигрантов, алкоголиков и малоимущих работяг; он утверждал, что именно динамика отношений центра города и этих маргиналов определяет ход истории. Шевалье заявлял, что теперь в Бельвиле или Барбе, традиционных местах проживания пролетариата, невозможно встретить представителей «опасных классов». Париж, продолжает он, был казнен на глазах своих жителей. Как утверждал историк, это результат распада и воплощения продуманного плана по уничтожению политического наследия столицы. Он цитировал статью из «International Herald Tribune», назвавшую построенный в 1790-х годах город «Парижем-Лас-Вегасом — городом, который могут полюбить только американцы». Шевалье тосковал по прошлому и, утверждая, что весь город вычищен и дистиллирован, сильно преувеличивал: краткая прогулка по улице Готте д’Ор в начале 1970-х опровергла бы его слова напрочь. Однако сказать, что Шевалье, заявляя, что центр Парижа теряет свою историческую сущность, был неправ, нельзя. Доказательство тому в любой день можно увидеть в Марэ — ранее самом запущенном районе города, где сегодня шум машин, гомон туристов и гуляющих по модным магазинам улицы Фран-Буржуа парижан свидетельствуют, что это уже далеко не простой рабочий район столицы. Хотя наследие прошлого незримо, но ощутимо присутствует здесь и сегодня. «Фа-садизм» («Façadisme») — капитальная перестройка, при которой полностью разрушают и отстраивают заново здание изнутри, сохраняя только фасад, сохраняя, таким образом, лишь облик прошлого, — стал в 1970-х годах главным методом реконструкции Марэ и других обветшавших районов столицы. Позднее этим термином стали обозначать общий процесс реконструкции Парижа и превращения города в выхолощенный музейный экспонат, потерявший «опасные классы», формировавшие его историю. Сегодняшний Марэ — туристический квартал, куда едет всякий желающий прикупить модную одежду, посетить художественные галереи, найти мебель в стиле китч или гомосексуального партнера. Не следует все же забывать, что этот квартал развлечений по сути своей — оторванный от реальной жизни спектакль. Пища здесь всегда среднего качества, клиентура баров — в основном иностранцы, то есть все, как в любом другом крупном западном городе XXI века. Историческая уникальность Марэ безвозвратно ушла в прошлое.Современный облик
То, что переезд населения из центра столицы в 13-й и прочие переферийные округа совпал с политической стагнацией 1970-х, не случайность. К концу того десятилетия жить в центральной части Парижа, раскинувшейся по обе стороны Сены, было по карману только самым состоятельным из горожан. Многие представители поколения 1968 года (так называемые «soixante-huitards», «люди шестьдесят восьмого») считали, что имеют полное право пользоваться городскими удовольствиями, но денег на это не имели и зарабатывать не желали, так что единственным для них выходом стало совместное проживание в коммунах или общежитиях иммигрантов. Самые разные «автономные» группы оккупировали заброшенные и пустующие здания, чем жутко раздражали городские власти. В большинстве своем они селились в XIX, XX и XIII округах и были яркими представителями контркультуры, которая, пусть и проиграв битву 1968 года, считалась истинной наследницей исторической культурной традиции. Заметный след в культуре столицы оставил и панкрок. Это музыкальное течение расцвело в середине 1970-х в Нью-Йорке, Лондоне и отчасти в Париже. Такие парижские антрепренеры, как продюсер Марк Зермати и пионеры рок-музыки «Шег Нести» и «Станки Тойз» стали неотъемлемой частью европейского панк-движения (менеджер «Секс Пистолс» Малькольм Макларен утверждал, что группа испытала влияние ситуационистов). Нигилистическая философия панк-движения вызвала всеевропейскую моду на переезд из центра городов на окраины и сближение с маргиналами. Популярность движения сквоттеров, самовольно заселяющих заброшенные здания, и увлечение наркотиками способствовали развитию эстетики сознательного саморазрушения и аутсайдерства. Типичным представителем искусства тех лет был довольно харизматический поклонник Кийта Ричардса и Пикассо Роберт Малаваль, которого восхищало творчество Дали и яркое «самоубийство искусства». Жил он стильно (на взятые в долг деньги) — снимал квартиру на модной рю дю Понт-Луи-Филипп. Он умер в 1980 году — совершил самоубийство, приняв слишком большую дозу наркотиков под классический панковский гимн Ричарда Хелла «Blank Generation»1, — это, как написал сам Малаваль, его единственный дар будущим поколениям. Однако парижские панки не оценили столь мелодраматический жест; в отличие от английских и американских соратников они больше думали о политике и собственных правах. Причиной тому стало влияние политических кругов Франции на панк-движение. Весьма заметной группой тех лет была, например, «Базука» — коллектив самоучек, «террористов от искусства», собравшийся в 1975 году с единственной целью: устроить как можно больше шума в прессе, представив ей «настоящий современный Париж». В группе играли Оливия Клавель, Лулу Ларсен, Бернар Видаль, Жан Рузо, Кики и Лулу Пикассо. Все они давно состояли в различных группах и кружках, все до одного ненавидели хиппи (которых французы называли «babas cool»[141] [142]) и мстили им. На ранних фотографиях 1975 года заметно сильное влияние ансамбля «Нью-Йорк доллс» и нью-йоркского стиля «трэш», они выглядят как некая версия сексуальных и накачанных наркотиками английских рокеров из «Мэник Стрит причерз». Члены группы не были панками в полном смысле (и уж, конечно, не хиппи), скорее, истинными наследниками ситуационистов. В своем манифесте они объявили себя «свободной республикой в мире СМИ, от которых исходит угроза». Их заявления звучали как намеренная провокация: «Мы не признаем государства Израиль». Они также прославились своей сатирой на окружающий мир, которую публиковали в журналах «Un regard moderne» и «Sandwich». Эти издания распространялись бесплатно как приложение к ежедневной газете «Libération», основанной в 1973 году как эхо событий 1968 года и рупор истинной свободы. Группа «Базука» распалась в 1978 году по традиционным для всех рок-групп причинам — из-за проблем с наркотиками и нескольких попыток самоубийства. Но среди поклонников «Базука» сразу же нашла непосредственный и сильный отклик. Среди их последователей была группа парижских панк-феминисток «LUV» («Ladies United Violently»), которых возглавляла Доминик Фюри, объявившая, что «Маркс, Гитлер и Мао просто смешны, поскольку все они — мужчины». Феминизм давно играл важную роль в культурной истории Парижа. В 1968 году Антуанетт Фок, Жозиан Шанель и Моника Виттиг основали «Движение за освобождение женщин» (Mouvement pour la Libération des Femmes, MLF); к описываемому времени движение набрало политический вес и широкую поддержку левых. Импульсом феминизма 1940-х годов послужили труды Симоны де Бовуар; среди сторонников MLF были и такие радикалы, как Кристин Делфи, боровшаяся за абсолютное изменение повседневного образа жизни женщин. Другие панк-группы — «Метал Урбен» и «Скайдог Коммандо» — были политизированы не менее, чем «LUV», и, подражая «Базуке», выражали неприязнь к языку официальной культуры и массмедиа. В оформлении их пластинок соединялись элементы фирменного стиля группы «Базука» и коллажи, где прослеживалось явное влияние идей ситуационистов. Афиши клубов «Rose Bon Bon» и «Gibus» свои плакаты оформляли в том же ключе. Этот дизайн и языковая стилистика влились в мейнстрим не без помощи еженедельных сатирических журналов «Charlie Hebdo» и «L’Écho des Savanes». Самое важное, однако, что «Базука» и попавшие под ее влияние музыкальные коллективы представили жесткий стиль инакомыслия городу, над которым, как считали многие его жители, нависла очевидная угроза преобразиться в осколок прошлого, в обезлюдевший музейный экспонат эпохи капитализма. Сопротивляясь, Париж, пусть и потеряв титул мировой культурной столицы, шел в ногу с Нью-Йорком, Берлином и Лондоном.Последний истинный король Франции
Когда в 1981 году к власти пришел Франсуа Миттеран, Париж ликовал — президентом стал социалист, его программа несла отзвук исторического радикализма. Парижанам, мечтавшим увидеть возрожденную столицу мировой революции, привиделись призраки Народного фронта, Коммуны и даже тени майских событий 1968 года. Их ожиданиям не суждено было сбыться. Миттеран, верный исключительно самому себе и собственной власти, был мастером двурушничества и гением двусмысленности. В 1980-х годах всю свою энергию, все свои силы он бросил на удержание власти, на управление событиями, пусть даже ценой отказа от всех обещаний и предательства всех принципов. Критики Миттерана быстро подметили, что его называют «последним королем Франции», отчасти за то, что он руководил своей свитой, словно придворными, а отчасти за то, что часто в поведении президента прослеживалась позиция человека, поднявшегося выше проблем страны, которой он искренне сострадает, но не в силах помочь при всем желании[143]. Несмотря ни на что, французы считали его своим человеком (называли«tonton» — «дядюшка») и были уверены, что Миттеран действительно печется об их интересах. К концу его правления, когда президента сразил рак, всплыли факты о давнем сотрудничестве с правыми, вновь прозвучали обвинения в коллаборационизме, которые преследовали Миттерана с 1945 года. Как бы то ни было, слухи бросили глубокую тень на всю политическую элиту Франции, в действиях которой народ подозревал позорное предательство. Причины слабости позиций социалистов — преемников Миттерана — и безуспешные попытки центристов выиграть выборы отчасти состоят именно в обнаруженном компромате и сокрушающих обвинениях в адрес президента. Победу на выборах его противника, манипулятора и циника Жака Ширака, героя элиты правой буржуазии и врага всей остальной Франции, можно объяснить политическим вакуумом — единственным, что оставил Миттеран своей стране. Результатом спесивости и холодной надменности, характерных для Миттерана в последние годы его правления, стали так называемые grands travaux («большие работы», явившиеся на смену «великим проектам»), которые президент разрешил вести по всему Парижу, чтобы запечатлеть след собственного правления. Новые проекты существенно изменили облик Парижа: были реконструированы сады Лувра и Тюильри, перед Лувром появилась огромная стеклянная пирамида (проект Минь Пея), были построены Большая арка у Ла Дефанс, Опера Бастиль и здание Библиотеки Франции (позднее получившей имя Миттерана). Каждый из этих проектов сопровождала волна скандалов — от обвинений в финансовых махинациях до подозрений исполнителей в непрофессионализме. Но это были только цветочки: никто не считал новые сооружения эстетически приемлемыми, парижане отказывались мириться с их существованием. Так что «народный» Париж, в котором народ больше не определял ход истории, превратился в скопище конструкций, чьи холодные, абстрактные формы могут понравиться только бесталанному архитектору или взяточнику-чиновнику.В теории
За год до того, как Миттеран стал президентом, в апреле в возрасте семидесяти пяти лет умер Жан-Поль Сартр. Подобно похоронам Гюго, прошедшим столетием ранее, траурные церемонии памяти этого писателя стали эпохальным событием; так считали даже те, кто не прочел ни строчки из произведений Сартра. Более 50 000 человек хмурым апрельским утром столпились на улицах левобережья, чтобы посмотреть, как тело великого писателя будет погребено на кладбище Монпарнас. Газеты объявили его смерть символизирующей конец истинного французского интеллектуального течения, а самого Сартра — воплощением неравнодушного к культуре и политике парижанина, описанного в начале XX столетия Эмилем Золя и закаленного в горниле кризисов и катастроф века. Прославился Сартр во времена оккупации, но пыл писательского таланта сделал его героем для нескольких последующих поколений интеллектуалов, его слава пережила кризисы алжирской и вьетнамской войн, события мая 1968 года, волну терроризма 1970-х. Смерть его, как утверждало общее мнение, предварила кончину Парижа как столицы мировой мысли. Примерно те же слова повторялись после смерти Ролана Барта (1980), Реймона Арона (1983), Симоны де Бовуар (1984), Мишеля Фуко (1984), Луи Альтюссера (1990), Ги Дебора (1994) и, совсем недавно, Жака Деррида (2004). Доля истины в этих словах все-таки была. Действительно, с начала 1980-х годов французские мыслители редко имели вес в общественной жизни, их воззрения отнюдь не определяли общественное мнение. Отчасти это вина представителей массмедиа, которые, конечно, увеличили количество читателей интеллектуальных трудов, но сильно понизили количество философов на должностях редакторов и их влияние на продвижение новых книг на рынке. С ростом популярности «умных» телевизионных передач, таких как «Апостроф», появилось поколение поп-интеллектуалов, например претенциозный и поверхностный Бернар Анри-Леви — гуру модных «новых философов», чьи шелковые рубашки и эффектные подружки считаются такой же неотъемлемой частью имиджа, как мысли о диалектике Гегеля или о судьбе Боснии. Даже серьезные мыслители — скажем, Жан Бодрийяр, критик «спектакля» или «видимости» современной жизни, которую пропагандирует современная пресса, — оказываются затянутыми в паутину современных массмедиа, несмотря на все попытки этого избежать. С обесцениванием и упадком интеллектуальной жизни потеряли былую популярность такие «ученые» парижские местечки, как Сен-Жермен-де-Пре или Монпарнас, где с середины XX века за столиком кофеен вместе с рюмкой вина можно было обрести глоток истинной демократии. Молодые, бедные веселой нищетой, творческие, инакомыслящие личности, определявшие настроение этих кварталов, давно переехали из-за дороговизны арендной платы или меню. Несмотря ни на что, интеллектуальный Париж жив и здоров — просто сменил место проживания. «Маргинальные» в прошлом земли XII, XIII, XIV, XVIII и XX округов, а также Сен-Дени и Женевилье приютили интеллектуалов, пишущих, рисующих и дискутирующих в традиционной манере. Сегодня споры ведутся о постколониальной Европе, об отношении к транссексуалам, но никак не о диалектическом материализме или личном отношении к политическим партиям. Здесь продолжают читать Деррида, Дебора, Делеза, Бланшо, Батайя и прочих выдающихся мыслителей XX века, но, помимо того, популярностью пользуются Ален Бадье, Джорджо Агамбен, Эдуар Сэд, Фатима Мернисси или такие молодые философы, как Мехди Бельхадж Касем. Чаще других в спорах современных молодых философов можно услышать дискуссию, тему которой в начале 1990 года сформулировал Жак Деррида: этика и значение «гостеприимности». Деление на «своих» и «чужих» стало оправданием многих кровопролитных конфликтов, так что вопрос Деррида имеет первостепенное значение. Англоязычный мир давно провозгласил смерть французской мысли или, как минимум, ее бесполезность в современном мире. Лучшие умы страны вряд ли согласятся с подобным суждением и имеют на это полное право. В конце 1990-х годов я частенько посещал в Париже лекции Жана Бодрийяра, на которых он вел поиск этических и онтологических истин, вызвавших такие катастрофы, как геноцид в Руанде, этнические «чистки» в Боснии или набирающий обороты терроризм. Сегодня Бодрийяр постарел, но его дети — новое поколение интеллектуалов-диссидентов — многочисленны. Современность отличается от прошлого тем, что теории новых диссидентов наряду с консервативным «Le Monde» обсуждаются на страницах таких модных журналов, как «Les Inrockuptibles». Этот потомок парижской панк-культуры похож на «Le Monde» тем, что отношение к философским теориям у его авторов такое же серьезное, как и у прежнего поколения парижан.Черные годы
Годы 1990-е дались парижанам непросто. Они начались со смертельной болезни президента страны и неясности будущего. Жак Ширак был избран главой государства в мае 1995 года. Его авторитет был моментально подорван чередой забастовок, коррупционных скандалов и неуклюжих маневров премьер-министра Алена Жюппе. Надменность и любовь к непотизму превратили Ширака в крайне непопулярную персону во французском обществе. Возврат правых партий к власти вызвал в обывательской среде волнения, которые возглавили транспортные профсоюзы Парижа, а когда Жюппе не выполнял очередное обещание, конфликт усугублялся. К концу декабря 1995 года, после нескольких недель волнений и вспышек беспорядков, Париж больше походил на город-призрак: в самое оживленное время года улицы были пустынны, только редкие туристы, которых не пугали дороговизна в магазинах и вызванные безработицей и высокими налогами уличные преступления, бродили по городу. Пресса отражала депрессию общества и пронизавший город ужас, а для описания всеобъемлющей омертвелости парижской жизни запустила в оборот термин «la morosité»[144]. Сегодня многие называют 1994 и 1995 годы «черными», периодом, когда безопасность парижан находилась под угрозой уничтожения нахлынувшей волны кризисов и катастроф. Столица затихла также из-за волны террора 1995 года. Город уже давно и не понаслышке был знаком с террористами и их акциями. Еще в 1980-х в размеренный ход жизни вторглись взрывы и нападения на мирных граждан. Самыми заметными акциями террористов стали операции группы анархистов «Аксьон Директ». Кульминацией их деятельности стал расстрел двумя женщинами в масках руководителя компании «Рено» Жоржа Бесса в его доме 17 ноября 1986 года. Помимо того, в 1982 году город был шокирован расстрелом шести ни в чем неповинных посетителей ресторана «Дели Голдберг» на улице Розьер, впоследствии ответственность за эту акцию взяли на себя боевики ООП. В 1986 году пришла новая волна исламистского насилия, первая акция состоялась в марте в торговом центре на Елисейских полях. Два человека были убиты, 28 получили ранения. В сентябре того же года город словно охватило безумие. Были заминированы муниципалитет, Ла Дефанс, штаб-квартира «Рено» и магазин «Тати» на улице Ренн. Из-за низких цен и демократичной атмосферы в торговых залах «Тати» любили посещать небогатые парижане и иммигранты. То, что нападавшим была безразлична социальная принадлежность жертв теракта, нагоняло еще больше страха на все слои городского населения. Взрыв в этом магазине унес жизни семи человек и ранил пятьдесят семь посетителей. Взрывы 1995 года положили начало новой форме борьбы «арабской улицы» Парижа. 25 июля 1995 года на пригородной станции метрополитена «Сен-Мишель» взорвалась бомба, которая убила 7 и ранила 84 пассажира. Следующий взрыв прогремел 17 августа на площади Этуаль — пострадали еще 17 горожан. До тех пор, пока полиция не уничтожила ячейку исламистов-алжирцев, застрелив в Лионе их лидера Халеда Келькаля, бомбы успели взорваться в особняке Бланш, на набережной Орсе и в Сен-Мишеле. Парижский террор, скорее всего, стал следствием «праведной» ярости, накопившейся в алжирскую войну. Пока сотни и тысячи человек гибли в Алжире — кто от рук исламских террористов, а кто от правительственных войск, — террористы, чьи ряды пополнялись участниками афганской войны, обвиняли Францию в поддержке светского правительства Алжира и во всех бедах колонии. В этой среде зрели настроения, приведшие к последующим терактам в Нью-Йорке и Лондоне XXI века. Позднее открылось, что среди утопических планов исламистов был угон самолета и его пике на Эйфелеву башню.Секси бойз (и герлз)
Пока на улицах бушевало насилие, секс и любовь странным образом продолжали оставаться главной темой мифа о духе Парижа. Мотивы эти воплощались в довольно странные формы. Над Парижем нависла угроза СПИДа, ставшего в начале 1980-х годов неотъемлемой частью жизни столицы. «Отвязные» вечеринки в стоявшем неподалеку от Фоли Берже ночном клубе «Палас», где атмосфера доступности ЛСД, кокаина, амфетаминов и сексуальной вседозволенности царила еще с 1980-х, уступили место более жестким и жестоким сценам из жизни молодых парижан. Эдмунд Уайт назвал «Палас» «парижской “Студией 54”» — местом общения мировых звезд экрана и признанных литераторов. (У меня лично сохранились о клубе очень приятные воспоминания: здесь в 1984 году я впервые попробовал галлюциноген, влюбился в обведенные тушью глаза секретарши из «Фейзин» Франсуазы Байи, танцевал под песни Далиды, Принца и Риты Мицуко.) Ощущение конца эпохи тех лет точно отражено в фильме 1993 года Сириля Кольяра «Дикие ночи», снятого для узкого круга зрителей и являющего удивительное путешествие по бисексуальной жизни ночного Парижа. Сам Коллар не дожил до выхода картины и не получил за нее приза — режиссер умер от СПИДа во время окончательного монтажа. Смерть писателя Эрве Гибера в 1991 году стала скорее зрелищем, чем шоком для широкой публики. Литератор был интимным другом Ролана Барта и Мишеля Фуко (именно Гибер в своих мемуарах «Другу, который не спас мне жизнь» назвал Фуко садомазохистом) и беззастенчиво использовал эти связи, дабы упрочить свою славу. Он снял кинокартину о собственной смерти («Стыдливость или бесстыдство»), но большинство гомосексуалистов посчитали это жест пустым эксгибиционизмом и спекуляцией на сострадании. Тема судьбы, финалом которой неизбежно становится ранняя смерть от СПИДа, превратилась в хит телевизионных ток-шоу, что оскорбляло память всех, кто умер безвестно и в одиночестве. Прочие писатели-гомосексуалисты, например Рено Камю, не пользовались такими низкопробными методами в погоне за дешевой славой. Они пропагандировали новое общее самосознание гомосексуальной общины, где такие понятия, как стыд или страх, остаются в прошлом, принадлежат «вышедшему в тираж проповеднику» Жан Жене (для молодежи вроде Рено Камю, он представляет собой «гомосексуалиста старой формации», следовательно, находится под гнетом религиозных и моральных табу прошлого, которые хоть и отвергает, но не уничтожает). В 1990-х годах Париж стал мировой столицей приверженцев не только гомосексуализма, но и échangisme (обмена половыми партнерами). Греховное торжище проводилось не на окраинах, не тайком, как в других европейских странах. В самом сердце города происходил обмен партнерами: в эксклюзивных клубах «Бамбук» или «Крис и Ману», на страницах глянцевых журналов, подобных «New Look» или «Interview», где печатали одновременно политические сводки, культурные новости и эротику на грани порнографии. Для самых смелых искателей приключений в Булонском лесу и около ворот Дофина проводились échangisme sauvage («слепые обмены»). Интерес публики к подобному времяпрепровождению подтверждает оглушительный успех «автобиографии» сексуальных приключений Катарины Милле. Сюжеты крайне популярных романов Мишеля Уэльбека, поклонника и духовного наследника Селина, разворачивались именно в этом окружении. В 1995 году Уэльбек был безвестным компьютерным оператором в аппарате Национального собрания и проживал в HLM близ станции метро «Бусико». В узких кругах были знакомы с необычным стилем его стихов, где смешивались реализм и меланхолия (действительно, его поэзия того периода больше напоминает стиль англичанина Филипа Ларкина, чем традиционное стихосложение левобережья). Уэльбек оказался гениальным летописцем современного Парижа, он сумел изобразить столичные противоречия, убожество гламура, индустриальную эротику Сен-Дени и тоску залитых дождем бульваров. В 1996 году Уэльбек начал писать свой эпохальный труд «Элементарные частицы». Тогда-то я впервые и встретился с ним (мы выпивали и смотрели футбол в его муниципальной квартирке — Англия и Франция тогда вылетели из полуфинала). Я и не подозревал, что стопка замызганных листков в углу комнаты, которую Уэльбек громко называл офисом, станет бестселлером во Франции и за ее пределами. «Она либо сделает меня знаменитым, либо уничтожит», — произнес Уэльбек, пьяно махнув рукой в сторону пачки бумаг, которую именовал романом. Я тогда подумал, что он шутит. В 1998 году перевод «Элементарных частиц» ворвался в списки бестселлеров всего мира. Звуковым сопровождением того лета был диско-альбом версальской группы «Эр», члены которой обожали Гинсбура, «Пинк Флойд» и немецкий техно. Их первый хит «Секси бой» соединил в себе элементы творчества всех кумиров музыки и, самое главное, сообщил мировой общественности, что интеллектуалы Парижа умеют мыслить, петь и танцевать одновременно. Совместно с Уэльбеком «Эр» возвестили о возрождении парижской поп-культуры. Востребованность этого произведения Уэльбека сама по себе необычна, ведь книга крайне саркастична и печальна. Повесть критикует либеральные ценности 1960-х годов, которые, по мнению автора, являются причиной морального краха современной Франции. Самой опасной и разрушительной из всех вольностей, завоеванных в 1960-х годах левыми, говорит он, является свободная любовь. И сразу Уэльбек утверждает, что таковой не существует. Свободная любовь больше походит на свободный рынок, который жестко делится на обманывающих и обманутых. Полная сексуальная свобода не просто невозможна, попытка достичь ее стоит невероятно дорого. Самоубийства, нервные срывы, алкоголизм и чревоугодие настигают всех, кто из-за невзрачной внешности, отсутствия шарма и удачи становится изгоем сексуального рынка. Англоязычный мир считает Уэльбека сексуально озабоченным вольнодумцем (тому способствовал знаменитый инцидент, когда писатель, бросив оценивающий взгляд на журналистку «New York Times», предложил ей сыграть в эротическом кинофильме, который снимал на тот момент). Как писатель он тщательно вырисовывает скрытый мир échangisme, заставляющий вспомнить о маркизе де Саде: его взгляд отстранен, словно у ученого, и одновременно полон пафоса. Его образ «свингующего Парижа» одновременно скрабезен, жутковат, смешон и трагичен. Бывший коммунист, открыто заявляющий о своем восхищении Сталиным, Уэльбек оказался жестким моралистом, чье мрачное уподобление секса товару может сравниться лишь с пессимизмом, с которым он смотрит в будущее человечества (в книге он объявляет себя сторонником клонирования как решения всех трудностей и опасностей человеческих страстей и похоти). Популярность Уэльбека-писателя, бесспорно, связана с тем, что его взгляды совпадают со стремлением к самолюбованию и ограниченностью парижан конца XX столетия. Этим же объясняется и весьма неожиданный всплеск всенародного ликования в 1990-х, вызванный победой французской футбольной сборной на чемпионате мира 1998 года. В десятилетие, в течение которого говорили лишь о культурной депрессии, этот случай стал редкой вспышкой светлых эмоций. Победа над сборной Бразилии на «Стад де Франс» заставила обычно равнодушных французов выйти на улицы в порыве общенационального единения. Звуковое сопровождение того летнего сезона принадлежит версальцам «Эр», чей хит «Секси бой» показал, как парижане могут танцевать и улыбаться одновременно. Самые скучные интеллектуалы, сторонившиеся футбола и прочих народных развлечений, объявили, что эта футбольная победа стала, пожалуй, величайшим событием со дня освобождения столицы от нацистов. Портрет Зинедина Зидана, центрального полузащитника алжирского происхождения, забившего несколько победных голов, на Елисейских полях подсветили красным, белым и синим цветами; лозунг над изображением гласил: «Зидан — президент». Даже самые осторожные левые политики, включая всеми уважаемого Жана Даниэля из «Nouvel Observateur», заговорили об «эффекте Зидана» и о новой, эмоциональной и толерантной Франции. Иллюзия перемен ненадолго пережила похмелье, вызванное попойками в честь победы в матче. Еще до проведения чемпионата мира по футболу демагог из правых и лидер «Народного фронта» Жан-Мари Ле Пен жаловался на расовые проблемы внутри сборной команды Франции, в составе которой играли арабы, африканцы и европейцы. У меня появилась возможность задать вопрос на эту тему тренеру национальной сборной Эме Жаке, когда я брал у него интервью для «Би-би-си». В ответ Жаке лишь пожал плечами и сказал, что хоть сам и воевал в Алжире в свое время, сегодня он не видит предпосылок для расовой дискриминации. Тот же вопрос я задал Зинедину Зидану, «самому популярному французу всех времен» — алжирцу. Лицо его окаменело, он промолчал: в изменчивом мире расовой политики Парижа конца 1990-х годов это, возможно, был лучший ответ на подобный вопрос — любой другой мог вызвать яростные столкновения порой самых неожиданных сил в обществе.Игра света и тени
Зато Мишель Уэльбек не умел держать язык за зубами и за несколько дней до атаки террористов на башни-близнецы Нью-Йорка в сентябрьском интервью журналу «Lire» пьяно заявил, что «ислам — глупейшая из религий». Последняя книга автора, «Платформа», которую он старательно рекламировал в этом печально известном интервью, содержит мрачный диагноз обоюдной ненависти между Востоком и Западом, признаки которой очевидны как в центре, так и в пригородах Парижа. Его слова подтвердились, когда товарищеский матч между футбольными сборными Франции и Алжира был прерван толпой арабских молодчиков, которые ворвались в раздевалку, скандируя имя Усамы бен Ладена. Капитан сборной Франции Зинедин Зидан охарактеризовал инцидент как «наихудший момент» в своей профессиональной карьере. Казалось, на протяжении всей осени того года толерантность парижан подвергалась испытанию. Газеты и телевидение постоянно обращали внимание читателей и зрителей на автомобильные пробки и загрязнение окружающей среды, на угрозу наплыва иммигрантов из Восточной Европы и прочих «неблагонадежных» стран. Глобализация медленно, но верно пожирала парижскую культуру: ввезла в город «Старбакс» и баскетбол, уничтожая традиционные места общения горожан. Парижскую культуру заменила китчевая версия древней столицы. Социалисты принялись повсюду горячо обсуждать тему Парижа без парижан — Paris desemparigoté. Осенью того же года в ответ на выпады в свою сторону арабские и африканские подростки взяли моду вторгаться с хулиганскими выходками в крупные магазины центра города — в Л’Аль и Ла Дефанс. Одетые как афро-американцы, говорящие с магрибским акцентом и обладающие провинциальными манерами, эти дети устраивали в магазинах свои игры, пугали покупателей и прохожих. Совершенно в духе их любимого рэпа, — определявшего мир этих парижан из предместий, — целью этого хулиганства было шокировать сонно-равнодушных обывателей, заставить их почувствовать хоть что-нибудь. Луи Шевалье все-таки ошибся: «опасные классы» не пропали, они просто оставили центр Парижа и переехали в предместья. Социалист и философ Марк Оже объясняет этот переезд тем, что современный город состоит из «антипространств»: торговых центров, автомобильных парковок, бизнес-кварталов, которые резко контрастируют с традиционной эклектикой и интимностью улиц Парижа. Единственной адекватной реакцией на эту тенденцию является либо полный отказ от посещения города, либо открытое восстание. Историк архитектуры Поль Вирилио проницательно утверждает, что граница города теперь пролегает не по внешнему кольцевому шоссе, а, скорее, по антитерро-ристическим кордонам в аэропортах. После литературной командировки в Париж английский писатель Питер Акройд назвал Париж «впечатляющим городом», но это был далеко не комплимент. Да, город действительно слишком заботится о собственном имидже и стремится выстроить общую для всех иллюзию: это видно в огромных зеркалах, которыми сверкают кофейни, и в бесконечных отблесках магазинных витрин на бульварах. Самой великой химерой из всех я назову суждение о том, что Париж является хранилищем возвышенного чистого разума человечества. Поэтому современный мегаполис часто считают городом, который умирает, раздавленный весом собственного прошлого. Настоящая история Парижа, как сказал поэт Жан де Бошер, это движение между «clair» и «obscur», между светом и тенью. Прямо на улицах, пишет он, видна полярность, игра света и тени, прошлого и настоящего. Если мыслить политически, история города сотворена перемещениями между абстрактным пространством государственного и правительственного контроля и реальностью, населенной мечтателями, диссидентами, саботажниками и провокаторами. Можно сказать, что Париж буквально соткан из идей и идейных устремлений. Этим объясняются страстность, жажда крови, красота и фанатизм, которые всегда были неотъемлемой частью повседневной жизни этого древнего города. Новые изменения образа жизни, политические стратегии, формы насилия и удовольствия формируют столицу XXI века. В Париже доступны все соблазнительные и изнуряющие крайности современной жизни. Но опять же — так здесь было всегда.Эпилог Парижский андеграунд
Летом 2004 года, когда я продолжал писать эту книгу, занимая малюсенькую квартиру в районе Тампль, я решил совершить поездку в Танжер, чтобы встретиться с проживающим там испанцем Хуаном Гойтисоло. Причиной этой идеи послужила его короткая статья «Париж — столица XXI столетия». Несмотря на малый формат, это был один из наиболее провокационных материалов о Париже, которые я когда-либо читал. Автор утверждал, что, для того чтобы превратить Париж в столицу XXI века в полном смысле этого слова, его предварительно следует полностью уничтожить. Мне хотелось спросить у Гойтисоло: насколько серьезно подобное утверждение в мире, существующем после 11 сентября 2001 года? Мы встретились в кофейне под чудесным именем «Maravillosa»[145] в «испанском» квартале Танжера, где в основном проживали беженцы из Испании (со времен режима Франко) и всей Европы («грязной мачехи», как назвал ее Гойтисоло). Писателю было уже за семьдесят, но величайший мастер слова, каким почитал его весь испаноговорящий мир, он не утратил пылкого неприятия серых мелкобуржуазных ценностей. Он водил тесную дружбу с Жаном Жене и унаследовал от старого плута интуитивную подозрительность по отношению к власти всякого рода. В Париже, в основном в округе Сентье, писатель прожил несколько десятилетий. Там-то к нему и пришла мысль о том, что идея о всеевропейской столице, созданной и населенной только европейцами, не просто анахронизм, но опасное заблуждение, от которого следует как можно скорее отказаться. Причиной тому он считает расхождение мифа об исключительно европейском поселении с реалиями современной улицы. Париж, утверждает Гойтисоло, является крупнейшим африканским городом мира, хотя стоит он не в Африке. Улица за окнами квартиры в Сентье говорит на суахили, арабском, курдском, хинди, китайском и нескольких наречиях французского языка неевропейского происхождения. Истинная полифония современного Парижа, продолжает он, звучит на задворках общества и не слышна постороннему уху. Гойтисоло сказал, что любит Париж за древнюю и крепкую традицию подспудной борьбы с культурной и политической властью; именно по этой причине и сам он — противник Франко и диссидент — бежал из Испании именно сюда. Но традиция эта, утверждает Гойтисоло, была утрачена в конце XX столетия, и ее следует возродить. Когда гуляешь по современному городу, рассказывает он, видишь лишь выхолощенную версию прошлого, и невозможно уже найти восхитительные детали или сделать открытия, которые так радовали в прошлом. Мегаполис следует «деевропеизировать», чтобы дать возможность зазвучать в нем голосам инакомыслящих, провозглашающих свежие идеи. В этом вся суть провокационного эссе. Я вернулся в Тампль, в самое сердце рабочего китайского квартала, в свою парижскую квартирку, расположенную четырьмя этажами выше берберской кофейни, в здании по соседству с домом, населенным в основном выходцами из Западной Африки, и задумался о том, насколько слова Гойтисоло правдивы. Думал я и о том, что Париж продолжает оставаться таинственным, неповторимым городом. В век доступных путешествий по всему миру, когда всякий едет куда хочет, об этом легко забыть. Даже в испорченном глобализацией XXI веке посещение Парижа — переживание уникальное. Доказательства тому можно найти, просто прогулявшись по столичным улицам. Гойтисоло тосковал по безвозвратно ушедшему Парижу, но его категоричность таит ошибки. Город прошлого все еще жив. Фокус заключается в умении видеть, а точнее, в осознании, что прошлое и будущее столицы собраны воедино в ее настоящем. В этом, решил я тогда, и скрыт ключ к пониманию Парижа, его вечной сути и каждой детали. Мой любимый парижский прогулочный маршрут тому подтверждение. Я начинаю свой путь на углу улиц д’Оран и Леон в XVIII округе. Отсюда можно пойти куда угодно: к рынку в Дудовиле, на рю Мира или рю Полонсо. Если у вас богатая фантазия, вы в любой момент можете оказаться в Касабланке, Алжире, Тиране, Дакаре, Бейруте или на задворках Бухареста. Но даже среди самых ярких этнических пятен невозможно забыть, что находишься в Париже: идешь ли по длинным, серым османовским улицам, по мощеным булыжником аллеям, петляешь ли средневековыми улочками, ты все равно в столице Франции. Продолжая прогулку к сердцу города, попадаешь в перенаселенные зловонные улицы Барбе, где, пробираясь через нищету Востока к Северному вокзалу или терминалу поездов «Евростар», приходится обходить боснийских попрошаек, французских клошаров и африканских шаманов. Чем дальше двигаешься, тем четче осознаешь: справедливо только одно — город снова меняется.Библиография
О Париже написано море литературы, такое же безграничное и таинственное, как сам город. Этот раздел и следующий за ним список дополнительной литературы ни в коей мере не являются даже приблизительной попыткой дать какой-то упорядоченный каталог источников информации о городе. Скорее, это предварительный набросок карты, которая помогает определить маршруты и направления для изучения самого города и его истории. Книги о Париже приобретают особенное значение именно в этом контексте, но не менее важны приключенческие романы, истории возникновения популярных музыкальных направлений, комиксы и карикатуры, фотоальбомы, поэтические сборники, песни рэпперов, рок-музыка, интервью знаменитостей, истории о популярных музыкантах, диалоги со случайными людьми, проведенные в кофейнях, барах и ночных клубах вечера, видеофильмы и карты города самых разных времен. Среди наиболее важных исторических архивов по интересующей нас теме следует назвать Библиотеку международной современной документации (Нантерр), Национальную библиотеку Парижа, Информационную публичную библиотеку Центра имени Жоржа Помпиду, Библиотеку кинематографии Андре Мальро (Париж), Видеотеку Парижа и Библиотеку Джона Риланда (Манчестер). Но по-настоящему достоверная история древнего города написана прямо на его улицах. От редакции русского издания: В случаях, когда существует перевод на русский язык, это оговаривается в библиографии. Вступление. Аутопсия старой шлюхи Ackroid Peter. London: The Biography. London, 2000. Cm. русское изд.: Акройд П. Лондон: Биография. М., 2005. Balzac Honore, de. Oeuvres diverses. Paris, 1841. См. русское изд.: Бальзак О. Собрание сочинений. М., 1953. Benjamin Walter. The Arcades Project. Cambridge, MA, 1999. Céline Louis-Ferdinand. Entretiens avec le Professeur Y. Paris, 1955. Chevalier Louis. L’Assassinat de Paris. Paris, 1997. Hazan Éric. L’Invention de Paris. Paris, 2003. Higonnet Patrice. Paris, Capital of the World. Cambridge, 2002. Hussey A. Interview with Ralph Rumney. Manosque, 2000. Hussey Andrew. Like a Pack of Bastard Dogs: Agitators, Rebels and the Revolutionary Mentality in Paris. Parallax, 37. Le Journal Illustré. 1867. Lodge Anthony. Histoire sociolinguistique du français de Paris Il Paris. Université de tous les savoirs / Odile Jacob. 2004. P. 257. Prendergast Christopher. Paris and the Nineteenth Century. Oxford, 1992. Rabelais François. Gargantua. Paris, 1961. P. 53. Cm. русский перевод: Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. М., 1973. Rifkin Adrian. Street Noises: Parisian Pleasure, 1900–1940. Manchester, New York, 1993. Rousseou Jean-Jacques. Les Confessions // Oeuvres complètes. Paris, 1962–1969. См. русское изд.: Ж.-Æ. Руссо. Исповедь. Прогулки одинокого мечтателя. М.: Захаров, 2004. Sheringham Michael. Introduction // Parisian Fields. London. 1996. White Edmund. The Flâneur. London, 2001. См. русское изд.: Уайт Э. Париж. Прогулки по городу вечной весны. М., ЭКСМО; СПб., Мидгард, 2005. Часть первая. Древний океан. От древнейших времен до 987 г. н. э. При написании этой части книги я использовал следующие источники: Arnold Marie-France. Paris, ses mythes d’hier à aujourd’hui. Paris, 1997. Dulaure J.-A. Histoire physique, civile et morale de Paris. Paris, 1837. Vol. I. Dulaure J.-A. Du Culte des Pierres // Revue de l’Êcole d’Anthropologie. May-June, 1902. Duval P. M. La Bataille de Lutèce // Paris Militaire, Traditions et souvenirs militaires. Marseilles, 1956. № 103. James Edward. The Franks. London, 1988. belong C. La Vie quotidienne en Gaule à l’époque méronvin-gienne. Paris, 1963. Valence C. Les Traces du culte d’Isis sur les portails mystiques de Notre Dame de Paris //Le Goéland. Paris, 1942. № 52–52. Rouleau Bernard. Paris, histoire d’un Espace. Paris, 2003. Thorpe L. Gregory of Tours: History of the Franks. London, 1974. Глава первая. Грязная вода Abbon. Le siège de Paris par les Normands / ed. Henri Waquet. Paris, 1942. Arnold Marie-France. Paris, ses mythes d’hier à aujourd’hui. Paris, 1997. Balzac Honore, de. Lettre du 21 Juillet, 1831 // Correspondance: textes réunis, classés et annotés / Ed. Roger Pierrot. Paris, 1976. Barroux R. and M. Les origines légendaires de Paris // Paris et Ile de France; mémoires publiés par la Fédération des sociétés historiques et archéologiques de Paris et de l'Ile de France. 7. 1955. Boudelaire Charles. Flowers of Evil. Oxford, 1993. См. русское изд.: Бодлер Ш. Цветы зла. М.: ЭКСМО, 2005. Breton Guy. Les Nuits secrètes de Paris. Geneva, 1970. Corrozet G. La Fleur des antiquitez de Paris. 1532. (Bibliothèque Historique de la Ville de Paris). Diodurus Siculus. Bibliotheke historica. Book V. 28. 1. Dulaure J.-A. Histoire physique, civile et morale de Paris. Paris, 1837. Vol. 1. Goudailler Jean-Pierre. Comment tu tchatches! Dictionnaire du français contemporain des cités. Paris: Maisonneuve et Larose, 1999. Haussman E. Mémories. Paris, 2000. L’Enfance de Paris // Ed. Marcel Poète. Paris, 1908. Lafaye G. Les Divinités alexandrines chez les Parish. Paris, 1904. Lambert Pierre-Yves. La Langue gauloise: description linguistique, commentaire d’inscriptions choisies. Paris, 2003. Ménorval, E., de. Histoire de Paris. Paris, 1889. Rabelais François. Gargantua. Paris, 1961. См. русское изд.: Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. М., 1973. Revue Olympique, 102 (June 1914). P. 83–84. Rimbaud Arthur. Lettre à Ernest Delahaye, juin 1872 / / OC. Paris, 1961. Témoignage de Geneviève Dormann // Si le roi m’avait donné Paris sa grand’ville…: Travaux et veilles de Michel Fleury. Paris, 1994. Villefosse Héron, De. Histoire de Paris. Paris: Grasset, 1955. P. 28. Глава вторая. Отрубленные головы Chadych Danielle, Lebrogne Dominique. Atlas de Paris: évolution d’un paysage urbain. Paris, 1999. Dottin Georges. La Langue Gauloise, Grammaire, Textes et Glossaire. Paris, 1918. Duval P. M. La vie quotidienne en gaule pendant la paix romaine (I–XI siècles). Paris, 1952. Julian Camille. De la Gaule à la France; nos origines historiques. Paris, 1922. Julian. Misopogon // Works / Ed. W. C. Wright. Cambridge, 1913. Lambert Pierre-Yves. La Langue Gauloise. Description linguistique, commentaire d’inscriptions choisies. Paris, 2003. Meyer-Lübke W. Romanisches etymologisches Wôrterbuch. Heidelberg, 1935. Rouleau Bernard. Paris: Histoire d’un espace. Paris, 1999. Sidonius Appolinaris. Letter to Ecidicius. London, 1915. Suplicius Severus. On the life of St. Martin // Suplicius Severus, Vincent of Lerins, John Cassian. Cambridge, 1994. Thurneysen Rudolf. Keltoromanisches. Halle, 1884. Voragine Jacques, de. La Légende Dorée. Paris, 1911. Глава третья. Боги моря Boulainvilliers Henri, comte de. Histoire de l’ancien gouvernement de la France. Amsterdam, 1727. Cole Robert, A Traveller’s History of Paris. New York, 1998. Dulaure J.-A. Histoire physique, civile et morale de Paris. Paris, 1837. Vol. 1. Flaubert Gustave. Correspondance / Ed. Jean Bruneau. Paris, 1973–1991. Foucault Michel. Society Must Be Defended. London, 2003. James Edward. The Franks. London, 1988. Kerouac Jack. Satori in Paris. London, 1974. Michelet Jules. Paris et ses légendes / / Cours au College de France: 1838–1844. Paris, 1995. Thorpe L. Gregory of Tours: History of the Franks. London, 1974. Глава четвертая. Язычники Annales de Saint Bertin. Paris, 1964. Braudel Fernand. L’Identité de la France. Paris, 1987. Courcelle P. Histoire littéraire des grandes invasions germaniques. Paris, 1964. Dulaure J.-A. Histoire physique, civile et morale de Paris. Paris, 1837. Vol. 1. Feffer L.C., Périn P. Les Francs. Paris, 1987. Hallam Elizabeth M. Capetian France. London, 1992. Hussey Andrew. The Most Dangerous Man in Europe? / / The New Statesman, 21 June 2004. James Edward. The Franks. London, 1988. Michelet Jules. Paris et ses légendes // Cours au College de France: 1838–1844. Paris, 1995. Readings in Ancient History: Illustrative Extracts from the Sources //Vol. II: Rome and the West / Ed. William Stearns Davis. Boston, 1912–1913. Rouleau Bernard. Paris, histoire d’un Espace. Paris, 2003. Watson William E. The battle of Tours-Poitiers Revisited // Providence: Studies in Western Civilisation. Vol. 2, № 1. 1993. Часть вторая. Город радости. 988-1461 гг. При работе над этой частью книги основными источниками информации являлись: À la découverte des plans de Paris du XVI au XVIII siècle. Paris, 1995. Braudel Fernand. L’Identité de la France. Paris, 1987. Duby G. Les Trois Ordres ou L’Imaginaire du féodalisme. Paris, 1978. Fox John. A Literary History of France. The Middle Ages. London, 1974. Jones Colin. Paris: Biography of a City. London, 2004; Cm. русское изд.: Джонс К. Париж: биография великого города. М.: ЭКСМО, СПб.: Мидгард, 2006. Journal d’un Bourgeois de Paris // Ed. C. Beaune. Paris, 1990. Le Goff Jacques. Les Intellectuels au moyen âge. 1985. Verger J. Histoire des universités en France. Paris, 1987. Weidenfeld K. La Police de la petite voirie à la fin du moyen âge. Paris, 1997. Глава пятая. Место жестокое и прекрасное Braudel Fernand. L’Identité de la France. Paris, 1987. Dulaure J.-A. Histoire physique, civile et morale de Paris. Paris, 1837. V. 1. Hillairet Jacques. Connaissance du Vieux Paris. Paris, 1962. Horne A. Seven Ages of Paris. London, 2002. Rouleau Bernard. Paris, histoire d’un Espace. Paris, 2003. Roux Simone. Paris au Moyen Âge. Paris, 2003. Глава шестая. Священная геометрия Clair Jean. Du Surréalisme considéré dans ses rapports au totalitarisme et aux table tournantes. Paris, 2003. Fulcanelli. Le Mystère des Cathédrales. Paris, 1926. Guide de Paris Mystérieux. Paris, 1985. Hillairet Jacques. Connaissance du Vieux Paris. Paris, 1962. Hugo Victor. Notre-Dame de Paris. Paris, 1992. См. русское изд.: Гюго В. Собор Парижской Богоматери. М.: ACT, Транзиткнига, 2005. Jouffroy Alain. Notre Dame de Paris / Monuments en Parole. Paris, 1992. Otero Luis Miguel Martinez. Fulcanelli. Paris, 1987. Ponsard Alain. L’Art de visiter Notre-Dame, le mystère dévoilé. Paris, 1986. Глава седьмая. Любовники и ученые Abélard et Héloïse. Correspondance / Translated from the Latin by Octave Gérard and edited by Etienne Gilson. Paris, 1938. Reprinted: Paris, 2000. Dulaure J.-A. Histoire physique, civile et morale de Paris. Paris, 1837. Vol. 3. Fox John. A Literary History of France. The Middle Ages. London, 1974. The historia Occidentals of Jacques de Vitry: A Critical Edition / Ed. J. F. Hinnebusch. Fribourg, 1972. Глава восьмая. Святые, поэты, воры Chronique parisienne anonyme des années 1316 à 1339 / Ed. A. Hellot. Paris. 1884. Dulaure J.-A. Histoire physique, civile et morale de Paris. Paris, 1837. Vol. 3. Faral E., Bastin J. Oeuvres complètes de Rutebeuf. Paris, 1959. Favier Jean. Paris. Paris, 1997. Cuyot Yves. La Police. Paris, 1884. Jones Colin. Paris: Biography of a City. London, 2004. Cm. русское изд.: Джонс К. Париж: биография великого города. М.: ЭКСМО, СПб.: Мидгард, 2006. Le Livre de la taille de Paris de Гап 1296 / / Romanica Gothenburgensia / Ed. Karl Michaelson. Gothenburg, 1958. Mémoires de la Société de l’histoire de Paris et de l’île de France / Ed. A. Hellot. Paris. 1884. vol. II. Regalado N. F. Poetic Patterns in Rutebeuf: A Study in Non-Courtly Modes. Yale, 1970. Serper A. Rutebeuf, poète satirique. Paris, 1969. Глава девятая. Разрушая храм BothwelLGosse A. The Knights Templars. London, n. d. Churton Tobias. The Gnostics. London, 1986. Dulaure J.-A. Histoire physique, civile et morale de Paris. Paris, 1837. Vol. 2. Goytisolo Juan. Landscapes After the Battle. New York, 1987. Guide du Paris Mystérieux. Paris, 1985. Hussey A. Forbidden territory: Juan Goytisolo’s Maps of Tanger / / Journal of Middle Eastern and North African Cultural Studies. № 3, 2005. Le Goff Jaques. L’Europe, est-elle née au moyen âge? Paris, 2003. MaaloufAmin. Les Croisades vues par les Arabes: la barbarie franque en terre sainte. Paris, 1983. Marshall Peter. The Philosopher’s Stone: A Quest for the Secrets of Alchemy. London, 2001. Глава десятая. Восстания и бунты Braudel Fernand. L’Identité de la France. Paris, 1987. Dulaure J.-A. Histoire physique, civile et morale de Paris. Paris, 1837. Vol. 3. Guide du Paris Mystérieux. Paris, 1985. Horne A. Seven Ages of Paris. London, 2002. Pitti Buonaccorso. Cronica. Bologna, 1905. Глава одиннадцатая. Английские дьяволы Dulaure J.-A. Histoire physique, civile et morale de Paris. Paris, 1837. Vol. 3. Глава двенадцатая. Пляски смерти Cotgrave Randle. A Dictionarie of the French and English Tonque. London, 1611. Dufournet Jean. Magazine Littéraire. Mai 1995. Journal d’un Bourgeois de Paris / Ed. C. Beaune. Paris, 1990. Le Goff Jacques. Les Intellectuels au moyen âge. 1985. Le Mesnagier de Paris / Ed. Georgina E Brereton, Janet Ferrier. Paris, 1994. Villon Francois. Ballades en jargon. См. русское изд.: Вийон Ф. Баллада на цветном жаргоне // Сочинения. М.: Натюрморт, 2006. Глава тринадцатая. Карты и легенды À la découverte des plans de Paris du XVI au XVIII siècle. Paris, 1995. Alfred Bonnardot. Études Archéologiques sur les Anciens Plans de Paris. Paris, 1851. Reprinted Paris, 1994. Huizinga Johan. The Waning of the Middle Ages. London, 1924. Les Plans de Paris / Ed. Jean Boutier. Paris, 2002. Часть третья. Город скотобоен 1461–1669 гг. Ключевыми источниками для третьей части книги, являются следующие труды: Bernard L. The Emerging City. Paris in the time of Louis XIV. Durham, NC, 1970. Briggs R. Early Modern France, 1506–1715. Oxford, 1977. Erlanger G. La Vie quotidienne sous Henri IV. Paris, 1958. Franklin A. Journal du Siège de Paris. Paris, 1876. Jones Colin. The Great Nation. London, 1998. Trout A. City on the Seine: Paris in the time of Richelieu and Louis XIV. London, 1966. Глава четырнадцатая. Темный в сиянии света Cole Robert. A Traveller’s Histoiy of Paris. New York, 1998. Fierro A. Mémoire de Paris. Paris, 2003. Montaigne M. Essais. Paris, 1998. Vol. II. См. русское изд.: Монтень M. Опыты. Москва, Ленинград, 1954. Кн. 2. Rouleau Bernard. Paris, histoire d’un Espace. Paris, 2003. Saint-Amant Marc Antoine, de. Adieu à Paris. 1653. Глава пятнадцатая. Выбирай: месса или смерть! Dulaure J.-A. Histoire physique, civile et morale de Paris. Paris, 1837. Vol. 4. Mémoires de L. Geitzkofler, tyrolien (1550–1620). Geneva, 1892. Глава шестнадцатая. Как в верхах, так и в низах Dulaure J.-A. Histoire physique, civile et morale de Paris. Paris, 1837. Vol. 5. Riverain Jean. Chroniques de l’argot. Paris, 1963. Sébillot Paul-Yves. Folklore et curiosités du vieux Paris. Paris, 2002. White Edmund. The Flâneur. London, 2001. См. русское изд.: Уайт Э. Париж. Прогулки по городу вечной весны. М., ЭКСМО; СПб., Мидгард, 2005. Глава семнадцатая. Темные времена Dulaure J.-A. Histoire physique, civile et morale de Paris. Paris, 1837. Vol. 5. Глава восемнадцатая. Парадиз обретает черты Breton André. Nadja. Paris, 1927. Dulaure J.-A. Histoire physique, civile et morale de Paris. Paris, 1837. Vol. 5. Horne A. Seven Ages of Paris. London, 2002. Malraux André. Oevres complètes. Paris, 1927. Vol. I. Rouleau Bernard. Paris, histoire d’un Espace. Paris, 2003. Глава девятнадцатая. Чудесная мешанина Dulaure J.-A. Histoire physique, civile et morale de Paris. Paris, 1837. Vol. 5. Dupont L. Les Célébrités de la rue. Paris, 1972. Часть четвертая. Новый Рим и древний Содом 1680–1799 гг. Основные источники, использовавшиеся при работе над четвертой частью книги: Bernard L. The Emerging City. Paris in the time of Louis XIV. Durham, NC, 1970. Cobb Richard. The French and their Revolution. London, 1998. Cobb Richard. The Police and the People, French Popular Protest 1789–1820. Oxford, 1970. Cobb Richard. Paris and its Provinces. Oxford, 1972. Codineau D. The Women of Paris and their Revolution. Berkeley, 1998. Isherwood R. Farce and Fantasy: Popular Entertainment in 18th Century Paris. New York, 1986. Jones Colin. The Great Nation. London, 1998. Laver J. The Age of Illusion: Manners and Morals, 1750–1848. London, 1972. Roche Daniel. The People of Paris: An Essay in Popular Culture in the 18th Century. New York, 1987. Rudé G. The Crowd in the French Revolution. Oxford, 1959. Schama Simon. Citizens. London, 1989. Trout A. City on the Seine: Paris in the time of Richelieu and Louis XIV. London, 1966. Глава двадцатая. Великолепие и невзгоды Dulaure J.-A. Histoire physique, civile et morale de Paris. Paris, 1837. Vol. 5. Folklore de Paris. Paris, 1998. Maillet Marc, de. Epigrammes. Paris, 1620. Michelet Jules. Cours au Collège de France. Paris, 1987. Rouleau Bernard. Paris, histoire d’un Espace. Paris, 2003. Глава двадцать первая. Тень и зловоние Dulaure J.-A. Histoire physique, civile et morale de Paris. Paris, 1837. Vol. 5. Fahny Jean Mohlsen. Voltaire and Paris. Oxford, 1981. Les Cris de Paris. Paris, 1986. Roche Daniel. The People of Paris: An Essay in Popular Culture in the 18th Century. New York, 1987. The Works of Voltaire: A Contemporary Version. New York, 1901. Voltaire. Advertisment to the reader: An essay upon the civil wars of France… London, 1727. Глава двадцать вторая. Porno Manifesto Fabliaux érotiques / Ed. A. Fierro. Paris, 2003. Farge Arlette. Subversive Words, Public Opinion in the 18th Century. London, 1997. Houellebecq Michel. La Poursuite du bonheur. Paris, 2001. Houellebecq Michel. Whatever. London, 1999. Lemonier Marc, Dupouy Alexandre. Histoire de Paris libertin. Paris, 2003. Mercier L. S. Le Tableau de Paris. Paris, 1997. Vol. 12. См. также русское изд.: Мерсье А.-С. Картины Парижа. М.: Прогресс, Академия, 1995. Ovidie. Porno Manifesto. Paris, 2002. Plessix du Gray Francine. At Home with the Marquis de Sade. London, 1999. Roche Daniel. The People of Paris: An Essay in Popular Culture in the 18th Century. New York, 1987. Глава двадцать третья. Ночное видение Bouchon J. G. Histoire du communisme and du socialisme. Paris, 1989. Bretonne Restif, de la. Monsieur Nicolas. Paris, 1797. Dulaure J.-A. Histoire physique, civile et morale de Paris. Paris, 1837. Vol. 6. Jones Colin. The Great Nation. London, 1998. Mercier L. S. Le Tableau de Paris. Paris, 1997. См. также русское изд.: Мерсье Л.-С. Картины Парижа. М.: Прогресс, Академия, 1995. Mercier Louis Sébastien, Bretonne Restif, de la. Paris le jour, Paris la nuit. Paris, 1986. Nerval Gérard, de. Oeuvres Complètes. Paris, 1961. Roche Daniel. The People of Paris: An Essay in Popular Culture in the 18th Century. New York, 1987. Rouleau Bernard. Paris, histoire d’un Espace. Paris, 2003. Глава двадцать четвертая. От бунта к революции Roche Daniel. The People of Paris: An Essay in Popular Culture in the 18th Century. New York, 1987. Глава двадцать пятая. Кровавый путь к Утопии Baecque Antoine, de. Dégénérescence et régénération ou comment le livre licencieux juge la Révolution française / / L’Enfer de la Bibliothèque Nationale. Paris, 1987. Vol. 6. Reprinted in Livre et révolution / Ed. Roger Chartier, Daniel Roche. Paris, 1989. Biver Marie-Louise. La Fête révolutionnaire. Paris, 1979. Carlyle Thomas. The French Revolution (1837) /1 The States General. Section 4. Cobb Richard. The Police and thePeople, French Popular Protest 1789–1820. Oxford, 1970; Cobban Alfred. The Social Interpretation of The French Revolution. Cambridge, 1999. Cole Robert. A Traveller’s History of Paris. New York, 1998. Doyle William. Origins of the French Revolution. Oxford, 1999. Furet François. Penser la Révolution française. Paris, 1978. Godineau D. The Women of Paris and their Revolution. Berkeley, 1998. L’Humanité, 18 September 2002. Lefebvre Georges. The Coming of the French Revolution. Princeton, NJ, 1971. Lemonier Marc, Dupouy Alexandre. Histoire de Paris libertin. Paris, 2003. Lynn Avery Hunt. Politics Culture and Class in the French Revolution. Berkeley, 1994. Ozouf Mona. La fête révolutionnaire. Paris, 1976. Plessix du Gray Francine. At Home with the Marquis de Sade. London, 1999. Rey Michel. Police and Sodomy in 18th Century Paris: From Sin to Disorder / / Journal of Homosexuality. Vol. 16. Nos. 1 and 2. 1988. Saint-Just. Sur le mode d’exécution du décret contre les ennemis de la Révolution. Речь перед Конвентом от 3 марта 1794 года. Wikholm Andrew. Police entrap Pederasts // Gay History. 1998. Часть пятая. Дом мечты, город мечты 1800–1850 гг. В список важнейших источников, относящихся к рассматриваемой теме, следует включить: Berthier P. La Vie quotidienne dans la Comédie Humaine de Balzac. Paris, 1998. Corcoran P. Before Marx; Socialism and Commnism in France, 1830–1848. Lonodn, 1983. Favier Jean. Paris. Paris, 1997. Frégier H. Des classes dangereuses de la population dans les grandes villes. Baillère, 1840. Harvey David. Paris, Capital of Modernity. Routledge, 2003. Home Alistair. Seven Ages of Paris. London, 2002. Horne Alistair. The Fall of Paris: the Siege and the Commune, 1870–1871. New York, 1965. Jones Colin. Paris: Biography of a City. London, 2004; Cm. русское изд.: Джонс К. Париж: биография великого города. М.: ЭКСМО, СПб.: Мидгард, 2006. La Modernité avant Haussmann / Ed. К. Bowie. Paris, 2001. Lanoux Armand. Introduction to Les Mystères de Paris. Paris, 1998. Mansell Peter. Paris Between Empires 1814–1852. London, 2003. Prendergast C. Paris and the Nineteenth Century. Oxford, 1992. Глава двадцать шестая. Империя Benjamin Walter. The arcades Project. Cambridge, 1999. Clark Roger. Threading the Maze: Nineteenth-century Guides for British Travellers to Paris / / Parisian Fields / Ed. Michael Sheringham. London, 1996. Mansell Peter. Paris Between Empires 1814–1852. London, 2003. Marx Karl. Letter to Ruge / / Writings of the Young Marx on Philosophy and Society. New York, 1967. Маркс К. Письмо к А. Руге // Сочинения. М., 1955. Т. 27. Michelet Jules. Histoire de la révolution française. Paris, 1952. Said Edward W. Orientalism: Western Conceptions of the Orient. London, 1978. Глава двадцать седьмая. Оккупация и реставрация A New History of French Literature / Ed. Denis Hollier. Cambridge, 1994. Constant Benjamin. Political Writings. Cambridge, 1988. Mansell Peter. Paris Between Empires 1814–1852. London, 2003. Глава двадцать восьмая. Буржуазный мир времен Луи-Филиппа A New History of French Literature / Ed. Denis Hollier. Cambridge, 1994. Benjamin Walter. The Arcades Project. Cambridge, 1999. Citron Pierre. La Poésie de Paris da la littérature française de Rousseau à Boudelaire. Paris, 1961. Higonnet Patrice. Paris, Capital of the World. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2002. Louandre Charles. Les Idées subversives de notre temps. Paris, 1872. Raumer Friedrich, von, Briefe aus Paris und Frankreich in Jahre 1830. Leipzig, 1831. Richardson Joanna, The Bohemians, La Vie de Bohème in Paris 1830–1914. London, 1969. Глава двадцать девятая. Зеркало Бальзака Agostini Daniela, De. Il mito dell’angelo: genesi dell’opera d’arte in Proust, Zola, Balzac. Urbino, 1990. Bellos David. Balzac Criticism in France, 1850–1900. Oxford, 1976. Bierman John. Napoleon III and His Carnival Empire. London, 1989. Brooks Peter. A Monarchist Marxist Could Love / / New York Times Book Review, 23 May 1999. Courteix René-Alexandre. Balzac et la Revolution française: aspects idéologiques et politiques. Paris, 1997. Higonnet Patrice. Paris, Capital of the World. Cambridge, 2002. Horne Alistair. A Savage War of Peace. London, 2002. Mansell Peter. Paris Between Empires 1814–1852. London, 2003. Глава тридцатая. Век презрения Harvey David. Paris, Capital of Modernity. Routledge, 2003. Mansell Peter. Paris Between Empires 1814–1852. London, 2003 Zeldin Theodore. France 1848–1945. Oxford 1980. Vol. 3. Часть шестая. Королева мира 1850–1900 гг. При работе над этой частью книги использовались следующие труды: Chevalier Louis. Labouring classes and dangerous classes in Paris during the first half of the XIX century. New York, 1973. Christiansen Rupert. Tales of the New Babylon, Paris 1869–1875. London, 1994. Clark T. J. Image of the People. London, 1973. Clark T. J. The Absolute Bourgeois. London, 1973. Clark T. J. The Painting of Modern Life. New York, 1985. Favier Jean. Paris. Paris, 1997. Ferguson P. Parkhurst. Paris as Revolution: Writing the XIX Century City. Berkeley, 1994. Haine W. Scott. The World of the Paris Café, Sociability among the French Working-Class 1789–1914. Baltimore, MD, 1996. Halperin J. Félix Fénéon: Aesthete and anarchist. New Haven, CT, 1988. Horne Alistair. Seven Ages of Paris. London, 2002. Horne Alistair. The Fall of Paris: the Siege and the Commune, 1870–1871. New York, 1965. Jones Colin. Paris: Biography of a City. London, 2004; Cm. русское изд.: Джонс К. Париж: биография великого города. М.: ЭКСМО, СПб.: Мидгард, 2006. Richardson Joanna. The Bohemians: La Vie de Bohème in Paris 1890–1914. London, 1969. Shattuck Roger. The Banquet Years: The Arts in France 1885–1918. London, 1958. Varias Alexander. Paris and the Anarchists. London, 1997. Zeldin Theodore. France 1848–1945. Oxford, 1980. Глава тридцать первая. Империя кретина Benjamin Walter. The Arcades Project. Cambridge, 1999. Bierman John. Napoleon III and His Carnival Empire. London, 1989. Boudelaire Charles. Flowers of Evil. Oxford, 1993. Cm. русское изд.: Бодлер Ш. Цветы зла. М.: ЭКСМО, 2005. Citron Pierre. Honore de Balzac, scènes d’un visionaire / / Magazine littéraire. May 1995. La fargue Paul. La légende de Victor Hugo. Paris, 1885. Mansell Peter. Paris Between Empires 1814–1852. London, 2003. Russel John. Paris. London, 1983. Marx K. The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte / Translated from the German edition of 1869. См. русское изд.: Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. М.: Прогресс, 1983. Глава тридцать вторая. Призраки при свете дня Boudelaire Charles. Oevres complètes. Paris, 1961. Horne Alistair. Seven Ages of Paris. London, 2002. Janin Jules. Âne mort. Paris, 1829. Paris Guide, 1867. Paris, 1999. Richardson Joanna. The Bohemians, La Vie de Bohème in Paris 1890–1914. London, 1969 Глава тридцать третья. Красная молния Adam Edmond. Le Siège de Paris: journal d’une Parisienne. Paris, 1873. Bierman John. Napoleon III and His Carnival Empire. London, 1989. Bourgin Georges. Histoire de la Commnune. Paris, 1907. Bourgin Georges. Les Premières journées de la Commune. Paris, 1928. Costa Gaston, da. La Commune vécue. Paris, 1903–1905. Ferguson P. Parkhurst. Paris as Revolution: Writing the XIX Century City. Berkeley, 1994. Horne Alistair. The Fall of Paris: the Siege and the Commune, 1870–1871. New York, 1965. Louandre Charles. Les Idées subversives de notre temps. Paris, 1872. Marx Karl. The Civil War in France. London, 1937. Paris Under Siege 1870–1871 / Ed. Joanne Richardson. London, 1982. Rimbaud Arthur. Collected Poems. London, 1986. Rougerie Jacques. Paris Libre 1871. Paris, 1967. Глава тридцать четвертая. После оргии Haine W. Scott. The World of the Paris Café, Sociability among the French Working-Class 1789–1914. Baltimore, MD, 1996. Higonnet Patrice. Paris, Capital of the World. Cambridge, 2002. Mirbeau Octave. Misère et moralité. Paris 1968. Pour en finir avec le travail: Chansons du prolétariat révolutionnaire. Anthologie de la chanson française / CD-Record. Paris, 1998. Shattuck Roger. The Banquet Years: The Arts in France 1885–1918. London, 1958. Часть седьмая. Магнетизм 1900–1939 гг. При работе над седьмой частью в основном сведения были почерпнуты из следующих трудов: Chevalier Louis. Montmartre du plaisir et du crime. Paris, 1987. Dudley Andrew, Ungar Steven. Popular Front Paris and the Poetics of Culture. Cambridge, 2004. Favier Jean. Paris. Paris, 1997. Gosling Nigel. Paris 1900–1914: The Miraculous Years. London, 1978. Hussey A. The Inner Scar: The Mysticism of Georges Bataille. Amsterdam, 2000. Nadeau Maurice. Histoire du Surréalisme. Paris, 1947. Parisian Fields / Ed. M. Sheringham. London, 1996. Polizotti A. Revolution of the Mind. New York, 1996. Rifkin A. Street Noises. Manchester, 1995. Suleiman Susan Rubin. Subversive Intent. Harvard, 1992. Weber Eugen. The Hollow Years. London, 1995. Zeldin Theodore. France 1848–1945. Oxford, 1980. Глава тридцать пятая. Новый виток Apollinaire Guillaume. Zone // The Penguin Book of French Poetry. London, 1990. Desnos Robert. La Complainte de Fantomas // Oeuvres complètes. Paris, 1962. Fargue Léon-Paul. Le Piéton de Paris. Paris, 1985. Gosling Nigel. Paris 1900–1914: The Miraculous Years. London, 1978. Глава тридцать шестая. Новые войны La Guerre de 1914–1918 par Ceux qui l’ont faite. Paris, 1968. Bourget Jean-Michel. Les Origines de la Victoire: histoire raisonnée de la Guerre Mondiale. Paris, 1930. Céline Louis-Ferdinand. Voyage au bout de la nuit. Paris, 1932. Favier Jean. Paris. Paris, 1997. Jones Colin. Paris: Biography of a City. London, 2004. Cm. русское изд.: Джонс К. Париж: биография великого города. М.: ЭКСМО, СПб.: Мидгард, 2006. Глава тридцать седьмая. Парижские крестьяне Blanchard Pascal, Deroo Éric, Manceron Gilles. Paris Noir. Paris, 2003. Bowles Paul. Without Stopping. New York, 1986. Breton André, Soupault Philippe. The Magnetic Fields. London, 1985. Encyclopaedia Acephalica. London, 1996. (The article «Black Birds».) Tzara Tristan. Dada Manifesto. York, 1978. Verlaine Paul. L’Art poétique. 1871–1873. Глава тридцать восьмая. И пала тьма Bataille Georges. Le Bleu du ciel. Paris, 1957. Bataille Georges. Meditation Heracliteenne / Oeuvres complètes. Paris, 1971. Vol. 1. Dudley Andrew, Ungar Steven. Popular Front Paris and the Poetics of Culture. Cambridge, 2004. F french Patrick. Dirty Life / / The Beast at Heaven’s Gate: Georges Bataille and the Art of Transgression. Amsterdam, 2006. Weber Eugen. The Hollow Years. London, 1995. Часть восьмая. Столица предательства 1940–1944 гг. При работе над этой частью книги использовались следующие труды: Bardèche Maurice. Lettre à François Mauriac. Paris, 1947. Betz Albrecht, Martens Stefan. Les Intellectuels et l’Occupation, 1940–1944, Collaborer, partir, résister. Paris, 2004. Boudrel Philippe. L’ Épuration sauvage. Paris, 1988. Jackson Julian. France, The Dark Years. Oxford, 2001. Josephs Jeremy. Swastika Over Paris: The Fate of the French Jews. London, 1989. Klarsfeld Serge. Mémorial de la deportation des juifs en France. Paris, 1978. Larkin Maurice. Paris Since the Popular Front. London, 1986. Macmillan James. Twentieth-Century France. London, 1992. Mémoire de la Seconde Guerre Mondiale / Ed. Alfred Wahl. Metz, 1984. Novick Peter. The Resistance versus Vichy: The Purge of Collaborators in Liberated France. London. 1986. Rémond René. Notre Siècle. Paris, 1988. Rousso Henry. The Vichy Syndrome. Cambridge, 1991. Глава тридцать девятая. Ночь и туман Azéma Jean-Pierre. De Munich a la Libération 1938–1944. Paris, 1998. Garcia Daniel. Y’a des zazous dans mon quartier //Le Nouvel Observateur. July, 2005. Josephs Jeremy. Swastika Over Paris: The Fate of the French Jews. London, 1989. Shirer William L. La Chute de la troisième republique. Paris, 1970. Weber Eugen. The Hollow Years. London, 1995. Глава сороковая. Патриоты и предатели Betz Albrecht, Martens Stefan. Les Intellectuels et l'Оссuраtion, 1940–1944, Collaborer, partir, resister. Paris, 2004. Céline Louis-Ferdinand. Guignol’s Band. Paris, 1958. Céline Louis-Ferdinand. Bagatelles pour un massacre. Paris, 1938. Aimeras Philippe. Les Idees de Celine. Paris, 1992. Belloiv Saul. My Paris // New York Times. 23 July 1983. Blumerson Martin. The Vildè Affair: Beginnings of the French Resistance. London, 1977. Camus Alber. Lettres a un ami allemand. См. русское изд.: Камю А. Письмо к немецкому другу // Бунтующий человек. М., 1990. Часть девятая. Общество спектакля 1945–2001 гг. При работе над девятой частью были использованы следующие источники: Bellos David. Georges Perec: Life a User’s Manual. London, 1994; Bellos David. Jacques Tati: His Life and Work. London, 2001. Bizot Jean-François. Underground: l’histoire. Paris, 2004. Bowd Gavin. L’Enterrement interminable. Paris, 1998. Debord Guy. The Society of the Spectacle. Paris, 1967. Dillaz Serge. Vivre et Chanter en France, 1945–1980. Paris, 2004. Fenby Jonathan. France on the Brink. London, 2002. F french Patrick. The Time of Theory. Oxford, 1995. Gildea Robert. France Since 1945. Oxford, 1998. Hussey Andrew. The Game of War: The Life and death of Guy Debord. London, 2001. Horne Alistair. A Savage War of Peace. London, 2002. Khilnani Sunan. Arguing Revolution. New Haven, CT, 1993. Judt Tony. Past Imperfect. Berkeley, 1992. Rioux J. P. The Fourth Republic. Cambridge, 1991. Reader Keith. Intellectuals and the Left in France Since 1968. London, 1987. Rotman Patrick, Tavernier Bertrand. La Guerre sans nom. Paris, 1992. Глава сорок первая. Пейзаж после битвы Beevor Antony, Artemis Cooper. Paris After the Liberati-on:1944–1949. London, 1994. Defeat and Beyond, An Anthology of French Wartime Writing (1940–1945) / Ed. Germaine Brée, George Bernauer. New York, 1970. Lottmann Herbert. The Left Bank. London, 1982. Dillaz Serge. Vivre et Chanter en France, 1945–1980. Paris, 2004 Глава сорок вторая. Седьмая «вилайя» Horne Alistair. A Savage War of Peace. London, 2002. Macey David. Frantz Fanon: A Life. London, 2000. Blanchard Pascal. Paris arabe. Paris, 2004. Lemonier Marc, Dupouy Alexandre. Histoire de Paris libertin. Paris, 2003. Глава сорок третья. Расплывчатый заговор Andreotti Libero. Architecture and Play // Guy Debord and the Situationist International: Texts and Documents / Ed. Tom McDonough. Cambridge MA, 2002. Bizot Jean-François. Underground: l’histoire. Paris, 2004 Caute David. The Year of the Barricades ’68. London, 1988. Debord Guy. The Society of the Spectacle. Paris, 1967. Hussey Andrew. The Game of War: The Life and death of Guy Debord. London, 2000. Isou Isidore. Traite d’economie nucléaire: le soulèvement de la jeunesse. Paris, 1947. Rumney Ralph. Le Consul. Paris, 1999. Vaneigem Raoul. The Revolution of Everyday Life. San Francisco, 1988. Глава сорок четвертая. Убийство Парижа? Ackroid Peter. Glare but not Gloire: Paris // The Collection. London, 2001. Augé Marc. Un ethnologue dans le metro. Paris, 1986. Boschère Jean, de. Paris Clair-Obscur. Paris, 1991. Chevalier Louis. L’Assassinat de Paris. Paris, 1997. F french Patrick. Detourment du flâneur / / The Hacienda Must Be Built. Manchester, 1996. Laughland John. The Death of Politics. London, 1994. Millet Catherine. La vie sexuelle de Catherine Millet. Paris, 2001. Эпилог Goytisolo Juan. Paris, capital del siglo XXI //El bosque de las letras. Madrid, 1995.Рекомендуемая литература
О росте и развитии центра Парижа Aressy L., Parménie A. La Cité des épaves. Paris, 1943. Bastié J. Croissance de la banlieue parisienne. Paris, 1964. Bedel J, Les Puces ont cent ans. Paris, 1985. Brisset P. La Zone de Paris et la loi du 10 avril 1930. Paris, 1932. Hammonaye C., de la. Ame en plein vent. Paris, 1938. Jakovsky Anatole. Paris, mes puces. Paris, 1957. Larguier Léo. Marchés et foires de Paris. Paris, 1953. Pereire G. Note sur l’utilisation des terrains et des fortifications. Paris, 1901. A также многочисленные выпуски посвященных архитектуре и городскому планированию журналов: «Architecture, Mouvement, Continuité», «Paris Project». Труды по общей истории Babelon Jean-Pierre. Paris au XVI Siècle. Paris, 1986. Balon Hilary. The Paris of Henri IV: Architecture and Urbanism. Cambridge, 1995. Beaujeu-Garnier J. Paris, hazard ou predestination? Paris, 1993. Beevor Antony, Cooper Artemis. Paris After the Liberation, 1944–1949 New York: 1994. Bennet Arnold. Paris Nights and Impressions of Places and People. New York, 1913. Berlanstein Lenard. The Working People of Paris, 1871–1914. Baltimore, MD, 1985. Bernier Olivier. Fireworks at Dusk: Paris in the Thirties. New York, 1993. Bertaut Jules. Les Belles Nuits de Paris. Paris, 1956. Bierman John. Napoleon III and His Carnival Empire. London, 1987. Billy André. Paris, Vieux et neuf. Paris, 1909. Burchell S. C. Imperial Masquerades: The Paris of Napoleon III. New York, 1971. Cain Georges. Promenades dans Paris. Paris, 1906. Carco Francis. Le Roman de François Villon. Paris, 1926. Carnod André. Visages de Paris. Paris, 1912. Cole Robert. A Traveller’s History of Paris. New York, 1998. Dabit Eugune. Ville Lumière. Paris, 1987. Daeninckx Didier. Â louer sans commission. Paris, 1991. Delvau Charles. Dictionnaire érotique moderne par un professeur de la langue verte. Paris, 1864. Delvau Charles. Dictionnnaire de la langue verte. Paris, 1866. Duchâtelet A. De la prostitution dans la ville de Paris. Baillère, 1836. Dulaure J.-A. Histoire de Paris. 12 vols. Paris, 1837. Edwards Stewart. The Communards of Paris, 1871. Ithaca, NY, 1973. Edwards Stewart. The Paris Commune, 1871. Chicago, 1971. Favier Jean. Paris. Paris, 1997. Fierro A. Histoire et dictionnaire de Paris. Paris, 1997. Fierro A. History and dictionary of Paris. Lanham, MD, 1999. Fierro A. Mémoire de Paris. Paris, 2003. Fierro A. Mystères de l’histoire de Paris. Paris, 2000. Fosca F. Histoire des cafés de Paris. Paris, 1934. Frégier H. Des classes dangereuses de la population dans les grandes villes. Baillère, 1840. Horne Alistair, Seven Ages of Paris. London, 2002. Horne Alistair. The Fall of Paris: the Siege and the Commune, 1870–1871. New York, 1965. Jones Colin. Paris: Biography of a City. London, 2004. Lanoux Armand. Introduction to Les Mystères de Paris. Paris, 1998. Lapidis Clément. Dimanches à Belleville. Paris, 1884. Larcher L. Dictionnaire historique, étymologique et anecdotique de l’argot parisien. Paris, 1996. Leguay J.~P. La Rue au Moyen âge. Rennes, 1984. Marrey B. Les Grands magasins, des origines a 1930. Paris, 1979. Massip C. La Vie des musiciens à Paris au temps de Mazarin. Paris, 1976. Melly George. Paris and the Surrealists. London, 1992. Michel Henri. Paris allemand, Paris resistant. Paris, 1982. Mirot L. Les Insurrections urbaines au début du règne de Charles VI. Paris, 1905. Moura J. Le Café Procope. Paris, 1929. Nisard Charles. De quelques parisianismes populaires et autres locutions non ou plus ou moins imparfaitement expliquées des XVII, XVIII et XIX siècles. Paris, 185? Ozouf Mona. La Fête révolutionaire. Paris, 1976. Pernot M. La Fronde. Paris, 1994. Pinon P. Paris, Biographie d’une capitale. Paris, 1999. Prendergast C. Paris and the Nineteenth Century. Oxford, 1992. Rials S. De Trochu a Thiers, 1870–1873. Paris, 1985. Rougerie Jacques. Procès des Communards. Paris, 1978. Russell John. Paris. London, 1983. Sainéan L. Le Langage parisien au XIX siècle. Paris, 1920. Shapiro A. L. Housing the Poor of Paris. Paris, 1985. Shattuck R. The Banquet Years: The Arts in France 1885–1918: Alfred Jarry, Erik Satie, Henri Rousseau, Guillaume Apollinaire. London, 1958. Siegel Jerrold. Bohemian Paris: Culture, Politics, and the Boundaries of Bourgeois Life, 1830–1930. New York, 1986. Steele Valerie. Paris Fashion: A Cultural History. Oxford, 1988. Tournier Michel. La Goutte d’or. Paris, 1985. Tulard J. Paris et son administration, 1800–1830. Paris, 1976. Vigier P. Paris pendant la Monarchie de Juillet. Paris, 1991. Walter G. La Vie sous 1’Occupation. Paris, 1960. Эссе, обзоры, теоретические исследования Adler Laure. La vie quotidienne dans les maisons closes: 1830–1930. Paris, 1990. Bandini Mirella. L’Estetico, il politico: 1948–1957. Rome, 1977. Bandini Mirella. Per loro la società è uno spettacolo // L’Es-presso. No. 22. Rome. 1975. Brau Jean-Louis. Cours camarade, le vieux monde est derrière toi! Histoire du mouvement révolutionnaire en Europe. Paris, 1968. Chevalier Louis. L’Assassinat de Paris. Paris, 1977. Chevalier Louis. Labouring Classes and Dangerous classes in Paris during the First Half of the Nineteenth Century. New York, 1973. Chevalier Louis. Les Parisiens. Paris, 1967. Constant. New Babylon: Art et Utopie. Paris, 2000. Cuilbert Cécile. Le Musée Nationale. Paris, 2000. Hazan E. L’Invention de Paris. Paris, 2003. Higonnet Patrice. Paris: capital of the world. Cambridge, 2002. Hillairet Jacques. Dictionnaire historique des rues de Paris. Paris, 1957. Isou Isidore. L’Agrégation d’un nom et d’un messie. Paris, 1947. Jappe Anselm. Guy Debord. Marseilles, 1995. Jappe Anselm. La lenta dissipazione del pensiero critico // Il Manifesto. 3 December 1994. Jolivet Merri. Nous avons fait ensemble un grand voyage sur place // Libération. 6 December 1994. Leivino Walter. L’imagination au pouvoir. Paris, 1968. Mension Jean-Michel. La Tribu. Paris, 1998. Perniola Mario. Arte e revoluzione / / Tempo Presente. December 1966. Pierini Franco. I partiti non hanno più niente da dirci // L’Europeo. December 1966 Rumney Ralph. Le Consul. Paris, 1999. Rumney Ralph. Pourvu que ça dure. Manosque, 1998. Stierle Karlheiz. La Capitale des signes: Paris et son discourse. Paris, 2001. Wolman Gil J. L’Anticoncept. Paris, 1994. Woods Alan. The Map Is Not the Territory: The Art of Ralph Rumney. Manchester, 2000.От автора
Совершенно очевидно — чтобы изучить Париж, не хватит жизни, и потому хотелось бы поименно назвать коллег, друзей и всех, кто помогал мне решать столь нетривиальную задачу: Абделлатиф Акбиб, Лиза Эллардайс, Халид Амин, Франсуаза Байи, «Беатрис», Давид Беллос, Гэвин Бауд, Констан, Джейсон Коули, Мартин Кроули, Энн Каннингем (мой первый гид по городу), Шигенобу Гонсальвес, Хуан Гойтисоло, Мишель Гюэ, Сесил Гильберт, Шанталь Гийом, Софи Гершковиц, Аллен Хиббард, Лес Ходж, Мишель Уэльбек, Исидор Ису, Эме Жаке, Марк Кермод (всегда поддерживал меня), Рамес Малуф, Патрик Макгиннесс, Джон Макхейл, Анна Макивер, Джеффри Миллер, София Морель, Овидия, Лаура Оуэн, Пол Куинн, Тарик Рамадан, Ральф Рамни (скончался в 2002 году), Ролан Сабатье, Джереми Стаббс, Ив Трентре, Зинедин Зидан. Я чрезвычайно признателен Кэт Баркер, внимательному и компетентному редактору из издательства «Penguin», и моему агенту Питеру Робинсону. И конечно, всей душой благодарен Кармель Реган из «Роскоммон» за то, что она есть. Литературно-художественное издание Ответственный редактор Е.Г. Кривцова Редактор Е.Л. Теплова Выпускающий редактор О.К. Юрьева Художественные редакторы М.В. Демичева, А. Г. Сауков Технический редактор Л.Л. Подъячева Корректоры Н.В. Волохонская, Г.В. Горянова, О.В. Фокина, И.А. Шабранская ООО «Издательство «Мидгард». 198020, г. Санкт-Петербург, Нарвский пр., д. 18 URL: www.midaardr.SDb.ru. E-mail: info@midgardr.spb.ru ООО «Издательство «Эксмо* 127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86, 956-39-21. Home раде: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru Оптовая торговля книгами «Эксмо»: ООО «ТД «Эксмо*. 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74. E-mail: reception@eksmo-sale.ru По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо» E-mail: IntemationalOekamo-aale.ru International Sales: International wholesale customers should contact Foreign Sales DepartmentofTrading House «Eksmo» fortheirorders. intematlonalOeksmo-sale.ru По вопросам заказа книг корпоративным клиентам, в том число в специальном оформлении, обращаться по тел. 411-68-59доб. 2115,2117,2118. E-mail: vlpzakazOeksmo.ru Подписано в печать 25.02.2010. Формат 84x108 1/32. Гарнитура «Академия». Печать офсетная. Бумага тип. Усл. печ. л. 33,6 + вкл. Тираж 2000 экз. Заказ № 344. Отпечатано с предоставленных диапозитивов в ОАО «Тульская типография». 300600, г. Тула, пр. Ленина, 109.
 Эндрю Хасси родился в 1963 году.
Впервые он приехал в Париж в конце 1970-х годов из своего родного Ливерпуля, желая вкусить свободы, анархии и приключений. Приключения начались уже в метро ~ Эндрю тут же ограбил карманник.
После Парижа Эндрю жил и работал в Манчестере, Лионе, Мадриде, Танжере и Барселоне, публиковал статьи об анархизме, моде 1980-х годов на самоубийство, радикальном исламе, терроризме, футболе, эротике и порнографии. Сегодня он работает редактором журнала «Обсервер Спорте» и возглавляет кафедру французской литературы в Лондонском университете Парижа.
Эндрю Хасси родился в 1963 году.
Впервые он приехал в Париж в конце 1970-х годов из своего родного Ливерпуля, желая вкусить свободы, анархии и приключений. Приключения начались уже в метро ~ Эндрю тут же ограбил карманник.
После Парижа Эндрю жил и работал в Манчестере, Лионе, Мадриде, Танжере и Барселоне, публиковал статьи об анархизме, моде 1980-х годов на самоубийство, радикальном исламе, терроризме, футболе, эротике и порнографии. Сегодня он работает редактором журнала «Обсервер Спорте» и возглавляет кафедру французской литературы в Лондонском университете Парижа.

 Столицу Франции сравнивали с прекрасной женщиной, ведьмой и демоном. Эти сравнения не просто рефлексия, они — точное определение характера повседневной городской жизни: Париж — это сумма мест и персон, контрастирующих друг с другом, вступающих в шумные перепалки. И так продолжается уже почти две тысячи лет. Париж изображали на плакатах, открытках и фотографиях, разошедшихся по всему миру, но они лишь пустышки, подменяющие эротику, искусство, гастрономию и культуру.
Любовь является центральным элементом как мифа, так и реальности Парижа, но она неотъемлемо сосуществует с едой, выпивкой, религией, деньгами, войной и сексом. Эта книга — путешествие, череда экскурсий в бары, бордели, служебные помещения, на запущенные городские окраины, в элегантные salons и кабинеты власти, экскурсии, пускаясь в которые читатель задается вопросами, расследует происшествия или просто поддается чарам мифов Парижа.
Париж — безжалостный соблазнитель. Принцесса Диана — лишь последний и самый известный пример того, сколь велика цена жестоких соблазнов города.
Столицу Франции сравнивали с прекрасной женщиной, ведьмой и демоном. Эти сравнения не просто рефлексия, они — точное определение характера повседневной городской жизни: Париж — это сумма мест и персон, контрастирующих друг с другом, вступающих в шумные перепалки. И так продолжается уже почти две тысячи лет. Париж изображали на плакатах, открытках и фотографиях, разошедшихся по всему миру, но они лишь пустышки, подменяющие эротику, искусство, гастрономию и культуру.
Любовь является центральным элементом как мифа, так и реальности Парижа, но она неотъемлемо сосуществует с едой, выпивкой, религией, деньгами, войной и сексом. Эта книга — путешествие, череда экскурсий в бары, бордели, служебные помещения, на запущенные городские окраины, в элегантные salons и кабинеты власти, экскурсии, пускаясь в которые читатель задается вопросами, расследует происшествия или просто поддается чарам мифов Парижа.
Париж — безжалостный соблазнитель. Принцесса Диана — лишь последний и самый известный пример того, сколь велика цена жестоких соблазнов города.
Последние комментарии
10 часов 25 минут назад
19 часов 16 минут назад
19 часов 19 минут назад
3 дней 1 час назад
3 дней 6 часов назад
3 дней 7 часов назад