Введение: изменившийся город, 11 сентября 2001 года
Эта книга написана с мыслью о том, что Нью-Йорк — постоянно изменяющийся город, и о том, что даже перемены имеют свою историю, свое повествование, которое может помочь нам постичь смысл самих этих перемен и понять город, который они создали. События 11 сентября, или «девять — одиннадцать» (американцы всегда предпочитают ставить впереди месяц, а затем число), разрушили тот облик, который историки, как американские, так и зарубежные, приписывали Нью-Йорку. Теплым солнечным утром, когда так хорошо выпить чашечку кофе перед выходом на работу, два заполненных пассажирами самолета, как гром среди ясного неба, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра. Не прошло и полутора часов, как башни превратились в дымящиеся руины. Согласно первым, наспех сделанным подсчетам, число погибших составило по меньшей мере шесть тысяч человек. Только через несколько месяцев этот список уменьшился до трех тысяч. Это было беспрецедентное в американской истории происшествие, причем как по своему масштабу, так и по замыслу. И в летописи города, естественно, нет ни одного события, которое могло бы сравниться по своей жестокости и последствиям с организованной Усамой бен Ладеном атакой на великие символы могущества американского капитализма.
Но была ли атака 11 сентября таким уж беспрецедентным происшествием? В августе 1814 года Вашингтон был сожжен британской армией. На завершающем этапе гражданской войны Атланту буквально стерли с лица земли. Случившийся в 1871 году Великий пожар в Чикаго, а также землетрясения в Сан-Франциско и на Аляске оставили после себя страшные разрешения, сходные с последствиями атаки террористов. Нью-Йорк неоднократно подвергался опустошению в результате пожаров. Но история подобных апокалиптических событий вовсе не представляет собой цепь непрерывных катастроф. Каждое из них, несомненно, являлось результатом сложившихся в данной местности обстоятельств. И ни одно не оказало такого воздействия на весь мир, как события 11 сентября. Но можно доказать, что события 11 сентября не являются чем-то исключительным, а вполне вписываются в ход истории города.
Нью-Йорк стал мишенью не потому, что его жители обожают свободу («Они ненавидят наши свободы, свободу вероисповедания, свободу слова, свободу избирать и быть избранными, свободу собраний и право не соглашаться с чужим мнением», — заявил президент Буш на совместном заседании обеих палат конгресса 22 сентября 2001 года), а потому, что ему в большей степени, чем другим городам, удалось распространить на окружающий мир свое влияние, свою мощь и свою богатую мифологию. Мы не считаем, что в основе развития Нью-Йорка лежало стремление распространить свое влияние на окружающий мир, но сама эта идея может оказать существенную помощь в понимании феномена возвышения Нью-Йорка, превратившегося из второстепенного колониального порта в один из важнейших мировых центров, в город, который все знают, которым восхищаются некоторый ненавидят.

Один из первых рынков рабов в Нью-Йорке
Нью-Йорк был основан в XVII веке голландцами и стал проявлением их торговых и имперских притязаний. От вторжений британцев и коренных американцев он был защищен линией земляных укреплений и фортификационных сооружений, тянувшейся от Ист-Ривер до Гудзона, как раз там, где теперь проходит Уолл-стрит. В 1664 году город захватили британцы, которые оккупировали его на протяжении всей войны за независимость. Гавернорс-Айленд и Бэттери — те места, где все еще сохранились следы фортификационных сооружений, которыеe были предназначены для защиты от британцев. Нью-Йорк был объектом притязаний враждующих великих держав, и только когда город вступил в третье столетие своего существования, атмосфера постоянного страха стала рассеиваться.
В XVIII веке, когда Нью-Йорк был объектом агрессивных притязаний других народов, жившие в нем купцы стали проявлять гибкость ума и вынашивать честолюбивые замыслы, которые впервые вывели город на мировую арену. Именно готовность капитанов морских судов и торговцев принять участие в работорговле (так возник знаменитый треугольник торговых маршрутов, по которому в Нью-Йорк поступали товары из Англии и рабы из Западной Африки, — товарный склад, где рабы продавались с аукциона, находился в конце Уолл-стрит) привела к тому, что город стал играть значимую роль в мировой экономике. Начиная с 1790-х годов из Нью-Йорка выходили в море китайские корабли с грузом бобровых шкур и золотых слитков (на чем сделал огромное состояние Джон Джейкоб Астор), и это стало еще одним свидетельством того, что неутомимые нью-йоркские купцы не признавали никаких мер принуждения и ограничений в отношении крупного бизнеса, который ищет способы получения прибыли.
С открытием в 1820-е годы канала Эри (соединяет Великие озера с Нью-Йорком через реку Гудзон) Нью-Йорк обеспечил себе привилегированный выход «на Запад», получив значительное конкурентное преимущество над соперниками по торговле — Балтимором, Филадельфией и Бостоном. Великая судоходная империя Эспинуоллов, железные дороги «командора» Вандербилта, доминирующие позиции нью-йоркского капитала, судоходство и торговля хлопком расширили горизонты города. Поскольку к 1898 году Нью-Йорк стал важнейшим портом государства, а также центром индустрии развлечений и книгоиздания, идеи и ценности этого города стали преобладающими на всей огромной территории Соединенных Штатов. Первый по богатству и численности населения штат, самый большой порт, ведущий финансовый центр, лидер в национальном бизнесе и культурной жизни государства — неудивительно, что Нью-Йорк внушал страх американцам, ненавидевшим его за те изменения, которые капитал и сила коммерческой культуры навязывали остальным. Нью-Йорку не выказывали благодарности за то, что он втягивает остальную страну в сферу своего коммерческого влияния. Зато в Америке есть давняя традиция испытывать к Нью-Йорку неприязнь. Ведь он так удачлив.
Присоединение в 1898 году к Манхэттену четырех независимых муниципалитетов (Стэйтен-Айленд, Бруклин, Бронкс и Квинс), которые вместе образовали Большой Нью-Йорк, едва ли могло дополнительно укрепить позиции города, поскольку, хотя он оставался крупнейшим населенным пунктом и центром финансовых рынков, новые отрасли промышленности и новые источники богатства, а также рост численности населения в остальных регионах страны не могли не ослабить доминирующей роли Нью-Йорка в жизни республики. Но к этому времени уже сформировались основные черты облика Нью-Йорка. Этот город отличался от остальной страны. Он был многообразнее по расовому составу и по религиям, которые исповедовали его обитатели. В нем было больше жителей, родившихся в других странах. Здесь насчитывалось в десять раз больше евреев, чем в стране в целом, и в пять раз больше католиков. Но не эти демографические отличия, хотя они представляли интерес, сформировали образ Нью-Йорка, а то, как здесь делались дела, та репутация коррумпированности, которую имели городские власти, а также царившие здесь преступность, безнравственность и высокомерие. Нью-Йорк превосходил конкурентов не учтивостью и скромностью, не душевностью и чуткостью, а присущим ему голым материализмом и духом дерзкого соперничества. Для многих американцев Нью-Йорк с его небоскребами символизировал все самое современное, а консервативной и богобоязненной протестантской нации само понятие «современность» внушало глубокую озабоченность.
Нью-Йорк показал всей Америке, что современность стоит того, чтобы принимать ее с распростертыми объятиями, что небоскребы могут быть красивыми, что современное искусство восхитительно и что именно джаз и чарльстон, а не вальсы XIX столетия покоряют сердца молодых. Он распространил по всему миру ту совокупность различных ценностей, которые во многом разделяет нация: любовь к свободе, вера в свои возможности и в демократию. С другой стороны, идеалы Нью-Йорка, несомненно, были порождением той силы, которая создавала богатство города. Ведь и переселенцы, приезжавшие в Нью-Йорк, и те иностранные капиталисты, которые вкладывали огромные деньги в его акции и рынки облигаций, по сути дела, пытались найти здесь именно эти идеалы. Но привлекательность этого города, невероятное разнообразие его культурной жизни и финансовый размах ставили под угрозу социальную стабильность и привычный образ жизни тех традиционных общественных формаций, которые уже давно сложились в разных уголках мира. Бен Ладен совершенно прав, называя Нью-Йорк врагом (весьма самодовольным и энергичным) того церковного государства, которое он и его друзья надеялись создать, государства, где нет ни светской музыки, ни финансовых махинаций, а женщины не получают образования и прячут свои лица под чадрами.
«Граунд Зеро»
Нью-Йорк взбудоражен. Воют сирены и вспыхивают проблесковые маячки, мчатся автомобили без номеров. На улицах серьезного вида мужчины в солнцезащитных очках что-то говорят в микрофоны, вмонтированные в манжеты рубашек. Спустя несколько месяцев после событий 11 сентября по Бродвею летят белые фургоны группы по обезвреживанию бомб. Взволнованные полицейские вопят на прохожих и блокируют тротуары. «Что стряслось? Бомба?» — спрашивают друг друга свидетели происходящего. Через полчаса городское движение восстанавливает обычный напряженный ритм. Пешеходы, как всегда, куда-то спешат или бесцельно прогуливаются по тротуарам. Группа по обезвреживанию спокойно уезжает. Самым тихим местом города является «эпицентр взрыва» — площадка «Граунд Зеро». Это зловещее словосочетание взято из терминологии изобретателей атомной бомбы. Некогда крупный деловой центр, расположенный неподалеку от Визи-стрит, центр, у которого был свой владелец, свой архитектор и свой строитель, в котором размещались сотни частных фирм и государственных учреждений, в котором работали тысячи людей, теперь стал абстрактным понятием. Хотелось бы заглянуть в будущее, когда это место вновь обретет собственное имя и получит нормальный адрес.

Прекратив свое существование, Всемирный торговый центр, как часто бывает после того, как гибнет множество людей, приобрел такую значимость, которой «при жизни» не обладал. Во всяком случае, далеко не все эту значимость в нем усматривали. Он начинался как проект в программе обновления городской планировки Южного Манхэттена. Основанному в 1919 году Портовому управлению Нью-Йорка и Нью-Джерси поручили улучшить оснащенность порта и повысить эффективность транспортных перевозок между двумя штатами. Эта независимая организация была способна принимать решения и реализовывать проекты, выходящие за рамки возможностей системы самоуправления каждого из штатов по отдельности. В 1920-е годы Портовое управление взяло под контроль туннель Холланд, соединяющий Нью-Йорк с Джерси-Сити. В конце концов это управление стало той организацией, которая руководит деятельностью аэропорта в Ньюарке и двух нью-йоркских аэропортов (Айдлуайлд, ныне Международного аэропорта Кеннеди, и аэропорта Ла-Гуардиа). Она построила автобусный вокзал на западе Манхэттена и большинство мостов, соединяющих муниципальные округа Нью-Йорка. Портовое управление приняло на себя руководство обанкротившейся компанией «Хадсон энд Манхэттен рейлроуд», реорганизовало последнюю, переименовало в «Трансгудзоновскую» и придало ей статус пригородной железной дороги. Предполагалось, что Всемирный торговый центр, заказ на строительство которого был получен в 1962 году, займет 10 млн квадратных футов. В состав комплекса из семи зданий входили два стодесятиэтажных небоскреба. Превзойдя Эмпайр-стэйт-билдинг, они стали самыми высокими зданиями Нью-Йорка.
Среднегодовой валовый продукт Нью-Йорка составляет 500 млрд долларов, что соответствует пяти процентам национального валового продукта. Последствия 11 сентября оцениваются в 1,8 млн потерянных в 2001 году по стране рабочих мест, при этом ожидается, что Нью-Йорк в конечном счете потеряет тысячи рабочих мест. Будучи частью среднегодового валового продукта Нью-Йорка, доходы сферы культуры составляют 13 млрд долларов. После атаки террористов все солидные учреждения культуры города испытали значительное падение уровня посещаемости. Так, в конце 2001 года музей изобразительных искусств «Метрополитен» терял от ста до двухсот тысяч долларов в неделю по таким статьям дохода, как входная плата, продажа товаров в магазинах музея, обслуживание в ресторане и стоянка автомобилей. По совокупной оценке, убытки городских музеев и выставочных залов изобразительных искусств только в сентябре 2001 года составили до 23 млн долларов. Все сообщали о резком падении денежных пожертвований. В результате террористического акта в Южном Манхэттене был уничтожен участок земли площадью 16 акров и образовалось 260 тыс. тонн обломков. Согласно уже произведенным оценкам, только вывоз обломков обойдется в 5 млрд долларов. Уничтожена служебная площадь, равная 13 млн кв. футов, что сопоставимо со всей площадью делового центра Чикаго. По оценкам руководителя патентного ведомства Алана Дж. Хевеси, материальный ущерб составил 34 млрд долларов. Экономические издержки могут достичь 60 млрд долларов. В среднесрочной перспективе ожидается потеря ста тысяч рабочих мест. Дыра в городском бюджете, появившаяся в результате экономического спада, начавшегося в 2000 году, теперь стала просто чудовищной. Подсчитано, что в 2002 году бюджетный дефицит города составит от 4 до 6 млрд долларов. Ни один город не смог бы принять на себя такой удар и восстановить ущерб собственными силами. Однако в Нью-Йорке обнаружили, что администрация президента Буша с большей готовностью дает обещания, нежели деньги. Ознакомившись с этими цифрами, мэр Джулиани в последние дни своего правления решил сократить бюджет на пятнадцать процентов, что сказалось на выполнении многих функций городского правительства. «Факты не оставляют сомнений в том, что мы не можем позволить себе иметь все, что пожелаем. Мы даже не можем позволить себе иметь все то, что уже имеем», — пояснил в своей инаугурационной речи новый мэр Блумберг.
Все это можно принимать в расчет, взвешивать и оценивать. Но экономическое оздоровление непременно наступит, и оно произойдет на фоне глубочайшего сочувствия к Нью-Йорку, в атмосфере величайшего уважения к тому, как город отреагировал на случившееся с ним несчастье. Но как быть с теми психологическими травмами, которые оставили после себя сцены столкновения самолетов с башнями-близнецами? И с ужасными воспоминаниями? Вот что вспоминает биржевой маклер Джина Липпис, которая работала на 46-м этаже первой башни, в которую врезался самолет: «Крики, вопли, отовсюду льется вода. Мы выбирались оттуда около полутора часов, и башня рухнула на землю прямо за моей спиной. Мне этого никогда не забыть». Спустя три месяца после атаки она написала:
Мне не собраться с мыслями. Я не могу сосредоточиться. Я не могу читать. Это происходит само собой, независимо от меня. Я волевой и целеустремленный человек. Но теперь все очень скверно. Я физически чувствую себя плохо. Мое тело испытывает боль, может быть, по причине стресса. Я из тех, кто четыре или пять раз в неделю посещает спортивный зал, но сейчас я не в состоянии этого делать.

На самом деле, я надеюсь на то, что снова сумею войти в прежнюю колею, стать такой, какой была раньше, и жить той жизнью, которой всегда жила. Но мне кажется, что до этого еще очень и очень далеко. И по всей вероятности, в ближайшее время я не смогу достичь этой цели.
С другой стороны, теракт самым неожиданным образом оказал на город положительное воздействие. Благодаря опросам общественного мнения и неофициальным исследованиям журналистов выяснилось, что американское общество чувствует себя ближе к Нью-Йорку, чем когда-либо прежде. После 11 сентября появилось множество признаков того, что враждебная расовая напряженность в Нью-Йорке заметно ослабла. Этнические общины, для которых прежде были характерны конфликты с полицией, теперь оказались в состоянии разделить чувство гражданской ответственности. К нью-йоркским пожарным все стали относиться как к героям. Путешествуя по стране, автор книги «Боулинг в одиночестве» Роберт Патнем обнаружил, что люди стали испытывать больше доверия к правительству и полиции и проявлять больший интерес к политике. Пренебрегая всеми этими обстоятельствами, циники предрекают возврат к привычной напряженности общественных отношений. Но игнорировать перемены к лучшему значит игнорировать ту тяжелую психологическую травму, которую получил город, и его насущную потребность излечить эту травму. Столь сильная в Америке идея общности всегда играла благотворную роль в жизни страны. В Нью-Йорке, который является наиболее разделенным и поляризованным из всех городов США, сильное руководство и сильное чувство общности помогли начать процесс оздоровления. Многих нью-йоркцев события 11 сентября привели к отказу от мести и к неприятию языка противоборства и войны. Символика мира, о которой они помнили еще со времен Вьетнамской войны, теперь, словно растение, пробившееся сквозь пески пустыни, расцвела буйным цветом в виде импровизированных мемориалов, появившихся на Юнион-сквер. Но другие (их, наверное, большинство) видят в перспективе быстрого и жестокого возмездия средство восстановления нарушенного баланса человеческих страданий. Люди с «чуждой» внешностью, от сикхов до африканцев в их национальных костюмах, обнаружили, что Нью-Йорк стал для них, как и для арабов, более враждебным местом, чем прежде.
Трансформация публичного образа Руди Джулиани из агрессивного, поучающего всех фанатика, в достойное восхищения олицетворение решимости города, поднимающего дух горожан и названного журналом «Тайм» человеком года, удивила как друзей, так и врагов. Предложение переступить через конституцию города и позволить Джулиани остаться мэром на дополнительный срок получило широкую поддержку горожан. Невзирая на судебные тяжбы, которыми сопровождались два срока его правления, Джулиани стал тем человеком, который в эпоху заурядных и вполне предсказуемых политиков говорил от чистого сердца и действовал на благо всего города. Его преемнику Майклу Блумбергу будет непросто действовать в том же духе.
Всемирный торговый центр был одной из самых притягательных для туристов достопримечательностей города. Даже после его разрушения десятки тысяч людей посетили это место, и поэтому в декабре 2001 года здесь возвели смотровую площадку. От Бродвея и здания городского совета выстраивались очереди желающих бросить взгляд на место трагедии, и стало ясно, что оно явно меняет свое значение. Но тысячи тех, кто искал возможность взглянуть на эпицентр взрыва, и тех, кто посещал неофициальный мемориал на кладбище церкви Св. Павла, не были туристами в привычном понимании этого слова. Приезжая сюда, словно паломники, желающие взглянуть на святыню, они не покупали сувениров. Местные фирмы, которые сильно пострадали из-за террористического акта, жаловались, что теперь приезжие мало что покупают. Были просьбы организовать экскурсии к месту трагедии. Здесь будет создан мемориал, который, как и мемориал ветеранов Вьетнама в Вашингтоне, станет священным местом города и всей страны. Его непременно включат в число городских достопримечательностей. То есть им будут торговать. Но это будет не осквернением святыни, а отражением того факта, что Всемирный торговый центр приобрел значение за пределами своего местонахождения и теперь принадлежит всем желающим побывать в Нью-Йорке. Поток посетителей — нежелательный, но неизбежный фактор, отвлекающий внимание жителей Бэттери-парк, которые пытаются восстановить свой разрушенный район. Они далеко не единственные жители города, которые увлечены претворением своих замыслов в действительность.
Эрик Хомбергер
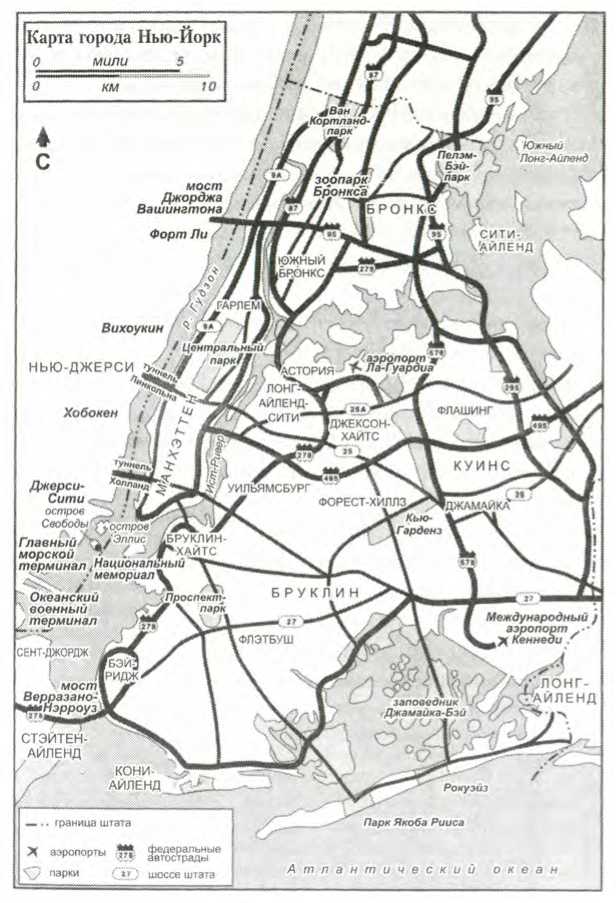
Глава первая. Маннахатта
Имена и названия
Великий поэт демократической Америки Уолт Уитмен порой использовал применительно к Нью-Йорку слово «Маннахатта». Он считал, что это название вполне подходит «великому городу-острову демократической Америки. Какое у этого слова красивое и туземное звучание! Так и кажется, что оно вздымается ввысь, блистая в солнечных лучах остроконечными шпилями, и передает столь характерную для Нового Света атмосферу радужных перспектив и бурной деятельности!» Местные жители, индейцы племени делавэр, сообщили самым первым переселенцам из Европы, что этот остров издавна называется Маннахатта («остров») или Манхаттан («холмистый остров»). Уитмен предпочитал собственный перевод: «Место, окруженное стремительными приливами и пенистыми водами». Восторженно и увлеченно проникая в особенности нью-йоркской жизни, Уитмен использовал слово «туземный» (как и слово «Поманок» применительно к Лонг-Айленду), чтобы напомнить нью-йоркцам об изначальных истоках. «Все туземные названия звучат хорошо, — писал он. — Это правдивые слова (они дают точную длину, ширину и глубину), все они точно подходят».

Уитмен считал, что названия расположенных в штате Нью-Йорк населенных пунктов, таких как Троя, Итака и Рим, можно с успехом заменить туземными названиями. Все это было проявлением его пренебрежения к искусственным формам и застывшим традициям. Отказываясь от названия «Нью-Йорк», он в какой-то мере отдавал должное коренным жителям этого острова. Это также восстанавливало связь современного Уитмену города с его прошлым, с этимологически достоверным своеобразием. Теодор Рузвельт в своей маленькой истории Нью-Йорка, написанной в 1890 году, когда он еще работал в комиссии по гражданской службе, усилил интонации недовольства названием города, уже прозвучавшие в словах Уитмена. После того как в 1664 году колония была захвачена англичанами, Нью-Йорк стал частным владением герцога Йоркского, впоследствии короля Якова II. Рузвельт писал, что Нью-Йорк «хранит память о тупом и жестоком фанатике, короткое правление которого приблизило завершение подлой власти королей династии Стюартов». Впрочем, мало кто из нью-йоркцев мог бы, как Рузвельт, припомнить эти исторические события или разделить выраженное им негодование радикально настроенных колонистов по поводу многочисленных провалов политики Стюартов.
Направления развития города, который голландцы оптимистично назвали Новым Амстердамом, были представлены в планах, составленных инженером Крайном Фредериксом, который в 1625 году был направлен из Голландии с предписанием построить форт и сделать планировку окружающих улиц и тротуаров. Голландские названия часто заимствовались из общеупотребительных описаний местности: Броувер-страат (Стоун-стрит — Каменная улица), Перал-страат (Перл-стрит — Жемчужная улица), названная так из-за разбросанных вдоль береговой линии раковин устриц. Воспоминания о голландцах, а порой и оставшиеся в городе их потомки, оставили нам такие названия, как Стьювесант-стрит и Черри-стрит, где в прежние времена находился вишневый сад, занимавший семь акров и принадлежавший Говерту Локермансу, который был представителем голландской торговой компании в Новом Амстердаме. Кортландт-стрит западнее Бродвея и Ван Кортландт-парк в Бронксе некогда были земельными владениями, принадлежавшими Ван Кортландтам — богатому и влиятельному семейству, которое процветало как при голландском правлении, так и при английском. Уже под властью британской короны эта семья дала городу нескольких мэров. Джон-стрит носит имя простого голландского сапожника, который жил на этой улице. Ферма Питера Стайвесанта (bouwerij) дала название улице Бауэри, ставшей центром развлечений для растущего иммигрантского населения Нижнего Ист-Сайда.
Почти сразу же после того, как в 1664 году сюда прибыли и вступили во владение англичане, они перевели на английский голландские названия улиц и различных мест, заменили Де Хеере-страат на Бродвей, а Хеере Грахт — на Брод-стрит. Когда в 1783 году британцы ушли из города, началась вторая волна переименований улиц. Расположенные между церковью Троицы и церковью Св. Павла улицы, носившие такие верноподданические названия, как Краун, Куин- и Кинг-стрит (соответственно улица Короны, Королевы и Короля) получили такие вполне патриотичные имена, как Либерти-, Сидар- и Пайн-стрит (улица Свободы, Кедровая и Сосновая). Кинг Джордж-стрит в Пятом округе превратилась в Уильям-стрит.
Поскольку город рос, постоянно возникала необходимость давать названия новым улицам. Многие названы в честь застройщиков жилья (Рокфеллеровский центр), военных, в том числе тех, заслуги которых уже мало кому известны (улицы и площади в честь Вустера, Томпсона, Салливана, Шермана, Кристи, Перри и Першинга). Имя Джона Брума, сыгравшего значительную роль в открытии торговли с Китаем после войны за независимость, носит улица Брум-стрит. Строс-парк назван в честь Изидора Строса, одного из братьев Строс, владевших в начале 90-х годов XIX века универмагом «Мэйси». Часто увековечивали имена финансистов и филантропов. Расположенная в Гринич-Виллидж Бетюн-стрит названа в честь владельца школы и благотворителя, который передал в собственность города участок земли, по которому пролегала эта улица. Воспоминания о политиках самых различных убеждений остались в названиях городских улиц, общественных строений, аэропортов и т. д. Клинтон-стрит, расположенная южнее Хьюстон-стрит, названа в часть Джорджа Клинтона, который в конце XVIII столетия на протяжении восемнадцати лет успешно трудился на посту губернатора штата. Аэропорт Ла-Гуардиа, расположенный южнее Вашингтон-сквер, носит имя Фиорелло Ла Гуардиа, мэра Нью-Йорка с 1934 по 1945 год, который стал первым американцем итальянского происхождения, вступившим в эту должность. Томпкинс-сквер, расположенная между Авеню А и Б, а также 7-й и 10-й улицами, названа в честь Дэниела Д. Томпкинса, ставшего в 1817 году губернатором штата Нью-Йорк и в течение десяти последующих лет четырежды переизбиравшегося на эту должность. На карте города оставили заметный след политические деятели, принадлежавшие к различным расам и этническим группам: Ленокс-авеню в Гарлеме — ныне Малколм Икс-бульвар1, участок Седьмой авеню был переименован в честь Адама Клейтона Пауэлла, Маунт Моррис-парк, расположенный в районе Пятой авеню и 120-й улицы в Гарлеме, переименовали в Маркус Гарви-парк, в честь лидера афроамериканцев, который в 20-е годы XX века возглавлял движение «Назад в Африку». Некоторые переименования прижились надолго, например Коламбус-Серкл (площадь Колумба), которая находится у юго-западного входа в Центральный парк. Но у других актов почитания культурных, этнических или политических деятелей, независимо от величины их заслуг, весьма короткий век: Верди-сквер (Бродвей, в районе 73-й улицы), Перетц-сквер (в честь литератора, писавшего на идиш, в районе Ист-Хьюстон-стрит и Первой авеню), Тарас Шевченко-плейс (в честь украинского патриота и литератора, между Второй и Третьей авеню, в районе 6-й улицы). Названия некоторых улиц сразу же вызывают литературные и культурные ассоциации: Уэверли-плейс, в честь героя романа сэра Вальтера Скотта, Ирвинг-плейс, в честь жившего в Нью-Йорке писателя Вашингтона Ирвинга, и Дюк Эллингтон-бульвар (западнее 106-й улицы). Сара Делано Рузвельт-парквей в Нижнем Ист-Сайде была построена в 30-е годы XX века, когда разрушили некоторые особенно отвратительные трущобы. Сара Делано Рузвельт происходила из старинной и знаменитой нью-йоркской семьи, но главным образом она прославилась тем, что стала матерью президента Франклина Д. Рузвельта. Другие переименования, такие как попытка преобразовать Шестую авеню в Авеню Америк, в честь членства в Организации американских государств, не нашли никакого отклика со стороны общественности и совершенно не соответствовали тем представлениям, которые ньюйоркцы вкладывали в название своего города.
Быть может, только Уитмен придавал значение тому, что он связывал с первоначальным названием города. В сборнике стихов «Листья травы» (1860) есть стихотворение «На Бруклинском перевозе», в котором поэт описывает эту местность и населяющих ее людей. Строка за строкой он постепенно переходит от построенного руками людей города с его переполненными улицами к стремительным приливам и плывущим в небе облакам, призывая нас связать воедино то и другое.
Ах, что может быть величавей, что может быть для меня
прекрасней, чем этот Манхэттен, вздыбленный мачтами?
Моя река, и закат, и кружевные шалящие волны прилива?
И чайки, покачивающие корпус, и в сумерках лодки,
груженные сеном, и кое-где запоздалые лихтеры?
Какие боги прекраснее тех, кто пожимает мне руку,
чьи голоса,
любимые мной, зовут меня быстро и громко по имени,
когда я приближаюсь?
Что может быть крепче бесплотных уз, надежно меня
связавших
и с женщиной и с мужчиной, которые смотрят мне в лицо?
Что с вами сплавляет меня теперь и в вас перельет
мои мысли?
Струись, река, поднимайся вместе с приливом
и снова отхлынь,
когда настанет отлив!
Шалите, играйте, гребенчатые, закрученные барашками
волны!
Закатные, многоцветные облака! Своей красотой
захлестните
меня и все поколенья мужчин и женщин, которым
явиться —
после меня!
Переезжайте от берега к берегу, несметные,
шумные толпы!
Вздымайтесь, высокие мачты Маннахатты! Вздымайтесь,
прекрасные всхолмия Бруклина!..
Гляди, влюбленный и жаждущий взор, на улицы, в жилища,
в большие общественные залы!
Звучите, юные голоса! И громко и музыкально зовите меня
по имени!
Живи, старуха жизнь! Играй свою роль, как подобает
актеру или актрисе!..
А вы принимайте летнее небо, вы, синие воды,
держите его, чтоб
каждый опущенный взор мог досыта им насладиться;
Лучитесь, тончайшие спицы света, вкруг тени от моей
головы ильот другой головы на освещенной солнцем воде!
Вы, корабли у входа в гавань! Плывите туда
иль обратно, —
ты, белопарусный шлюп, вы, лихтеры, быстрые шхуны!
Вздымайтесь гордо, флаги всех наций! И опускайтесь
в свой час на закате!
Взметайте свой пламень ввысь, плавильные печи!
Бросайте
в сумерки черные тени! Бросайте на крыши домов
то красный, то желтый свет!..2
Остров Маннахатта стал для Уитмена предметом безмерной, нежной и расточительной любви. Причиной такого обожания является именно та взаимосвязь между естественным речным пейзажем, морскими приливами и «чистым небом», которую Уитмен старался подчеркнуть и которая так легко терялась среди бурно растущего в середине XIX века города с его урбанистической жизнью, наполненной «парадами, шествиями, звуками горна, развевающимися флагами и барабанным боем». Уитмен хотел заключить в свои объятия весь Нью-Йорк.
Форма острова и его местоположение оказались главными факторами, определившими будущее. Уитмен показал, что порт, гавань и море, как и плотная сетка улиц, четко определили очертания Нью-Йорка.
Порт, гавань и море
Вплоть до последнего времени в истории Нью-Йорка доминирующую роль играло море. Иммиграция, торговля, коммуникации, политика, общественные отношения, преступность и даже первые описания города и представления о том, как он выглядит, сформировались благодаря физической связи с морем, гаванью и с двумя реками — большой рекой Норт-Ривер, или Гудзон, и меньшей Ист-Ривер, которые отделяют Манхэттен от Бруклина. Наиболее популярным зрительным образом Нью-Йорка, начиная с первых дней его существования, был краешек Манхэттена, видимый с борта корабля, стоящего в гавани. Именно этот вид вселял надежду, открывая бесконечное количество возможностей. Вот как можно влюбиться в Нью-Йорк:
С моей точки зрения — а я пишу, стоя на легком ветерке, который обдувает меня морской прохладой, — пишет Уитмен в «Памятных днях», — ничто на земле не может превзойти это зрелище. Слева Норт-Ривер, с ее уходящей вдаль перспективой; ближе три или четыре мирно стоящих на якоре военных корабля, дальше джерсийский берег, отмели Уихокина, Палисады и постепенно убывающая, теряющаяся в дали лазурь неба. Справа — Ист-Ривер, окруженные лесом мачт берега, величественные, похожие на обелиски башни [Бруклинского] моста, по одной на каждой стороне. В легкой дымке, хотя и отчетливо различимые, словно гигантские братья-близнецы, изящно падают вниз, переплетающиеся высоко над потоком тросы... Над всем этим, там и сям, проносятся бесстрашные воплощения изящества и чуда, эти белые с темным, падающие стрелой, летучие рыбы...
Вспоминая лирический пассаж Уитмена, следует отметить, что переезд на пароме на Стэйтен-Айленд является одним из самых коротких и самых необычных морских путешествий в Америке. Со времен первых европейских переселенцев этот паром, преодолевая расстояние в 5,2 мили, пересекает гавань Нью-Йорка и связывает южную оконечность Манхэттена с северным берегом Стэйтен-Айленда. Постоянная переправа, осуществляемая раз в две недели, существовала уже в 1745 году, а в 1810 году шестнадцатилетний Корнелиус Вандербильт открыл собственную паромную переправу, тем самым заложив фундамент своей коммерческой империи. В 1905 году город взял на себя предоставление этих услуг, и за семьдесят лет стоимость проезда на пароме возросла с 5 центов до 25 в 1975 году, а в 1990 году она составляла 50 центов. С 1997 года для пешеходов переезд является бесплатным. В 60-е годы XX века паромы окрашивали в «лодочный оранжевый» цвет, чтобы их было лучше видно в тумане.

Департамент транспорта приписывает этой легендарной городской службе, которая постоянно «плодится и размножается», желание окрашивать паромы в слегка отличающиеся цвета. Их перекрашивают по мере выхода на линию, но воздействие солнца и соленой воды обесцвечивает оранжевую краску, придавая ей привлекательный золотисто-манговый цвет. Когда паром подходит к Бэттери-парк, кажется, что небоскребы как по волшебству поднимаются из самой гавани. Часто копируемая акварель Нового Амстердама (подлинник хранится в Нидерландах, в государственном архиве) изображает город таким, каким он был в 50-е годы XVII столетия, то есть перед тем, как англичане захватили колонию. Это маленькое поселение, застроенное домами с островерхими крышами, из которого открывается вид на гавань с горсткой кораблей. Присутствие голландцев обозначено весьма скромно: небольшой причал, коромысло весов, кран-балка, ветряная мельница, различные складские строения, форт и старая таверна, которая использовалась в качестве «Stack Huys», то есть мэрии, — где собирались представители первого городского управления.
Спустя приблизительно семьдесят лет, в 1717 году, Уильям Берджис нарисовал большую панораму Нью-Йорка с бруклинского берега Ист-Ривер. Слово «большая», наверное, будет преуменьшением подлинных размеров панорамы, ширина которой составляет шесть футов и на которой можно разглядеть каждое строение. С населением 7 тыс. жителей Нью-Йорк в те времена был третьим по величине городом североамериканских колоний. Многие из старых голландских строений были снесены, а на их месте возвели новые дома, которые соответствовали идеалам симметрии, характерным для георгианского стиля. Они строились с использованием пилястров и имели английские подъемные окна. Более крупные строения, в три и четыре этажа, теснились вдоль берега, создавая контуры настоящего города. Самым высоким строением колониального города являлась колокольня первой церкви Троицы.
Ко временам Берджиса береговая линия города заметно расширилась в направлении Ист-Ривер. Уже начинался процесс создания мусорных свалок, который в конечном счете изменил и расширил очертания Манхэттена, а Ист-Ривер сделал более узкой. Сбегающие к реке улицы Южного Манхэттена (Коэнтис-слип, Олд-слип, Берлинг-слип, Пек-слип) носят имена жителей колонии, купцов и предпринимателей, владевших товарными складами, судостроительными верфями или тавернами, и пользовавшихся маленькими бухточками, в которых можно было быстро загружать и разгружать корабли. На панораме Берджиса река заполнена торговыми судами всевозможных размеров и кораблями королевского военного флота. Согласно положениям законов о мореплавании, вход в североамериканские порты был разрешен лишь британским судам, но, изображая невероятное количество флагов британских военных кораблей и судов британского торгового флота, заполнивших Ист-Ривер, Берджис еще больше подчеркивал господство англичан. Бурный рост экономики и предпринимательства, который показан на панораме, оправдывает британскую политику в области торговли. Берджис изобразил в Нью-Йорке четыре судостроительных верфи. Там, где когда-то был причал, видна большая пристань с тремя длинными пирсами. Смысл такого подхода к изображению Нью-Йорка вполне очевиден: рост города и его процветание связаны с переполненной судами гаванью.
Процветание, которое Берджис изобразил в начале XVIII века, в значительной степени обеспечивала торговля сахаром. Плантации на Барбадосе, Ямайке и Зондских островах стали важнейшим рынком сбыта производимой в Нью-Йорке высококачественной муки, зерновых, свинины, говядины и шкиперского имущества. Суда, доставлявшие товары богатым плантаторам островов Вест-Индии, привозили в Нью-Йорк сахар, ром, патоку и хлопок. Коричневый вест-индский сахар подвергался очистке в больших «сахарных цехах» и превращался в головы белого сахара, которые предпочитали покупатели. Белый сахар и чай были главными элементами того более цивилизованного образа жизни, которым уже стали наслаждаться пьющие чай нью-йоркцы. На имевшихся здесь перегонных установках вест-индская патока превращалась в ром, а импортный табак — в нюхательный порошок. Благодаря экспортной торговле этими товарами Нью-Йорк стал важным колониальным торговым портом. Верфи на берегу Ист-Ривер, а также расположенные неподалеку мастерские бондарей, кузнецов, кожевников и лавки мясников всегда были загружены работой. Половина всех кораблей, входивших и выходивших из порта колониального Нью-Йорка, занималась торговлей с островами Карибского моря, а каждый четвертый житель Нью-Йорка зарабатывал на жизнь рискованным ремеслом моряка.
Производство, необходимое для удовлетворения потребностей стремительно растущей вест-индской торговли, в значительной степени стало возможным благодаря столь же стремительному росту количества рабов в городе. В 1746 году, когда население Нью-Йорка составляло 11 720 человек, из каждых пяти жителей города как минимум один был рабом. Здесь была высочайшая концентрация рабов, живших севернее Виргинии. Рост рабовладения оказался настолько быстрым, что уже в середине столетия по меньшей мере половина семейств города держала у себя одного раба или более. Но еще больше на рабов полагались нью-йоркские фермеры. В Нью-Йорке многие опасались «восстания рабов», два мятежа 1712 и 1741 годов были жестоко подавлены. Тем не менее потребность в рабочей силе, которую испытывали верфи, канатные и ремесленные мастерские, главным образом удовлетворялась за счет рабов, а не законтрактованных работников. На карте Нью-Йорка, составленной в 1730 году, в самом начале Уолл-стрит обозначен большой рынок рабов под крышей. Раскопки на Африканском кладбище (подробнее см. ниже) пролили свет на жизнь рабов, которые составляли значительную часть населения города. Даже сейчас необходимо подчеркнуть, что рабство было неотъемлемой частью развития Нью-Йорка. Оно не было прискорбным явлением, имевшим место где-то в других районах, и это со всей ясностью доказывает навес, который использовался во время распродаж рабов, проводившихся там, где начиналась Уолл-стрит.
На протяжении большей части истории города берега Манхэттена изобиловали пристанями и причалами. По словам Уитмена, улицы были заполнены «телегами, перевозящими товары, представителями отчаянного племени возниц и моряками с обветренными лицами». На англичанина Джона Ламберта, посетившего Нью-Йорк в 1807—1808 годах, произвели впечатление тюки хлопка, бочки с различными товарами и мешки с рисом, сложенные высокими штабелями прямо на улицах. Весь Нью-Йорк был пропитан духом коммерческой инициативы и предприимчивости. Ламберт отмечал:
Везде было шумно и суетливо.
... Все находилось в движении; повсюду царили оживление, суета и энергичная деятельность. Люди носились во всех направлениях, заключая между собой торговые сделки и отправляя купленные товары на европейские, азиатские, африканские и вест-индские рынки. Казалось, все мысли, слова, взгляды и действия этой толпы направлены на коммерцию. В воздухе стоял деловитый гул, и все, не жалея сил, гнались за богатством.
Прибытие и отправка грузов, товарные цены, взлеты и падения торговых фирм — вот чем были заполнены страницы городских газет. Наблюдавшийся рост коммерческого процветания вызвал спрос на художников-портретистов, которые прошли обучение в Европе и часто изображали приукрашенные сцены из жизни богатых семейств города. В гостиницах и тавернах Нью-Йорка проводились общественные собрания и балы, которые назывались ассамблеями. Учителя танцев из Франции обучали светскую молодежь последним европейским танцам. В городе можно было найти портных и швей, которые копировали модные в Париже и Лондоне фасоны. Книготорговцы привозили самые последние романы сэра Вальтера Скотта и Марии Эджуорт. Несмотря на наличие Американского музея Джона Скаддера, где демонстрировались главным образом любопытные находки, имеющие отношение к естественной истории (в 1841 году владельцем этого музея стал Ф. Т. Барнум), и открытие в 1802 году Американской академии изящных искусств, Нью-Йорк еще не мог соперничать в сфере культуры с Филадельфией или Бостоном, и уж тем более с Лондоном, но уже начал уверенно заявлять о себе как ораспространителе стремления к изящному стилю жизни и роскоши. Последние достижения в области моды, танцев и литературы проникали из Нью-Йорка в маленькие города и деревни штатов Нью-Йорк, Коннектикут, Нью-Джерси и Пенсильвания. Культурное влияние Нью-Йорка усиливалось, поскольку он был одним из тех мест, куда, выполняя заказы искушенных импортеров, ввозили предметы роскоши, и поэтому являлся частью светского мира. Благодаря тому, что этот город был портом, он стал тем местом, откуда культурные ценности распространялись по сонной глубинке.
В значительной степени Нью-Йорк смотрел на окружающий его мир сквозь призму коммерческих интересов. В отличие от более ограниченных соперников из Бостона и Филадельфии, нью-йоркские купцы обладали большей широтой взглядов и оказались более приспособленными к стремительно меняющимся вкусам и правилам торговли. Цены в Лондоне, условия торговли на Барбадосе и в Гонконге, фрахтовые ставки в Ливерпуле — все вызывало у них живой интерес.
Некоторые отголоски прежнего, портового Нью-Йорка сохраняются по сей день на Саут-стрит, в квартале севернее Фултона, где можно найти городской рыбный рынок. Лучше всего приехать туда пораньше, до девяти часов, чтобы увидеть неподвластные времени сцены из жизни этого рынка, горки льда, усыпанные невероятным количеством самой разнообразной рыбы, и рабочих с длинными, изогнутыми крюками. В отличие от расположенного поблизости музея «Морской порт Саут-стрит», рыбный рынок является неотъемлемой частью современной жизни. Музей, который находится на пересечении улиц Уотер и Фултон, создан усилиями движения защитников старины. Благодаря этому основанному в 1967 году музею, покупке в 1974 году властями штата земельного участка на Шермерхорн-роу и продаже застройщикам «прав на воздушное пространство» удалось уберечь большую группу старых коммерческих строений (некоторые относятся к XVIII веку) от сноса, неминуемого в условиях перегретого рынка нью-йоркской недвижимости. Главный отведенный под торговлю участок Шермерхорн-роу занимают магазин «Энн Тэйлор», клубный офис бейсбольной команды «Нью-Йорк янкиз», магазин одежды «Бенеттон» и магазин парфюмерии.
В жизни города повсюду присутствует море. После гражданской войны было введено электрическое освещение, а до этого дома в Нью-Йорке освещались с помощью спермацетового масла. (Эмброз Кингсленд, который в 1851— 1852 годах был мэром Нью-Йорка, сделал приличное состояние на импорте и экспорте спермацетового масла и свечей. Впрочем, у нью-йоркцев есть еще одна причина добрым словом поминать этого человека: он стал первым известным деятелем, который предложил извлечь пользу из большого общественного парка Нью-Йорка). Некоторые из самых крупных состояний были сделаны на торговле. В начале XIX века корабли Джона Джейкоба Астора достигали берегов Орегона (неудачная попытка создать торговое поселение на реке Колумбия в Орегоне и последующая уступка этой территории британцам описаны в книге Вашингтона Ирвинга «Астория», опубликованной в 1836 году), Гавайских островов, Китая и заходили во все порты Европы.
В том же ряду стоит и деятельность братьев Гилберта и Джона Эспинуоллов, которые были известными импортерами текстильных товаров и считались в Нью-Йорке главными торговыми посредниками. Они получали партии товаров от купцов в иностранных портах, а также закупали американские товары для иностранных покупателей. Они владели несколькими кораблями и поддерживали прямые торговые контакты с Санкт-Петербургом, Ливерпулем и другими европейскими портами. Сын Джона Эспинуолла Уильям Генри продолжил семейный бизнес и тоже занимался посредничеством. В партнерстве со своими двоюродными братьями он к 1840-м годам стал владельцем внушительной флотилии купеческих судов, совершавших регулярные рейсы в Гавану, Тампико, Кальяо и Вальпараисо, а также в европейские и китайские порты. Эспинуолл заказал первые американские клиперы, которые установили новые рекорды скорости на морских путях, связывающих Китай с Нью-Йорком. Став победителем в конкурсе, он получил государственный контракт на доставку почты в Панаму, Сан-Франциско и Орегон и закупил для этого три парохода. Первый рейс состоялся в 1848 году и по времени совпал с началом «золотой лихорадки» в Калифорнии. На протяжении двух десятилетий, вплоть до завершения строительства трансконтинентальной железной дороги, «Тихоокеанская почтовая пароходная компания» Эспинуолла фактически обладала монополией на торговлю между Нью-Йорком и Калифорнией. Кроме того, Эспинуолл принимал самое активное участие в строительстве железной дороги через Панаму. Его карьера являет собой один из самых замечательных эпизодов коммерческой истории Нью-Йорка.
Именно благодаря Эспинуоллу и его огромному богатству в Нью-Йорке возникла сложная взаимосвязь между коммерцией и культурой. Живший в изысканном доме на Юниверсити-плейс, неподалеку от 10-й улицы, Эспинуолл был щедрым меценатом многих благотворительных обществ, созданных во время гражданской войны, и основателем общества защиты животных. Он был среди тех, кто внес заметный вклад в создание музея «Метрополитен», и стал главным спонсором библиотеки, основанной в 1870 году Джеймсом Леноксом. Главным проявлением благотворительности Джона Джейкоба Астора стала городская публичная библиотека, которую он основал в 1852 году. Библиотека Астора, Библиотека Ленокса и весьма значительный вклад политика и юриста Сэмюэла Дж. Тилдена легли в основу Нью-Йоркской публичной библиотеки (1895). Здание компании «Каррер и Гастингс», в котором размещается эта библиотека (Пятая авеню, между 40-й и 42-й улицами), представляет собой один из лучших образцов нью-йоркского неоклассицизма.
Следы прошлого
Прошлое в Нью-Йорке, городе, который вплоть до последнего времени славился своим равнодушием к красивым, но скучным идеалам исторического наследия и сохранения традиций, существует подобно геологическим пластам — в виде названий. Без живой памяти названия мест достаточно быстро теряют свое значение. Как приятно считать, что одна из главных улиц Нью-Йорка носит имя техасского патриота Сэма Хьюстона, но ведь был и некий Уильям Хьюстон (избранный в 1780-е годы делегатом Континентального конгресса от Джорджии), которому посчастливилось жениться на проживавшей в Нью-Йорке Мэри Байард. Именно счастливый отец этой дамы, Николас Байард, по земельному участку которого и проходила эта улица, решил дать ей имя своего зятя. Уолл-стрит получила свое имя благодаря довольно вялым попыткам создать оборонительные сооружения и обнести город стеной, закончившимся тем, что в 1653 году вдоль северной окраины Нового Амстердама были возведены каменные бастионы. Голландцы, прибывшие сюда в 1624 году, считали, что их окружают враги — индейские племена, говорящие на языках алгонкинской группы (северные делавары, они же манси). Голландцы, которые покупали у индейцев рыбу и шкурки бобров, а продавали ружья, спиртное и безделушки, боялись и презирали своих «клиентов». Угрозу совсем другой величины представляли собой крупные и стремительно растущие поселения англичан в Коннектикуте. В Новом Амстердаме было 1500 жителей, а во всей долине реки Гудзон проживали, по-видимому, не более 10 тыс. голландцев. В 1664 году английских колонистов в Виргинии и Новой Англии было в десять раз больше.
Англичане, как это часто бывало в XVIII веке, находились в состоянии войны с голландцами, и прибытие в 1647 году назначенного генеральным директором колонии Питера Стайвесанта продемонстрировало решимость голландской Вест-Индской компании защитить колонию. Севернее оборонительной стены располагались bouweries (фермы, садовые участки, пастбища и сельские домики голландских поселенцев), беспорядочно разбросанные между Новым Амстердамом и деревушками Хаарлем и Блумендаль. После того как в 1665 году англичане наконец захватили колонию, положив начало своему более чем вековому колониальному господству, частокол стал потихоньку разрушаться и в 1699 году был полностью снесен. Ров засыпали, что до некоторой степени облегчило процесс расширения города в северном направлении, но название Уолл-стрит оставили, чтобы сохранить в памяти людей те времена, когда город был уязвим. Камни бастионов заложили в фундамент здания городского совета. В 1790-х годах нью-йоркцы, глядя на это здание, испытывали гордость: еще бы, олицетворение гражданской ответственности стоит на основах, заложенных первыми поселенцами! У нас нет свидетельств того, какие именно чувства в связи с этим испытывали еще оставшиеся в городе голландцы. Никто их и не спрашивал. Причем они были не единственной группой населения города, которая понимала, что история поставила на них крест.
Когда в 1979 году по адресу Брод-стрит, дом 85, неподалеку от Фондовой биржи, возводилось новое здание, его повышенная высотность потребовала наличия более глубокого котлована под фундамент. Но земляные работы (впервые за всю историю города) были прекращены для того, чтобы провести тщательные археологические раскопки. В результате были обнаружены датированные XVIII веком артефакты таверны Лавлейса и другие предметы. Проведенные в том же году археологические раскопки на Перл-стрит, в районе прежнего городского совета и штаб-квартиры компании «Голдман Сакс», не обнаружили никаких остатков первоначального строения. В 1984— 1986 годах, во время строительства на углу Уайтхолл-стрит и Перл-стрит комплекса «Броуд файнэншл плаза», были обнаружены остатки датируемого XVII веком и принадлежавшего Августу Хеерману товарного склада, а также десятки тысяч предметов голландского домашнего обихода. В память о работе, проведенной археологами, сохранена стена таверны, которую оставили в раскопе, накрыв его сверху стеклом.
Иногда город восстанавливает свои связи с прошлым только благодаря счастливому случаю и настойчивости энтузиастов. Историк-любитель по имени Джеймс Келли в 1916 году был бригадиром рабочих, копавших на углу Гринвич-стрит и Дей-стрит туннель метро Межрайонной скоростной системы перевозок. Один из его рабочих наткнулся на сохранившиеся под слоями ила, нанесенного приливами реки Гудзон, куски обгоревшего дерева и крепкие дубовые балки, из которых были сделаны нос, киль и корпус какого-то корабля. Келли решил, что этим фрагментам много лет и что их местонахождение указывает на принадлежность эпохе самых первых поселенцев. Деревянные фрагменты сохранили в одном из резервуаров старого городского аквариума в Бэттери-парк. В 1943 году, когда часть этого здания снесли, Департамент парков передал деревянный остов длинной 82 фута Городскому музею Нью-Йорка, где он и поныне демонстрируется в Морской галерее. Современные методы определения возраста относят эти деревянные детали к XVI или к началу XVII века. Келли, впоследствии ставший историком округа Кингс, обнаружил останки судна «Тюйгер». Этот построенный голландцами корабль, капитаном которого был Адриан Блок, совершал плавания в Новый Амстердам за пушниной. В 1613 году, доверху загруженный пушниной, он сгорел в устье реки Гудзон. Вернувшись в 1614 году в Амстердам, Блок представил владельцам корабля рапорт о случившемся и оказал содействие в составлении карты, так называемой Символической карты 1614 года, на которой Манхэттен впервые был правильно показан как остров. После рассмотрения карты Блока и его отчета о плаваниях в Новые Нидерланды, Объединенной компании Новых Нидерландов была пожалована привилегия торговой монополии. Именно рапорт Блока и его настойчивость заставили голландцев предпринять довольно серьезные меры для того, чтобы вывести из дикого состояния колонию в устье «Ноорт ривиер», которая впоследствии получит имя Гудзон.
В 1990-е годы, когда Сити-холл парк подвергся реконструкции, за проведением земляных работ постоянно наблюдала группа археологов, которой поручили собирать артефакты и обеспечивать гарантию того, что в ходе работ не пострадает ни одно захоронение. Парк был создан на месте «наделов», то есть там, где фермеры держали на подножном корму свой скот и где находились богадельня, тюрьма и военные казармы. Археологов поразило обилие обнаруженных артефактов: монеты и пуговицы, пряжки от туфель, мушкетные пули, осколки изящных чайных сервизов, бутылки из-под французского вина, оставленные британскими войсками, находившимися в городе во время войны за независимость. Каждый артефакт был запечатан в отдельную пластиковую упаковку, уложен в ящик и отправлен в Фэйрфакс, штат Виргиния, где ему предстояло ожидать, какое решение примет город относительно того, как организовать и как оплачивать очистку и надлежащее хранение всех этих находок. Стоимость хранения была значительна, и, не дожидаясь, когда город решит, как профинансировать эти работы, в апреле 2001 года материалы, которые хранились в 349 ящиках, собрали, вывезли из Виргинии и возвратили в комплекс зданий Департамента парков, расположенный в парке «Флашинг Медоуз-Корона», неподалеку от стадиона «Нью-Йорк Метс» (или «Ши»), Там они находятся и сейчас. Сэкономленные же средства направили на предоставление студентам-археологам Городского университета Нью-Йорка возможности изучать эти артефакты. (Такой исход — скорее исключение, чем правило, в наши времена сурового урезания бюджетных расходов).
Тем, кто интересуется подземельями, следует посетить «Нью-Йоркские реликвии» — маленький археологический музей, посвященный долгой и яркой истории Нью-Йорка. Голландские глиняные трубки, изысканные фарфоровые чаши, инструменты серебряных дел мастера, детские игрушки и множество других артефактов — все это выставлено на всеобщее обозрение. Вход в музей находится на Перл-стрит, между Уайтхолл-стрит и Стэйт-стрит, неподалеку от Бэттери-парк.
Гораздо более сенсационное открытие было сделано в начале 1990-х годов. Многие годы западная сторона Бродвея между Рид-стрит и Дуэйн-стрит, в двух кварталах к северу от здания городского совета, использовалась в качестве автостоянки. В результате раскопок, проведенных группой археологов в районе дома 290, отведенном под строительство комплекса федеральных учреждений, на глубине двадцати футов ниже уровня улицы был обнаружен участок общественного выгона, который некогда реквизировала колониальная администрация под кладбище для африканцев, как рабов, так и вольных. Это кладбище использовалось еще в 1890-е годы. Здесь погребено приблизительно 20 тыс. чернокожих, и оно служит напоминанием о том, что в ранний период нашей истории каждый десятый житель Нью-Йорка был цветным, и о том, что семь процентов горожан были рабами. Всего на шаг опережая строителей, археологи идентифицировали сотни захоронений. О существовании и местоположении Африканского кладбища было известно лишь горстке ученых, изучавших ранний период истории Нью-Йорка, но повторное открытие этих фактов вызвало настоящую бурю.
Городская комиссия по сохранению исторических памятников большинством голосов постановила считать это кладбище важной вехой в истории города, а также признать его национальным историческим памятником. Такие детали, как наличие подпиленных зубов, монеты в руках мертвецов, женщина, погребенная с бусами, или раковина подле головы погребенного мужчины, связывают мертвых с морем и проливают свет на жизнь той части населения города, о которой в значительной степени уже забыли. Останки измерили, снабдили соответствующей документацией и эксгумировали для более детального изучения. Вокруг останков разгорелась длительная борьба между представителями различных научных сообществ. Ученые из лаборатории судебной антропологии (ЛСА) при колледже Леман в Бронксе намеревались провести очистку и исследование останков, но их потеснил Университет Говарда, в котором издавна учились и работали чернокожие. Преимущественно белая команда ЛСА проиграла в этой борьбе, и контракт на проведение научных работ по исследованию артефактов и останков 408 человек получил Университет Говарда. В половине раскопанных захоронений были обнаружены останки младенцев возрастом до двух лет, что стало еще одним свидетельством пугающе высокого уровня детской смертности среди африканского населения колониального Нью-Йорка.
Общественная реакция на открытие старейшего афроамериканского кладбища последовала незамедлительно. Такого рода открытия немедленно нашли свое отражение в расовой политике города. В 1998 году, после выделения почти 12 млн долларов на исследовательский проект Университета Говарда и внушительную программу народного образования, федеральное правительство отказалось от политики неограниченной финансовой поддержки. Администрации общих служб, правительственному агентству, финансирующему исследования и раскопки, было предъявлено обвинение в равнодушии к значимости этого места для афроамериканцев. Началась многолетняя недостойная борьба за контроль над останками и за руководящую роль в их исследовании, в которую вступили самопровозглашенное «общество потомков», научные учреждения, организации по защите гражданских прав и Администрация общих служб. Наивысшими (или же самыми низкими) проявлениями неприглядной склоки вокруг финансирования исследований стали произведенная в начале 2000 года замена замков в археологической лаборатории во Всемирном торговом центре (после террористических актов 11 сентября 2001 года дальнейшая судьба этой лаборатории остается неопределенной), отказ Университета Говарда продлить срок действия контракта и решение Администрации общих служб занять средства, чтобы оплатить перезахоронение останков. Место будущего мемориала — угол Дуэйн-стрит и Элк-стрит, в квартале к востоку от Бродвея. Дата перезахоронения пока не согласована.
«История Центрального парка», опубликованная в 1992 году Роем Розенцвейгом и Элизабет Блэкмар, напомнила городу о существовании Сенека-Виллидж — общины чернокожих, которые проживали в районе между 83-й и 88-й улицами, в западной части сегодняшнего Центрального парка. Сенека-Виллидж вызвала не менее острые дебаты по поводу условий жизни предков афроамериканцев в Нью-Йорке. В 1853 году Сенека-Виллидж ликвидировали, чтобы освободить место под парк, а жизнь ее населения либо подверглась искажению со стороны историков Центрального парка, либо попросту оказалась преданной забвению. Эта неприглядная история пополнила ряд постыдных эпизодов американской жизни. Бывший работник Департамента парков, почтенный пенсионер Роберт Стокетт, прадед которого был похоронен на территории этой общины в 1842 году, оказался единственным живым нью-йоркцем, который смог проследить связь своей семьи с Сенека-Виллидж.
Повсюду в городе находят все новые и новые следы прошлого. Раскрытые в последнее время факты, а также материальные свидетельства меняют представления нью-йоркцев о прошлом города. Возьмем историю жизни Джеймса Уикса, рыбака из Виргинии, который, как считается, когда-то был рабом. В 1838 году он купил у семейства Леффертсов расположенный в Бруклине участок земли. Рабство в Нью-Йорке было отменено лишь в 1827 году. Со временем афроамериканцы из Манхэттена (некоторые из них в 1863 году скрывались от призыва на военную службу и принимали участие в бунтах) построили в районе Браунсвиля, неподалеку от пересечения Кингс-хайвей с Ист-Нью-Иорк авеню, домики из обшивочных досок, и это место стали называть Уиксвилл. Школы, церкви, сиротские приюты, мастерские и дом престарелых превратили Уиксвилл, как и Сенека-Виллидж, в общину, которая представляет огромный интерес для горожан афроамериканского происхождения. Об оставшихся следах существования этой общины никто не вспоминал, дома разрушились, некоторые полностью исчезли. То, что здесь раньше жили люди, впервые стало ясно в 1968 году, когда на аэрофотоснимках историк и летчик заметили уцелевшие домишки. Комиссия по сохранению исторических памятников признала историческое значение этого места, получившего название «Исторический район Хантерфлай-роуд». Эти дома занесли в Национальный регистр исторических мест. Право собственности на дома приобретено Обществом сохранения Уиксвилла, которому пришлось сделать заем на сумму более 10 млн долларов с целью восстановить здания и создать музей и образовательный центр. Взнос в размере 400 тыс. долларов был сделан федеральным агентством «Сохраним сокровища Америки», которое финансировало работы по сохранению дома аболиционистки Гарриет Табман и сельского дома Эдит Уортон в Массачусетсе. Серьезные сокращения госбюджета, о которых было объявлено после атаки на Всемирный торговый центр, разрушили планы создания образовательного центра, но можно не сомневаться, что Уиксвилл будет сохранен.
В 1989 году, в своем доме неподалеку от Морского парка в Бруклине, скончалась пожилая женщина по имени Элла Сьюдам. Старый фермерский дом из дерева был признан историческим памятником, но пал бы жертвой капризов погоды и собственной старости, если бы не местные жители, которые проявили живой интерес к этому старейшему зданию и самому обширному частному дому, расположенному по соседству. В 2000 году археологи Бруклинского колледжа под руководством профессора X. Артура Банкоффа, провели исследование дома, построенного в 1800 году Хендриком Лоттом (1760—1840), принадлежавшим к старинной фермерской семье, когда-то владевшей более чем 200 акрами земли на территории Морского парка. По стандартам Нью-Йорка Лотты были чрезвычайно крупными рабовладельцами. В 1803 году они сообщали о том, что владеют двенадцатью рабами. Но принятие штатом в 1799 году закона о постепенном освобождении, который давал свободу тем рабам, которые родились после года принятия закона, и тем, кто был согласен служить своим хозяевам до определенного возраста (28 лет для мужчин и 25 лет для женщин), резко снизило коммерческую ценность рабов, никак не желавших продлевать пребывание в неволе на большой срок. Известно множество случаев досрочного освобождения; похоже, что к 1810 году Лотт освободил всех своих рабов. Когда два доктора философии, Кристофер Риккиарди и Алисса Лури, проводили тщательный осмотр дома Лоттов, они неожиданно обнаружили люк в потолке чулана. Пробравшись сквозь узкое отверстие, они увидели под крышей дома две комнатки, в которых жили рабы, а забравшись наверх, обнаружили в коридоре початки кукурузы, сложенные (и пролежавшие два столетия) в форме необычной звезды. Археологи американского Юга уже находили подобные обрядовые рисунки и определяли их как космограммы, символические изображения границы между миром живых и миром мертвых (а также воплощение той силы, которая соединяет эти миры). Помимо того, в этом бруклинском доме были найдены и другие предметы, которые служили для ритуальных целей, и ученые смогли понять, каким образом здесь сохранились обряды традиционных африканских верований. Это стало первым открытием такого рода, сделанным в Нью-Йорке, и оно пролило свет на духовную жизнь той части населения города, которую составляли рабы. В Интернете есть весьма яркое сообщение об открытиях, сделанных в доме Лоттов: www.archaeology.org/online/features/lott/index.html.
Порой артефакты — всего лишь пуговицы, монеты и разбитые чашки. А иногда эти артефакты и не такие уж древние. В 1980-е годы начались реставрационные работы в синагоге на Элдридж-стрит, ставшей домом для религиозного братства «Кхай Адат Джешурун». Богато украшенный фасад этого здания был разработан братьями Хертер в 1887 году. Хвалебный отзыв об этой синагоге дает составленный Уайтом и Вилленским путеводитель «А1А Guide», называющий ее самой изысканной из всех синагог Нижнего Ист-Сайда. Участок пустующей земли по адресу Аллен-стрит, дом 5, был приобретен для содействия проведению реставрационных работ, возможно, с перспективой использовать его впоследствии под строительство образовательного центра при синагоге. Возбуждающие интерес сплетни, иначе известные как «рассказы очевидцев», дошли до слуха реставраторов. Один человек, владевший многоквартирным домом, который до 1958 года стоял на Аллен-стрит, а потом был снесен, заявил, что попросил рабочих оставить в целости ритуальную купель (микву), которая находилась в подвале. В этом многоквартирном доме помещалась баня («Русские бани на Аллен-стрит»), владелец которой был членом религиозного братства синагоги на Элдридж-стрит. Некоторые давно жившие по соседству люди помнили эту баню, но никто не вспомнил микву. Так или иначе, водитель гусеничного гидравлического экскаватора приступил к работе по рытью траншеи глубиной в три фута. Вскоре появились белые керамические плитки, а после дальнейшего углубления в почву показался и облицованный шестиугольными цветными плитками плавательный бассейн длиной двадцать футов. В другой траншее оказался маленький мелкий бассейн, который, после того как его откопали вручную, был идентифицирован как миква, небольшой бассейн, используемый ортодоксальными иудейками для ритуального очищения после менструальных циклов. Других микв в Нижнем Ист-Сайде обнаружено не было, а отсутствие таковых подтверждало тезис о том, что евреи-иммигранты ведут в Америке более светский образ жизни. Недавно обнаруженная миква позволяет узнать кое-что о ранее неизвестных аспектах иудейских религиозных обрядов и может привести к переоценке сохранности традиционных обрядов в Новом Свете. Возможно, что этот бассейн использовался для совместных ритуальных омовений.
В 1980-е и 1990-е годы изучение прошлого и археология стали объектами серьезной политики. Сегодня то место на Дуэйн-стрит, где находилось Африканское кладбище, отмечено лишь весьма скромным памятным знаком (но уже идет полным ходом соперничество тех, кто разрабатывает достойный памятник). Таким же знаком отмечено и местоположение Сенека-Виллидж. Тем не менее оба этих места влияют на отношение города к своему прошлому, формирующееся под воздействием целого ряда претензий, свидетельств и воспоминаний, сколь бы незначительными ни были оставшиеся следы прошлого. Роль исторической памяти всегда является в высшей степени политической, а кладбище и Сенека-Виллидж подтверждают участие афроамериканцев в истории города. Существование могил, сохранившихся глубоко под поверхностью Бродвея, и повторное открытие стертой с лица земли деревни позволяет афроамериканцам утверждать: это и их город. Представители каждой этнической и расовой группы делают подобные утверждения, которые являются частью претензий на то, что и они являются коренными нью-йоркцами. Чтобы углубиться в такого рода археологию, наверное, надо предъявить и собственные претензии на место в истории всемирно известного города3.
1
Малколм Икс (1925 — 1965) — афроамериканец, глава мусульманской секты «Организация афроамериканского единства», идеолог «черного национализма», считается героем борьбы афроамериканцев за свои права. — Примеч. перев.
2
Перевод В. Левика.
3
В адресной книге Троу, составленной в 80-е годы XIX века, значится некий Александр Хомбергер, который «продавал украшения» и жил в доме 348 на Восточной 57-й улице. Бернхард и Роберт Хомбергеры проживали по тому же адресу. Мой отец Александр полагает, что торговец украшениями, носивший такое же имя, возможно, был его дедом. Родословная — это претензия на владение, которая позволяет сказать: «Я тоже нью-йоркец». — Примеч. автора.
Мелвилл, Купер и Рузвельт
Писателей, живших в этом городе, сильно притягивало к себе море. Герман Мелвилл совершил первое морское путешествие в Ливерпуль в 1837 году, будучи восемнадцатилетним юношей. Позднее он написал наполовину автобиографический роман «Редберн» (1849), в котором поделился своими впечатлениями о путешествии. Отец Веллингборо Редберна был
...импортером с Брод-стрит. И сидя зимними нью-йоркскими вечерами в старом доме на Гринвич-стрит, у незабвенного камина, который топили бункерным углем, он, бывало, рассказывал мне и моему брату о чудовищных морских волнах, высотой с гору, о мачтах, гнущихся, как ветки, и все-все-все о Гавре и Ливерпуле...
Письма отца Мелвилла, Аллана, который был нью-йоркским торговцем, хранятся в городской публичной библиотеке и представляют собой живое повествование о тех надеждах и опасениях, которые у него возникали во время полных неизвестности плаваний через Атлантику. Частые посещения Европы научили Аллана Мелвилла образно передавать свои мысли: море — «это, мягко говоря, чрезвычайно капризная и обманчивая стихия, сейчас оно смотрит на вас с обезоруживающей улыбкой, а в следующее мгновение кипит гневом». Для его сына, Германа, морские плавания были способом избавить свою семью от бедности. Они сулили приключения. «Когда я подрос, — вспоминал Редберн, — я мысленно уносился очень далеко и часто предавался долгим мечтаниям о длительных плаваниях и путешествиях и думал о том, как славно было бы иметь возможность поболтать о далеких и диких странах и о том, с каким почтением и интересом относились бы ко мне люди, если бы я только что вернулся с побережья Африки или из Новой Зеландии, и о том, как романтично смотрелись бы мои потемневшие от загара щеки.
Величайший роман Мелвилла «Моби Дик» (1851) начинается с угрюмого Измаила, погруженного в «сырую ноябрьскую морось души», размышляющего о том, насколько важным является море для нью-йоркцев:
Взгляните, к примеру, на город-остров Манхэттен, словно атолл коралловыми рифами, опоясанный товарными пристанями, за которыми шумит коммерция кольцом прибоя. На какую бы улицу вы тут ни свернули — она обязательно приведет вас к воде. А деловой центр города и самая его оконечность — это Бэттери, откуда тянется величественный мол, омываемый волнами и овеваемый ветрами, которые всего лишь за несколько часов до этого дули в открытом море. Взгляните же на толпы людей, что стоят там и смотрят на воду.
Обойдите весь город сонным воскресным днем. Ступайте от Корлиерсовой излучины до самых доков Коэн-тиса, а оттуда по Уайтхоллу к северу. Что же вы увидите? Вокруг всего города, точно безмолвные часовые на посту, стоят несметные полчища смертных, погруженных в созерцание океана. Одни облокотились о парапеты набережных, другие сидят на самом конце мола, третьи заглядывают за борт корабля, прибывшего из Китая, а некоторые даже вскарабкались вверх по вантам, словно для того, чтобы еще лучше видеть морские дали. И ведь это все люди сухопутных профессий, будние дни проводящие узниками в четырех стенах, прикованные к прилавкам, пригвожденные к скамьям, согбенные над конторками. В чем же тут дело? Разве нет на суше зеленых полей? Что делают здесь эти люди?1
Мелвилл был далеко не единственным из живших в Нью-Йорке писателей, которых притягивало к себе море. Джеймс Фенимор Купер, мировую известность которому принесли его романы о Кожаном Чулке, писал об американском Западе. Но Купер любил море и ту свободу, которой оно пропитывало тех, кто в него выходил. Он служил гардемарином в военном флоте Соединенных Штатов и заслужил репутацию писателя-мариниста, опубликовав в 1823 году роман «Лоцман», рассказывающий о морском набеге на английское побережье, а также давно забытый роман «Мерседес Кастильская» (1840) о первом плавании Колумба. Книга Купера «Два адмирала» (1842), где он изобразил моряка, в котором угадывается Нельсон, рассказывает о приключениях и соперничестве моряков британского военно-морского флота. В 1839 году Купер опубликовал весьма спорное исследование истории военно-морского флота США и другие книги по морской тематике.
Если исторические романы Купера о военно-морском флоте и морские рассказы были лишь эпизодами в его долгой карьере, то в политической и литературной жизни Теодора Рузвельта, первого нью-йоркца, ставшего президентом Соединенных Штатов, море занимало доминирующее место. Написанная Рузвельтом в 1882 году история морской войны, развернувшейся в 1812 году между Великобританией и США, стала исключительным достижением для молодого, двадцатитрехлетнего историка. Это была первая историческая книга о военном конфликте, целиком основанная на подлинных архивных данных. Обратившись к своему дяде, опытному морскому офицеру Джеймсу Д. Буллоку, Рузвельт попросил его помочь разобраться с техническими сложностями ведения войны в эпоху парусного флота, а взамен помог деду написать мемуары, которые представляли собой отчет о приключениях Буллока в тот период, когда во время гражданской войны он возглавлял секретную службу Конфедерации в Европе.

Рузвельт был среди первых политиков Америки, осознавших значение работ Альфреда Тайера Мэхена, который в серии лекций «Влияние военно-морской силы на историю, 1660—1783 гг.» (1890) доказывал, что существует прямая связь между военно-морской силой и оценкой могущества страны. Доктрину Мэхена использовали сторонники стратегии «большого флота». В яркой политической карьере Рузвельта есть эпизод, когда он, в 1897—1898 годах, занимал пост помощника министра военно-морских сил. Именно в этот момент восстание кубинцев против испанцев достигло кульминации. Во времена высоких тарифных барьеров и крошечной регулярной армии, что было отражением изоляционистских настроений, Рузвельт в Вашингтоне и в поездках по стране выступал активным сторонником военных приготовлений и имперской экспансии. «Я желаю видеть Соединенные Штаты доминирующей державой на берегах Тихого океана», — писал он и с этой целью настаивал на строительстве канала, соединяющего два океана. Когда в 1900 году Рузвельт стал президентом, он ускорил строительство новых линейных кораблей. В 1907 году он отправил в кругосветное плавание «Великую белую флотилию». Продолжавшееся четырнадцать месяцев плавание, в ходе которого корабли преодолели 46 тыс. миль, стало впечатляющей демонстрацией того, что Соединенные Штаты вошли в число великих морских держав. Заинтересованный в укреплении военной мощи, а не в приобретении колоний, Рузвельт, с его невероятной энергией и задиристой самоуверенностью, буквально втащил страну в новое столетие. Презрение Рузвельта к «уважаемым людям с хорошим материальным положением» сделало его врагами представителей его же собственного класса — отпрысков богатых и старых нью-йоркских семейств, потомков голландцев и англичан. Но он озвучил тот взгляд на мир, который преобладал среди торговцев и финансистов города. Изоляционизм никогда не находил понимания со стороны нью-йоркцев, зато жизнь города всегда была связана с международной финансовой деятельностью и торговлей с зарубежными странами.
После того как в 1902 году Эрнст Пул, сын состоятельного чикагского комиссионера по продаже зерна, закончил Принстон, он жил в нью-йоркском университетском городке. Проводя исследования для статьи о нью-йоркской гавани, он наткнулся в Бруклине на покрытый пылью пакгауз, в котором обнаружил бухгалтерские книги, сохранившиеся со времен парусного флота. «Когда я читал, то видел парусники, летящие по залитым звездным светом океанским путям, величавые суда Ост-Индской компании с названиями вроде “Звезда Империи”, “Дэниел Вебстер”, “Океанский Монарх”, “Летящее облако”». В 1912 году гавань уже утратила свой прежний романтический вид. Железные дороги и крупные судоходные компании заставили уйти из бизнеса последних мелких судовладельцев. Тем не менее вокруг гавани, несомненно, кипела жизнь. «На каждом углу, — писал Пул в своей автобиографической книге «Мост» (1940), — вы видели людей, которые в поте лица что-то поднимают; слышали, как они бранятся и тяжело дышат. В ту ночь они работали до самого рассвета. Кровь из носа, но корабль должен отплыть вовремя! Скоро я почувствовал, что это место теряет свою внутреннюю сущность, свою энергию и значимость, нескончаемую суету и ощущение молодой нации, и лишь накапливает непомерные богатства». Познакомившись с одним из лидеров «уобблиз», членов организации «Индустриальные рабочие мира», созданной «Большим Биллом» (Уильямом Хейвудом), Пул увидел в нем своего героя и написал опубликованный в 1915 году роман «Гавань» о борьбе рабочих за свои права, происходящей на фоне жизни нью-йоркского порта. В этом романе старые бухгалтерские книги принадлежат отцу рассказчика, который молодым человеком перед гражданской войной приехал в Нью-Йорк, чтобы плавать на клиперах. В 1915 году в воздухе пахло революцией, город заполнили иммигранты, повсюду царила нищета и разгорались трудовые конфликты. По мнению Пула, сочетание романтической атмосферы и грубой реальности было достаточным основанием для создания эпического романа о становлении современного Нью-Йорка.
Именно такие поэты, как Уолт Уитмен и Харт Крейн наиболее ярко отразили физическую связь города и омывающих его вод. В стихотворении «На Бруклинском перевозе», которое вошло в сборник «Листья травы» (издание 1856 года), Уитмен сплетает воедино реку, пассажиров парома, своих читателей и тех, кто прочтет его стихотворение через несколько поколений. Он торжественно утверждает и восхваляет взаимосвязь всего сущего:
И то, что чувствуете вы при виде реки или неба —
поверьте, это же чувствовал я.
И я был участником жизни, частицей живой толпы,
такой же, как всякий из вас...[Перевод В.Левика]
В стихотворении «Мост», которое Харт Крейн написал в конце 1920-х годов, когда жил в Бруклине, поэт не только пытается заглянуть в овеянное легендами прошлое Америки, с его первопроходцами и первыми поселенцами, но и выходит далеко за рамки этого, размышляя о смысле человеческой жизни. Несмотря на столь масштабные задачи, Крейн связывает свое стихотворение с жизнью города. Одна строфа начинается со следующей строчки: «На Южной улице я встретил человека, высокого...» Подобно произведениям Уитмена, стихотворение Крейна изобилует воспоминаниями о прогулке по Бруклинскому мосту, советами, как объехать весь город на метро («надо “Грэйвсенд-Мэнор”, перейдите на “Чамберс-стрит”»), и привычными для горожан банальными фразами («реклама зубной пасты и средства от перхоти»).
Во время Гражданской войны Америка потеряла более трети своего торгового флота. В условиях жесткой конкуренции со стороны «Кьюнард Лайн» (основанной в 1840 году), «Гамбург-Америкен» (1848), «Северо-германского Ллойда» (1857), «Компани Женераль Трансатлантик» (1861) и «Холланд-Америка Лайн» (1872), израненный американский флот едва ли был способен соперничать с иностранными перевозчиками, и флаг США стал все реже появляться в зарубежных портах. Исключение Соединенных Штатов из числа великих морских держав не могло не ослабить нью-йоркский порт. За этим последовал неизбежный конец судостроительной промышленности Нью-Йорка. Снизилось как число судов, спускаемых на верфях, так и общий тоннаж. Лишь на британских и германских верфях внедрялись важные технологические инновации. Теперь «Голубая лента», престижный приз за установление рекорда скорости на североатлантических линиях, редко попадала в руки американцев. Доминирующую роль в осуществлении пассажирского и коммерческого сообщения с Нью-Йорком играли корабли иностранных судовладельцев. Нью-Йорк оставался важнейшим портом США, через который страна в 1860-е годы ввозила половину всего импорта и вывозила половину всего экспорта, но в основном именно иностранные суда перевозили американских пассажиров и американские товары. Что касается пассажирских перевозок, которые стали весьма прибыльным делом в эпоху массовой иммиграции, то их осуществляли и американские корабли, но в минимальном масштабе. К 1914 году лишь десять процентов американских грузов перевозились американскими кораблями.
Естественные преимущества, которые давало местоположение города и его гавани, были сведены к нулю нехваткой места, необходимого для погрузо-разгрузочных работ, что вызвало изменения в структуре перевозок. Первые шаги к созданию Портового управления были сделаны в 1917 году, когда США вступили в Первую мировую войну. Отсутствие единого управления портовыми сооружениями Нью-Йорка и Нью-Джерси мешало вызванному войной подъему экономики. В 1921 году Портовое управление, создание которого было официально согласовано двумя штатами, сформулировало программу, целью которой было остановить упадок порта. Будучи самофинансирующейся муниципальной корпорацией, санкционированной конгрессом, Управление имело полномочия установить современное оборудование в Ньюарке и Хобокене, расположенных на том берегу Гудзона, который принадлежит штату Нью-Джерси. Были предоставлены дополнительные полномочия по улучшению водных путей, туннелей, автострад, мостов и терминалов.
Фактически Портовое управление построило всю инфраструктуру города. Прибываете ли вы в Нью-Йорк, уезжаете из него или переезжаете из одного района в другой, у вас всегда на виду сооружения, построенные и руководимые Портовым управлением и другими структурами. Под контролем Портового управления находятся туннель Линкольна, мост Джорджа Вашингтона, все три моста, соединяющие Стэйтен-Айленд с Нью-Джерси, региональная система четырех аэропортов, автобусный вокзал, морские порты, отели, пригородная железная дорога (доставшаяся в наследство от исчезнувшей компании «Хадсон энд Манхэттен рейлроуд»), соединяющая Нью-Джерси с Манхэттеном, и (пока губернаторы-республиканцы Нью-Йорка и Нью-Джерси не добились приватизации и сокращения штатов) 95 млн квадратных футов сдаваемой в аренду служебной площади во Всемирном торговом центре, который открылся в 1971 году. Это внушительное сооружение было создано на деньги, полученные за пользование городскими мостами, туннелями и другими сооружениями. Портовое управление не могло не подвергнуться нападкам со стороны консерваторов, упрекавших его в единовластном правлении, в непомерных масштабах деятельности и в перекрестном субсидировании убыточных сооружений, из-за чего ежегодные расходы Управления составляли 2 млрд долларов.
В 1956 году в одном из путеводителей по Нью-Йорку говорилось, что «гавань — это деловой центр и в то же время хозяин города». Это наблюдение (или бахвальство) подтверждалось весьма впечатляющими цифрами: тогда через порт Нью-Йорка ежегодно перевозилось 179 млн тонн грузов. Протяженность береговой линии составляет 771 милю, а портовые сооружения протянулись на 350 миль. Но длительный упадок Нью-Йорка как порта был очевиден. Судьбу городских пирсов решило развитие международных воздушных сообщений, которое ускорило и без того стремительныйупадок пассажирского судоходства. Переход на контейнерные перевозки и все более частое использование крупных судов, которым было трудно маневрировать в ограниченном пространстве гавани, снижали конкурентоспособность порта. В 1966 году закрылся Бруклинский судостроительный завод, который в конце Второй мировой войны был крупнейшим предприятием военного судостроения в Соединенных Штатах. Полный упадок порта стал символом многих общественных и экономических бедствий города.
Генри Джеймс, который, наверное, в меньшей степени, чем все остальные нью-йоркские писатели, проявлял интерес к порту и к его грандиозной роли в жизни города, описал сцену возвращения в город, которое состоялось в 1904 году. В сборнике очерков «Сцены американской жизни» (1907) он отмечал, что берега стали низкими, «обзавелись унылого вида постройками, их заселили неприметные люди». Но, вернувшись в Нью-Йорк после двадцати лет отсутствия, Джеймс все же смог найти повод для «легкого оживления» при приближении к городу:
Красота света и воздуха, широта пространства и различимые далеко на западе распахнутые ворота Гудзона, которые и на расстоянии выглядят по-своему величественными и безмолвно говорят о чем-то возвышенном... Что по-настоящему привлекает, так это, несомненно, приметы бурной деятельности местного населения... поскольку это привлекательность неустрашимой державы особого типа.
«Решетка»
Южнее Вашингтон-сквер Нью-Йорк во многом производит впечатление европейского города, с извилистыми узкими улочками и кварталами различной протяженности. К северу от Вашингтон-сквер он несомненно является американским городом с четкой планировкой пересекающихся под прямым углом улиц одинаковой ширины и кварталами одинаковой протяженности. Улицы пронумерованы. Приезжий, который, скажем, желает узнать, как добраться с Ганновер-сквер до Гринвич-стрит, не сталкивается с проблемой ориентации в городском пространстве, которая характерна для Парижа и Лондона. Нет ничего проще, чем добраться с Восточной 11-й улицы (линия, разделяющая город на восточную часть и западную, проходит по Пятой авеню) до пересечения 34-й улицы и Пятой авеню. На самом деле в Нью-Йорке, как правило, трудно заблудиться. Но существует проблема ориентации другого рода, с которой мы сталкиваемся благодаря четкой планировке. «Достаточно бросить взгляд, — писал Жан-Поль Сартр, — чтобы убедиться в том, что вы находитесь в Ист-Сайде, на углу Пятьдесят второй улицы и Лексингтон-авеню. Но эта пространственная определенность не сопровождается определенностью на уровне ощущений». Только время, потраченное на прогулки по улицам Нью-Йорка, дает некое интуитивное чувство, ту «определенность на уровне ощущений», которая позволяет увидеть отличия, присущие каждому кварталу, улице, району, перекрестку и людям, которых вы видите в различных частях города. Сами нью-йоркцы приобретают подобные знания со временем, но их удивляет, почему сообразительные французы испытывают такую дезориентацию. Приезжим нужен ускоренный курс обучения, чтобы начать ориентироваться в четкой планировке улиц и понять, как эта планировка формирует городскую суету и многоликость Нью-Йорка.
Предложенная в 1811 году четкая планировка стала доминирующим взглядом на формирование облика города и оставила неизгладимый след в его развитии. Обнаруженной во всех типах городских поселений, фактически — в каждой исторической эпохе, четкой планировке отдавали предпочтение абсолютные диктаторы и демократы, военные и религиозные объединения. Пуритане из Нью-Хейвена, Хартфорда и Кембриджа предложили план квадратной формы поселения с прямыми улицами, в основе которого лежали принципы четкой планировки. В плане поселения квакеров в Филадельфии Уильям Пенн разместил четкую сетку кварталов между реками Скулкилл и Делавэр. Этот план стал самым масштабным применением данного принципа в колониальной Северной Америке. Мормоны из Солт-Лейк-Сити использовали схему растянутой сетки, поместив в ее центре молельный дом Табернакл. Колонисты, будь то англичане или испанцы, католики, протестанты или квакеры, использовали принцип четкой планировки. Никогда не прекратятся попытки найти в четкой планировке простые политические значения, которые позволяют приписывать ее сторонникам стремление к демократии, равноправию или политкорректности. В своей работе «Форма города» (1991) Спиро Костоф доказывал, что четкая планировка, которая «на всем протяжении истории была самой распространенной схемой строившихся по плану городов», представляет собой попытку связать конкретную форму государственного устройства или управления с градостроительным проектированием.
И все же четкую планировку недолюбливают, часто сетуют на ее негибкость. Она имела много практических последствий, о которых нью-йоркцы теперь сожалеют. Ограниченное количество протянувшихся с севера на юг улиц надолго обрекло Нью-Йорк на дорожные заторы. Потребовались большие затраты, чтобы исправить заложенное в первоначальном плане недостаточное количество общественных парков и площадей, и эти работы проводились с большими задержками. Сторонники движения «За красивый город», которые с энтузиазмом отнеслись к строительству радиальных бульваров и живописных парковых автомагистралей, сочли отсутствие в четкой планировке ярких, волнующих видов одной из причин мрачности и однообразия современных городов. Предложения по улучшению поступили от Городского общества искусств, основанного в Нью-Йорке в 1893 году и проповедовавшего следующую идею: «Чтобы заставить любить свой город, следует сделать его красивым». В 1904 году, в качестве способа преодоления ограничений четкой планировки, это общество предложило создать диагональные бульвары Боу-Артс, с которых открывались бы красивые виды на новые здания.
В архитектурной критике существует старая традиция, восходящая к Камилло Ситте, который считал единообразие городской планировки смехотворной глупостью. В своей важной работе «Der Stadtebau» (1889), переведенной под названием «Планирование города в соответствии с художественными принципами» (1965), он неоднократно называл четкое планирование заклятым врагом всего того «художественного» и образного, что есть в городском планировании. Несмотря на присутствие четкой планировки в городах, разбросанных на пространстве от Японии до Шотландии, Ситте рассматривал ее как характерную форму именно американского урбанизма. Он саркастически замечал, что городская планировка в наибольшей степени свойственна тем местам, где люди живут лишь для того, чтобы заработать деньги, или тем, которые интересны только как плацдармы для освоения земель. Эта планировка свойственна обществу, у которого «нет прошлого, нет истории и для которого из всех достижений человеческой цивилизации пока имеют значение лишь квадратные мили земли». В своей авторитетной и безапелляционной книге «Город и история» (1961) Льюис Мамфорд показал себя как последователь критицизма Ситте. Он утверждал, что четкая планировка на удивление неэффективна и расточительна и более всего соответствует характерному для капитализма процессу превращения природных ресурсов в средство спекуляций и эксплуатации. С точки зрения Генри Джеймса, четкая планировка является «величайшим кощунством над топографией» и «первородным грехом», из-за которого Нью-Йорк «из всех великих городов оказался менее всего наделенным такими благами, как величественные площади или красивые сады, счастливые случайности или приятные неожиданности, возникающие по воле фортуны укромные уголки или бессистемно появляющиеся перекрестки, словом, любые отклонения в сторону вольнодумия или очарования».
Четкая планировка является весьма тревожным фактором в жизни Манхэттена. И все же она появилась в те времена, когда численность населения города стремительно росла и его меркантильные амбиции казались беспредельными. В 1806 году городской совет обратился в законодательное собрание штата с просьбой поручить членам городской комиссии сделать планировку новых улиц, проходящих по еще не застроенной части острова, к северу от Вашингтон-сквер. Городской совет является законодательной ветвью правительства Нью-Йорка. В городской хартии, пожалованной в 1686 году губернатором Томасом Донга-ном, он назван «советом сообщества». Сложная история органов местного управления, а также изменения положений хартии предписывали городу добиваться у штата полномочий на удовлетворение тех гражданских потребностей, которые выходили за рамки полномочий, предоставленных в различных хартиях, начиная с самой первой, пожалованной еще в 1653 году Голландской Вест-Индской компанией. Удовлетворение в 1807 году этой просьбы предоставило городу единственный способ последовательно планировать собственный рост.
От законодательного собрания штата члены комиссии получили указания планировать улицы и площади таких размеров, которые обеспечивали бы «свободную и обильную» циркуляцию воздуха. Когда в 1811 году комиссия наконец представила свой доклад на рассмотрение, к нему прилагались большая карта, на которой сетка планировки простиралась вплоть до 155-й улицы, и безапелляционное заявление о юридических и моральных правах на расширение. Возможно, думая о составленном майором Пьером Ланфаном плане Вашингтона, в котором громадная роль отводилась красоте открывающихся перспектив и выстраиванию улиц по степени их важности (подробнее о значительной роли Ланфана в жизни Нью-Йорка см. в главе 2), члены комиссии сразу же отвергли выгоды «предполагаемых преимуществ круговой, овальной и звездообразной планировок, которые определенно украшают план». Однако скорее всего они вспомнили, что Нью-Йорк должен состоять «главным образом из человеческих жилищ», и отдали предпочтение «прямосторонним и прямоугольным домам, самым дешевым с позиции строительства и самым удобным для проживания». Сокрушаясь по поводу «разрушительного духа спекуляции», комиссия стремилась обеспечить быструю и упорядоченную застройку крупной территории к северу от уже существующего города. Количество земельных участков в наиболее престижных районах, прилегающих к причалам и докам, было крайне ограничено, цены на жилье взлетали вверх, заставляя горожан искать себе места проживания далеко от мест работы. Члены комиссии надеялись расширить земельные фонды, отведенные под застройку. В их намерения входило добиться того, чтобы город «стал полезным для обитателей», а с помощью четкой планировки маленьких участков правильной формы его намеревались сделать пригодным для дальнейшей застройки.
Казалось, географическое положение Нью-Йорка, окруженного гаванью и двумя реками, накладывает особые ограничения на упорядоченное градостроительство. На берегах Ист-Ривер, Гудзона и в Гарлеме город и его четкая планировка заканчивались. За несколько десятилетий, по мере роста населения в Бронксе, Куинсе и Бруклине, Нью-Йорк вырвался за пределы «тесной сетки кварталов». Прежде независимые поселки оказались втянуты в орбиту финансово-спекулятивных интересов Нью-Йорка. Столь обожаемый Уолтом Уитменом паром на Фултон-стрит сделал Бруклин гораздо более удобным местом проживания, нежели Северный Манхэттен. На практике выяснилось, что нью-йоркская сетка кварталов не имеет границ или пределов. Повсюду, где наблюдался рост населения и можно было извлечь выгоду из покупки и продажи земли, возникала «открытая сетка». Стремительное развитие капиталистической экономики Нью-Йорка шло рука об руку с расширением упорядоченного градостроительства.
Комиссия утверждала, что географическое положение Нью-Йорка делает ненужными любые дальнейшие меры по обеспечению его дополнительными открытыми пространствами на благо здравоохранения и для отдыха горожан. Были выделены земельные участки для водохранилища, обсерватории и проведения «больших парадов». Члены комиссии ожидали, что их планы подвергнутся резкой критике, но не из-за того, что в них предполагалось весьма скромное обеспечение парками и отсутствие «круговых, овальных или звездообразных» планировок, а по причине невероятной идеи, что в будущем весь Манхэттен будет покрыт сеткой улиц и домов. «Кое у кого может вызвать удивление то, что весь остров до сих пор не был отведен под городское строительство. Других может развеселить то, что члены комиссии обеспечили пространство для такого количества населения, какое можно найти разве что в Китае». На Манхэттене имелись перепады уровня поверхности, и, вероятно, некоторые части острова оказались совершенно непригодными для строительства домов. В таких случаях потери, вызванные невозможностью застройки, предполагалось восполнить за счет расширения сетки кварталов. Члены комиссии полагали, что размеры городской собственности в целом останутся теми же, какими были в 1811 году: маленькие земельные участки с прилегающими к проезжей части территориями шириной 20—25 футов казались вполне соответствующими потребностям города и не противоречили скромности и республиканскому достоинству народа. Комиссия считала, что крупные земельные участки неправильной формы станут сдерживающим фактором на рынке недвижимости и таким образом воспрепятствуют развитию города.
Предлагалось построить двенадцать протянувшихся с севера на юг проспектов, каждый шириной в сотню футов. Через каждые две сотни футов их должны были пересекать протянувшиеся с востока на запад, от Ист-Ривер до Гудзона, улицы шириной шестьдесят футов. План предусматривал наличие двух тысяч длинных и узких кварталов. Не предполагалось никакой подгонки сетки к уже существующим границам земельных участков, установленным в результате продаж недвижимости и безвозмездных передач государственной земли (некоторые из них восходили к периоду голландской колонизации). Также не предусматривалось приведение плана в соответствие с уже существующими водотоками и неправильными очертаниями земельных участков. Бродвею позволили продлить свою извилистую линию, которая должна была пересечь сетку кварталов. Развитие города потребовало неоднократного внесения изменений и корректировок в план 1811 года: планировалось разбить площади на пересечениях Бродвея с 14-й (Юнион-сквер) и 23-й (Мэдисон-сквер) улицами. Длинное пространство между Третьей и Пятой авеню разделили натрое (Лексингтон-, Парк- и Мэдисон-авеню). Согласно принятому в 50-е годы XIX столетия плану Центрального парка, составленному Фредериком Ло Олмстедом и Калвертом Боксом, под парк отводился неправильной конфигурации участок земли севернее 59-й улицы, между Пятой и Восьмой авеню, целиком выпадавший из сетки кварталов. Целью планировщиков Центрального парка (см. главу 5), было использование пространства, которое не соответствовало правильности городской планировки и позволяло посетителям парка на время забыть о том, что на самом деле они находятся в городе-«решетке».
Сетка кварталов сыграла роль, которую трудно измерить, но которая оказала заметное воздействие на ускорившийся процесс застройки города. Достижения знаменитых частных империй, возникших в Нью-Йорке XIX столетия (Уэнделлы, Асторы, Шермерхорны, Костеры и другие), показывают, что рост цен на недвижимость позволял осуществлять грандиозные спекулятивные инвестиции, которым четкая планировка города не была помехой. Впрочем, далеко не факт, что горожане, жившие в маленьких квартирках и вносившие за них высокую арендную плату, разделяли энтузиазм крупных магнатов недвижимости относительно системы землевладения и жилищного строительства, — энтузиазм, который так охотно использовали в своих целях владельцы земли.
Флэтайрон - билдинг
Одним из непреднамеренных последствий четкой планировки стали маленькие участки земли («куски пирога»), возникшие вследствие того, что Бродвей пересекал основные авеню под достаточно острыми углами. Возможности полезного использования таких пространств были продемонстрированы на перекрестке, где Бауэри-стрит (переименованная Четвертая авеню) отклоняется на запад, в направлении Юнион-сквер, в районе 8-й улицы, оставляя маленький островок свободного пространства, на котором в 1850-е годы возвели здание фонда Куперовского союза. Этот броский, построенный в итальянском стиле особняк был пожертвован богатым промышленником Питером Купером для размещения союза развития наук и искусств его имени. Именно здесь 27 февраля 1860 года Авраам Линкольн выступил со своей знаменитой речью о рабстве и разобщении перед восторженными слушателями, которых насчитывалось 1500 человек и каждый из которых заплатил 25 центов за входной билет. На следующий день речь Линкольна была опубликована Хорейсом Грили в «Трибьюн» и разошлась по всей стране. Красноречивые доводы в пользу защиты конституции, прозвучавшие в речи Линкольна против рабства, во многом помогли ему стать кандидатом на пост президента от республиканцев. В 1966 году здание Куперовского союза признали историческим памятником. Здания, возведенные на V-образных участках земли в деловом центре города, были довольно распространенным явлением. Но их появление в жилых районах вызвало весьма бурную реакцию.
Жалкие остатки недвижимости, сохранившиеся в районе 23-й улицы, там, где Бродвей пересекает прямую Пятую авеню, казалось, бросали вызов типичной коммерческой застройке. По форме подобные здания представляли собой прямоугольные треугольники. Несмотря на бесперспективную конфигурацию, расположение в самом сердце фешенебельного центра Нью-Йорка привело к тому, что в 1890-е годы этот участок земли стал лакомым куском и стоимость квадратного метра в нем достигла заоблачных высот. В 1901 году компания «Фуллер» купила весь квартал за 2 млн долларов и планировала построить административное здание высотой 300 футов, со сдаваемой в аренду площадью в 120 тыс. квадратных футов. Но местоположение поставило перед архитекторами серьезнейшие проблемы. Когда в 1890 году Джордж Б. Пост создал проект здания высотой в 309 футов, в котором должна была разместиться редакция газеты Джозефа Пулитцера «Нью-Йорк уорлд», предполагалось, что несущие стены в основании будут иметь толщину девять футов. Но в 1902 году, когда в Нью-Йорке ознакомились с идеей «чикагской конструкции» (использование каркаса из конструкционной стали, несущего вес здания), архитектор Дэниел Бернэм создал для этого странного и, казалось бы, бесперспективного места беспрецедентный проект 20-этажного строения из рустованного известняка, кирпича и терракоты. Бернэм закрутлил обращенное на север острие треугольника и создал площадку для наблюдения (ныне закрытую), с которой открывался замечательный вид на Нью-Джерси и на отдаленные районы Бруклина.

Десятью годами ранее Бернэм руководил строительством павильонов Всемирной выставки в Чикаго и был главным действующим лицом в той вакханалии классицизма и подражания «бо-ар», которая тогда преобладала в американской архитектуре. Работавший в партнерстве с Джоном Уэллборном, а потом возглавивший собственную архитектурную фирму Бернэм стал одним из ведущих архитекторов эпохи. Фирма «Дэниел Бернэм и К0» специализировалась на проектировании высотных административных зданий для коммерческих застройщиков. «Бернэм был настоящим художником в области бизнес-стиля, — писал его биограф, — несомненно, тем художником, с которым капиталисты умели находить общий язык».
Флэтайрон-билдинг стал важным этапом работы, позволившим «Фуллер констракшн компани», возглавляемой зятем ее основателя, проворным молодым человеком по имени Гарри С. Блэк, ворваться на жесткий рынок недвижимости Нью-Йорка. У Блэка были весьма честолюбивые замыслы превратить «Фуллер компани» в трест по торговле недвижимостью. При поддержке таких энергичных капиталистов, как Джеймс Стиллмэн и Генри Моргентау, он сделал из «Фуллер» полностью принадлежащую ему дочернюю компанию фирмы «Ю. С. риэлти энд импрувмент компани» с капиталом 66 млн долларов. «Фуллер компани» прославилась броской рекламой, методами быстрого строительства (четыре этажа в неделю) и непреклонной решимостью нарушать все правила, а при необходимости — подкупать профсоюзных боссов. За «Ю. С. риэлти» стояла Уолл-стрит с ее неограниченным капиталом.
Наверное, Дэниэлу Бернэму пришлось до конца использовать свое умение сходиться с людьми, когда обсуждался архитектурный план Флэтайрона. Действительно, как можно было извлечь полную арендную плату из расположенной на северной оконечности здания очаровательной комнатки, офисного помещения в форме треугольника, шириной двенадцать футов у основания и шесть футов у вершины, с хорошим обзором для наблюдения за парадами и чудесным видом на Мэдисон-сквер и Бродвей? В такое помещение вряд ли могло войти хоть что-то, кроме письменного стола с убирающейся крышкой или шкафа для хранения документов. На той стороне здания, которая вытянулась вдоль Бродвея, было восемь офисных помещений, но ни одно из них не имело таких размеров.
Высота Флэтайрона вызвала опасения у общественности. Ставший в 1902 году самым высоким строением к северу от финансового центра города и вдвое превосходя по высоте новейшие здания Бродвея, Флэтайрон буквально нависал над Мэдисон-сквер. Казалось, он выходит за рамки привычных стандартов зданий, сдаваемых в аренду, и его противники испытывали ощущение, что Флэтайрон олицетворяет самонадеянность Уолл-стрит. В 1903 году Городское общество искусств использовало это здание как повод для того, чтобы обрушиться с нападками на строителей: «Оно стоит там как наглядный пример скупости управляющей и владеющей им корпорации. С точки зрения архитектуры оно непригодно для того, чтобы находиться в центре города». Но простые люди решили по-другому. Несмотря на сопротивление владельцев здания, среди горожан широко распространилось прозвище Флэтайрон (Утюг), которое звучало нежно и слегка насмешливо. Флэтайрон пришелся по душе Альфреду Стиглицу и его пропитанному духом авангарда журналу «Камера уорк». Благодаря серии блестящих фотоснимков Мэдисон-сквер и неясной перспективы Пятой авеню в сумерках, Стиглиц научил американцев относиться к этому изумительному произведению современной архитектуры как к яркому украшению. Часто на фотографиях Флэтайрон выглядел так, словно не находится в городе, а возвышается среди деревьев парка. Критик Садакичи Хартман предсказывал, что через двадцать лет люди будут называть Флэтайрон шедевром красоты:
...над мерцающим заревом
Ночного города ты гордо навис,
Словно древний каменный великан,
Опоясанный звездами и хмурой мглой...
Дом-утюг на все времена...
Стойкий символ здравого смысла,
Что ж, ты можешь с улыбкой взирать на обширный Готэм,
Когда рассвет окрашивает твои колонны в розовые цвета,
И в предстоящие века заявит о себе
Твоя красота
Дерзко и без стыда.
(Прозвище «Готэм» восходит к названию деревни в Ноттингемшире, получившей известность благодаря эксцентричности ее жителей; впервые его использовал как шутливое прозвище Нью-Йорка писатель Вашингтон Ирвинг, коренной житель Нью-Йорка, в 1807 году в одном из сатирических эссе, вошедших в сборник «Салмагунди». В 1830 году Джеймс Керк Полдинг использовал это слово в названии сборника коротких рассказов «Хроники города Готэма». Какие бы иронические или отрицательные ассоциации ни вызывало это прозвище-термин, вскоре оно сделалось приятным слуху нью-йоркцев. В своей книге «Верхние десять тысяч: зарисовки американского общества» (1852) Чарльз Астор Бристед писал о «нашем обожаемом Готэме и о тех местах, где привыкли собираться добропорядочные готэмиты — американские, так сказать, кокни»).
Довольно скоро Флэтайрон затмили более крупные и внушительные строения, и в эпоху международного архитектурного стиля не могли не выйти из моды декоративнотерракотовые здания в духе Бернэма, которые более всего походили на изящно украшенные марципаны. И все же, по образному выражению М. Кристин Бойер, «его огромный нос, словно форштевень океанского лайнера, бесстыдно рассекает Пятую авеню». Сегодня символический статус Флэтайрона неизбежно приводит к тяжбам, и в 1999 году риэлторская фирма «Ньюмарк энд компани», в ведении которой находится Флэтайрон, начала судебный процесс против дочерней компании с венчурным капиталом под контролем банка «Чейз», желавшей использовать в качестве своей торговой марки характерный облик этого здания. Каждой фирме, которая желает использовать этот образ, нужно заплатить за привилегию и признать права «Ньюмарк энд компани» на товарный знак. (Аналогичные попытки предпринимались в отношении Крайслер-билдинг, музея Гуггенхайма, Рокфеллеровского центра, центра Линкольна и Нью-Йоркской (фондовой биржи). Будучи старейшим небоскребом Нью-Йорка, Флэтайрон остается одним из самых восхитительных творений, созданным по стечению неожиданных обстоятельств, возникших в результате реализации четкого плана развития города.

1
Перевод И. Бернштейн.
Глава вторая. На ступенях Национального мемориала Федерал-холл
История города оставляет следы, порой — глубоко под поверхностью улиц. На перекрестке Уолл-стрит и Бродвея встречаются прошлое и настоящее Нью-Йорка. Фондовая биржа, церковь Троицы, гарантийный банк Моргана и Национальный мемориал Федерал-холл — каждый по-своему свидетельствует о присутствии прошлого в самом центре шумного города.
Возьмите чашку кофе (50 центов) и пончик (особенно выгодны покрытые глазурью за 75 центов) и сядьте на ступени расположенного на Уолл-стрит Национального мемориала Федерал-холл. В погожие дни эти ступени заполнены преимущественно школьниками младших классов, которые любят фотографироваться рядом с установленной здесь статуей президента Джорджа Вашингтона. Офисные работники, довольные тем, что могут присесть, со стороны наблюдают за уличной суетой. Бросается в глаза прежде всего движение прохожих по тротуарам — как изящно выразилась Джейн Джейкобс, «городской балет». Едва достигая трети мили в длину, Уолл-стрит начинается у церкви Троицы на Бродвее и сбегает к Ист-Ривер. Вдоль этой улицы выстроились офисные здания, которые заполняют деловой центр любого крупного города мира. Но повсюду на этой планете обычные люди, не только банкиры, смотрят сводки новостей с Уолл-стрит, которая является финансовым центром Нью-Йорка, а значит, и центральной нервной системой всемирной сети перемещения денег и новостей, называемой капитализмом. Уолл-стрит — символ экономической системы, которая преобладает над всем остальным в нашей жизни.
На противоположной Федерал-холл стороне улицы, в доме 23, находится штаб-квартира «Морган гэранти траст компани», в прошлом частного банка, принадлежавшего легендарному финансисту Дж. П. Моргану. Совсем рядом расположена Нью-Йоркская фондовая биржа, классический фасад которой выходит на Брод-стрит. На западной стороне Бродвея стоит церковь Троицы, представляющая собой шедевр неоготического архитектурного стиля. Это сооружение в форме неправильного четырехугольника подчеркивает значимость Уолл-стрит. То место, где находится Федерал-холл, является священным, поскольку оно имеет отношение к созданию американской республики. Именно здесь в 1789 году Джордж Вашингтон вступил в должность президента. И здесь же сенат и палата представителей провели свое первое заседание. Церковь Троицы, этот построенный в 1840 году шедевр неоготики, несет тяжкое бремя более возвышенных ценностей, чем погоня за материальными благами власти и денег, в которую втянут этот район и весь город. Расположенные между ними банк Моргана и фондовая биржа олицетворяют ту таинственную систему обменов и спекуляций, от которой зависят финансовые рынки.
Дж. П. Морган
Нигде, кроме Уолл-стрит, Бог и мамона не находятся в таком близком соседстве, действуя буквально бок о бок. Богатство и власть здесь тесно связаны друг с другом, и похоже, что эта связь их вовсе не смущает. Власть не отгораживается заборами и вооруженными громилами-охранниками. Церковь Троицы, банк Моргана и даже Федерал-холл — здания сравнительно скромные, построенные в соответствии с представлениями XIX века о том, какими должны быть масштабы городских строений. Не вдаваясь в детали, скажу, что эти масштабы являются вполне человеческими. Скромная ширина Уоллстрит почти всегда поражает приезжих. Такая знаменитая улица и такая... небольшая. При этом великая финансовая власть, которую представляет Уолл-стрит, едва ли укладывается в человеческие представления.
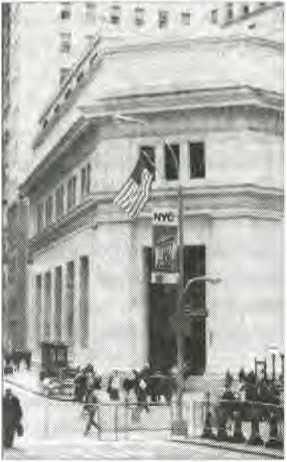
Из всех крупных денежных воротил эпохи «баронов-разбойников», совпавшей с концом XIX века, Дж. Пьер-понт Морган оказал наибольшее влияние на Нью-Йорк. Тот факт, что и в нашу эпоху стремительно меняющихся финансовых рынков имя «Морган» продолжает оставаться в названии корпорации даже после масштабного слияния банка Моргана с «Чейз Манхэттен», говорит о том, насколько сильное воздействие оказал этот человек на финансовый мир Америки. Его деспотический характер был общеизвестен. Все, что делал, он делал решительно, с напором — и эффективно.
Именно Морган, этот банкир с Уолл-стрит, был инициатором финансовых и промышленных слияний (печально известных «трестов»), которые включили в себя фактически всю сеть железных дорог, а в 1901 году привели к созданию «Юнайтед Стейтс стал корпорейшн». Морган, относившийся к общественному мнению с характерным для богача пренебрежением, едва ли утруждал себя защитой от обвинений в том, что он использует власть капитала против интересов общества: «Я ничего не должен обществу», — говорил он. По мнению многих американцев, Морган воплощал в себе все несправедливости капиталистической системы. При этом Морган отличался пылкой набожностью и основал «Нью-Йоркское общество борьбы с пороком», хотя сам с удовольствием проводил время в обществе танцовщиц.
«Распевающий псалмы капиталист», жестоко подавлявший своих противников, Морган, по словам Алины Сааринен, являлся «самым страстным собирателем произведений искусства». Именно Морган-коллекционер оставил городу потрясающее наследие. Он давал ссуды и делал пожертвования музею «Метрополитен», а переданные им в дар произведения искусства (от 6000 до 8000 предметов) отличались таким высоким качеством, что в течение девяноста лет после его смерти оставались в числе важнейших экспонатов. Библиотека, которую Морган построил на углу 36-й улицы и Мэдисон-авеню, расположена в изумительном итальянском палаццо, созданном по проекту Чарльза Маккима из архитектурного бюро «Макким, Мид и Уайт». Отведенное, согласно проекту, под кабинет Моргана, это помещение только благодаря уговорам его сына стало публичной библиотекой. «Восточная комната», где первоначально размещалась библиотека, является хранилищем несравненной коллекции из 10 тысяч рисунков, а также редких партитур, подписанных композиторами, и рукописных экземпляров важнейших произведений Мильтона, Китса, Диккенса, Байрона и Скотта; там также находится выполненная на тонком пергаменте Библия Гутенберга. Среди этого культурного великолепия пристроился буфет, в котором можно перевести дух.
Благодаря вкусу Моргана, Нью-Йорк стал центром искусств. Избранный в 1904 году председателем совета попечителей музея «Метрополитен», Морган нацелился на приобретение шедевров мирового уровня. Посетив музей, Генри Джеймс в «Записках из американской жизни» отмечал, что в этом учреждении воцарилась новая атмосфера: «В воздухе пахло деньгами, неслыханно большими деньгами». Морган всегда был равнодушен к американскому искусству, хотя и проводил политику, направленную на пополнение культурных ценностей Америки, и в годы его председательства музей практически не приобретал произведений искусства, созданных американцами. Вдобавок он игнорировал современных художников: никаких импрессионистов, ничего смелее Курбе, Гогена и Тулуз-Лотрека. Одним из советников Моргана был Роджер Фрай, который своей пропагандой постимпрессионизма сделал весьма многое, чтобы убедить современников в значимости этого направления искусства. Фрай, который не слишком ладил с Морганом и саркастически высказывался о властолюбивых мультимиллионерах, сумел вызвать интерес патрона к работам старых мастеров. Так что возможность приобретать произведения современных художников была музеем утрачена. Через год после смерти Моргана «Арсенальная выставка» 1913 года заставила нью-йоркцев признать значение авангардного искусства.
Морган, который настаивал на том, что «никакая цена не является чрезмерно высокой для бесспорно прекрасного произведения, подлинность которого доказана», был лидером поколения богатых американских промышленников, финансистов и капиталистов, вступивших в яростное соперничество за обладание шедеврами и оставивших яркий след в истории Нью-Йорка. Основу коллекции Фрика в особняке, построенном в 1914 году по проекту архитектурного бюро «Каррере и Хастингс» (угол Пятой авеню и 70-й улицы), составило собрание партнера Эндрю Карнеги по пенсильванской сталелитейной промышленности. Беспощадная жестокость, с которой Фрик обошелся с участниками состоявшейся в 1892 году Хомстедской стачки, оставила неизгладимый след в истории развития трудовых отношений в Америке и превратила этого человека в самую ненавистную фигуру конца XIX века. В 1930-е годы публика получила доступ к принадлежавшему ему собранию произведений искусства, которое стало музеем. Эта коллекция позволяет нам проникнуть в сказочную жизнь богатейших американцев. Мебель, принадлежавшая Марии-Антуанетте, картины Буше, написанные для находившегося неподалеку от Шартра замка мадам Помпадур, и серия «Путь любви» Фрагонара, заказанная мадам Дюбарри — вот лишь некоторые шедевры блестящей эпохи ancien regime1, входящие в коллекцию Фрика. Панели Фрагонара были куплены Морганом в 1899 году за 310 тыс. долларов и проданы после его смерти. Позднее они были приобретены Фриком за 1 млн 200 тыс. долларов.
С 1882 года Морган жил в большом особняке в северовосточной части Мэдисон-авеню, на углу с 36-й улицей (сегодня там находится книжный магазин библиотеки Моргана). В особняке хранилась и часть собранных им художественных ценностей. Но вскоре собранию Моргана стало тесно в стенах дома. Многие предметы искусства перевезли в лондонский дом банкира (Принсез-гейт, 13, в районе Найтсбридж, напротив Гайд-парка). Затем Морган переправил часть коллекции в загородный дом своего отца под Лондоном, а также на время передал многие экспонаты музею Виктории и Альберта и Национальной галерее. Когда изменения в американском налоговом законодательстве позволили вернуть основную часть коллекции в Соединенные Штаты, Морган дал Чарльзу Маккиму указание подготовить проект особняка-хранилища.
После смерти Моргана его сын многое передал музею «Метрополитен», но самые ценные экспонаты были проданы. Дювины, сделавшие состояние на продаже бесценных произведений Моргану, сорвали еще больший куш, распродав его коллекцию. То, что от нее осталось (главным образом рукописи и редкие книги), хранится в библиотеке Моргана (вход с Восточной 36-й улицы, дом 33, между Мэдисон- и Парк-авеню). Напротив входа в Восточную комнату висит сильно выцветший брюссельский гобелен с изображением царя Мидаса, получивший название «Триумф алчности». Однажды он выставлялся в Хэмптон-Корте. Наверное, Моргана можно обвинить в «культурной ненасытности» и других пороках, но накопительство денег ради самих денег, похоже, не входило в число его главных недостатков.
Он любил жить в окружении красивых вещей и приобрел знания и вкус, оградившие его от никудышных «специалистов» по искусству, сомнительных дельцов и множества предвзятых советчиков с Джозефом Дювином во главе, обдиравших как липку состоятельных американских коллекционеров, у которых денег было явно больше, чем вкуса и познаний. К своему огорчению, дельцы поняли, что Морган в состоянии отличить стоящую вещь от хлама. Но он не обладал тем утонченным вкусом, который был у Гилберта Осмонда из «Женского портрета» — романа Генри Джеймса (1881): рафинированность Осмонда резко контрастировала с наивной непритязательностью «серьезного американца» Каспара Гудвуда. Ни об одном человеке, который приобрел пятнадцать или двадцать тысяч произведений искусства за два десятилетия страстного коллекционирования, как и ни об одном из тех, кто собрал всего несколько тысяч предметов, нельзя сказать, что они обладают способностью ощущать тонкие различия. А бестактные манеры Моргана не имели ничего общего с утонченностью вкуса. Но он получал истинное удовольствие от коллекционирования и обладал несокрушимой верой в силу искусства. А если экспонат был инкрустирован драгоценными камнями, принадлежал коронованным особам или выдающимся мастерам эпохи Возрождения — тем лучше! Морган разыскивал произведения, которые имели уникальное происхождение, как например, изданная в 1663 году на алгонкинском языке «Индейская Библия» Джона Элиота или принадлежавший Наполеону экземпляр парижского перевода «Вертера» Гёте. Из сорока шести известных экземпляров Библии Гутенберга Моргану принадлежали три. Ни одна библиотека в мире не располагает таким количеством экземпляров этой книги.
Не менее он интересовался портретами XVIII столетия кисти Рейнольдса, Гейнсборо и Реберна. В 1876 году его отец, Джуниус Спенсер Морган, будучи в Лондоне, посетил галерею занимавшегося торговлей произведениями искусства сэра Уильяма Агнью, который купил картину Гейнсборо «Джорджиана, герцогиня Девонширская», а затем, после долгих споров, перепродал ее Моргану с аукциона за 10 100 гиней. По тем временам это была самая высокая цена, заплаченная за английскую картину. Морган-старший объяснял свой поступок тем, что его сын «в Нью-Йорке начал собирать картины», и он решил, что Гейнсборо будет хорошим началом. В тот же вечер американский вор Адам Уорт, который специализировался на кражах произведений искусства, выкрал эту картину из галереи Агнью. В конечном счете Дж. П. Морган приобрел «Джорджиану» за 150 тыс. долларов, после того как в 1902 году ее выкупило семейство Агнью. После смерти Моргана его сын и наследник Дж. П. Морган-младший предложил своим сестрам выбрать в коллекции отца все, что им понравится. Каждая из них остановила свой выбор на английских портретах XVIII века. Луиза Морган, вышедшая замуж за Герберта Сатерли (он написал льстивую биографию своего тестя), выбрала «Джорджиану» кисти Гейнсборо. Сегодня это полотно хранится в Чэтсуорте, в поместье герцогов Девонширских.
На Уолл-стрит с ее жестокой конкуренцией Дж. Пьер-понт Морган считался олицетворением мамоны. В 1920 году штаб-квартира «Дж. П. Морган энд компани» в доме 23 по Уолл-стрит стала целью для террориста, взорвавшего бомбу, которая убила тридцать и ранила более четырехсот человек. Следы взрыва до сих пор видны на фасаде этого здания. Никто так и не был признан виновным, но, согласно широко распространенному мнению, взрыв стал ответом на беспощадные облавы под лозунгом «красной опасности» и депортацию радикально настроенных иммигрантов. 20 декабря 1919 года корабль ВМС США «Буфорд» — старый войсковой транспорт, принимавший участие в испаноамериканской и Первой мировой войнах, увез в Европу депортированных анархистов Эмму Голдман, Александра Беркмана и еще 247 радикалов. «В иллюминатор, — писала Голдман в своей автобиографии, — я видела, как исчезает вдали величественный город, я видела очертания его зданий, хорошо различимые по возвышающимся шпилям. Это был мой любимый город, столица Нового Света. Это была Америка, но Америка, в которой повторились ужасы царской России! Я быстро отвела взгляд и увидела... статую Свободы!»
Та роль, которую Морган сыграл в создании «Юнайтед Стейтс стил», и длительное сопротивление попыткам профсоюзов организовать рабочих, сделали его ненавистной фигурой в глазах американского движения за права трудящихся. После убийства президента Маккинли в 1901 году в адрес Моргана стали поступать угрозы, ему была предоставлена защита полиции, и он принял совет жить на борту яхты, а не в доме на Мюррей-хилл. Впрочем, анархистов Морган не боялся, а из всех Голдманов беспокойство ему внушал лишь Маркус, который в партнерстве с Сэмюелом Саксом создал в 1885 году знаменитую брокерскую фирму «Голдман Сакс». После 1900 года эта фирма стала конкурировать с гигантом в сфере обращения ценных бумаг «Дж. П. Морган энд компани».
Церковь Троицы
«Итак, наконец-то ее завершили», — написал один поэт-радикал после освящения церкви Троицы в 1845 году.
Как радостны те, что местечко себе прикупили!
Здесь важно ступают, не падая ниц;
Здесь море улыбок и скопище лиц.
Войти в этой церкви разверстую пасть —
В число осененных величьем попасть.
Церковь Троицы стала объектом нападок радикальной сатиры и вызывала негодование левых, потому что была богатой и влиятельной — и потому, что эта епископальная церковь считалась оплотом городской аристократии.
Неоготический шедевр архитектора Ричарда Апджона, выдержавший разрушительное воздействие нью-йоркского климата и въевшейся за полтора столетия копоти, олицетворяет ту роль, которую играет англиканская церковь в жизни города. Церковь Троицы и ее приход были созданы по указу короля Вильгельма от 1697 года. Подлинный документ является экспонатом музея церкви Троицы. Затем был пожалован и земельный участок, расположенный западнее Бродвея, на пространстве от Фултон-стрит до Кристофер-стрит. В те времена тамнаходились участки обрабатываемой земли и пастбища, простиравшиеся до Гудзона. Теоретически рента с этого пространства, стоимость которого росла невиданными темпами по мере того, как город расширялся в северном направлении, покрывала расходы, связанные с деятельностью церкви Троицы. Когда же церковь вступила в отношения с рынком недвижимости, она изменила своему прежнему «святому простодушию»; нагляднее всего перемену продемонстрировали случай с Аароном Бэрром2, Джоном Джейкобом Астором и округом Ричмонд-хилл, на северной окраине Куинс-фарм.
В 1767 году главный казначей британских войск в Северной Америке Абрахам Мортье получил приблизительно пятьсот земельных участков, лежавших на пространстве между Спринг-стрит и Кристофер-стрит (чуть южнее Гринич-Виллидж), от церкви Троицы в аренду сроком на 99 лет. Мортье согласился выплачивать церкви ежегодную арендную плату в размере 269 долларов. Он возвел на Ричмонд-хилл красивый загородный дом с видом на Гудзон, который позднее был перестроен и стал оперным театром. Когда в 1783 году Мортье бежал вместе с отступавшей британской армией, дело об арендных сделках подверглось тщательному официальному расследованию. В 1789 году особняк на Ричмонд-хилл заняли вице-президент Джон Адамс и его жена Абигейл, которая называла этот участок уединенным и умиротворяющим: «Окружающие меня древние дубы и заросшая диким кустарником пересеченная местность придают естественную красоту этому месту, которое несомненно является прелестным. Здесь восхитительное разнообразие птиц, которые по утрам и вечерам поют серенады, радуясь свободе и безопасности, поскольку я, насколько возможно, оградила эту землю от вторжения посторонних, но порой, когда с моими указаниями не слишком считаются, мне кажется, что я с удовольствием ввела бы здесь законы об охране диких зверей и птиц...»

Впоследствии Ричмонд-хилл стал резиденцией Аарона Бэрра, неразборчивого в средствах нью-йоркского юриста и политика, который понял, что арендованная Мортье земля дает несравненные возможности. Получив эти участки в аренду в 1797 году, он сразу же заложил их за 38 тыс. долларов. Бэрр влез в долги, и в 1803 году за 62 тыс. долларов продал взятую в аренду у церкви Троицы землю Джону Джейкобу Астору. Сделавший состояние на торговле шкурками бобров Астор был среди первых нью-йоркских купцов, открывших прибыльную торговлю с Китаем. Он вкладывал немалые доходы в нью-йоркскую недвижимость. Поскольку срок предоставленной Мортье аренды истекал в 1867 году, Астор сдавал земельные участки только на двадцать лет и не вкладывал деньги в их застройку, предоставив это строителям, а сам лишь извлекал прибыль из повышения цен на недвижимость, которые росли в течение последующих десятилетий по мере расширения города. Бэрр безуспешно пытался вернуть себе права на владение поместьем на Ричмонд-хилл и умер в нищете. Астор скончался в 1848 году и к тому времени считался самым состоятельным человеком в Америке. Он, несомненно, был самым крупным владельцем недвижимости в Нью-Йорке.
За счет пожертвований состоятельных прихожан церковь Троицы пополняла ежегодный доход в 269 долларов, которые поступали от Астора, и продолжала энергичную миссионерскую и образовательную деятельность. Школа Троицы, основанная церковью в 1709 году, теперь находится на Западной 91-й улице и является старейшей непрерывно функционирующей школой города. Более противоречивую роль сыграла церковь Троицы в создании первого в городе университета, Королевского колледжа (ныне Колумбийский университет). В первом совете попечителей нового колледжа, создание которого было разрешено в 1754 году, преобладали англикане. Взамен земли, на которой должен был разместиться новый колледж, попечители, послушные церкви, настаивали на том, чтобы ректорами колледжа были только англикане и чтобы все официальные религиозные службы проводились по англиканскому обряду. В конце XIX столетия, когда университет переехал туда, где и поныне находится, то есть на Морнингсайд-хайтс в северном Манхэттене, он сохранял черты, характерные для епископальной церкви, прихожанами которой были представители высших классов. После столь неприкрытого силового давления лютеране, принадлежавшие к голландской реформатской церкви, пресвитериане, методисты и баптисты стали относиться к церкви Троицы несколько менее благожелательно, и конфликты между различными церквями оставались важнейшим фактором в жизни Нью-Йорка.
В 1776 году, когда британская армия оккупировала Нью-Йорк, пожар, вспыхнувший в одной таверне, перекинулся на район порта и сжег дотла церковь Троицы. Приход продолжал свою деятельность в близлежащих храмах, например в часовне Св. Георгия, здании из бурого песчаника, построенном в 1752 году в романском стиле (позднее именно в нем Дж. П. Морган вел переговоры о долговых обязательствах со своим векселедателем), или в церкви Св. Павла, построенной в 1764—1766 годах на углу Бродвея и Фултон-стрит и представлявшей собой замечательный образец церковной архитектуры георгианского стиля. Во время британской оккупации то место, где сгорела церковь Троицы, было огорожено забором, там поставили скамьи, и оно стало любимым местом для прогулок. На этом месте регулярно играли военные оркестры.
На протяжении борьбы за независимость Америки церковь Троицы была бастионом «лоялистов». В музее церкви есть картина, на которой изображен один весьма здравомыслящий церковник, преподобный Чарльз Инглиз, четвертый по счету пастор этой церкви и ярый лоялист. Инглиз перестал быть пастором в 1783 году. Следующее назначение он получил в 1787 году — епископом Новой Шотландии. В кратком пояснении к этой картине ни слова не сказано о четырехлетием пробеле в биографии священнослужителя. Не пожелав оставаться в городе, восставшем против короны, а возможно, опасаясь того, что его жизнь оказалась в руках патриотически настроенной толпы, Инглиз, как и тысячи других нью-йоркцев, бежал вместе с уходившими британскими войсками. Большую часть лоялистов переселили в Новую Шотландию, где они, пребывая в тревожном ожидании, вступали в маленькую общину протестантов из Новой Англии, которая состояла из фермеров и рыбаков. Большинство жителей этой провинции были акадийцами — франкоязычными католиками, оказавшимися здесь в результате депортации 1755 года, ставшей частью долгосрочного плана по обеспечению безопасности британского имперского присутствия в восточной Канаде. Сами акадийцы называют эту бесчеловечную этническую чистку «Grand Dérangement» — «Великая смута». Когда страсти улеглись, некоторые лоялисты вернулись в Нью-Йорк. Но с окончанием войны за независимость влияние лоялистской аристократии в Нью-Йорке исчезло.
Когда в 1760-е годы началась борьба за независимость, «патриоты», которые были на стороне колоний, выступивших против британской короны, относились к церкви Троицы как к заклятому врагу. В конце войны они отомстили, упразднив в 1784 году англиканскую церковь, которая воспринималась как символ тори и их привилегий. В том же году, но позднее, была создана епископальная церковь Америки, связанная обетом хранить верность доктринам англиканской церкви. (Церковь Троицы является одним из тех немногих мест в Нью-Йорке, где с радостью выставляют напоказ фотографию улыбающегося архиепископа Кентерберийского и где есть мемориальная доска, установленная в память о визите королевы.)
В 1790 году церковь Троицы восстановили и вновь освятили. Однако при строительстве нового здания были допущены огрехи, которые грозили обрушением. В 1839 году церковь снесли, и британский архитектор Ричард Апджон получил заказ на строительство третьей церкви Троицы. В то время, когда лишь немногие архитекторы американского происхождения воочию видели подлинные образцы готического стиля, Апджон пребывал под влиянием англиканского готицизма Огаста Пьюджина (и остался под этим влиянием навсегда). Апджон построил множество замечательных готических церквей и перенес идеи экклесиологии на американскую почву. Будучи реформаторским движением внутри англиканской церкви, экклесиология призывала вернуться к средневековым формам в проектировке церквей и в проведении обрядов. Церковь Св. Павла, также расположенная на Бродвее, но в шести кварталах севернее церкви Троицы, стала олицетворением духа Просвещения, о котором так скорбела экклесиология. Церковь Троицы Апджона явилась мощным духовным воплощением нового движения. Такие авторы готических романов, как Джордж Липпард («Имперский город» (1850), «Нью-Йорк: высшая десятка и миллионы низших» (1853)), считали, что построенная Апджоном церковь Троицы — несравненная декорация для полночных сцен со склепами и привидениями, борьбой за наследство и далеко идущими тайными замыслами.
В церкви Троицы многое притягивает взгляд. Апджон использовал нью-джерсийский бурый песчаник, популярный строительный материал, легкий в обработке. Его непригодность в качестве основного строительного материала стала очевидной в последующие годы, когда климат Нью-Йорка и загрязнение окружающей среды привели к скалыванию — процессу, при котором поверхность камня начинает распадаться на отдельные фрагменты. Благодаря поддерживаемому контрфорсными арками восьмигранному шпилю, который достигает 280 футов в высоту, это здание в течение десятилетий было самым высоким в городе. Колокол, который в 1704 году был дарован церкви епископом Лондона, используется до сих пор. Три пары больших бронзовых дверей, сделанных по проекту Ричарда Морриса Ханта, взявшего за образец двери Джиберти в баптистерии во Флоренции, были даром Уильяма Уолдорфа Астора, который передал их церкви в память о своем отце, Джоне Джейкобе Асторе-третьем.
Окружающее церковь кладбище, которое с двух сторон граничит с административными зданиями, построенными в начале XX столетия, по-прежнему представляет большой исторический интерес, а также является тем местом, где посетители и служащие близлежащих офисов могут, укрывшись в тени, насладиться тишиной и предаться раздумьям. Как правило, здесь хоронили благочестивых и уважаемых купцов и моряков, выдающихся горожан, таких как, например, Уильям Брэдфорд, издатель первой городской газеты и борец за свободу прессы, и Роберт Фултон, благодаря которому в водах, омывающих Нью-Йорк, появились пароходы. На кладбище церкви Троицы есть и памятники непримиримым политическим противникам, таким как Александр Гамильтон, убитый в 1804 году, во время дуэли со своим главным соперником Аароном Бэрром (в музее церкви демонстрируются копии кремневых ружей, которыми пользовались дуэлянты), и Альберт Галлатин, иммигрант из Швейцарии, который при Томасе Джефферсоне два срока возглавлял министерство финансов.

В северной части кладбища, которая выходит на Пайн-стрит, стоит богато украшенный мемориал «в память о замечательных и добропорядочных людях, которые погибли [во время войны за независимость], находясь в плену, на старом сахарном заводе и были погребены во дворе церкви Троицы...» Предложение установить этот памятник было сделано в 1852 году, на собрании в здании городского совета под председательством мэра Эмброза Кингсленда. Это один из целого ряда подобных памятников, которые являются попыткой сохранить память о войне за независимость. Все эти статуи могут составить интересный маршрут для экскурсии по местам, связанным с патриотической славой города.
• Конная статуя Джорджа Вашингтона воздвигнута в ознаменование Дня освобождения — годовщины ухода британской армии из Нью-Йорка в 1783 году (Юнион-сквер парк, 1854, скульпторы Генри Керк Браун и Джон Уорд).
• Статуя Бенджамина Франклина (Принтинг-хаус-сквер, на Парк-роу, возле Нассау-стрит, 1872, скульптор Эрнст Плессманн) напоминает о молодых годах Франклина, когда он был печатником и издателем.
• Статуя маркиза де Лафайетта (рядом со статуей Вашингтона на Юнион-сквер, 1876, скульптор Фредерик Огюст Бартольди).
• Предложенная французским народом в знак благодарности Соединенным Штатам за поддержку во время франко-прусской войны 1870—1871 годов статуя Свободы скульптора Бартольди была торжественно открыта в 1886 году.
• Памятник Александру Гамильтону (Ист-драйв, Центральный парк, 1880, скульптор Карл Дэвидс).
• Статуя президента Джорджа Вашингтона (на ступенях Национального мемориала Федерал-холл, на Уолл-стрит, 1883, скульптор Джон Уорд). Бронзовая статуя высотой 13,2 фута на гранитном пьедестале высотой шесть футов воздвигнута в ознаменование столетней годовщины Дня освобождения на том месте, где Вашингтон принял присягу.
• Памятник Натану Хейлу (у той стороны здания городского совета, которая выходит на Бродвей, 1893, скульптор Фредерик Макмонис). Бронзовая статуя выпускника Йельского университета, повешенного британцами в 1776 году по обвинению в шпионаже. Воздвигнута патриотическим обществом «Сыновья революции» в 1893 году, в 110-ю годовщину вывода британских войск. Изображает Хейла в тот момент, когда он произносит свое проникнутое патриотизмом прощание: «Я сожалею только о том, что у меня есть лишь одна жизнь, которую я отдаю за свою страну». Скульптура Макмониса — воображаемый образ, который не имеет никакого сходства с настоящим Хейлом.
• Триумфальная арка Вашингтона (в парке Вашингтон-сквер, выходит на Пятую авеню, в дереве воздвигнута в 1889 году, в камне в 1895 году, скульптор Стэнфорд Уайт) возведена в ознаменование столетней годовщины инаугурации первого президента и стала столь любима, что ее заново отстроили в камне.
Это созвездие проникнутых духом патриотизма скульптур, как и масса других статуй, воздвигнутых в память о первопроходцах, политиках, писателях и европейских просветителях, от Данте до Бетховена, является наряду с Африканским кладбищем и Сенека-Виллидж частью политики Нью-Йорка, направленной на сохранение памяти о прошлом. Памятник мученикам, статуя Натана Хейла и другие скульптуры были установлены в эпоху, когда повседневные дела, казалось, отвлекали американцев от их патриотического наследия. Перемены в экономической жизни, начиная с роста городов и заканчивая индустриализацией и массовой иммиграцией, грозили превратить американцев в меркантильных людей, у которых нет времени предаваться размышлениям о прошлом. Казалось, что с каждым десятилетием пропасть между богатыми и бедными становится все глубже. Такие организации, как «Сыновья революции», боялись того, что соотечественники начнут поклоняться доллару и забудут об американской истории и традициях. От лица старинных семейств, которые давно поселились в Нью-Йорке и чувствовали, что предается забвению как их лидирующая роль в жизни общества, так и тот вклад, который внесли предки-патриоты, эти скульптуры говорили: «Это и наш город».
Федерал-холл
Расположенный по адресу Уолл-стрит, дом 28, на пересечении с Нассау-стрит, Национальный мемориал Федерал-холл представляет собой тесно окруженный другими зданиями архитектурный памятник, сходство которого с Парфеноном подчеркивают дорические колонны. Это одно из самых заметных зданий Нью-Йорка, построенных в стиле греческого возрождения. Оно построено по проекту Ити-еля Тауна и Александра Джексона Дэвиса, которые были лучшими архитекторами, работавшими в стиле греческого возрождения. У этого здания долгая и непростая история, и все же скорее место, а не здание, напоминает о раннем периоде истории города.
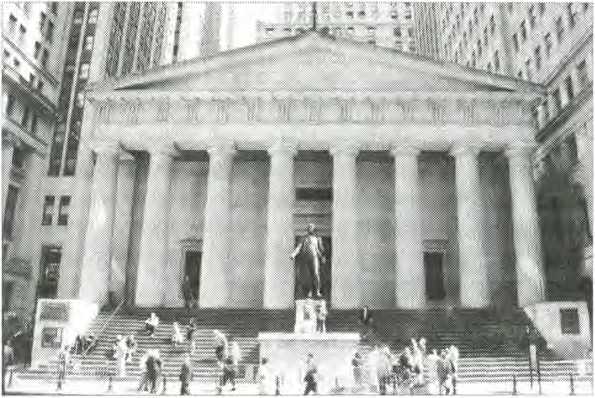
Ныне существующее здание построено в 1842 году правительством Соединенных Штатов с целью разместить в нем таможенное управление. Устремленная ввысь ротонда, шестнадцать мраморных колонн главного зала и мраморный пол сделали интерьер Федерал-холла одним из самых впечатляющих в городе. Нетрудно догадаться, почему столь дорогое и величественное здание (его строительство обошлось более чем в миллион долларов) построили для размещения в нем правительственного учреждения. До проведенной в 1891 году реформы государственных гражданских служб таможенное управление являлось объектом настойчивой политической опеки и было источником самого мощного потока доходов, поступавших в государственную казну. В 1852 году сумма бюджетных поступлений достигла 61 млн долларов, из которых 58 млн долларов составляли доходы, полученные от таможенного управления. В том году приблизительно 80 процентов доходов таможня получила благодаря сборам в Нью-Йорке, который в XIX столетии был крупнейшим американским портом. Пошлина на все иностранные товары (шелк, шерсть, шляпы, ковры, вино, специи, хрусталь, фарфор, картины и книги) взималась на Уолл-стрит, в доме 28. Сборщик пошлин нью-йоркского порта, которым был начальник таможенного управления, получал большее жалование, чем президент Соединенных Штатов.
С 1839 по 1841 год романист Натаниель Готорн работал инспектором таможенного управления в Бостоне и был смещен с должности, когда новая администрация вигов во главе с генералом Закарией Тейлором установила свои порядки в этом доходном месте. В романе «Алая буква» Готорн с явным наслаждением изобразил таможенное управление как сборище престарелых капитанов, которые целыми днями бездельничают на государственном жалованье. Другие писатели не обладали столь болезненным опытом работы в таможне. После провала своей писательской карьеры Герман Мелвилл работал инспектором в нью-йоркском таможенном управлении. Получая 4 доллара в день, он производил осмотр дорожных сундуков и другого багажа, проверял, нет ли в них двойного дна и контрабандных товаров, и выслушивал возвращающихся из-за границы американцев, пытавшихся убедить его в том, как баснословно мало они заплатили за то или иное платье и насколько посредственной является та или иная картина.
На смену одной администрации приходила другая, а Мелвилл в течение девятнадцати лет оставался на своем посту и мог с гордостью констатировать, что за все годы на него не поступило ни одной жалобы. Однако в общественном сознании таможня была тем учреждением, где должности распределялись среди «своих» (их раздавали исходя из политических и финансовых соображений, и чтобы получить место, требовалось внести солидный «вклад» в фонд избирательной кампании правящей партии). В 1850-е и 1860-е годы, при администрациях мэров Фернандо Вуда и Уильяма Твида по прозвищу «Босс», коррупция стала неотъемлемой чертой правительства Нью-Йорка, и более всего это отразилось на таможенном управлении.
В 1862 году таможенное управление переехало в другое, расположенное неподалеку здание, а дом 28 перешел в распоряжение министерства финансов США, и здесь начало работу отделение казначейства, которое вплоть до 1925 года выпускало и принимало облигации и золотые сертификаты. Во время гражданской войны именно отделение казначейства на Уолл-стрит пустило в обращение первые бумажные «банкноты» — казначейские билеты. В период между Первой и Второй мировыми войнами в этом здании размещалась паспортная служба Государственного департамента и другие государственные учреждения. В 1940 году здание получило статус национального мемориала. Но в памяти оно осталось не как учреждение, в котором целое столетие взимали пошлины, получали доходы от налогов и выдавали паспорта, а как место, которое благодаря случившимся здесь событиям стало одной из патриотических святынь.
От здания городского совета до Федерал-холла
С 1699 по 1812 год в доме 28 по Уолл-стрит находился «филиал» городского совета Нью-Йорка. В эпоху голландского колониального правления зданием городского совета (Stack Huys) служила расположенная на Перл-стрит таверна, фасад которой выходил на Ист-Ривер. Еще в 1870-е годы старожилы могли показать пакгауз (Перл-стрит, дома 71—73), где были видны остатки фундамента первого строения. В 1653 году Stack Huys преобразовали в городской совет, который в 1699 году переехал в кирпичное здание на пересечении Уолл-стрит и Нассау-стрит. У этого здания интересная история. Помимо того, что здание городского совета служило местом проведения заседаний городского совета и провинциального собрания, оно выполняло функции суда и тюрьмы. В 1735 году в нем проходил судебный процесс над немецким иммигрантом Ионом Зенгером, печатником и издателем газеты «Нью-Йорк уикли джорнал», в которой он публиковал статьи с критикой действий губернатора провинции, полковника Уильяма Косби. Зенгера обвинили в публикации подстрекающих к мятежу пасквилей и материалов, подрывающих власть правительства, арестовали и в течение десяти месяцев держали в тюремной камере, расположенной в здании городского совета, откуда он через отверстие в двери камеры диктовал своей жене гневные статьи о свободе прессы. На судебном заседании защитником Зенгера был знаменитый филадельфийский адвокат Эндрю Хэмилтон.
Тогда, как и множество лет спустя, согласно неписаным законам, свидетельства, приводимые в сомнительных пасквилях, не признавались правдивыми, но в 1735 году присяжные изменили этому правилу. Вынесенный ими вердикт о невиновности Зенгера стал первой большой победой в долгой борьбе за свободу прессы.

Здание городского совета Нью-Йорка стало тем местом, где в 1765 году был проведен конгресс гербового сбора, на котором составили декларацию прав и жалоб, представлявшую собой осмысленный протест против «налогообложения без представительства». 18 июля 1776 года с балкона здания городского совета был зачитан текст Декларации независимости. Во время британской оккупации в городском совете размещался штаб оккупационной армии. В 1785 году, после завершения войны за независимость, здесь состоялось заседание Континентального конгресса. Затем здание, которому было почти сто лет, стало ветшать. В сентябре 1788 года городской совет решил сделать его пригодным для размещения федерального правительства. Согласно плану, представленному французским военным инженером, майором Пьером Ланфаном, здание подлежало полной реконструкции и расширению. В течение следующих двух лет город, который еще только пробуждался после долгого периода британской оккупации, напрягал все силы на финансирование перестройки этого здания. За 26 тыс. долларов, часть из которых была получена благодаря лотерее, строение, ныне известное как Федерал-холл, превратили в крупнейшее здание на континенте, его фронтон украсил агрессивный американский орел. Там появились мраморные полы и расписные потолки, парчовые занавеси и балдахины, портреты Людовика XVI и Марии-Антуанетты, в 1785 году подаренные Соединенным Штатам французским королем. Впервые собравшись здесь в марте 1789 года, конгрессмены обнаружили на цокольном этаже здания помещение для палаты представителей, глубиной 61 фут и шириной 58 футов, с внушительным потолком высотой в 31 фут. Помещение для сената располагалось на первом этаже и имело 40 футов в длину и 30 в ширину. На первом этаже имелась открытая галерея, выходившая на Брод-стрит. Именно здесь принимал президентскую присягу Джордж Вашингтон.
Состоявшаяся в 1789 году инаугурации стала первой крупной церемонией, которую провела молодая нация, и порядок ее проведения был спланирован с предельной тщательностью. Выехав из Виргинии, Вашингтон прибыл в Нью-Йорк 23 апреля. Избранный вице-президентом Джон Адамс совершил более короткую поездку из Брэйнтри, Массачусетс. Прибывших встречали огромные толпы, дома по маршруту их следования были украшены флагами, шелковыми знаменами и гирляндами цветов. Вечером казалось, что свечи горят в каждом доме, за исключением тех, в которых жили не испытывавшие ликования квакеры. На Уоллстрит, которая приобретала все более преуспевающий и элегантный вид, уже появились производившие впечатление новые дома, из которых приветствовали президента. Первая президентская резиденция находилась на Черри-стрит, в том месте, над которым ныне проходит Манхэттенский мост. Это здание снесли в 1856 году. В Нью-Йоркском историческом обществе хранится стул, воссозданный из материалов, вынесенных из этого дома. В 1790 году президент въехал в дом на Бродвее.
Инаугурационная присяга состоялась в четверг, 30 апреля. На Уолл-стрит царило такое столпотворение, что, по словам очевидца, можно было буквально ходить по головам. Из всех окон высовывались зеваки, и даже на крышах стояли ряды почтительно хранивших молчание людей. Высокая фигура Джорджа Вашингтона, которому тогда было 57 лет, безусловно, производила впечатление. На нем был такой красивый костюм из темно-коричневого домотканого материала, что никто не сомневался в том, что наряд сшит в Европе. Образ дополняли металлические пуговицы, украшенные патриотическим орлом, белые шелковые чулки и сабля. Проведением церемонии присяги руководил канцлер Роберт Р. Ливингстон — старший чиновник судебного ведомства штата Нью-Йорк.
Я торжественно клянусь, что буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и, по мере своих способностей, беречь, охранять и защищать конституцию Соединенных Штатов.
Когда Вашингтон поцеловал Библию, на которой присягал, на куполе Федерал-холла подняли флаг, давая знак церквям звонить в колокола. Артиллерия салютовала залпами орудий. Толпа ликовала. Поклонившись народу, Вашингтон ушел в палату сената, а потом появился вновь, чтобы присоединиться к процессии, которую возглавлял конный отряд, а замыкали «граждане». По Бродвею шествие направилось к церкви Св. Павла, в которой провел богослужение англиканский епископ Нью-Йорка. Вечером в форте устроили фейерверк. На стенах домов отражались огненные буквы, складывавшиеся в слова «Доблесть», «Справедливость», «Мудрость». 7 мая президент в сопровождении политических и дипломатических лидеров появился на балу, который был дан в его честь, тем самым положив начало еще одной президентской традиции — балу после инаугурации. Женщины, с которыми танцевал президент, стали в Нью-Йорке знаменитостями. Томас Джефферсон написал саркастический отчет о бале, в котором высмеял поведение некоторых видных гостей. (Это стало еще одной причиной недоверия, с каким президент и его партия относились к Джефферсону.)

Старинная гравюра, изображающая галерею Федерал-холла, где в 1789 году состоялась инаугурация Джорджа Вашингтона
Все это происходило еще до того, как Федерал-холл стал объектом излияния патриотических чувств. В 1790 году федеральное правительство переехало в Филадельфию, а потом, в ноябре 1800 года, в свою постоянную резиденцию в городе Вашингтоне, округ Колумбия. Городской совет Нью-Йорка снова занял здание, а вместе с ним вернулись суд и законодательное собрание штата. В 1797 году, когда законодательное собрание, другие органы и учреждения штата начали переезжать в Олбани (местоположение столицы штата вызывало такие дискуссии, что официально Олбани был объявлен столицей лишь в 1980-е годы), возникли сомнения в том, что здание отвечает требованиям городских властей; возможно, были жалобы на то, что оно находится в слишком шумном месте и в тесном окружении других домов. Городской совет предложил построить новое здание на более просторном участке. В 1812 году дом, в котором Вашингтон вступил в должность президента, был без всяких церемоний продан по бросовой цене, составившей 425 долларов. Третье здание городского совета (см. главу 6), строительство которого завершилось в 1811 году, было спроектировано специально под клинообразный участок земли, расположенный между Бродвеем, Парк-роу и Чамберс-стрит. Центр явно смещался в верхнюю часть города.
1
Букв, «старый режим», эпоха монархии (фр.).
2
Бэрр Аарон (1756—1836) — государственный и политический деятель, юрист. 11 июля 1804 г. смертельно ранил на дуэли А. Гамильтона; против Бэрра были выдвинуты обвинения в двух штатах, но суд так и не состоялся. Позднее организовал заговор, целью которого было создание независимого государственного объединения из западных территорий США и части испанских колоний. Бэрра судили по обвинению в государственной измене, но оправдали. — Примеч. перев.
Уолл-стрит и Нью-Йоркская фондовая биржа
В романе Тома Вулфа «Костры тщеславия» (1987) «хозяевами жизни» являются маклеры с Уолл-стрит, такие как Шерман Маккой, люди, для которых «не существовало... никаких ограничений». Зал торговли ценными бумагами в здании влиятельной компании «Пирс энд Пирс», в которой работает Маккой, — место, где творится нечто таинственное, поскольку некоторые люди вдруг становятся чрезвычайно состоятельными. Пронизанный сатирой роман Вулфа, который передает атмосферу большого «рынка быков», существовавшего в 1980-е годы, заканчивается бесчестьем Маккоя, которому грозит тюрьма. От него уходит любовница, а его квартира на Парк-авеню теперь принадлежит его жене. Но в реальном мире Нью-Йорка 1980-х годов мало кто из «хозяев жизни» заканчивал тем, что попадал за решетку. По мнению Маккоя, деньги нужны для того, чтобы купить себе пространство и отгородиться от этого города: «Если вы хотите жить в Нью-Йорке, — говорит Маккой, — вам надо отгораживаться, отгораживаться и еще раз отгораживаться». Богатство позволяет Шерману Маккою приобрести редчайший товар: возможность соблюдать дистанцию между собой и окружающими, которые, как и он, живут в одном из городов третьего мира. На Парк-авеню и в торговом зале «Пирс энд Пирс» заправляют такие люди, как Маккой. Деньги и люди, которые являются их хозяевами, и есть сущность Уолл-стрит.
Любопытно, что, несмотря на ту огромную роль, которую Уолл-стрит играет в жизни Америки, она редко вызывает интерес у американских писателей. Когда в 1853 году Герман Мелвилл опубликовал в «Патнемс мантли» свою повесть «Писец Бартлби: рассказ об Уолл-стрит», он отважился вторгнуться в ту сферу нью-йоркской жизни, о которой до него едва ли кто-либо писал. Рассказчик, от лица которого Мелвилл ведет свое повествование, является не маклером, а адвокатом с Уолл-стрит, и его юридическая практика представляет собой довольно скучное занятие. В маленьком офисе работают два нанятых клерка и писец Бартлби, который спокойно, но решительно отказывается делать то, чего от него требует хозяин. Волевой поединок этих двух людей дал Мелвиллу возможность выяснить, какую роль играют «принципы общепринятой человечности» во взаимоотношениях между хозяином и его работником.
Фондовая биржа периодически становилась объектом интереса литераторов (таких, как ныне забытый поэт Эдмунд Кларенс-Стедмен, опубликовавший в 1905 году историю биржи), но некоторые американцы считают, что мир финансовых спекуляций является противником воображаемой ими лучшей жизни. «На Уолл-стрит, — писала аболиционистка Лидия Мария Чайлд, — мамона, как обычно, хладнокровно прикидывает, получится ли выжать деньги из войны, чумы и голода, а коммерция со своими нагруженными добром телегами и похожими на скелеты измученными лошадьми, как всегда, занята выполнением крупнейшего в мире контракта, заключенного с самим Дьяволом». Мелвилл никогда не пытался писать о тех ярких деятелях, которые господствовали на Уолл-стрит в середине столетия, он стремился к этому не больше, чем такие писатели XX века, как Хемингуэй, Сол Беллоу или Джон Апдайк. Деньги и бессовестная погоня за богатством не захватывали воображения американских писателей, за исключением Теодора Драйзера. Для Джея Гэтсби из романа Фицджеральда «Великий Гэтсби» (1925) богатство было средством претворения в жизнь «американской мечты». Но, как показывает Фицджеральд, эта мечта оказывается недостижимой, а возможно, и вообще нереальной. К такому же выводу приходит и Генри Адамс, написавший в 1918 году автобиографическое произведение «Образование Генри Адамса»:
То, что вследствие своего темперамента этот американец работал сверх меры, оказалось правдой; работа и виски были его стимуляторами; работа стала чем-то вроде порока; но, заработав деньги или получив власть, он терял к ним всякий интерес. Его увлекала лишь погоня за ними; он был равнодушен к богатству. Похоже, один Джим Фиск знал, чего хочет; Джей Гуд никогда этого не знал.
Действуя рука об руку, Фиск и Гуд стали известными на Уолл-стрит фигурами, после того как в 1869 году предприняли печально известную попытку монополизировать рынок золота. Существует определенная двойственность в том, как американцы относятся к богатству, и фондовая биржа (это воплощение откровенной погони за богатством) — продукт этой двойственности.
Своим возникновением Нью-Йоркская фондовая биржа обязана «Соглашению платанового дерева», подписанному на Уолл-стрит в 1792 году двадцатью двумя брокерами и купцами, которые в то время вели активную торговлю государственными ценными бумагами. Это соглашение преследовало цель закрепить уровни комиссионных с торговых операций и поддержать брокеров, которые его подписали. Другими словами, нью-йоркский фондовый рынок начинался с амбициозной попытки зафиксировать цены и ликвидировать конкуренцию. Платановое дерево, которое стояло на Уолл-стрит до тех пор, пока в 1865 году его не спилили, оставалось символом той непритязательной и невинной эпохи, когда брокеры торговали ценными бумагами прямо на тротуарах Уолл-стрит и Брод-стрит. До 1860-х годов, когда были приобретены помещения, расположенные неподалеку от Уильям-стрит, брокерам в течение нескольких десятилетий приходилось заниматься бизнесом в разных местах.
И хотя только члены биржи могли покупать и продавать акции и ценные бумаги на «Регулярной площадке», а вступительный взнос был непомерно высок, ведение дел на бирже до того, как она вступила в эпоху упорядоченного заключения сделок с помощью компьютеров, скорее носило стихийный характер. Во время ежедневных торговых сессий, начинавшихся в 10:30 утра и в час дня, оглашался весь пакет ценных бумаг. Брокеры бесцельно сидели и болтали друг с другом, ожидали, когда назовут ту ценную бумагу, которая их волнует. Потом начинался сущий ад:
Все срываются со своих мест и опрометью бросаются на площадку, толкаясь и наступая друг другу на ноги. Брокеры выкрикивают предложения купли-продажи. Они говорят все разом, вопят и визжат, словно гиены. Это поразительное зрелище. Но столпотворение не сбивает с толку и не приводит к еще большему беспорядку. Над толпой возвышается хладнокровный и молчаливый председательствующий. Перед ним волнуется людское море, несколько сотен человек, которые топают ногами, вопят, орут, подпрыгивают, обливаются потом, жестикулируют, немилосердно раздают зуботычины и обмениваются нецензурной бранью.
Но по сравнению с «Длинной комнатой», где торги продолжаются, приобретая еще более дикий характер, то, что происходит на «Регулярной площадке», кажется собранием аристократов:
Голоса ревут, как церковные органы, и воют, словно шотландские волынки; стрекочущие, ухающие, скрипучие, низкие и писклявые... Голоса, похожие на лязг капкана, заглушают все остальные крики и, проревев свое предложение во всю мощь легких, заставляют присутствующих умерить пыл. Каждая ступенька, каждый клочок свободного пространства до отказа заполнены людьми. Блокноты, руки, кулаки, указательные пальцы, шляпы, головы, вскидываемые вверх, качающиеся из стороны в сторону, нервно мечущиеся туда и сюда, — все постоянно готовы взорваться, точно бомбы...
В большинстве сообщений о том, как жили в XIX веке, подчеркивается, что в «викторианской» Америке соблюдались правила приличия и что представители среднего класса особую роль отводили пристойному поведению. На Пятой авеню царило серьезное отношение к правилам этикета. Но в торговых залах Уолл-стрит эти правила отступили под натиском страстного желания получить прибыль.
Помимо прочего, фондовая биржа оказала на Америку заметное лингвистическое влияние, познакомив ее с живым, ярким, насыщенным метафорами говором «быков» и «медведей», пулами, корнерами, брейками, каверами, маржами, длинными и короткими позициями1. Инвесторы по всей стране нуждались в объяснении тайн рынка: «Если у тебя длинные — ты “бык ”, а если короткие — “медведь”». Все чаще и чаще случалось, что многообещающего инвестора из Огайо (или Лондона) обдирали как липку профессионалы биржи. «Если нужно провернуть крупную операцию, — пояснял один человек, изучавший особенности рынков, — Большая Медведица дает распоряжения какому-нибудь специальному агенту, который распределяет поручения между А, В и С. А шепчет на ухо D, С дает инструкции F, В предоставляет полномочия G, и цепочка становится все более запутанной. Тонкая стратегия — одна из тех трудностей игры, с которыми постоянно сталкивается игрок. Однако брокеры обладают прозорливостью ищейки и интуицией Фуше».
Изобилие, достигнутое благодаря биржевым спекуляциям, можно обнаружить в любом уголке города. Так, в 1990-е годы признаками были немыслимые траты на покупку последних моделей БМВ и «мерседесов», а также безумные цены на рынке недвижимости. В 1890-е годы бросающимися в глаза тратами спекулянтов с Уолл-стрит могли стать особняки на Пятой авеню и в Ньюпорте, покупка паровых яхт и упряжек рысаков, а также ужины с шампанским в честь модной оперной примадонны.
Нельзя назвать точную причину того, почему именно Нью-Йорк стал общенациональным центром торговли ценными бумагами, но, принимая во внимание тот факт, что торговля в городе была на подъеме, а численность населения росла, нетрудно предположить, что это было попросту неизбежно. В 1790-e годы главным городом государства был не Нью-Йорк, а Филадельфия с ее крупнейшими банками и действующей фондовой биржей. Впрочем, даже в Нью-Йорке у фондовой биржи имелись соперники, маклеры, специализировавшиеся на торговле золотом и нефтью, которые работали вне регулярных торговых сессий, и даже «уличные» брокеры, занимавшиеся бизнесом прямо на тротуарах Брод-стрит. Фондовая биржа упорядочила рынок сделок и установила нормы для своих членов (место на Большом табло, как это тогда называлось, было формой частной собственности и могло быть продано). Кроме того, фондовая биржа была воплощением сильного консерватизма, присущего свободному рынку, который уже более двух столетий оказывал весьма устойчивое сопротивление мерам государственного регулирования и налоговому обложению. Наиболее откровенные угрозы покинуть Нью-Йорк высказывались биржей в те времена, когда город, будучи на грани банкротства, грозил обложить налогом финансовые сделки. В этом перетягивании каната городские власти неизбежно оказывались в проигрыше.
Вплоть до недавнего перехода на десятичную систему исчисления фондовая биржа вела дела, используя дробные числа. Курсы акций котировались в шестнадцатых долях, что было очаровательным анахронизмом, восходящим ко временам основания биржи. На раннем этапе существования государства в денежном обращении царил полный хаос. «Доллар» испанской чеканки, монету достоинством в восемь долларов, которая оставалась законным платежным средством вплоть до 1850-х годов, можно было физически разбить на четверти, восьмые и шестнадцатые доли, что и легло в основу сохранившейся нормы заключения сделок. Другие аспекты торговли акциями и ценными бумагами не оказали столь сильного сопротивления переменам. Изобретенный в 1844 году телеграф разносил новости об изменениях курса акций по всей стране. Когда в 1866 году был проложен первый трансатлантический кабель, нью-йоркские дилеры стали получать сведения о ценах почти одновременно с лондонскими брокерами. Введенный в 1867 году тикерный символ2 сделал возможным передачу сведений о ценах в брокерские конторы в режиме реального времени. Тикерные устройства были установлены в банках, клубах для мужчин, отелях и питейных заведениях высшей категории.
Накопление ленты тикерных машин легло в основу возникновения одного из самых характерных для города ритуалов. Процессию, сопровождавшую церемонию освящения статуи Свободы, стихийно приветствовали осыпанием конфетти и серпантином. Подобные торжественные встречи стали способом приветствовать прибывающих с визитами глав государств, добившихся успеха бейсбольных команд, других спортсменов, астронавтов, политиков, генералов и даже, например, победителей состоявшегося в 1949 году национального чемпионата барабанщиков Американского легиона и Корпуса трубачей. Организуемая комитетом по приемам гостей (часто по просьбе Государственного департамента) торжественная встреча представляет собой американский вариант триумфального чествования вернувшегося с победой древнеримского полководца. Степень «успеха» встречи измеряется не обычными сводками полиции о количестве выстроившихся вдоль Бродвея зевак, а весом сброшенного с небоскребов серпантина. В 1962 году астронавта Джона Гленна, впоследствии ставшего сенатором, Нью-Йорк приветствовал 3474 тоннами серпантина. С тех пор никто даже не приблизился к этому рекорду.
Когда в 1903 году фондовая биржа переехала на Брод-стрит, дом 18, где она находится и поныне, весьма популярный скульптор Джон Уорд получил заказ на изготовление скульптуры, которую планировалось установить у фронтона здания. «Честность, оберегающая труды человеческие», — выгравировано на белом мраморе, привезенном из Джорджии. Этот мрамор продержался больше трех десятилетий, а потом стал настолько быстро разрушаться по причине загрязнения, что статуи пришлось демонтировать и заменить фигурами, отлитыми из меди и свинца, с нанесением покрытия, напоминающего фактуру камня. Выяснилось, что «честность» — не совсем та, какой казалась. Только в 1975 году отменили требование к брокерам предлагать фиксированные ставки комиссионных. От этого пункта «Соглашения платанового дерева» избавились в последнюю очередь.
Публику приглашают вкусить дух Нью-Йоркской фондовой биржи и посетить «Центр интерактивного образования» — индивидуальный тур, который заканчивается осмотром торгового зала с узкого балкончика и посещением магазинчика, в котором можно купить бейсболки, футболки и другие вещи с логотипом NYSE(Нью-Йоркская фондовая биржа). Зеркальное стекло, которое защищает посетителей, осматривающих торговый зал с балкона (или брокеров внизу, в зале), напоминает об одном из лучших трюков Эбби Хоффмана. 24 августа 1967 года он и группа его единомышленников сбросили на головы изумленных брокеров охапки долларовых банкнот. На следующий день рассказ о хулиганской выходке стал главной новостью всех средств массовой информации. «Священный электронный тикер, поддерживающий пульс западного мира, — писал Хоффман в «Чертовой революции» (1968), —
замер... Система дала небольшой сбой. Не было пролито ни капли крови, не было сломано ни единой кости, но в тот день этим жестом была объявлена война. В сознании миллионов молодых людей рынок ценных бумаг рухнул».
В торговом зале находятся 3 000 брокеров, специалистов и клерков. Все они носят сшитые со вкусом хлопчатобумажные жилетки бордового, серовато-белого, желто-коричневого, зеленого или темно-синего цвета. Цвет жилетки указывает на ту роль, которую играет ее обладатель в корпоративной иерархии, и на его принадлежность к тому или иному союзу. Бесплатные билеты на экскурсию можно получить на Брод-стрит, дом 20. Вход с задней стороны здания, на Нью-стрит. В полдень вы получите удовольствие, наблюдая за работой натренированных на обнаружение наркотиков и взрывчатки собак, которые проверяют грузовики и легковые автомобили на наличие взрывных устройств, и увидите аппараты, которые сканируют рентгеновскими лучами все, что поступает на биржу. На Нью-стрит есть один прелестный уголок, где мальчики на посылках болтают по-испански, ожидая, когда брокеры закажут ланч.

1
«Бык» — биржевой игрок, спекулянт, играющий на повышение котировки биржевых акций; «медведь» — биржевой игрок, играющий на понижение котировок; пул — соглашение между конкурентами; корнер — спекулятивная скупка акций; брейк — скидка при покупке определенного количества товара; кавер — закрытие короткой позиции путем открытия длинной, т. е. покупки ранее проданных финансовых активов; маржа — разница между показателем доходов и расходов; длинные и короткие позиции — долгосрочные и краткосрочные обязательства соответственно. — Примеч. ред.
2
Тикерный символ — кодовое сокращение названия ценной бумаги. — Примеч. перев.
Глава третья. Город иммигрантов
Идти вперед или умереть
Рост площади, численности населения и богатства — вот что способствует успеху города в Америке. Превосходная степень нашла естественную сферу применения в Нью-Йорке, где находится все самое большое, богатое, высокое, удивительное и уникальное, что только можно найти на свете. Но, подобно акулам, американские штаты и города гибнут, если становятся неподвижными. Быть может, еще большее сходство можно усмотреть в девизе французского иностранного легиона: «Иди вперед или умри».
Штаты, которые не развиваются или развиваются слишком медленно, впоследствии от этого страдают. Они теряют политическое влияние. Согласно переписи 2000 года, штаты Нью-Йорк и Пенсильвания потеряли по два места в палате представителей. По-прежнему имеет место тенденция к перемещению населения Севера и Востока на Юг и Запад. Такие штаты Солнечного пояса на крайнем юге, юго-западе и западе, как Флорида, Джорджия, Аризона и Техас, получили еще по два места в палате каждый. В 1990-е годы численность населения штата Нью-Йорк выросла на 5,5%, то есть почти на миллион жителей. Имея численность населения 18 976 457 человек, штат Нью-Йорк скатился со второго на третье место, уступив Техасу и Калифорнии по такому показателю, как общее количе-ство жителей штата. По показателям роста Нью-Йорк занимает десятую позицию в общенациональном списке, уступая Неваде, которая развивается головокружительными темпами (более 66%), Техасу (более 23%), Джорджии (более 26%) и Калифорнии, этому самому густонаселенному штату, показатель роста которого за десять лет составил почти 14%. Нью-Йорк и Пенсильвания лишаются федеральных фондов, так как полученные во время переписи разнообразные сведения социального характера указывают на то, что у других штатов более серьезные проблемы и более насущные потребности.
После горячих дискуссий о том, как проводилась перепись, была сделана оценка, согласно которой 3,3 млн человек не приняли в расчет. Бюро переписи населения воспротивилось давлению со стороны таких городов, как Нью-Йорк, которые настаивали на исправлении подсчетов. В результате в период между 2002 и 2012 годами Нью-Йорк, благодаря «неполной регистрации», по всей вероятности, лишится 850 млн долларов федеральной помощи, выделяемой главным образом на финансирование медицинской программы «Медикэйд».
Тем не менее результаты переписи 2000 года были встречены в Нью-Йорке с большим облегчением. После финансового кризиса 1970-х годов и увеличения числа лиц, получающих пособия, а также всплеска преступности и связанных с этим социальных проблем, возникавших на фоне упадка, сегодня Нью-Йорк выглядит более уверенным в своих силах и преуспевающим городом, способным справиться с проблемами, которые возникнут в будущем. (События 11 сентября 2001 года потрясли город до основания, но, как говорят обеспокоенные случившимся комментаторы, несмотря на падение рынка ценных бумаг, фундамент остался незыблемым). Ныне численность населения города составляет более восьми миллионов человек, что превышает все прежние показатели. Что касается таких социальных тенденций, как снижение численности белых, не говорящих по-испански горожан, то они меняются к лучшему. В начале 1990-х годов более двух процентов белых, не говорящих по-испански горожан ежегодно уезжали из Нью-Йорка на постоянное проживание в пригородах или, выйдя на пенсию, переезжали в штаты Солнечного пояса. К концу десятилетия «бегство белых» сократилось наполовину, уменьшилось до одного процента. Однако пройдет еще много времени, прежде чем люди, уходящие на пенсию в Огайо, будут переезжать в Нью-Йорк.
Благоприятный для экономики период 1990-х годов и снижение уровня преступности убедили нью-йоркцев в том, что у города есть будущее. Поклонники мэра Руди Джулиани указывают, что количество пациентов, медицинское обслуживание которых оплачивает государство, снизилось на 48 процентов. Возможно, эта впечатляющая цифра объясняется тем, что экономика города находится на подъеме. Иную картину можно было наблюдать в 2000 году, когда экономика города буксовала. Тем не менее на смену образу обремененного кризисом, измазанного граффити города пришла более привлекательная идея Нью-Йорка как сверкающей обители «ярких огней», города, воплощающего в себе все прелести американского образа жизни. К 1997 году нью-йоркцы начали испытывать более положительные чувства к своему городу и его мэру. Кое-что из этого нового отношения к городу передалось и остальным жителям страны. Согласно проведенным в 1998 году опросам общественного мнения, большинство американцев считали, что у Нью-Йорка «хороший имидж». Сорок пять процентов опрошенных считали, что нью-йоркцы «недружелюбны», но это был хороший результат, поскольку, по сравнению с опросами, проведенными с 1991 года, процент тех, кто в 1998 году счел нью-йоркцев «недружелюбными», оказался самым низким. Согласно официально признанным результатам, Нью-Йорк стал более «дружелюбным», чем прежде. После 11 сентября этот сдвиг в сознании только усилился.
Теодор Драйзер в романе «Сестра Керри» (1900), Ф. Скотт Фицджеральд в романах «По эту сторону рая» (1920) и «Великий Гэтсби» (1925) изображали Нью-Йорк как город, блеск и надежды которого (как и холодное равнодушие) неизбежно ведут к разочарованию. Такие наследники Фицджеральда, как Джей Макинерни со своими романами «Яркие огни большого города» (1983) и «История моей жизни» (1988), вернули читателям-современникам ощущение того, что и современный Нью-Йорк является миром блеска и нищеты. «Электронное жужжание быстрых денег, — пишет Макинерни в «Водопаде великолепия» (1992), — роем несущихся между улицами, за которыми установлено наблюдение, воздействует на всех обитателей, пробуждая в некоторых из них лишающие рассудка вожделение и честолюбие, делая других обозленными на весь свет по причине собственной бедности и заставляя сытое большинство чувствовать себя не столь уверенно». В Нью-Йорке Макинерни под «электронным жужжанием» следует понимать изнурительную работу 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Главные герои романа Рассел и Корайн Колловеи поздно ночью слышат «пробивающееся сквозь сирены, вой сигнализации и гудки автомобилей» жужжание, которое вызывает «неясное волнение, цепляющее за самый край кредитных лимитов пластиковых карт».
Перепись населения 2000 года показывает, что сегодня сорок процентов жителей города составляют люди, родившиеся за границей. Это своего рода возврат к тому городу, каким был Нью-Йорк в 1910 году, когда он находился на гребне волны «новой иммиграции». В то время четверо из десяти нью-йоркцев были людьми, родившимися за рубежом. Перемены в иммиграционной политике, которые произошли в 1920-е годы, резко ограничили поток иммигрантов, и со временем этот показатель сократился до двадцати процентов. Но даже эта цифра была выше, чем та, которая отражала долю родившихся за границей в целом по стране. Однако в течение XX века Нью-Йорк, несомненно, становился все более «американским» городом. Новая волна иммигрантов в очередной раз преобразила город. Городским ведомством, в сферу ответственности которого входит учет изменений демографии Нью-Йорка, является отдел учета населения в составе семи человек, входящий в департамент городского планирования и возглавляемый главным демографом Джозефом Дж. Салво. Именно на основании работы отдела учета населения мэрия может реагировать на ожидаемые последствия резкого увеличения потока иммигрантов и изменения состава родившегося за рубежом населения. Неправильная оценка показателей рождаемости может привести к переполнению городских школ. В свою очередь, оценки изменений численности населения дают возможность предоставить плановую медицинскую помощь и связанные с этим услуги матерям из иммигрантских семей.
За последние десять лет XX века в Нью-Йорк перебралось не меньше миллиона иностранцев. Главным образом это выходцы из стран Карибского бассейна, Центральной Америки и Азии. (В 1910 году иммигранты прибывали из Италии, России и стран Восточной Европы.) Половина населения Бронкса считает себя латиноамериканцами. За 1990-е годы доля проживающих в городе выходцев из Азии возросла с семи до десяти процентов от общей численности населения. Доля афроамериканцев стабильно остается равной десяти процентам. За тот же период времени почти удвоилась численность индийского населения Куинса, главным образом проживающего в районах Джексон-хайтс, Элмхерст и Ричмонд-хилл; теперь она составляет 109 114 человек. Численность выходцев из Китая, проживающих в Сансет-парке (который на кантонском диалекте называют «Бат Дай До» или, более прозаически, «Восьмая авеню») и в Шипс-хед-Бэй в Бруклине, выросла до 77% и теперь составляет 120 662 человека. Пять мечетей открыты в районе Астория. Традиционное доминирование пуэрториканцев в латиноамериканской, а китайцев — в азиатской общине города уменьшилось, поскольку теперь прибывают новые потоки иммигрантов из Доминиканской республики и Кореи. Сместив афроамериканцев, латиноамериканцы стали крупнейшим в стране национальным меньшинством. Латиноамериканское население Нью-Йорка, численность которого превышает два миллиона человек, является самой крупной и неоднородной иммигрантской общиной среди всех американских городов. Каждая последующая волна иммигрантов (ирландская, немецкая, еврейская, итальянская) изменяла город. Схожее воздействие окажет и наблюдавшаяся в 1990-е годы иммиграция из стран Азии и Латинской Америки.
В 1980-е и 1990-е годы иммигрантские общины города сделали в отношении самих себя поразительное политическое открытие. Несмотря на всю неоднородность этих общин, в Америке их рассматривали обобщенно и считали «этническими». Отдельные национальности (которые включали в себя многочисленные региональные подгруппы, а также подгруппы городских и сельских жителей) обнаружили, что наилучшим образом могут функционировать в Нью-Йорке, не выходя за рамки этнической политики города. Отдельные подгруппы, состоящие из азиатов, карибов, латино, испаноязычных (терминология здесь весьма изменчива), заявили об этнической принадлежности как об эффективном способе сохранить солидарность, которая для пестрого городского населения была в историческом отношении чем-то новым. Как отдельные национальности они находились в политической изоляции. Как этнические группы карибов или азиатов они получали определенные полномочия. Политическим лидерам, которые с радостью потворствовали отстранению «меньшинств» от опеки государства и от рычагов власти, пришлось принимать их в расчет. Но фундамент коалиции меньшинств, создание которой привело к тому, что в 1989 году впервые был избран чернокожий мэр города Дэвид Динкинс, развалился под тяжестью напряженности межрасовых отношений и вновь обострившихся проблем преступности. Провал традиционной практики политических спекуляций и отсутствие четких предложений по решению городских проблем открыли в 1993 году дорогу кандидату Руди Джулиани, вступившему в противоборство с этнической «мозаикой», которая привела к власти Динкинса.
В отличие от Калифорнии и штатов Солнечного пояса (в том состоянии, в каком они находились последние десять лет), Нью-Йорк не сумел обеспечить значительный приток мигрантов из других регионов США. Причина прежде всего в том, как Нью-Йорк и его горожане воспринимаются другими американцами, живущими в разных уголках страны (а они, вплоть до последнего десятилетия, относились к Нью-Йорку едва ли не враждебно, что самодовольные ньюйоркцы расценивали как зависть), а также в том, какие экономические возможности давал Нью-Йорк. Оформленная знаменитым карикатуристом Солом Стайнбергом обложка журнала «Нью-Йоркер», на которой изображен вид, открывающийся из города на пустынный, унылый континент, говорит сама за себя. Воображая, что все ими восхищаются, что каждая суперзвезда желает играть только за «Янкиз», нью-йоркцы порой удивляются, когда узнают, что к ним относятся с подозрением и неприязнью. «Нью-Йорк — не Америка», — гласит народная мудрость, и в этом случае она кажется вполне убедительной.
Нью-Йорк — город, битком набитый анекдотами. Лучшими из них являются эпические повествования об истории семейств: о том, как тяжело нам жилось в Старом Свете или в нашей маленькой деревушке, о том, как мы приехали в Америку, о том, как пытались выжить в Нью-Йорке, учились трудному языку, а со временем поставили всех детей на ноги. Эти семейные предания о прибытии в Нью-Йорк и адаптации к новой обстановке представляют собой рассказы, которые вселяют оптимизм в сердца последующих поколений нью-йоркцев. Проблема состоит в том, что слово «мы» приобретает клановое значение. Несмотря на кажущееся восхваление идеи общности, оно также сужает и даже нивелирует эту идею. Признание существования культурно-этнического многообразия является центральным элементом жизни современного демократического общества. Чудеса «многообразия» порой используют для того, чтобы скрыть устойчивую подозрительность, страхи и нетерпимость, лежащие в основе того, какие чувства «мы» испытываем по отношению к «ним». Если идея социального и расового многообразия выражает идеалистические устремления современного Нью-Йорка, она также напоминает нам о том, что вокруг существуют социальные и политические альтернативы. Предубежденность, нативизм, паранойя и демагогия являются такими же неотъемлемыми составляющими духа Нью-Йорка, как рассудительность и терпимость. А когда речь идет о расовых вопросах, город занимает второе место среди немногих других городов Севера по назойливости «возвышенного либерализма», твердости воли — и по разнообразию проявлений взаимной вражды.
Возможно, иммиграция является величайшей из всех идей, способствующих единению нью-йоркцев. Остров Эллис, куда прибывали многие иммигранты, Нижний Ист-Сайд, где столь многие из них начинали свое знакомство с жизнью в Америке, и, прежде всего, статуя Свободы — все это определенно характеризует Нью-Йорк как город иммигрантов.
Статуя Свободы
Именно вторая строфа сонета попадалась на глаза современникам, в особенности те немногие пророческие слова, которые поэтесса вкладывает в уста гигантской статуи «могущественной женщины»:
НОВЫЙ КОЛОСС
Не исполин, что греком был отлит,
Победно вставший средь земель и стран,
Здесь, где уходит солнце в океан,
Восстанет женщина, чей факел озарит
К свободе путь. Суров, но кроток вид,
О, Мать изгнанников! Мир целый осиян
Тем маяком; оправлена в туман,
Пред нею гавань шумная лежит.
«Вам, земли древние, — кричит она, безмолвных
Губ не разжав, — жить в роскоши пустой,
А мне отдайте из глубин бездонных
Своих изгоев, люд забитый свой,
Пошлите мне отверженных, бездомных,
Я им свечу у двери золотой!»1
Эмма Лазарус
Статуя Бартольди и стихотворение Эммы Лазарус взаимосвязаны. Осматривая статую, туристы обязательно обнаружат этот текст на ее основании. Официально считается, что стихотворение и статуя несут один и тот же смысл. Самые запоминающиеся строки стихотворения и жест статуи Бартольди воплощают в себе дух Просвещения, приветствуют и ободряют иммигрантов. Замечательным примером культурного заимствования зрительного образа является история этого стихотворения, написанного за несколько лет до того, как в гавани Нью-Йорка состоялось торжественное открытие статуи, о которой знали только по фотографиям, сделанным на парижской фабрике, где ее собирали из отдельных частей. Заимствование оказалось настолько удачным, что вряд ли кто-то замечает, что по стихотворению статуя смотрит в другую сторону.
Когда в 1871 году французский скульптор Бартольди приехал в Соединенные Штаты, он привез с собой идею создания статуи, которая приветствует независимость Америки. Идея возникла в кругах либеральных французских аристократов и политиков, и статуя (названная «Свобода, освещающая мир») была задумана как дар американцам от народа Франции в ознаменование достижения независимости. Роль французов в битве при Йорктауне и та глубокая симпатия, которую американцы издавна испытывали к французским патриотам и солдатам, в особенности к Лафайетту и Рошамбо, сражавшимся на стороне американцев, помимо прочего, стали проводниками французского республиканства и либерализма. Во Франции рассчитывали создать политический режим, отличный от «империи» Луи Наполеона, которая в 1870 году рухнула на поле битвы под Седаном, и, несомненно, далекий от идей социального противостояния и радикализма Парижской коммуны. Передавая «Свободу» в дар Соединенным Штатам, французы надеялись еще более тесно связать свою страну с американской традицией умеренного республиканского и демократического государственного управления.

Бартольди привез рекомендательные письма американским политикам, писателям и общественным деятелям. Он встречался с президентом Грантом, который любезно принял молодого француза, но отклонил предложение оказать поддержку его проекту. Бартольди встретил более горячий прием со стороны издателя «Нью-Йорк Трибьюн» Хорейса Грили и Питера Купера, который был одним из ведущих в городе сторонников любых проектов, направленных на улучшение жизни сограждан. Когда в 1875 году во Франции была официально объявлена кампания по сбору средств, ее поддержали президент французской республики и широкие круги общества. В Парижской опере проводились гала-представления с целью сбора средств для создания статуи. Не отставала и американская сторона. Вскоре одним из направлений внутренней политики стал призыв к поиску средств на возведение пьедестала. Если Грили (который, будучи кандидатом в президенты от демократической партии, проиграл выборы 1872 года) поддерживал эту идею, то соперничающая с ним агрессивно-консервативная газета республиканцев «Нью-Йорк таймс» поспешила выразить сомнения и заявила о том, что поскольку это вообще-то французская статуя, то лучше бы самим французам оплатить возведение пьедестала.
Бартольди без устали содействовал продвижению своего проекта. Несущая факел рука демонстрировалась на Филадельфийской выставке столетия 1876 года и на Мэдисон-сквер, где посетители, заплатив 50 центов, могли забраться внутрь конструкции. Но дальше этого дело не пошло. В 1877 году для того, чтобы собрать средства, необходимые для пьедестала, и пробудить в Нью-Йорке интерес к проекту, был создан «Американский комитет статуи Свободы». Его основателями стали члены Ассоциации столетия, ведущего нью-йоркского клуба джентльменов, известного своими интересами в сфере культуры.
Весь нью-йоркский свет оказал поддержку бенефисам, проводившимся в Музыкальной академии, но другие мероприятия, направленные на сбор средств, не нашли должного отклика среди состоятельных людей. Никто из городских миллионеров не хотел выкладывать нужные 100 тыс. долларов. Когда в марте 1883 года конгресс отклонил финансовый законопроект, американская кампания по сбору средств оказалась на грани срыва. «Новый колосс» был написан в ноябре 1883 года по просьбе миссис Бертон Харрисон. Эта писавшая романы хозяйка светского салона выпрашивала у писателей рукописи и выставляла их на благотворительных аукционах, чтобы оказать помощь фонду пьедестала Бартольди. Лонгфелло, Твен и Уолт Уитмен также получили приглашения выставить на продажу свои рукописи. Французы, получившие средства благодаря лотерее, похоже, проявляли больший интерес к осуществлению этого проекта.
Крещеный венгерский еврей Джозеф Пулитцер, который эмигрировал в Америку в 1860-х годах и добился успеха в качестве издателя и владельца газеты в Сент-Луисе, в 1883 году приехал в Нью-Йорк, где купил газету «Нью-Йорк уорлд». Среди проведенных им рекламных кампаний было размещение на первой полосе газеты рекламы фонда пьедестала Бартольди. Пулитцер был убежден в том, что если нью-йоркские богачи «окончательно запятнали» себя тем, что не сумели поддержать Свободу, то простые люди найдут средства, необходимые для великолепного дара Франции. Последовала резкая критика со стороны других городских газет, а федеральное правительство, власти штата и городские власти отказались поддержать проект. В результате первая кампания Пулитцера провалилась. После того как в 1884 году на острове Бедло-Айленд был установлен закладной камень, деньги иссякли и поступило указание прекратить работы. Чувствуя, что наступил подходящий момент, элиты других городов стали во весь голос высказываться за то, чтобы установить статую Свободы в Филадельфии, Бостоне или Сан-Франциско.
В самый разгар язвительной, порой резкой полемики в отношении дальнейшей судьбы дара французского народа Лазарус еще сомневалась в том, что у нее найдутся нужные слова об этой статуе. Миссис Харрисон напомнила своей подруге о недавних спорах относительно вновь прибывших российских иммигрантов. Лазарус даже нанесла им визит на острове Уорлс. (Этот остров, расположенный на Ист-Ривер, теперь переименован в остров Рузвельта.) Совершенное в 1881 году убийство царя Александра II, нападение на евреев Елизаветграда, за которым последовали еврейские погромы по всей Российской империи, и печально известные «майские законы» 1882 года, которые ограничивали деловую активность евреев, свободу передвижения и права проживания, заставили сотни, а затем и тысячи российских евреев отправиться в Соединенные Штаты. Их бедственное положение взволновало Лазарус, и она надеялась, что сумеет для них что-либо сделать. Она увидела связь между статуей, задуманной французами как символическое выражение триумфа просвещения над невежеством, и бедственным положением российских евреев. Вскоре последовал «Новый колосс». Джеймс Рассел Лоуэлл писал Лазарус: «Ваш сонет о статуе понравился мне гораздо больше самой статуи. Но ваш сонет наделяет этот предмет смыслом, которого прежде у него не было, как не было и пьедестала». На самом деле Лазарус посвятила французский дар бедствиям российских евреев.
Лазарус стала новой и довольно экзотической фигурой в культурной жизни Нью-Йорка. Ее отец был сахарозаваодчиком, принадлежавшим к маленькой и обособленной нью-йоркской общине сефардов. Хорошо усвоивший манеры поведения высших слоев городского общества Моисей Лазарус стал одним из членов-основателей клуба «Никербокер», а его семейство летом отдыхало в Ньюпорте. Получившую домашнее образование Эмму поощрил заниматься литературой сам Ральф Уолдо Эмерсон. Его портрет занимал почетное место на ее каминной полке. Первый том сочинений «Стихи и переводы» (1867) появился, когда Эмме было всего восемнадцать. За ним последовали другие сборники стихов, роман из жизни Гёте и переводы Гейне. После того как в России начались погромы, Лазарус написала поэтическую драму «Пляска смерти», вошедшую в сборник «Песни семитки» (1882): изображая бедствия евреев Тюрингии в XII столетии, она дала гневный ответ на еврейские погромы в России. Несмотря на то что сама Лазарус не считала себя слишком религиозной, ее чрезвычайно взволновала человеческая трагедия беженцев. «Я всегда останусь преданной своему народу, — объясняла она, — но я не чувствую в своей душе религиозного пыла».
«Новый колосс» был напечатан в программке миссис Бертон Харрисон, прочитан на салоне и несколько раз перепечатан, а затем о нем надолго забыли. Кампанию по сбору средств, необходимых для завершения строительства пьедестала, Пулитцер развернул в 1885 году. Он смог взять на себя ответственность за возведение статуи Свободы, хотя традиционная элита города на это не решилась. Страстно желая, чтобы нью-йоркцы всегда помнили о том, какую роль он в этом сыграл, Пулитцер вставил фигуру Свободы в переработанный шрифт с названием своей газеты. В следующем году, когда торжественное открытие статуи происходило на фоне восторженно встреченных публикой церемоний (300 кораблей сопровождали прибытие президента Гровера Кливленда на остров Бедло для открытия статуи), сонет Лазарус оказался почти забыт. Во время церемонии никто не вспомнил и о ее озабоченности положением иммигрантов. Президент Кливленд полностью согласился с тем смыслом, который в статую вкладывали французы, полагавшие, что факел Свободы (этот светильник, который после Парижской коммуны уже не нес в себе и намека на угрозу разжигания вражды) направит «поток света», чтобы «пронзать тьму невежества и угнетения людей до тех пор, пока Свобода не озарит своим светом весь мир». Томас Алва Эдисон который, как всегда, творчески отнесся к идее использования рекламных трюков для продвижения своего последнего изобретения, предложил установить во рту Свободы фонограф, позволивший бы статуе приветствовать входящие в гавань корабли.
Бартольди занял место внутри короны Свободы и должен был спустить французский флаг, покрывавший лицо статуи, когда все речи будут произнесены. Председатель «Американского комитета статуи Свободы» Уильям Юартс сделал паузу в речи. Бартольди неверно истолковал поведение юриста и спустил флаг. Публика встретила жест аплодисментами, корабли в гавани дали гудки, а в церквях зазвонили колокола. А несчастному Юартсу пришлось дожидаться следующего дня, когда городские газеты опубликовали весь текст его обращения. В этот туманный день, равнодушная к торжественным словам, шуму, облакам пара и флагам, над гаванью вознеслась Свобода. Достигая трехсот пяти футов высоты, она стала самой высокой конструкцией Нью-Йорка.
Каждый год около четырех миллионов туристов посещают остров Эллис и осматривают статую Свободы; из всех этих людей, быть может, только сорок процентов поднимаются по 354 ступенькам или садятся в размещенный внутри лифт, чтобы, забравшись наверх, осмотреть гавань с высоты короны статуи. Перед ними открывается захватывающая панорама города. В 1983—1986 годах, статуя подверглась реставрационным работам стоимостью 66 млн долларов, включавшим в себя установку нового факела, тщательную очистку для удаления птичьего помета и устранение неизбежных повреждений тонкой медной обшивки. Рабочие нашли дыры диаметром пять дюймов и обнаружили, что заклепки, соединяющие триста кусков металла, из которых состоит статуя, уже ослабли. Технология repousse (разбивки металла на фрагменты сложной формы) забыта в Америке, поэтому новый факел покрыли обшивкой прибывшие из Реймса мастера-repousseurs, которые затем решили остаться в Америке, где надеялись найти работу.
11 сентября обе достопримечательности, которые находятся под управлением Службы национальных парков, были закрыты для посещения. Во время рождественских праздников остров вновь разрешили посещать, но перед посадкой на паромы, отходившие от Бэттери и от пристани «Либерти-стэйт-парк» в Нью-Джерси, пассажиров пропускали через металлоискатели. Сама статуя по-прежнему закрыта, что делает ее еще одной жертвой атаки на Всемирный торговый центр.
После кончины Лазарус в 1887 году еврейская община надолго забыла о том, что она была писательницей и оратором. И только в 1903 году табличка с текстом ее сонета была прикреплена к пьедесталу статуи. «Свобода» воспринималась как неофициальный государственный символ, и во время Первой мировой войны затмила даже «Дядюшку Сэма». Половина стоимости той войны была профинансирована «облигациями Свободы». В своей речи на состоявшемся в 1936 году праздновании пятидесятилетней годовщины открытия статуи президент Франклин Д. Рузвельт окончательно установил взаимосвязь между иммигрантами и Свободой. В свойственной ему манере, которую подхватили все политики демократической партии, Рузвельт сказал: статуя стала символом политических прав американцев и маяком свободы — свободы вероисповеданий, свободы мысли и свободы выбора. Она стала наследием тех надежд, которые иммигранты привозили в страну Свободы.
Это — часть официальных мифов о жизни в Америке. «Свобода» говорит:
А мне отдайте из глубин бездонных
Своих изгоев, люд забитый свой,
Пошлите мне отверженных, бездомных,
Я им свечу у двери золотой!
Посетив в 1905 году остров Эллис, генеральный комиссар по вопросам иммиграции Фрэнк П. Сарджент в беседе с репортером «Нью-Йорк таймс» рассуждал об угрозе, которую представляет «гигантское количество чужеродного населения». «Считайте меня явным и неизменным противником того, что называют открытой дверью», — заметил он и далее высказался следующим образом: «Поскольку пришло время, когда каждый американский гражданин, заинтересованный в том, чтобы у нации было будущее, должен испытывать самые серьезные опасения в отношении мощной волны иммиграции, которая, если ничего не будет сделано, вскоре отравит или по крайней мере загрязнит сам источник американской жизни и остановит прогресс. Несмотря на то что у нас большая страна и она освящена нашей конституцией, мы не можем безопасно для себя поглощать этот бесконечный обед, иначе мы получим либо несварение желудка, либо общенациональный аппендицит».
Иммиграция, сыгравшая столь значительную роль в формировании облика Нью-Йорка, по сути, оказалась болезненной и взрывоопасной социальной проблемой. Подслащенные воспоминания лишь сбивают с толка, мешая увидеть подлинную картину.
Остров Эллис
На исходе XIX столетия иммигрантам, прибывающим в Нью-Йорк, уже не устраивали торжественных встреч и государственные чиновники не приветствовали их теплым рукопожатием, а требовали к осмотру их документы. Каждый раз прибытие иммигрантов сопровождалось проведением изощренных формальностей и получением документов, на каждом из которых обязательно стоял официальный штамп, проставить который можно было только в определенных местах и у определенных чиновников. Для получения большинства таких документов нужно было уплатить определенную сумму денег. Чтобы заполнить в Американском консульском отделе в Бухаресте «Клятвенное заявление чужестранца», Еве и Хаиму Вайсманам пришлось внести плату в размере 1 доллара. Самостоятельные европейские государства и те, которые еще только надеялись обрести независимость, посылая своих граждан в Америку, снабжали их массой бюрократических документов, написанных высокопарным слогом: «Мы, Джеймс Макнейл, эсквайр, генерал-губернатор Ирландского Свободного Государства, просим и требуем именем его Британского Величества...» (предоставлено Майклу Дж. Солтсу в Ирландии, в 1929 году). Алиса де Капитани прибыла в Нью-Йорк в 1915 году и привезла с собой бумагу со столь же безаппеляционным текстом: «In Nome di sua Maesta Vittorio Emanuelle III, per gracia di Dio e volunta della nazionale Re d’Italia...» — «От имени нашего Господина Виктора-Эммануила III, милостью Божьей и волею народа Короля Италии...» Прежде чем сесть на корабль, отплывающий в Америку, нужно было получить сертификат о проведении вакцинации и санитарной обработки, исключающей наличие вшей. Старый лозунг изоляционистов об «американской крепости» обрел новый смысл в стране, защищавшей себя от иностранцев и их болезней с помощью бюрократических процедур и законодательства, которое вводило все новые и новые ограничения.
В период между 1875 и 1927 годами, когда в американском законодательстве была закреплена система «национальных истоков» (которая с помощью квот, принятых на основе переписи 1920 года, сокращала общее количество иммигрантов до 150 тыс. человек в год), американское правительство, идя на поводу у все более враждебного к чужестранцам общественного мнения, пыталось найти эффективные способы ограничить приток иммигрантов. Давняя неприязнь к католицизму провоцировала нападки на иммигрантов из Италии и Сицилии. Американское общество защиты страны требовало ужесточить порядок прохождения натурализации. Принадлежавшая Генри Форду газета «Дирборн Индепендент» обвиняла Уолл-стрит и евреев в том, что экономика страны испытывает тяжелые времена. Ку-клукс-клан присоединился к нападкам на хлынувших в города страны неграмотных католиков и евреев. Американская федерация труда потребовала ввести проверку на грамотность, дабы ограничить приток неквалифицированной рабочей силы. В своей книге «Как ведется большая гонка» (1916) Мэдисон Грант предупреждал, что освоившим страну нордическим народам грозит опасность быть поглощенными массой, стоящей на более низких ступенях развития. Чтобы избежать нависшей угрозы, Грант призывал к расовой сегрегации. Тот энтузиазм, с которым Том Бьюкенен из романа Ф. Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби», относился к книге Годдарда «Возвышение цветных империй», является точным отражением американской расовой истерии и расизма, проводником которых был Мэдисон Грант. В 1919 году некий поэт с гарвардским образованием в одном из своих стихотворений вывел однобокий, на редкость отталкивающий образ, на который можно было бы показывать пальцем, как на животное в зоопарке. Этот персонаж он назвал «чикагской семиткой Вьенессой». По всей стране предубеждение к иностранцам стало такой же американской традицией, как яблочный пирог.
Направленная против иммигрантов кампания достигла небывалого размаха. В 1875 году был запрещен въезд в страну бывших осужденных, проституток и кули. В 1882 году перестали впускать сумасшедших и слабоумных, а количество иммигрантов-китайцев резко ограничили. За два десятилетия до начала Первой мировой войны был запрещен въезд контрактных работников, неимущих, многоженцев, эпилептиков, нищих, анархистов, туберкулезников, физически и умственно неполноценных и детей до шестнадцати лет без сопровождения взрослых. В 1917 году ввели тест на проверку грамотности. В начале 1920-х годов, когда количество ограничений на въезд достигло своего максимума, были введены еще более жесткие квоты. Принятый в 1924 году закон Джонсона — Рида, помимо прочего, снизил квоту на въезд итальянцев. Если в 1921 году она составляла 42 057 человек в год, то согласно новому закону снизилась до 3845 иммигрантов. Новая система квот, в основе которой лежала идея «национальных истоков», была установлена законом, вступившим в силу в 1929 году, усилена принятым в 1952 году законом Маккарана — Уолтера и оставалась в силе вплоть до принятия в 1965 году закона Харта — Селлера. Зловещей целью закона Джонсона — Рида был постоянный контроль за тем, чтобы национальный состав населения оставался в рамках строго определенных расово-этнических пропорций.
Для такой страны, как Соединенные Штаты, которые сегодня славятся многообразием различных культур и гордятся своей терпимостью, история иммиграционного законодательства является отрезвляющим фактором. Еще живы воспоминания о вполне законно навязанной системе расовой сегрегации, которая существовала на Юге. Дух этой системы, проникший в разбросанные по всей стране отели, многоквартирные дома, рестораны, ночные клубы, гольф-клубы и пригородные поселки, сохранялся вплоть до 1970-х годов, и это могло рассматриваться как веский довод в пользу того, что Соединенные Штаты содержат в себе многие элементы «расового государства», наводящие на вызывающие тревогу сравнения с нацистской Германией и Южной Африкой. Если не считать американских левых, у остальных американцев аргументы вызвали бы насмешку и были бы раскритикованы за их несоразмерность и тенденциозность. Но во время прогулки по ставшему национальным памятником острову Эллис (воспользуйтесь паромом, который совершает рейсы от Бэттери-парк к статуе Свободы и обратно, билет стоит 8 долларов, постарайтесь прибыть туда пораньше, потому что к полудню паромные линии перегружены, а с 2001 года, когда к рождественским праздникам оба памятника вновь открыли, проводится тщательная проверка пассажиров, включающая прохождение через металлоискатели), который объявлен Службой национальных парков, входящей в состав министерства внутренних дел, «символом иммигрантского наследия Америки», вам на ум могут прийти не столь уж радостные мысли.
Музей острова Эллис стоит посетить во время школьных каникул. Толпы детей, пробегающих между «графическими дисплеями» и несущихся по галереям, наполненным «артефактами, историческими фотографиями, плакатами и картами», не позволяют взрослым предаться тихим размышлениям, которые вполне соответствуют обстановке (если никто не отвлекает, поскольку это музей, который задуман с единственной целью: отдать дань испытаниям, выпавшим на долю простых людей с их обычными галдящими детьми). Экспозиция острова Эллис представляет собой тщательно составленный душераздирающий отчет об истории американской иммиграции. Многие из выставленных здесь предметов пожертвованы музею самими иммигрантами или их семьями. Переходя от витрины к витрине, можно проследить эпизоды чьей-то жизни. «Это свидетельство в том, что Энтони Рандо регулярно посещал курсы английского языка среднего уровня для получения американского гражданства», — такими словами начинается текст свидетельства, выданного в 1927 году Массачусетским союзом. В следующем зале среди документов о натурализации есть упоминание о том, что Энтони Рандо было двадцать четыре года, его рост составлял 5 футов и 8 дюймов, у него были темные волосы и карие глаза и на момент натурализации он жил в Мальборо, штат Массачусетс. (В 1906 году контроль за натурализацией приняло на себя федеральное правительство. Требованиями, которые предъявлялись к лицу, проходившему натурализацию, были проживание в стране в течение пяти лет, знание английского языка, американской истории, а также прав и обязанностей граждан.) Экспозиция музыкальных произведений (начиная с «Да! У нас нет бананов», исполняемой в псевдоитальянской комической манере, и заканчивая «С тех пор, как матушка играет в маджонг», которая стала данью Эдди Кантора моде на эту настольную китайскую игру), напоминает о вкладе иммигрантов в американскую поп-культуру. К чести музея и его кураторов, история расовой и этнической враждебности к иммигрантам вовсе не замалчивается и отражена в экспозиции антииммигрантских карикатур.
В 2001 году на острове Эллис был открыт интерактивный центр семейной истории американских иммигрантов, который дает возможность тем, кто интересуется семейной историей и генеалогией, изучить огромную базу данных по учету иммигрантов, списки пассажиров, судовые манифесты и семейные архивы иммигрантов, прибывших на остров Эллис в период с 1882 по 1924 год. У центра есть свой сайт: www.ellisisland.org.
С 1882 года, когда Эллис заменил Касл-гарден, и до 1924 года, когда по закону о национальных истоках проверка иммигрантов стала проводиться у них на родине, остров Эллис оставался главным местом приема и проверки прибывающих в Соединенные Штаты иммигрантов. Первоначально эту покрытую илом и песком отмель площадью в три акра называли Галл-Айленд, но потом переименовали и за счет сброса отходов расширили до 272 акров. До 1924 года более 70% всех прибывающих в Америку иммигрантов, то есть приблизительно двенадцать миллионов человек, прошли через остров Эллис. Только пассажиры третьего класса доставлялись на остров Эллис для прохождения медицинского освидетельствования и юридических процедур. Паромы забирали их прямо с кораблей, стоявших на якоре в гавани, и с пристаней на реке Гудзон. Пассажиры первого и второго классов проходили проверку в более комфортабельных условиях, оставаясь на борту корабля.
Ныне существующий музей острова Эллис занимает большое здание из кирпича и камня, котороев 1900 году заменило сгоревшее дотла деревянное строение. Главный в Соединенных Штатах приемник иммигрантов служил больницей, отелем, тюрьмой и вокзалом и, кроме того, популярно знакомил с американскими ценностями. Приветствуя открытие нового здания, в статье, написанной для нью-йоркской «Коммершиал Эдвертайзер», Абрахам Каан отмечал: это здание построено
в стиле современного ренессанса и напоминает огромный железнодорожный вокзал или выставочный павильон, возведенный с намерением создать в нем все без исключения санитарные условия. В каждой части этого строения масса свободного пространства и воздуха, к тому же оно с избытком оборудовано не только вентиляционными и дезинфицирующими устройствами, но и помещениями для мытья 500 человек... Среди нововведений спальни с обычными кроватями и матрацами, и ни одному иммигранту не разрешается воспользоваться спальными принадлежностями, предоставленными дядюшкой Сэмом, прежде чем он примет ванну.
Первым впечатлением иммигранта, который должен ждать всю ночь, пока ему передадут адрес его друзей или железнодорожный билет, будет то, что это страна мыла и горячей воды.
Врачи, нанятые министерством здравоохранения США, осматривали лицо, шею, руки и делали заключение о физическом состоянии каждого иммигранта. Нет ли признаков сердечного заболевания или психического расстройства? Признаков моральной деградации? Трахома составляла причину более половины всех задержек по состоянию здоровья. Через переводчика иммигрантов спрашивали, как их зовут и сколько им лет. В состоянии ли они понять то, что им говорят? Иммигрантам задавали 29 вопросов, и «неправильный» ответ мог стать основанием для отказа в разрешении на въезд.
Кто оплатил ваш проезд?
Вас ждет здесь работа?
Вас кто-нибудь встретит?
Куда вы направитесь?
Сколько у вас денег?
Где вы их получили?
Все это становилось «грубой прозой выживания» для прибывших на остров Эллис. Задаваемые вопросы сбивали с толку и пугали иммигрантов, и без того взбудораженных шумной обстановкой переполненного главного зала и перепуганных тем, что если они скажут не то, что надо, их вернут в Европу. Они меняли свои ответы, отрекались от сказанного, предлагали тщательно продуманные объяснения. Их руки тянулись к кошелькам, в которых была лишь горстка серебряных или медных монет, считанных-пересчитанных за время долгого путешествия к острову Эллис. Для большинства после суровых испытаний наступал радостный момент: они получали разрешение на въезд в Соединенные Штаты.
По прибытии они могли столкнуться с американским фотографом Льюисом Хайном, который приехал в Нью-Йорк в 1901 году, чтобы преподавать ботанику в школе этической культуры. (В конце 1930-х годов в такой школе училась Дайана Арбус.) В 1903 году Хайн стал проявлять интерес к фотографии. Он организовал фотоклуб для своих учащихся, одним из которых был Пол Стрэнд. Хайна притягивал к себе мир многоквартирных домов для малоимущих и полулегальных мастерских, мир Нижнего Ист-Сайда и «подпольных» производителей. Он получил образование в Чикагском университете, где появился первый в Америке факультет социологии, университете, который был ведущим центром по изучению жизни в городах. Хайн чувствовал духовную близость с рабочими, приходившими в центры социальной помощи, и исследователями, которые тогда внимательно изучали условия жизни в трущобах. Хайн делал снимки для Общества организации благотворительности в Нью-Йорке и стал штатным фотографом журнала, освещавшего проведение благотворительных акций в трущобах. В период с 1906 по 1918 год он был следователем-фотографом Национального комитета по детскому труду. Он разделял реформаторские устремления прогрессивного движения, но у него возникал вопрос, как делать фотографии иммигрантов и обитателей многоквартирных домов, сохраняя при этом хладнокровие, беспристрастность и объективность. Хайн достиг зенита славы, работая в стиле «художественной» фотографии, в те времена, когда в моде были характерные для импрессионизма освещение и эффекты, прямо копируемые из живописи и скульптуры. Хайн ставил перед собой скорее образовательные, нежели эстетические или пропагандистские цели. Он надеялся пробудить и усилить сочувствие и был рад, что его фотографии называют «человеческими документами». Фотография Хайна «Армянский еврей», сделанная им на острове Эллис в 1924 году, — просто снимок хорошо одетого мужчины, которому на вид двадцать с лишним или около тридцати лет. На нем галстук, пальто и фетровая шляпа. Его взгляд спокоен. В глазах этого человека можно уловить намек на присутствие фотографа.
Это фото «работает», потому что Хайн, отбросив все споры, которые в 1920-е годы шли вокруг проблем иммиграции, позволяет своей безымянной модели с черной бородой и красивыми темными глазами напрямую обратиться к зрителям. Подобные фотографии, которые Хайн делал более десятилетия, давали иммигрантам возможность выразить свои чувства, причем так, что публичные дебаты об американской политике в этой области отступали на задний план. Снимки Хайна входят в число самых значительных фотопортретов XX столетия.

В 1918-1919 годах остров снова перешел под контроль армии США и его стали использовать в качестве госпиталя. Во время Второй мировой войны здесь содержались под арестом враждебные иностранцы. Полностью заброшенный после войны, «приют иммигрантов» закрыли в 1954 году, а его опустевшие бесхозные помещения, как и статую Свободы, предоставили заботам Службы национальных парков. Согласно вынесенному в 1998 году решению Верховного суда, большая часть острова Эллис стала территорией штата Нью-Джерси. В 1952 году было предложено сохранить ветшающее здание и перестроить его помещения под музей.
Ремонтные работы начались и в 30 ветшающих строениях, расположенных на южном берегу острова Эллис, которые были покинуты еще в 1954 году. Двести пятьдесят тысяч иммигрантов, которые либо нуждались в медицинском уходе, либо были признаны душевнобольными, или по иным причинам получили отказ во въезде, разместили в госпитальных палатах и помещениях карантина. Вероятно, ответственная за реконструкцию Служба национальных парков будет использовать эти строения для проведения конференций по изучению вопросов иммиграции или здравоохранения. В результате блестяще проведенной реставрации главное здание музея вновь обрело то состояние, в котором находилось в период с 1918 по 1924 год, причем в зале регистрации удалось сохранить украшенный керамической плиткой «Гуаставино» великолепный потолок высотой 60 футов. Сегодня через остров Эллис проходит маршрут любой экскурсии по городу.
1
Перевод В. Лазаруса.
Нижний Ист-Сайд
Нижний Ист-Сайд (южнее Хьюстон-стрит, восточнее Бауэри-стрит и граничит с Ист-Ривер) вот уже полтора столетия остается густонаселенным районом, в котором проживают представители рабочего класса. В XIX веке Нижний Ист-Сайд стал символом урбанистического разложения и постоянным объектом как научных исследований, так и криминалистических расследований. Он неизменно привлекал внимание евангелических проповедников, политиков-реформаторов и градостроителей. Поскольку Нижний Ист-Сайд являлся «проблемным» районом, его жители, будь то ирландские католики или рабочие-протестанты, немцы, во-сточноевропейцы, евреи или латино, попадали в орбиту интересов городских общественных организаций, полиции, журналистов, писателей, работников социальной помощи и бессчетного количества благодетелей человечества. В проповедях и передовых статьях Нижний Ист-Сайд становился олицетворением всего худшего, что только есть в городской жизни Нью-Йорка. Помимо этого, он стал главным символом тех испытаний, которые выпадают на долю иммигрантов, поскольку именно здесь сотни тысяч иммигрантов впервые сталкивались с реалиями американской жизни.
Когда же Нижний Ист-Сайд стал Нижним Ист-Сайдом? В своей книге «Как живет другая половина» (1890), которая, возможно, является самым значительным исследованием этого района, проведенным отдельным журналистом, Якоб Риис предполагал, что в начале XIX века там вдоль улиц выстраивались ряды «вполне приличных домов старых Никербокеров». Термин «Никербокер» получил широкое распространение в Нью-Йорке в начале XIX столетия. Названные по имени вымышленного хроникера из опубликованной в 1809 году книги Вашингтона Ирвинга «История Нью-Йорка», никербокеры имели голландское происхождение и обладали чрезвычайно практичным характером. Их соперниками были недавно прибывшие из Новой Англии «янки», отличавшиеся деловой хваткой и пресвитерианской воздержанностью. Изгнание из этого Эдема произошло не по причине грехопадения или вызывающего непослушания, а по причине потока иммигрантов, прибывших в город после войны 1812 года. Общий рост населения Нью-Йорка усложнил работу всех общественных институтов, а неуклонный рост численности иммигрантов оказал влияние на структуру общества. Вот таблица роста численности иммигрантов:
1820 | 123 706 |
1830 | 202 589 |
1840 | 312 710 |
1850 | 515 547 |
1860 | 813 669 |
Все большее число «старожилов» переезжали на Бликер-стрит, Вашингтон-сквер и Пятую авеню. Они селились подальше от мест проживания иммигрантов, на улицах, еще не охваченных этой чумой. «Их комфортабельное жилье, — писал Риис, — расположенное на некогда престижных улицах вдоль Ист-Ривер, перешло в руки агентов по продаже недвижимости и владельцев меблированных комнат». Жилье, в котором до 1850 года проживала одна семья, теперь сдавалось в аренду множеству семей и называлось «домами для квартиросъемщиков». Там, где раньше жили шесть или восемь человек, теперь могло проживать двенадцать или пятнадцать. А потом и двадцать, если жилье можно было сдать такому количеству съемщиков. Частные дома, когда их превращали в дома для квартиросъемщиков, показывали невероятно высокий уровень возврата вложенного капитала. Владельцы недвижимости и агенты по ее продаже увидели перспективу и, чтобы обеспечить жильем увеличивающееся население, стали строить все более крупные дома, получившие название многоквартирных.
Худшим из них, несомненно, было пятиэтажное строение Готэм-Корт по адресу Черри-стрит, 36—38, которое вмещало 126 маленьких двухкомнатных квартир. Сегодня там расположены государственные дома Альфреда Э. Смита. Снесенное в 1896 году, здание Готэм-Корт печально славилось своим запущенным состоянием. Всякий раз, когда лица, проводившие социальные исследования, хотели продемонстрировать на примере недостатки многоквартирных домов, они указывали на Готэм-Корт. В 1865 году каждый третий квартиросъемщик страдал от серьезных заболеваний. Каждый третий младенец умирал, не прожив и года. Внешний вид жильцов вселял ужас. «Не привыкшему к подобным зрелищам взгляду, — писал один врач, проверявший санитарные условия Готэм-Корт, — грустно и странно видеть исхудавшие тела, ввалившиеся глаза, измученные и покрытые морщинами лица маленьких пациентов, этих юных, но уже настрадавшихся жертв детского истощения. Одного взгляда достаточно для того, чтобы определить это состояние, узнать одного из тех бестелесных привратников, которые всегда готовы распахнуть дверь, ведущую к безвременной кончине».
В многоквартирные дома Нижнего Ист-Сайда приезжали иммигранты из Ирландии, Германии, а затем и из Восточной Европы. К 1890 году в Нью-Йорке было 640 тыс. родившихся за рубежом жителей. По своему национальному составу это население делилось на приблизительно равные части: ирландцы (30%), немцы (33%), остальные — выходцы из Австро-Венгерской империи, России, Италии, Англии и «прочие». Каждая новая волна национальной иммиграции стремилась поселиться по соседству от тех мест, где вновь прибывшие обнаружили земляков, а также привычные им церкви, питейные заведения, театры и магазины.
Представим себе сцену, которая могла иметь место на Райвингтон-стрит в Нижнем Ист-Сайде в 1905 году. Бар «Московица» занимает освещенный газовыми фонарями узкий подвал. Вдоль стен выстроились ряды зеркал, на которых художник-любитель изобразил сцены из крестьянской жизни Румынии. Среди пшеничных снопов и залитых солнечным светом полей идет торговля лошадьми и сельская свадьба. С вбитых в стены гвоздей в традиционной манере свисают нити, унизанные сушеным перцем. В конце дня бар на Райвингтон-стрит заполнен компаниями родственников, сидящих за длинными столами, которые покрыты чрезвычайно популярными среди румынских иммигрантов клеенками. Воздух посинел от табачного дыма, все присутствующие оживленно беседуют на идиш, английском и румынском и весело смеются. Посетители бара, бородатые мужчины в котелках, получают удовольствие от общения друг с другом. Они не переходят на крик и не напиваются, что (как они уверены) сплошь и рядом происходит в ирландских барах города. В конце помещения выставлены два флага. Американский флаг складками ниспадает на вставленную в рамку цветную хромолитографию Тедди Рузвельта, скачущего во главе «Мужественных всадников» на холм Сан-Хуан1. На вставленный в рамку портрет лидера сионистского движения доктора Теодора Герцля ниспадает флаг сионистского движения (синие и белые полосы со звездой Давида), притягивая внимание патриотичных посетителей «Московицы» к этой двойственной симметрии. Эта сцена в баре «Моско-вица» — из автобиографии Майкла Голда «Евреи без денег» (1930). Книга Голда насыщена деталями повседневной жизни нью-йоркских иммигрантов. Наряду с работами Абрахама Каана «Восхождение Дэвида Левински» (1917) и «Пора спать» (1934) Генри Рота книга Голда вошла в число первых художественных произведений, всерьез претендующих на право говорить от лица иммигрантов и групп этнических меньшинств. Среди посетителей бара «Московица» был и Мики, юный герой рассказа Голда, его отец Герман, маляр по профессии, и старый друг семьи, жилеточный мастер Моттке. «Папа, мне нравится это место», — говорит Мики. «Разве он не сообразителен? — хихикает Герман Голд. «Умен этот мальчик или нет?» — спрашивает он. «Он будет по меньшей мере миллионером», — соглашается Моттке. «Нет, — возражает отец. — Этот маленький мальчик должен стать доктором. Ученость более ценная вещь, чем богатство». В 1920-х годах Голд вступил в коммунистическую парию и едва ли разделял старомодную добропорядочность своего отца. В семьях, лишенных достатка, нет возможности получить медицинское образование. В баре на Райвингтон-стрит Герман и Моттке исполняют роли в грустной и доброй комедии под названием «Евреи без денег».

Райвингтон-стрит, которая тянется с запада на восток, от Бауэри-стрит до Питт-стрит, проходя в двух кварталах южнее Ист Хьюстон, находилась в самом центре расположенной в Нижнем Ист-Сайде перенаселенной «Маленькой Румынии». Румынское присутствие обозначали кошерные закусочные, пекарня, которая выпекала мацу (едва сводящая концы с концами пекарня Стрейта на Райвингтон-стрит, 150), кошерная винодельня Шапиро, дом 126 (которая только что закрылась после столетнего пребывания на рынке виноделия), кейзины (кафе) и кондитерские. Повсюду румынские иммигранты жили в стесненных условиях многоквартирных домов. Это был их мир, который с любовью воспроизводит Мередит Такс в историческом романе «Райвингтон-стрит» (1982), мир, где и пятицентовика хватало надолго:
— И это вы называете селедкой? — спросила она, ткнув рыбу. — Моя дочь больше похожа на селедку, чем эта штуковина. Сколько?
— Если бы только у вашей дочери были такие же ясные глаза! А посмотрите на всю эту икру — если бы только ваша дочь была бы так же плодовита. И всего за пять центов. С такими ценами я вылечу в трубу, но я щедрый человек, хотя моя семья от этого страдает.
— Три цента, — отрезала Ханна (жена Леви, производителя сигар).
— Вы хотите, чтобы я уморил голодом своих детей? Вы хотите, чтобы нас выбросили на улицу?
— Вы не продаете, значит, мне не придется покупать, — сказала Ханна, запахнув свою шаль так, словно собиралась уйти.
— Четыре цента.
— Две за шесть центов, ту, что с икрой, и вот ту, совсем малюсенькую.
— Хорошо, — согласился он, без особого уныния признав свое поражение теперь, когда игра была закончена. — Ради вас я пойду на такую жертву, две за шесть центов, но только никому не рассказывайте...
На Райвингтон-стрит решающее значение придавали либо религии, либо коммерции, поэтому местные магазины имели точно такие же отличительные этнические особенности, как и синагоги. Иногда здания напоминали о более ранних периодах жизни Райвингтон-стрит и о других религиях. Так, созданная в 1885 году «Руманиаше шуль», (румынская школа) разместилась в доме 89, где прежде находилась методистская церковь. Затем это здание продали «Шаарай Шомаим», ортодоксальной синагоге, прославившейся на весь Нижний Ист-Сайд замечательным музыкальным мастерством своих певчих. В 1903 году в доме 58 открылось религиозное братство «Адат Джешурун» из Ясс. Когда братство «Адат Джешурун» выехало из Нижнего Ист-Сай-да, строение (о «великолепном эклектическом фасаде» которого с похвалой отозвались Уайт и Вилленски в путеводителе по Нью-Йорку) заняло Первое Варшавское религиозное братство. Когда эта маленькая религиозная община распалась, здание приобрел один художник, который использовал его как студию. Сегодня на Райвингтон-стрит, по соседству с рестораном международной кухни «Элиз», находится пиццерия «Тейсти манчис».
По всему городу были разбросаны похожие друг на друга питейные заведения, маленькие ресторанчики, большие «гарденс» и бары, размещенные в однокомнатных квартирах домов, сдаваемых в аренду малоимущим. Каждое из этих заведений отражало характерные особенности того или иного этноса и являлось составной частью широкого этнического, расового и культурного многообразия города. Флаги Соединенных Штатов и сионистского движения, патриотические хромолитографии героического Рузвельта и вызывающего восторг Герцля были отличительными признаками своеобразной и разнородной иммигрантской культуры, процветавшей на Райвингтон-стрит. В других местах такие же бары могли быть украшены флагами Италии, Германии или Польши. Вместо заключенного в рамку портрета Герцля там встречалась гравюра кардинала Макклоски2, Гарибальди или Бисмарка. Победа, которую Пруссия одержала над Францией в 1870 году, была встречена бурными приветствиями в «Kleindeutsch-land» — «Маленькой Германии», районе Нижнего Ист-Сайда, где проживали иммигранты из Германии. Случившаяся в 1903 году резня в Кишиневе и поражение русской революции 1905 года оплакивались в той же части города сотнями тысяч еврейских иммигрантов, которые бежали от погромов, дискриминации и жестокой нищеты Российской империи. В сущности, еврейская социалистическая партия России «Бунд» финансировалась благодаря пожертвованиям евреев — рабочих Нижнего Ист-Сайда. Вожакам иммигрантских общин приходилось быть изощренными специалистами в области поддержания двойной лояльности своих соплеменников. Например, адвокат по трудовым спорам Мейер Лондон, помимо выполнения обязанностей юрисконсульта международного профсоюза работников по пошиву женской одежды, был организатором кампаний по сбору средств в пользу российского «Бунда».
Американцы иностранного происхождения (термин столь знакомый нам в силу принятой ныне политкорректности) произносили клятвы горячей преданности новой родине и одновременно превозносили свою еврейскую, немецкую или польскую национальную принадлежность. Другие, для которых принадлежность к национальному государству была абстрактным понятием, могли в большей степени идентифицировать себя на уровне региональных и провинциальных особенностей, а также на уровне традиционных празднований. Помимо обычных, «американских» праздников, в Нью-Йорке отмечали китайский новый год, день Святого Патрика, день независимости греков, день Индии, Мексиканский день, Доминиканский день, празднество Сан-Дженнаро и десяток прочих национальных торжеств, сопровождавшихся парадами, уличными ярмарками и шествиями. Нью-Йорк — город, в котором национальная принадлежность, патриотизм и преданность всегда переплетались в единое целое.
Сегодня Нижний Ист-Сайд — это больше чем музей или мавзолей иммигрантской жизни. Поколения его жителей оставили следы и в общественных учреждениях. Немецкий Зимний сад на Бауэри-стрит, 45 (впоследствии ликвидированный) и его ближайший сосед Атлантический сад на Бауэри-стрит, 50 (впоследствии тоже ликвидированный) были важными атрибутами общественной жизни Kdeindeutschland, расположенной южнее Восточной 14-й улицы и восточнее Бауэри-стрит и заселенной немцами в середине XIX столетия. Современников изумлял тот абсолютно немецкий стиль жизни, который царил в Маленькой Германии. «Там нет ни единой фирмы, которой бы не руководили немцы», — отметил один визитер, приехавший из Германии в 1863 году.
Немцами являются не только сапожники, портные, цирюльники, врачи, бакалейщики и хозяева постоялых дворов, но также пасторы и священники. Там есть немецкая библиотека, в которой можно брать на время любые немецкие книги. Чтобы заработать средства к существованию, жителю Kleindeutschland даже не надо знать английский язык, что в значительной степени привлекает сюда иммигрантов.
В 1880 году в Нью-Йорке проживало свыше 500 тыс. германо-американцев. Почти каждый третий житель Нью-Йорка либо родился в Германии, либо был ребенком иммигрантов из Германии. Общественные институты немецкого Нью-Йорка стали образцами для последующих волн иммигрантов. Немцы быстро возводили свои церкви, создавали газеты на немецком языке, хоровые общества, политические клубы и благотворительные ассоциации, благодаря которым они обозначили свое присутствие в общественной и экономической жизни города.
Промышленность, имевшаяся в Нижнем Ист-Сайде (судостроение, скручивание сигар, скотобойни), а также стремительный рост населения, сделали его важным коммерческим центром. Купцы и банкиры строили красивые здания, подобные тому, в котором находился большой галантерейный магазин «Италианате» (впоследствии ликвидированный), открытый фирмой «Лорд энд Тэйлор» по адресу Гранд-стрит, 255—261, на пересечении с Кристи, чтобы способствовать быстрому расширению торговли в восточной части города. Наиболее значительным из сохранившихся коммерческих строений «старого» Нижнего Ист-Сайда является расположенное на Бауэри-стрит, 130, здание банка «Хоум Сэйвингс оф Америка». Это великолепное здание в стиле классического ренессанса построено в 1894 году по проекту Стэнфорда Уайта для Сберегательного банка Бау-эри. Его описание дал Роберт Стерн в справочнике «Нью-Йорк 1900». Это здание названо «первым действительно роскошным банком в Нью-Йорке, который установил новый стандарт монументальности для банков и которому едва ли есть равные».
Сегодня трудно представить себе, что маленькие, расположенные в закоулках винные (бодеги) и мясные (карнисе-рии) лавки представляли собой нечто большее, чем реалии непонятной жизни приходивших в упадок районов компактного проживания меньшинств, о которых писал Бернард Маламуд в своем романе «Помощник» (1957). Однако стремительно растущее азиатское население Чайнатауна требует совершенно иного повествования, чем то, в котором речь идет об упадке и сносе. (Подробнее о Чайнатауне говорится в главе 6.) Со всей определенностью можно утверждать, что в прошлом десятилетии началась яппификация, затронувшая молодых белых профессионалов, которые вдруг обнаружили, что цены на рынке недвижимости Вест-Виллидж, где они жили, завышены. Сегодня Нижний Ист-Сайд является не слишком привлекательным районом, и доступ к нему на общественном транспорте из других районов города ограничен. Там совсем немного культурных центров, которые стоит посетить, но восстановление заброшенного здания школы в Ист-Виллидж и превращение ее в место для проведения представлений, получившее название «Перфор-манс-спейс», говорит о творческом подходе города к поиску мест для своих художников и артистов. Возможно, в этом будущее Нижнего Ист-Сайда.
Низкая арендная плата и репутация оплота радикалов и художественной богемы сделали Ист-Виллидж и Нижний Ист-Сайд привлекательными местами для молодых писателей, приезжавших в город в 1950-е и 1960-е годы. К созданию «Нью-Йоркской школы» имела отношение группа поэтов, которые были друзьями, когда учились в Гарварде (Кеннет Коч, Джон Эшбери и Фрэнк О’Хара), и которые нашли для себя работу в Нью-Йорке (преподавали в Новой школе), издательства (особенно «Гроув пресс», опубликовавшее книги О’Хары «Размышления в отчаянном положении» (1957) и Коча «Ко: Или время, проведенное на Земле» (1959), периодические издания («Арт ньюс») и картинные галереи, проявлявшие сочувствие к новому литературному стилю. Тогда казалось, что все работают в музее современного искусства. Тибор де Наги публиковал недорогие издания работ О’Хары, Джеймса Скайлера и Барбары Гест. Тесная связь с современным искусством, которая существовала в тот волнующий период, и возникновение целой школы ярких, талантливых поэтов сыграли большую роль в создании особого нью-йоркского стиля.
В 1960-е годы Нижний Ист-Сайд, как когда-то Гринич-Виллидж, дал возможность экспериментировать в литературе. Поэты «второй волны», во главе которых стояли приехавший в 1960 году Тед Берриган и Эд Сандерс, который прибыл из Канзаса в 1962-м, сделали нью-йоркскую литературную тусовку гораздо более политизированной и насыщенной радикальными идеями, ставшими отличительной чертой второй половины десятилетия. Маленькие, отпечатанные на ротаторе поэтические журналы, например журнал Сандерса «Fuck You» (1962) и журнал Лоренца Гьюда «С» (1963), входили в число самых иконоборческих поэтических трибун города. Поэтический проект при церкви Св. Марка начинался в 1966 году, а в 1972 году вышел «Бюллетень Поэтического проекта». В 1970-е годы на смену Берригану и его друзьям из Талсы, в число которых входили Рон Пэджетт и Джо Брейнерд, Кларку Кулиджу, Тому Кларку и Анне Уолдмен пришло новое поколение писателей, появилась другая малая пресса и новые печатаемые на ротаторе журналы. В «газете» Джонни Стэнтона «Сиамские бананы» (выходившей под девизом, который представлял собой пародию на девиз газеты «Нью-Йорк таймс»: «Если факты не соответствуют, измени их») в 1972 году была опубликована «Малая антология сюрреалистических стихотворений». Новая поэзия Нью-Йорка нашла свое отражение в таких книгах, как сборник Аллена Делоуча «Ист-Сайдская сцена: Антология времени и места» (1968), «Поэты нью-йоркской школы» (1969) Джона Бернарда Майерса, «Мировая антология: Стихотворения поэтического проекта при церкви Св. Марка» (1969) Анны Уолдмен, а также в сборнике «Антология нью-йоркской поэзии» (1970), составленном Роном Пэджеттом и Дэвидом Шапиро. Они вывели нью-йоркскую поэзию на большую, общенациональную «сцену».
Абрахам Каан и Исаак Башевис Зингер: выразители мнения иммигрантов
Если вы настроены провести социологическое исследование, сядьте на скоростной поезд, который довезет вас до Восточного Бродвея. Это последняя остановка перед долгим броском на Кони-Айленд. Выйдя из метро, вы столкнетесь с другим Нью-Йорком. Здесь он выглядит беднее, этническое многообразие больше бросается в глаза в том смысле, что город покажется вам более «иностранным» и на самом деле имеющим мало общего с городским советом, церковью Св. Павла и Уолл-стрит. Кроме того, это место, где внимательный взгляд сможет обнаружить множество следов прошлого и признаков стремительно изменяющегося настоящего. К последним можно отнести и Чайнатаун.
В западном конце Восточного Бродвея, в том месте, где он пересекается с Гранд-стрит, находится истсайдская миква (ритуальная купель). Надпись, сделанная заглавными буквами на доме по адресу Восточный Бродвей, 313, поясняет, что здание возведено в 1904 году и что когда-то в нем размещался Арнольд Тойнби-холл — центр социальной помощи, названный в честь студента Оксфордского университета, посвятившего себя делу улучшения жизни многочисленного иммигрантского населения лондонского Ист-Энда. Добровольцы или постоянно живущие в таких центрах, как Арнольд Тойнби-холл, социальные работники делали все, чтобы дать образование иммигрантам-беднякам, которые столетие тому назад превратили Восточный Бродвей в оживленную торговую магистраль. Резкое увеличение числа предоставляемых штатом программ социальной помощи и падение численности населения Нижнего Ист-Сайда, которое ускорилось по причине сноса трущоб и многоквартирных домов для малоимущих, лишили центры социальной помощи значительной части клиентуры. Тойнби-холл закрыли, а здание продали одной благотворительной ассоциации. Потом оно стало использоваться в качестве «места проведения обрядов», связанных с миквой, в которой ортодоксальные иудейки совершали ритуальные омовения. Многоквартирные дома для малоимущих имели водопровод и канализацию, и назначение миквы состояло не только в поддержании должного уровня чистоплотности. С помощью миквы совершались акты ритуального очищения, обязательные для женщин в конце каждого менструального цикла, акты, которые в соответствии с традициями ортодоксального иудаизма были неотъемлемой частью приготовлений к вступлению в брак.
Вдоль южной стороны Восточного Бродвея разбросаны остатки общественных институтов иммигрантского мира Нижнего Ист-Сайда. За исключением Биалистокерского дома для престарелых по адресу Восточный Бродвей, 228, фактически всю северную сторону этой улицы снесли, чтобы освободить место для постройки больших жилых кварталов «Кооперативных обществ Сьюард-парка». «Штибл-роу» — это целый ряд маленьких синагог, построенных в промежутках между многоквартирными домами с номера 225 по 283-й. Большое здание по адресу Восточный Бродвей, 197, занимает Образовательный союз. Рядом, в доме 175, размещалась редакция газеты «Джу-иш дейли форвард» (в настоящий момент здание перестраивается). В доме 165, где сейчас китайский ресторан, прежде находился кафетерий «Гарден» (посетителями которого когда-то были Лев Троцкий и Исаак Башевис Зингер), а дом 145 занимает «Местифа Тиферет Джерусалем» — одна из последних ортодоксальных религиозных школ (йешива). Именно в помещении, расположенном над салуном Гаррета Берлина в доме 46 (давно исчезнувшем), регулярно встречались пятнадцать членов местного отделения профсоюза производителей сигар и начинал свою долгую карьеру в американском профсоюзном движении Сэмюел Гомперс. В лучшие годы собрания Союза еженедельно посещали 37 тыс. его членов.
Газета «Вперед» (на идише «Форвертс»), в течение многих лет выпускаемая русско-еврейским издателем Абрахамом Кааном, была самой крупной и самой популярной из всех печатавшихся на идиш газет Нижнего Ист-Сайда. Когда-то ее ежедневный тираж составлял 250 тыс. экземпляров. Каан, который умел ладить со многими лидерами иммигрантов и этнических меньшинств, получивших известность в Нижнем Ист-Сайде, сделал себе имя как автор отличавшихся мягкой иронией рассказов об иммигрантской жизни. Эти рассказы привлекли внимание Уильяма Дина Хоуэллса, всегда стремившегося найти в молодых американских писателях признаки нового, реалистического духа. Хоуэллс с энтузиазмом встретил опубликованный в 1896 году роман Каана «Йекиль»: мол, это первый роман об иммигрантах, написанный на английском языке иммигрантом. В романе «Восхождение Дэвида Левински» (1917) Каан дал полную картину двусмысленного положения иммигрантов и тех жертв, на которые приходится идти ради ассимиляции. Внимательно наблюдавший за парадоксами ассимиляции Каан обладал способностью глубоко проникать в суть жизни иммигрантов, что позволяло ему вполне авторитетно беседовать с американскими читателями на эту тему. Когда в 1897 году Линкольн Стеффенс был назначен редактором отдела городских новостей «Нью-Йорк коммершиал эдвертайзер», он принял на работу Каана, которому поручил писать статьи об иммигрантах Нью-Йорка, о набожных уличных торговцах, о забастовках в швейной промышленности, о свахах и о дилеммах, с которыми сталкиваются иммигранты, делая первые попытки жить так, как живут американцы. Каан также писал о таких политических деятелях Ист-Сайда, как Эмма Голдман, и о диспутах в Социологическом клубе. В 1985 году его яркие журналистские материалы вошли в сборник Мозеса Рисчина под названием «Бабушка так и не пожила в Америке».
Наслаждавшийся ролью брокера в сфере культуры, взывающего к американской публике, Каан также имел склонность к полемике и был весьма агрессивным представителем иммигрантского мира. (Эта двойственность и способность играть совершенно разные роли, причем как на сцене Нижнего Ист-Сайда, так и за ее пределами, стали частью культурного наследия мира, созданного иммигрантами.) На страницах своей печатавшейся на идише газеты Каан вел себя дерзко. Он писал статьи на разговорном варианте идиша, который подвергался настойчивой американизации. В статьях Каана не было и намека на то трепетное отношение к языку, которое отличало защитников чистоты идиша. При необходимости идиш, на котором печаталась газета «Вперед», пополнялся ходовыми американскими фразами и словами, что приводило в смятение тех, кто желал превратить идиш в язык культуры и изысканности, а не в жаргон кухарок, разносчиков и базарных торговцев, каким он был во всех странах Восточной Европы.
Столь же непочтительно Каан относился и к еврейской религиозной жизни. Будучи социалистом, он открыто бранил ортодоксальных иудейских раввинов за их немыслимое равнодушие к проблеме эксплуатации еврейских рабочих. Для него мало что значили иудейские традиции и обряды, но еврейский народ значил все. Он был убежден в том, что будущее евреев Нью-Йорка и Америки не в том, чтобы, закрывшись от окружающего мира, штудировать Тору, а в том, чтобы узнавать новое — о бейсболе, о модных танцах, об американской музыке и одежде. Каан превратил газету «Вперед» в чрезвычайно популярное издание, с передовицами, посвященными проблемам получения гражданства и хорошим манерам, и поощрял тех, кто писал на темы, которые вызывали практический интерес у читателей-иммигрантов. Особой популярностью пользовалась знаменитая «бинтел-бриф» — колонка писем, в которой читатели делились проблемами повседневной жизни и в которой им отвечал редактор. В ней были опубликованы письма певчих, которые утратили веру, и «матери, чья дочь влюбилась в молодого человека, родители которого не пропустили ни одной воскресной службы в церкви и с благоговением высказывались о президенте Кулидже». В этих анонимных письмах звучали голоса простых людей, рассказывающих умаляющие собственное достоинство, своеобразные в языковом смысле истории из собственной жизни:
Уважаемый редактор,
Поскольку я читаю «Вперед» с самой юности, я надеюсь, что вы позволите мне высказать наболевшее в «бинтел бриф». Девятнадцать лет тому назад, еще будучи ребенком, я приехала в Америку. Позже я здесь вышла замуж. Я так и не стала богатой в финансовом смысле, но обрела свое богатство в любви. Я любила своего мужа больше всего на свете. У нас было семеро детей, старшему из которых теперь тринадцать. Но Богу не было угодно, чтобы мы были счастливы, и после долгих лет тяжелой работы у моего мужа развилась чахотка...
Это был голос человека, который, сидя на кухне или в кафетерии нью-йоркского гетто, рассказывал о своей жизни, и по мере изложения истории «стаканчик чая» у него на столе медленно остывал. Это был также и голос американоеврейской прозы, авторами которой были Каан и Анция Иежерска, Исаак Башевис Зингер и Грейс Пейли.
Каан сделал газету «Вперед» мощным орудием американизации еврейских масс. Опубликованная в 1902 году и снабженная рисунками Джейкоба Эпстейна книга Хатчинса Хэпгуда «Дух гетто: очерки о еврейском квартале Нью-Йорка» стала одним из самых сочувственных и насыщенных информацией отчетов о жизни евреев в Нижнем Ист-Сайде. Ее автор называл Каана «лучшим духовным агитатором». На самом деле это была высокая похвала.
Культурная жизнь иммигрантов Нижнего Ист-Сайда удивительным образом отражена на страницах газеты «Вперед». Введя в рацион своих читателей небольшое количество романтических мыльных опер, Каан открыл постоянную колонку, в которой печатались «Perl fun der yidisher-poezye» («Перлы поэзии на идиш»), и в течение многих лет постоянно публиковал по частям романы более литературного характера. Каан публиковал книги Шолема Эша, реалистические романы И. Дж. Зингера (который перед тем, как иммигрировать в Америку, был собственным корреспондентом газеты «Вперед» в Варшаве) и рассказы его младшего брата, Исаака Башевиса. Взаимоотношения Зингера с газетой начались в 1935 году, когда он приехал в Америку и стал одним из ее штатных сотрудников, и продолжались после того, как в 1978 году он получил Нобелевскую премию в области литературы. В 1950-е годы в газете «Вперед» появились романы Зингера «Усадьба» и «Поместье», которые давали панораму жизни евреев в Польше XIX столетия и безжалостно вскрывали опасности, связанные с ассимиляцией. В английском переводе эти романы были опубликованы в 1967 и 1969 годах. Уже после смерти Зингера, в 1998 году, был опубликован роман «Тени Гудзона». Однако впервые роман появился в газете «Вперед», которая печатала его частями по два раза в неделю, с 1957 по 1958 год. Но взаимоотношения Зингера с этим изданием, как и в целом с еврейской общиной Нижнего Ист-Сайда, не были простыми. Зингер не стеснялся выражать свое пренебрежение к журналистам «Вперед», презирал их за то, что они работают в газете, выходящей на идише, и приучал их детей говорить по-английски.
В отличие от Каана, Зингера увлекали литературные возможности идиша, но он пришел в смятение, обнаружив, что на самом деле в Нью-Йорке нет никаких признаков использования идиша в сфере культуры и нет читателей, для которых стоит писать на идише. В 1930-е годы он был ошеломлен тем, что в своем большинстве нью-йоркские евреи говорят на английском, а не на идише. «Так вот, было назначено собрание членов Хадассы3, и я поехал туда, ожидая, что там будут говорить на идише. Но войдя в помещение и обнаружив около двухсот сидевших там женщин, я услышал лишь одно слово: “delicious, delicious, delicious”4. Я не понял, что это означает, но это не был идиш. Уж не знаю, что им там дали поесть, но те двести женщин сидели и повторяли слово “delicious”. Кстати, это было первое английское слово, которое я выучил». Понимание этого факта оказало на Зингера парализующее воздействие. «В течение пяти, шести, а может, и семи лет я не мог написать ни слова. За все эти годы я не только ничего не опубликовал, но и сам процесс написания стал для меня такой каторгой, что скомкал мою грамматику. Я не мог написать ни единого стоящего предложения».
Со временем преодолев первоначальный шок, вызванный пониманием того, как живут евреи в Нью-Йорке, и восстановив способность писать, Зингер стал одним из самых плодовитых авторов, печатавшихся в газете «Вперед», для которой писал целый ряд различных литераторов. Там же печатался и Каан, в котором уживались два разных писателя, один из которых творил для американских читателей, а другой писал на идише для газеты, рассказывая о жизни иммигрантов. Зингер чувствовал необходимость принять на вооружение целую серию псевдонимов, каждым из которых он пользовался в строго определенных случаях. Так, псевдонимом «Ицхак Башевис» он подписывал лишь рассказы и свои самые отточенные литературные произведения. Под именами «И. Варшавский» («Человек из Варшавы») и «Д. Сигал» он публиковал более популярные работы, беллетристику, автобиографию и полемические статьи о современной ему политике и литературе. С ним работала группа преданных переводчиков, которые переводили на английский его романы и рассказы. Однако те, кто читал Зингера в оригинале, утверждают, что в переводах мало что осталось от того идиоматического многообразия и языкового богатства, которым насыщен его идиш, представлявший собой смесь архаики с вполне современной идиоматикой, что было новшеством для литературного идиша. Кроме того, Зингер порвал с традиционным для пишущих на идише сентиментальным стилем. Он отвергал мысль, что романистам следует быть проповедниками, пропагандистами или путать роман с трактатом по социологии. Читавших на идише смущало то, что он проявлял интерес к сексу и что в его романах отсутствовали явные нравоучения.
В Зингере не было и намека на столь характерный для Каана радикализм (со временем Каан стал склоняться к правым взглядам, постепенно освобождаясь от чар коммунистических идей), и он при любом удобном случае выступал с нападками на левых и на «современных» евреев. Все в жизни нью-йоркских евреев оскорбляло его чувства. «Англизированный идиш, идишизированный английский, — писал он в коротком рассказе «Свадьба в Браунсвилле», — оглушительная музыка, дикие пляски... люди, которые не имели никакого отношения к еврейству, носили ермолки, а почтенные раввины и певчие обезьянничали, подражая христианским священникам». Из этого американские читатели Зингера понимали только, что автор выражает крайнюю степень презрения к лживости ассимилированного еврея, показанного в таких романах, как «Враги: история любви» (1972), «Раскаявшийся» (1983) и «Мешуга» (1994). Большинству читателей Зингера куда больше нравилось, когда он писал сказки о неподвластном ходу времени мире shtetl (местечковом), и некоторые усматривали в них сходство с творчеством Марка Шагала. Но когда издательство «Харпер энд Роу» обратилось к этому русско-французскому художнику с предложением сделать иллюстрации к одной из сказок Зингера, предложение так и не было принято. Читатели Каана, во всяком случае, те из них, кто был моложе и радикальнее, стали все враждебнее относиться к его неистовому антикоммунизму. Другим читателям хотелось, чтобы деятели культуры не заставляли бы волноваться за жизнь еврейских иммигрантов. Постарев, и Каан, и Зингероказались не готовы им угождать.
Центры социальной помощи
На Генри-стрит, в квартале к югу от Восточного Бродвея и восточнее пересечения с Монтгомери-стрит, находится Центр социальной помощи Генри-стрит. Основанный в 1893 году, он занимает дома периметральной застройки, приобретенные для него еврейским филантропом Джейкобом Шиффом. Когда-то этот центр входил в число самых известных благотворительных заведений Америки. Работники благотворительных учреждений, расположенных в районе Генри-стрит, попросили молодую медсестру Лиллиан Уолд объяснить, как проводить патронаж. После одного из занятий к Уолд подошла девушка и стала упрашивать медсестру навестить ее больную мать. Поднявшись по сырой лестнице многоквартирного дома, Уолд обнаружила семью из семи человек, ютившуюся в двух комнатах. Отец был калекой, который фактически просил милостыню на улицах, делая вид, что занимается торговлей. Мать страдала от кровоизлияний и, мучаясь от боли, лежала на грязной кровати. Уолд поняла, что эти люди вовсе не безнадежны, но они брошены обществом на произвол судьбы, а такие условия жизни возможны лишь потому, что общество по-прежнему не знает всей правды. Вместе с Мэри Брюстер, которая была ее подругой со времен учебы в школе подготовки медсестер, Уолд сформулировала следующий принцип действия: «Как медсестры, мы должны жить по соседству (писала она в «Доме на Генри-стрит» (1915)), отождествлять себя с соседями социально, короче говоря, принести им клятву верности».
Уолд принадлежала к первому поколению молодых американских идеалистов, которые рассматривали Нижний Ист-Сайд как проблему, соизмеримую по своим масштабам с их общественно-социальными идеалами. Посетив лондонский Тойнби-холл, Стэнтон Койт обосновался в Нижнем Ист-Сайде, где надеялся принять участие в восстановлении этого района. Основанный им в 1886 году центр «Нейборхуд Гилд» был реорганизован в Университетский центр социальной помощи. Открывшийся в 1901 году по адресу Элдридж-стрит, 184, на углу с Райвингтон-стрит, Университетский центр социальной помощи стал главной силой крупного общественного движения. В 1889 году Вайда Даттон Скаддер и группа выпускников колледжа создали Колледжский центр социальной помощи на Райвингтон-стрит, 95. Совет директоров центра сформировали выпускники элитных колледжей (Смита, Вассара, Уэллсли, Брин-Мора и «Гарвардского флигеля», позднее — колледжа Рэдклифф). В 1892 году на рассмотрение Колледжского центра социальной помощи поступило восемьдесят заявлений от женщин с высшим образованием, страстно желающих заниматься тем, чем занимался центр.
В 1891 году было шесть центров, в 1900 году их количество превысило сотню, а к 1910 году возросло до четырехсот, причем они вели работу среди всех известных светских и религиозных организаций и спонсоров. В 1910 году более 40 процентов всех центров социальной помощи составляли религиозные организации. Наибольшую активность проявляли методисты, иудеи, англикане, пресвитериане и пуритане. Через приходские школы, благотворительные учреждения и организации в приходах католическая церковь поддерживала свое присутствие в Нижнем Ист-Сайде. Но горький опыт подсказывал, что к обращающим в иную веру центрам иммигранты относятся с подозрением. Религиозные названия отталкивали, и центры все чаще убеждались, что светская самоидентификация оказывается более эффективной.
Кроме того, обнаружилось, что слишком тесная связь с идеей благотворительности подрывает положение центров в обществе. Порой взаимоотношения между центрами и благотворительными организациями складывались совсем непросто. Помимо этого, в центрах, несомненно, присутствовал элемент классовой напряженности. Как правило, туда приходили добровольцами образованные представители среднего класса, которые от всей души сочувствовали бедственному положению иммигрантов и были готовы требовать социальных реформ. Впрочем, среди сотрудников центров хватало и тех, кто отличался высокомерной снисходительностью, консерватизмом и непоколебимой убежденностью в превосходстве собственных общественных ценностей. Были и другие: те, кого раздражало столь традиционное отношение и кто желал усилить роль центров в проведении реформ по улучшению санитарных условий работы и условий оплаты на предприятиях, где применялась потогонная система труда. Состоятельные консервативные филантропы, которые издавна оказывали помощь благотворительным организациям Нижнего Ист-Сайда, случалось, обнаруживали, что забастовщики из их собственных магазинов и фабрик получали поддержку со стороны работников центров социальной помощи.
В своей книге «Двадцать лет в “Халл-хаус”» (1910) Джейн Аддамс рассказывает, как в 1889 году вместе с Эллен Гейтс Старр она основала в Чикаго общество реформ «Халл-хаус», рассчитывая ликвидировать пропасть между иммигрантами и коренным населением. Работники этого центра принадлежали к числу тех немногих, кто вступал в прямой контакт с иммигрантами и чернокожими. В 1895 году сотрудники «Халл-хаус» подготовили карту национальностей; это была первая попытка систематизированного описания иммигрантских общин американского города. Подход центра заключался в том, чтобы понять обычаи и традиции иммигрантского населения и попытаться найти для него перспективные возможности.
Мотивы, которыми руководствовались сотрудники центра, вызвали широкую дискуссию. Что же, в конце концов, заставляло молодых, образованных женщин-протестанток из американских семей жить одной жизнью с малоимущими иностранцами? В пору, когда американское общественное мнение все более и более склонялось к неприятию иммигрантов, казалось, что идеализм сотрудников центра полностью противоречит настроениям подавляющего большин-ства. Джейн Аддамс затронула эту проблему в своей лекции «Субъективная необходимость создания центров социальной помощи» (1892). Как правило, американцы, добившиеся определенного общественного положения, не желали иметь ничего общего с обитателями многоквартирных домов для малоимущих. Но молодежью, которая всей душой верила в американские идеалы, двигала необходимость выразить свой социальный идеализм. «Я билась, будто птица в клетке, — писала Вайда Даттон Скаддер в автобиографической книге «В пути» (1937), — клетке обычаев и высокомерия моего собственного класса. Я жила если не в оранжерее, то в закрытом саду, за забором учтивых манер, регулярного питания, бытовых удобств, безопасности и хорошего вкуса. Мне нравилась эта успокаивающая атмосфера. Хотя иногда я в ней задыхалась. Мне хотелось сбежать, сбежать туда, где прямо в лицо дует ветер». Таким людям, как Койт и Скаддер, которые работали в центре на Райвингтон-стрит, или Лилиан Уолд с Генри-стрит, Нижний Ист-Сайд требовался ничуть не меньше, чем поддержка центров социальной помощи — жителям многоквартирных домов для малоимущих. Наличие подобной обратной связи между сотрудниками центров социальной помощи и иммигрантами, связи, которая существовала, несмотря на половые, классовые и религиозные отличия, делало Нижний Ист-Сайд значимым явлением американской жизни, выходившим за рамки тех социальных проблем, которые в большом количестве возникали на пространстве к востоку от Бауэри-стрит.
1
«Мужественные всадники» — прозвище Первого полка волонтеров кавалерии США, состоявшего из ковбоев, владельцев ранчо и студентов и созданного по инициативе Т. Рузвельта в начале испано-американской войны (1898). Подполковник Рузвельт стал известен всей стране как заместитель командира этого полка, геройски проявившего себя в сражении у холма СанХуан. — Примеч. перев.
2
Макклоски, Джон (1810—1885) — первый американский католический кардинал. — Примеч. перев.
3
Хадасса — женская сионистская организация Америки. — Примеч. перев.
4
Прелестно (англ.).
Многоквартирный дом
В 1899 году в отеле «Шерриз» на Пятой авеню проходила выставка «Многоквартирный жилой дом». Проведение этой выставки финансировало Нью-Йоркское общество благотворительности. Отель «Шерриз» выбрали отнюдь не случайно: размещение выставки в этом известном своей роскошью заведении было попыткой реформаторов «ознакомить Пятую авеню» с теми жуткими социальными трудностями, относительно которых большая часть элиты пребывала в счастливом неведении. Помимо чувства разочарования, вызванного неспособностью городских политиков и общественности со всей серьезностью отнестись к необходимости принятия новых законов, регулирующих строительство многоквартирных домов, выставка была задумана как способ представить публике проблему многоквартирных домов во всем ее масштабе и природу «ужасных пороков», из которых возникли так называемые «старые нормы права и эти дурацкие многоквартирные дома. Я убежден в том, что никакого реального прогресса нельзя достичь до тех пор, пока общество не очнется и не узнает о существующих ныне условиях, и после этого комитет с головой уйдет в работу...», — писал секретарь комитета по многоквартирным домам при благотворительном обществе Лоуренс Вейллер. В 1893 году Лиллиан Уолд заключила, что незнание условий проживания в многоквартирных домах является единственным серьезным препятствием на пути реформ. Спустя несколько лет к такому же выводу пришел и Вейллер.
В 1899 году на Манхэттене и в Бронксе насчитывалось 40 тыс. многоквартирных домов, в основном построенных на земельных участках шириной 25 футов и глубиной 100 футов. Планировалось, что на каждом из шести или семи этажей таких домов будут жить четыре семьи. Построенные в большинстве случаев при минимальных затратах девелоперов и спекулянтов недвижимостью, многоквартирные дома представляли собой чрезвычайно выгодное капиталовложение. В 1862 году ставший инспектор департамента зданий и сооружений Нью-Йорка кратко разъяснил значение нового термина: многоквартирным домом считалось здание, где «величайшую сумму доходов пытаются получить при ничтожнейшем объеме пространства, уделяя мало внимания или вообще не уделяя такового здравоохранению, удобствам и защите жизни съемщиков». Арендаторы понимали, что им придется сдавать жилье в поднаем квартирантам, которые помогут покрыть высокую стоимость арендной платы. В городе, где стоимость жизни была высока, перенаселенность, которая вызывала осуждение современников, считавших ее одним из худших недостатков жизни в многоквартирных домах, возможно, являлась осознанным выбором малоимущих иммигрантов. Выгоды, которые давало положение квартиранта, привлекали огромное количество «салаг» — недавно прибывших иммигрантов, отчаянно нуждавшихся в крыше над головой, — и тех, кто показывал им все ходы и выходы. «Салага» был комической фигурой, объектом шуток в водевилях. Один из удивительных эпизодов, случившихся с Юрием Сулем, когда он сам был таким новичком, описан в его автобиографии «Одной ногой в Америке» (1951). После прибытия на остров Эллис он поехал на метро на Миртл-авеню, где жил его дядюшка Фейвиш. Суля познакомили с шестью двоюродными братьями и сестрами, пятью троюродными братьями и сестрами, тремя тетушками с отцовской стороны, четырьмя тетушками с материнской стороны и, «наверное, с полудюжиной соседей» — причем все они были в этой стране чужестранцами.
«Вот наш салага», — объявил дядюшка Фейвиш заполнившим весь дом людям.
Я воспринял это как титул, который Америка дарует каждому вновь прибывшему. Этот титул надо носить с достоинством, подумал я и улыбнулся.
Но «салага» мог утратить чувство собственного достоинства и вызывать сострадание; этому человеку каждый день приходится выживать в ужасном мире многоквартирного дома. Бернстейн, эрудированный работник, трудившийся за гроши в полулегальной мастерской и квартировавший у Джейка и Джитл в романе Каана «Иекль» (1896), стал хорошей компанией для беспокойной парочки своих хозяев — впрочем, таковым становился любой другой, кто помогал им покрывать арендную плату. В снятом по роману Каана фильме Джоан Миклин Силвер «Хестер-стрит» (1974) добавлена сцена, в которой Бернстейн увлеченно учит сына Джейка и Джитл Джоуи буквам древнееврейского алфавита.
Реформаторов поражала и раздражала архитектура гантелеобразных многоквартирных домов, удивительным примером которой является дом 19 по Элдридж-стрит, возведенный в 1879 году. Только комнаты, расположенные в фасадной и тыльной частях здания, были светлыми и имели хорошую естественную вентиляцию. В некоторых «темных» комнатах вообще не было окон. В других имелись окна, которые выходили в узкую вентиляционную шахту между примыкающими зданиями. Недостаточные для нормальной циркуляции воздуха, не пропускавшие солнечного света, в случае пожара эти вентиляционные шахты, подобно жаровым трубам, стремительно распространяли дым и пламя по всему зданию. Помимо этого, сюда всегда сбрасывали мусор, что превращало их в источники омерзительных запахов. Благодаря своей акустике, они усиливали любой шум. Мало кто в Нижнем Ист-Сайде имел возможность вести уединенный образ жизни. Вейллер утверждал, что подобная обстановка создавала благодатную почву для болезней, пороков и преступности. Мало кто подвергал это утверждение сомнению.
На больших схемах, демонстрировавшихся на выставке Вейллера, был показан каждый квартал районов многоквартирных домов (в Нижнем Ист-Сайде плотность такой застройки была самой высокой в городе). Каждое здание было представлено макетом, с указанием типа строения и его использования. Аналогично выглядела и картограмма уровня бедности, на которой черными точками были обозначены все семьи, обратившиеся за благотворительной помощью. Имелась и картограмма заболеваний, на которой были показаны все случаи заболевания туберкулезом, тифом и дифтерией, зарегистрированные за последние пять лет отделом здравоохранения. Наряду с выполненными в масштабе макетами многоквартирных домов, планами этажей и картограммами, на выставке были представлены диаграммы, которые доказывали необходимость обустройства в Нижнем Ист-Сайде парков, игровых площадок и общественных бань. Демонстрировалась одна тысяча фотографий. Некоторые фиксировали плоды успешного развития города, другие (их было большинство) являлись яркими иллюстрациями условий жизни в многоквартирных домах. Имелась целая серия фотографий наихудшего жилья для рабочих в каждом городе США с населением свыше 25 тыс. жителей. Только в Бостоне и Чикаго были здания, которые по своей перенаселенности и скверному состоянию, могли соперничать с многоквартирными домами Нью-Йорка. В 1889 году в своей знаменитой лекции под названием «Как живет другая половина» Якоб Риис использовал диапозитивы этих фотографий, а позднее воспроизвел их в качестве иллюстраций к своей книге с тем же названием. Официально союз между фотографическим искусством и социальными реформами был закреплен в 1899 году, на выставке Вейллера «Многоквартирный дом».
С ростом численности населения жилищные условия резко ухудшались. Еще в 1840-х годах в Нью-Йорке отмечались неоднократные жалобы на жилищные условия. Но в те времена власти отвечали на подобные жалобы полным бездействием. Энтузиасты преобразований в санитарно-гигиенической сфере и работники благотворительных организаций исследовали условия жизни в многоквартирных домах, но их призывы к реформам, даже получавшие поддержку свободного от предрассудков общественного мнения, не отвечали интересам торговцев недвижимостью, строительных компаний и владельцев многоквартирных домов. У своекорыстных собственников имелись методы защиты права заключения контракта между квартиросъемщиком и домовладельцем. Какими, собственно, полномочиями обладал город, чтобы вмешиваться в права собственности? Зачастую домовладельцы были богатыми и властными людьми, имевшими политическое влияние. Что касается иммигрантов, они не имели права голоса и часто оказывались совершенно беспомощными перед произволом. Впрочем, в 1860-х годах реформаторам-филантропам, во главе которых стояли врачи, воспринимавшие трущобы как благодатную почву для возникновения и распространения болезней, удалось убедить законодательное собрание штата в необходимости создания отдела здравоохранения для решения наиболее насущных проблем.
Причиной беспокойства по поводу многоквартирных домов было не только их техническое состояние. Их рассматривали также как рассадники преступности и безнравственности. Дети, которые росли в таком окружении, часто отличались физической неразвитостью, получали плохое образование или не получали его вообще, а потому были напрочь лишены моральных устоев. В романе Джимми Джонсона и Стивена Крейна «Мэгги» (1893), мрачном образчике литературного натурализма, показан агрессивный горожанин, вселявший страх в души сверстников:
Со временем его презрительно-насмешливый взгляд стал таким пронзительным, что испепелял все вокруг. Сам же он сделался столь подозрительным, что уже ни во что больше не верил. По его мнению, полиция всегда действовала исключительно по злобе, а весь остальной мир по большей части населяли жалкие твари, каждая из которых пыталась использовать его в своих интересах и с которыми он, чтобы защититься, вынужден был по любому поводу вступать в перебранку.
В 1872 году Чарльз Лоринг Брейс, основатель Общества помощи детям, опубликовал книгу под названием «Опасные классы Нью-Йорка». Детей многоквартирных домов Брейс причислял к «опасным классам» и выражал опасения, что, если общество не предпримет ничего по отношению к живущим на улицах беспризорным детям, оно рискует пожать ужасающие плоды преступности. По мнению Брейса, решением проблемы было обучение уличных детей в ремесленных школах и отправка сирот в хорошие фермерские семьи Среднего Запада. Каждый «грех городской жизни» связан с многоквартирными домами, утверждалось в проповедях, публичных лекциях, передовицах газет и журнальных статьях.
Но можно привести и другие примеры того, как складывалась жизнь иммигрантов; далеко не все они коротали свой век в многоквартирных домах Нижнего Ист-Сайда. Так, автор знаменитого романа «Уловка-22» (самый читаемый из всех американских романов о Второй мировой войне) Джозеф Хеллер рассказал историю своего детства в опубликованной в 1998 году автобиографической книге «Сейчас и тогда». Он родился в 1923 году на Кони-Айленде, в дальнем конце Бруклина. Жизнь в иммигрантской семье имела мало общего с тем ярким миром, который воспевали Роджерс и Харт в своем мюзикле «Манхэттен» или Коул Портер в «Ты на вершине». Это история семьи, которая жила в бедности, рассказ о борьбе за выживание родителей, евреев-иммигрантов, и об одиночестве умненького мальчика с колючим характером, отец которого работал водителем грузовика и умер во время неумело проведенной операции, когда Хеллеру было пять лет. Этот мир совершенно не соответствовал до сих пор приписываемому иммигрантам стереотипу теплых, сентиментальных взаимоотношений, в центре которых находилась семья. «Что касается моего отца, — вспоминал Хеллер, — то после того, как он умер, я просто потерял к нему всякий интерес... Я не знал того нежного восхищения широкой и щедрой натурой, которое Набоков испытывал в отношении своего отца. Моего я вообще едва знал. Если хотите, уход из жизни мистера Исаака Даниэля Хеллера воспринимался мной как некоторое затруднение, и не более того». Чтобы выжить в эпоху Великой депрессии, мать сдавала углы квартирантам и занималась шитьем. В шестнадцать лет Хеллер поступил на работу в компанию «Вестерн юнион» и занимался доставкой телеграмм. Джоуи, его старший брат, и сестра испытывали друг к другу чувство глубокой привязанности. Но только став взрослым, Джозеф обнаружил, что на самом деле они близкие родственники лишь по одному из своих родителей. Самым неожиданным образом история жизни иммигранта вдруг сделалась сюжетом викторианского романа, с его таинственными близнецами, переменой имен, ранее не известными отношениями и катастрофическими несчастьями, которые внезапно обрушиваются на голову. Для иммигранта с Кони-Айленда жизнь напоминала катание на «русских горках».
Выставка Вейллера оказала сильное воздействие на отношение общества к многоквартирным домам, что привело к принятию в 1901 году закона о нью-йоркском многоквартирном доме. Был создан специальный отдел мэрии, на который возложили ответственность за принятие мер по улучшению санитарных условий для 2 372 079 жильцов многоквартирных домов города. Вейллера назначили помощником руководителя этого отдела, он продолжал оказывать значительное влияние на государственную политику в области реформ жилья. Новые многоквартирные дома (то есть дома, построенные после принятия закона 1901 года) существенно отличались от старых. Теперь высоту ограничили пятью этажами, что несколько снижало перенаселенность. Стало обязательным наличие ванных комнат, которые заменили расположенные в коридорах общие туалеты. Были приняты строгие меры пожарной безопасности общих коридоров и лестниц. Предполагалось, что каждая комната должна быть «светлой». Для будущих домов вводился запрет на вентиляционные шахты.
Сегодня в Нижнем Ист-Сайде повсюду видны плоды выставки Вейллера и закона 1901 года. Владельцы старых, переконструированных многоквартирных домов обнаружили, что оказались в невыгодном положении на рынке недвижимости, и нехотя принялись улучшать условия проживания. Закон не распространялся на старые дома и не требовал их модернизации, но к этому обязывал рынок. До сих пор существует множество признаков, которые выдают принадлежность зданий к более раннему периоду постройки. При сносе многоквартирного дома иногда можно заметить уцелевшую часть вентиляционной шахты.
За массовый снос трущоб в бедных районах всерьез взялись в 1930-х годах. Строительство жилых кварталов главным образом финансировалось из средств Федерального управления по жилищным вопросам, новые застройки называли в честь местных героев (от Сэмюела Гомперса и мэра Ла Гуардиа до Лиллиан Уолд) и частных застройщиков (Питер Купер-Виллидж и Стайвесант-таун). Они заменили обветшалые многоквартирные дома на значительной части территории Нижнего Ист-Сайда. На расчищенных от старых многоквартирных домов площадях были разбиты парки. Уцелели только те здания, которые находились в более приличном состоянии. В 1980-х годах, когда квартирная плата в городе стала настолько высока, что появились финансовые возможности перепланировки зданий, многоквартирные дома вновь привлекли к себе внимание. С некоторого времени наблюдаются все признаки явной джентрификации1 Нижнего Ист-Сайда: экземпляры «Уолл-стрит джорнал» в почтовых ящиках, магазины сети «Гэп» и частные картинные галереи — вот лишь некоторые из них. Превращение бывших многоквартирных домов в дорогостоящие кондоминиумы неизбежно ведет к сокращению резервов доступного жилья. Этот процесс идет по всему Манхэттену, и Нижний Ист-Сайд не является исключением.
Есть и другие признаки того, что отношение к Нижнему Ист-Сайду меняется. В 1966 году Комиссия по сохранению исторических памятников Нью-Йорка внесла в свой список синагогу Биалистокер на Виллет-стрит. Она стала первой из целой серии важных исторических достопримечательностей: синагога Бет Хамедраш Хагодол на Норфолк-стрит (1967), синагога на Элдридж-стрит (1980), здание газеты «Вперед» (1986) и расположенное на Норфолк-стрит здание религиозного братства «Анше Слоним» (1987). В 2001 году протянувшуюся в виде буквы L историческую часть Нижнего Ист-Сайда включили в Национальный регистр исторических мест.

Карта-схема Нижнего Ист-Сайда
Но еще более характерным признаком того, что Нижний Ист-Сайд, Ист-Виллидж и другие районы города меняют свой облик, стало появление в 1980-х годах экологического движения по созданию в микрорайонах города садов и парков. Сегодня в Нью-Йорке приблизительно 750 таких садов. Столь малое количество парков, при множестве пустующих земельных участков, где когда-то стояли многоквартирные дома, заставило Норманда Вэлли и Рей-налдо Аране начать ручную расчистку пустующих участков, которые использовались как мусорные свалки. Но эта инициатива почти не привлекла внимания местного населения — бедного, деморализованного, временного и (что наиболее вероятно) склонного к употреблению наркотиков.
Когда первые участки расчистили, посадили деревья и появившиеся сады снискали горячую любовь жителей микрорайонов, стало ясно, что идея прижилась. В конечном счете город принял программу «Садоводческое искусство», целью которой было содействие временному использованию городской собственности. В микрорайонах, жители которых разобщены, такие сады стали средством налаживания связей между людьми. Спонтанно появлявшиеся «побеги социальной активности» разрушали границы этнических общин. Это был классический пример активности широких масс. На месте бесплодных, заброшенных пустырей появились увитые виноградной лозой беседки, деревья и симпатичные, усыпанные гравием дорожки.
Когда мэр Джулиани понял, что в городе так много пустующих земельных участков, которые никак не проходят по налоговым ведомостям, он распорядился выставить сады в микрорайонах на аукционы и продать частным застройщикам. «Мы попытаемся приватизировать столько городской собственности, сколько сможем», — заметил первый помощник руководителя городского отдела по вопросам сохранения жилья и развитию жилого фонда. В 1999 году среди первых садов в списке намеченных к приватизации числились расположенные в Нижнем Ист-Сайде «Парк де транквилидад» и «Сад всех людей». Вместе с долларами, на которые расчитывал мэр, он получил демонстрации жителей, судебные некими гневные письма с обвинениями, напечатанные в «Нью-Йорк таймс». В конце концов удалось найти компромиссное решение, которое теоретически сохраняло большинство садов. Теперь город планирует застроить 131 участок из 711, которые первоначально были отведены под реализацию программы «Садоводческое искусство». Карта садов Нижнего Ист-Сайда есть в Интернете: www.earthcelebrations.com / gardens / gardenmap.html.
Эти сады стоит посетить.
Музей многоквартирного дома
Туристы, осматривающие Нижний Ист-Сайд, разумеется, лишены возможности посетить настоящие многоквартирные дома с их затхлым сырым воздухом, переполненными испражнениями туалетами, тараканами, обилием вшей, обнаглевших крыс, отсыревшими обоями, облупившейся краской и запахами пищи, которую готовят десятки семейств. Прежде всего, мы лишены возможности испытать на себе ту крайнюю степень перенаселенности, характерную для классического многоквартирного дома с его постоянно въезжающими и выезжающими квартиросъемщиками и шумными швейными машинками, которыми были уставлены тесные помещения мастерских, где использовалась потогонная система труда.
Но расположенный в Нижнем Ист-Сайде музей многоквартирного дома (Орчард-стрит, дом 97, между Брум-стрит и Деланси-стрит) даст вам то, чего вы не найдете в романах, репортажах и на фотографиях: ощущение реальности. (На сайте www.wnet.org/tenement можно совершить виртуальную экскурсию по музею.)
Музей состоит из трех квартир, в которых когда-то жили Бальдичи, Рогаршевские и Гумпертсы. Квартиры приведены в то состояние, в котором они находились, когда в них проживали эти семьи. Это «предзаконное» здание, то есть оно было построено до 1867 года, когда был принят первый закон о многоквартирных домах. Возведенное в 1863— 1864 годах иммигрантом и бывшим портным Лукасом Глокнером, оно предназначалось для размещения 20 семей в трехкомнатных квартирах площадью 325 квадратных футов каждая. В соответствии с общепринятыми стандартами 1860-х годов, в нем не было водопровода. Рукомойники и отхожие места находились на заднем дворе и просматривались со стороны многоквартирных домов на Аллен-стрит, которые позднее, когда эту улицу расширяли, были снесены. В 1905 году каждый этаж дома оборудовали двумя туалетами, а после 1918 года в здание провели электричество. Несмотря на некоторые незначительные структурные изменения, оно остается олицетворением первой волны построенных в Нью-Йорке многоквартирных домов.
В 1860-е годы его, вероятно, не относили к разряду казарм или трущоб. Когда дом был построен, в него переехал и сам строитель со своей семьей. Здесь он жил в течение нескольких лет. Последние квартиросъемщики дома 97 по Орчард-стрит были выселены в 1935 году, когда здание признали непригодным для проживания. В течение полувека оно использовалось только в коммерческих целях. Этот покинутый всеми дом оказался настоящей сокровищницей городских артефактов: игрушек, засохшей косметики, пустых бутылок, лохмотьев одежды и даже изрядно потрепанной доски для спиритических сеансов.
Его открыли Анита Джейкобсон и Рут Эбрам, которые хотели создать музей, чтобы помочь современникам понять, что происходило с иммигрантами после того, как они покидали остров Эллис. Выяснилось, что верхние этажи здания остались нетронутыми. Исследовательницы сумели установить, как звали некоторых квартиросъемщиков. Джозефина Бальдичи, семья которой выехала из этого дома, когда она была ребенком, подарила часть своих вещей и оставила воспоминания о жизни в доме 97 по Орчард-стрит. В квартире, где она жила ребенком, можно послушать магнитофонную запись ее рассказа. Обнаруженная в доме мебель полностью соответствовала тому периоду времени и общественному положению жильцов. Национальный фонд охраны памятников признал музей многоквартирного дома историческим местом, а город внес его в список достопримечательностей. Наряду со статуей Свободы и островом Эллис этот музей стал объектом внимания туристов и важной вехой коллективной памяти.
Дом № 5 по Ладлоу-стрит, неподалеку от того места, где эта улица пересекается с Кэнал-стрит, сейчас занимают компании «Мораке-Масканья Фьюнерал Хоум» и «Гонконг Фьюнералс Инк». Это потрясающее здание, где ныне размещаются похоронные бюро, было построено в 1892 году Независимым обществом братской помощи жителей Клецка, (Landsmanschaftn — общество взаимопомощи), основанным иммигрантами из польской деревни Клецк. Таких организаций насчитывались сотни (Независимая ассоциация жителей Вильно, Первая благотворительная ассоциация Одессы, Объединенная братия Помевича, Курляндское благотворительное общество, Независимое общество жителей Гродно по оказанию поддержки больным и т. д.), они, как грибы после дождя, возникали в Нижнем Ист-Сайде в 1880-х годах и позже. Нынешние арендаторы этого здания и та этническая преемственность, которую они, судя по всему, сохраняют, являются живыми напоминаниями о бесконечно сложной жизни этнического Нью-Йорка.

Карта-схема Гринич-Виллидж
1
Джентрификация — постепенное вытеснение малоимущих из городского района и заселение его людьми со средним и высоким достатком. — Примеч. перев.
Глава четвертая. Гринич-Виллидж
Гринич-Виллидж когда-то действительно был деревней (village — деревня), точнее, селом, окруженным пахотными землями и открытыми полями. Выехав с утра на запряженной лошадьми коляске, туда можно было легко добраться с Манхэттена. Это место, где первоначально находилось индейское поселение Сапоканикан (некоторые этимологи смело утверждают, что данное название восходит к делавэрскому термину, который можно перевести как «мокрое поле»), было куплено Голландской Вест-Индской компанией и отведено под табачную плантацию «Bossen Bouwerie». Часть плантации передали церкви Троицы (см. главу 2), которая была в данной местности важным землевладельцем. Название «Гринич» (Гринвич) появилось на картах еще в 1713 году, когда состоятельные капитаны морских судов и купцы стали строить красивые загородные поместья вдоль берегов Гудзона. Самым крупным было поместье сэра Питера Уоррена, впоследствии получившего чин вице-адмирала Королевского флота и погребенного в Вестминстерском аббатстве. Его большой особняк был возведен в том месте, где теперь пересекаются Чарльз-стрит и Бликер-стрит. После того как в 1747 году Уоррен вернулся в Лондон, его поместье переходило от дочери к дочери, пока, наконец, не было разделено на земельные участки по двенадцать и пятнадцать акров, идеально подходившие для загородных домов городского купечества и бизнесменов. Дом Уоррена и участок земли сохранялись в целости и невредимости вплоть до гражданской войны.
Схожую историю можно рассказать и о поместье Ричмонд-хилл, возведенном на том месте, где теперь пересекаются улицы Вэйрик-стрит и Чарлтон-стрит. Особняк с широкой верандой и портиком, который поддерживали ионические колонны, был построен в 1760-е годы Абрахамом Мортье и продан Аарону Бэрру, а затем Джону Джейкобу Астору. Он сильно пострадал от алчности последующих арендаторов: холм, благодаря которому из особняка открывался вид на Гудзон, срыли, а сам особняк в 1822 году превратили в таверну. В течение короткого периода времени он использовался как здание оперного театра, пока в 1849 году не был окончательно снесен. На раннем этапе существования Гринич-Виллидж облик поселения складывался главным образом под влиянием крупных сельских имений, таких как поместье Уоррена и Ричмонд-хилл. Состоятельные люди, которые владели этой собственностью, превратили нью-йоркский берег Гудзона в отличавшуюся утонченной изысканностью и полную очарования местность. По сравнению с крупными поместьями Ливингстонов на реке Гудзон и огромными земельными владениями Ван Ренселлеров, Уоррен и Мортье были всего лишь мелкопоместными дворянами, но в начале своей весьма любопытной истории Гринич-Виллидж являлся местностью со множеством сельских парков и деревянных особняков, вписанных в освященный вековыми дубравами ландшафт, который отличали потрясающие виды на противоположный, нью-джерсийский берег Гудзона.
Символы и желтая лихорадка
План упорядоченной застройки города, предложенный комиссией в 1811 году, Гринич-Виллидж не затронул. На это решение оказала влияние изолированность местности от основной части города, лежавшей южнее. Этот район был тихой заводью. Странная ориентация улиц, проложенных под косым углом к сетке улиц основной части города, сделала его непригодным для транспортного движения в северном направлении. Доступный лишь со стороны Гринич-роуд, район вступил в XIX век, сохранив частицу былой автономии. К 1811 году по маршруту Федерал-холл — Гринич-Виллидж пять раз в день курсировал экипаж, проезд на котором стоил 25 центов.
Наблюдавшееся здесь неожиданное смешение символики передавало своеобразие этого района. Патрицианские особняки и восхитительный сельский ландшафт создавали у нью-йоркцев впечатление, что в этой деревне сохранился уклад жизни минувшей эпохи. В том месте, где начинается Кристофер-стрит, за четырнадцатифутовыми стенами находилась тюрьма штата (в честь знаменитой лондонской тюрьмы ее назвали Ньюгейтской), которая часто становилась причиной волнений, поскольку местных жителей тревожила перспектива столкновения с бунтовщиками или беглыми заключенными. Ньюгейтскую тюрьму закрыли в конце 1820-х годов, когда открылась более крупная тюрьма в деревне Оссининг, также на берегу Гудзона (Оссинингское исправительное учреждение в народе называли «тюрьмой Синг-Синг»). На восточном краю Гринича находился участок Поттерсфилд. С 1794 года эта местность на пересечении Пост-роуд и Блумингдейл-роуд использовалась как кладбище для бедняков. В 1797 кладбище перевели туда, где позднее появилась площадь Вашингтон-сквер. Там оно оставалось в течение трех десятилетий. Когда понадобилось место для проведения публичных казней, на площади установили виселицы. В 1890 году, при производстве земляных работ, необходимых для закладки фундамента Арки Вашингтона (от которой берет начало Пятая авеню), были обнаружены надгробные памятники, свидетельствующие о том, что здесь хоронили не только самых бедных.

Однако прежде всего росту Гринича способствовали происходившие каждое лето вспышки желтой лихорадки, оспы, а затем и масштабная эпидемия холеры, обрушившаяся на город в 1832 году. Поначалу считалось, что эти эпидемические болезни являются уделом грешников, иммигрантов и бедняков. Несмотря на общие молитвы и объявление в стране поста, болезнь распространялась, и люди в панике бежали из города. В 1832 году, встревоженный тишиной улиц и опустевших жилищ, Уильям Каллен Брайант писал в «Ив-нинг пост» о том, что жертвами холеры в основном становятся «невоздержанные, распущенные и малоимущие создания, которые слишком невежественны, чтобы понимать, как им следует поступать». И далее: «Наша безопасность зависит от нас самих, а не от того, где мы находимся... Опасайтесь, но не бегите от действия пагубных влияний, существующих в атмосфере, которую мы вдыхаем». Несмотря на успокаивающий совет Брайанта, половина населения Нью-Йорка, которое составляло 100 тыс. человек, покинула город. Даже городской отдел здравоохранения рекомендовал покинуть зараженные районы.
В поисках места, где можно было укрыться от эпидемий, нью-йоркцы бежали с перенаселенных улиц центральной части города и селились в Гриниче. Деревянные здания рамной конструкции, едва ли не более скромные, чем простые фермерские дома, были снесены состоятельными нью-йоркцами и заменены кирпичными домами. Для их семей жизнь в главном коммерческом районе города стала попросту слишком опасной. (Во всех уголках Грини-ча до сих пор сохранились однотипные, построенные по федеральной программе руками плотников одноквартирные дома, например, дома 4—10 по Гроув-стрит, дом 59 по Мортон-стрит, дома 127—131 по Макдагал-стрит и дом 131 по Чарльз-стрит, которые дают яркое представление о том, как выглядел Гринич в 1820-е и 1830-е годы. Все они являются чрезвычайно ценной собственностью на сегодняшнем рынке недвижимости). Бизнесменам хватило ума переселиться в Гринич при первых же слухах о надвигающейся эпидемии. Новые фирмы по торговле недвижимостью, строительные и посреднические компании преобразили облик Гринича и впервые сделали его неотъемлемой частью города.
Вашингтон-сквер
После гражданской войны вдоль улиц Гринич-Виллидж выстроились ряды двух- и трехэтажных кирпичных строений, в которых занимались своим делом сапожники, кузнецы, портные и владельцы табачных лавок. Кристофер-стрит, одна из наиболее активных в коммерческом отношении улиц Гринич-Виллидж, стала родным домом для плотников, каменщиков, каменотесов, токарей и распиловщиков. Здесь же имелось множество конюшен, лавок и салунов. Оставляя за спиной бесчисленные кварталы, где бурлила светская жизнь, узкие улочки Гринича уходили на север. Вряд ли они могли понравиться тем состоятельным людям, которые строили величественные дома на Бонд-стрит, Лафайетт-плейс и Грамерси-парк или большие особняки на Пятой авеню. Поскольку здесь не было крупных фабрик и пакгаузов, на которых трудилось бы множество работников, Гринич обошло стороной то экономическое давление, которое превратило семейные резиденции Нижнего Ист-Сайда в многоквартирные дома и которое сделало их столь привлекательными для капиталовложений. Отсутствие широких проспектов, предназначенных для движения в направлении «север — юг» (еще не было Вэйрик-стрит, которая соединялась с Седьмой авеню, а Шестая улица вплоть до 1920-х годов не доходила до Принс-стрит), означало, что Гринич не принимают во внимание ни светское общество, ни рабочий класс, ни промышленность.
Другими словами, Гринич-Виллидж оставался районом, отделенным от города. Причал, расположенный в том месте, где начинается Кристофер-стрит, использовался для разгрузки привозимой из северной части штата древесины и строительных материалов, а в 1841 году здесь стал останавливаться паром из Хобокена. Это было то немногое, что получил Гринич в результате открытия канала Эри, сделавшего Нью-Йорк главным морским портом страны. В середине XIX столетия у Гринича была репутация спокойного и привлекательного для проживания района. «Никербокерский элемент находит все более широкое распространение, — отметил один приехавший сюда в 1865 году врач, — и оказывает немалое воздействие на поддержание высокой репутации благоприятного для здоровья места, чем всегда мог похвастаться Девятый район. Здесь очень мало богатых семейств и сравнительно немного очень бедных или развращенных. Основная масса населения — торговцы, служащие, механики высшего разряда, извозчики и прочие».
Усиление притока иммигрантов, изменивших этнический и религиозный состав населения и тем повлиявших на политику города, практически не оказало воздействия на Гринич. Девятый район получил репутацию (быть может, ироническую) «Американского» района. В 1875 году Гринич отличался от всех остальных районов города самой низкой долей жителей, родившихся за границей. Лишь в конце XIX века здесь впервые поселились в значительном количестве иммигранты. Ирландцы обосновались в северо-западном квартале, за ними прибыли афроамериканцы (разумеется, не иммигранты, а переселенцы из других штатов). Итальянские иммигранты начали превращать Гринич в подобие Маленькой Италии.
Преимущественное освоение Гринича как жилого района еще более усилилось после того, как город приобрел Поттерс-филд и, расчистив этот участок, предложил его в качестве площадки для проведения парадов (Вашингтон-сквер) и общественного парка. Официальное открытие состоялось 4 июля 1826 года, в ознаменование пятидесятой годовщины подписания Декларации независимости. Городской совет выкупил дополнительные участки земли, что увеличило площадь парка до сегодняшних 132 акров. В 1830-х годах были построены первые дома, фасады которых выходили на северную сторону Вашингтон-сквер. Достаточно скоро все забыли о том, что здесь когда-то был неухоженного вида земельный участок Поттерсфилд, куда стекались толпы людей,желавших стать свидетелями казни через повешение. Это был один из первых примеров той стремительности, с которой район Нью-Йорка может обрести новое общественное назначение.
Первая жилая застройка, получившая название «Роу» (ряд), включала в себя дома 1—13 по улице Вашингтон-сквер-норт. Это была впечатляющая группа вплотную примыкавших друг к другу домов, построенных в новогреческом стиле, рассчитанных на определенные слои населения и недвусмысленно предназначавшихся состоятельным ньюйоркцам — крупным купцам, банкирам, юристам и военным. Покупатели напоминали доктора Слоупера — персонажа книги Генри Джеймса «Вашингтон-сквер» (1881). Этот врач, переехав в комфортабельное жилье на Вашингтон-сквер-норт, с непреклонной решимостью приготовился защищать свою дочь от поползновений любого «авантюриста». Сам Джеймс родился неподалеку, в доме 21 (впоследствии 27) по улице Вашингтон-плейсист, но, когда мальчику было всего полгода, его увезли в Европу, и он воочию увидел Вашингтон,-сквер лишь в 1847 году, когда семья вернулась в Нью-Йорк и снимала дом 48 на Западной 14-й улице. В это время бабушка Джеймса все еще жила в доме 19 по Вашингтон-сквер-норт. Сам Джеймс не имел детских воспоминаний о районе, где родился, но благодаря визитам к бабушке писатель получал яркое ощущение особой атмосферы этой площади. Разговоры в гостиной у бабушки и визиты ее соседей позволили Джеймсу придумать домашний мир доктора Слоупера.
Притягательность Вашингтон-сквер тесно связана с ее местоположением. Она находилась не слишком далеко от суетного Бродвея и не слишком далеко от столь привлекательного центра культуры, как опера на Астор-плейс. В 1840-е годы этот парк с его айлантовыми деревьями и покрытыми листвой дорожками был самым крупным в городе. Толпы хорошо одетых горожан, наблюдающих за тем, как маршируют статные солдаты Седьмого полка ополчения штата Нью-Йорк, были прекрасным сюжетом для популярных тогда литографий. Дагерротипы бродвейских студий использовались как гарантия того, что облик офицеров на литографиях в точности соответствует их облику в реальной жизни. Будучи своего рода анклавом, окруженным часовней Св. Иоанна и Грамерси-сквер, этот парк рассматривался как обязательный компонент аристократического района. Раскинувшиеся восточнее Бродвея и оказавшиеся в эпицентре коммерческой активности Бонд-стрит и Лафайетт-плейс лишились своих парков задолго до появления Вашингтон-сквер.
У восточной стороны парка расположились два учреждения, которые не вполне соответствовали духу местности. И Университет города Нью-Йорка, и протестантская голландская церковь открылись в конце 1830-х годов. За широкими, посыпанными гравием дорожками площади открывается восхитительный вид на эти отмеченные всеми чертами готического стиля строения. Университет начал свою деятельность в 1831 году под руководством Альберта Галлатина, жившего неподалеку, на Бонд-стрит. С самого начала внутри этого учебного заведения возникли серьезные разногласия относительно целей высшего образования. Служители голландской реформатской церкви и пресвитерианской церкви требовали придать образованию религиозный характер. Другая группа попечителей, во главе которых стояли купцы и банкиры, хотела, чтобы на первом месте стояло изучение практических дисциплин и наук. Хотя официально университет считался светским учреждением с неконфессиональной программой, священнослужители взяли под свой контроль совет попечителей и заставили изменить учебную программу с учетом «пожеланий» церкви. Колумбийский университет (см. главу 2) был англиканским учреждением, в котором господствовали выходцы из англиканской общины Нью-Йорка. Высшее образование в Нью-Йорке было вовлечено в конфликты, имевшие место внутри протестантских общин города.
В 1889 году, когда стали обсуждаться планы торжеств, посвященных столетию инаугурации Джорджа Вашингтона, городские власти сочли Вашингтон-сквер вполне достойным местом для возведения триумфальной арки, которой предстояло стать центром празднования. Архитектор Стэнфорд Уайт предложил свой проект, и на северной стороне парка возвели конструкцию из окрашенного дерева, штукатурки и папье-маше. Обращенная к Пятой авеню, эта арка настолько понравилась публике, что был сформирован комитет по сбору средств, необходимых для замены временной конструкции на постоянную. В отличие от сопровождавшегося горячими дебатами сбора средств на строительство статуи Свободы, фонд мемориальной арки вскоре набрал 134 тыс. долларов, необходимых для того, чтобы воплотить в белом камне проект Стэнфорда Уайта из штукатурки и папье-маше. Состоявшееся в 1895 году открытие арки получило практически всеобщее одобрение. (Правда, Генри Джеймс считал арку «никудышной» из-за ее «невзрачности, отдаленности, отсутствия какого-либо ухода и оторванности от ландшафта».) В полном соответствии с идеалами «Движения за прекрасный город» она стала воротами, выходящими на фешенебельную Пятую авеню.
С самого начала арка притягивала к себе художников, фотографов, иллюстраторов и акварелистов, поскольку создавала панораму, отдаленно напоминающую Париж или Лондон. На картине «Арка Вашингтона, весна» художника Чайлда Хассама (1893, собрание Филлипса в Вашингтоне) арка используется как фон, на котором изображены верхушки деревьев, элегантные коляски, запряженные лошадьми, и светские дамы, прогуливающиеся по парку. Художники и иллюстраторы «Ашканской школы»1, например Эверетт Шинн и Уильям Глэкенс, считали парк неисчерпаемым источником вдохновения. Вместо того чтобы сосредоточиться на городской элите, Глэкенс изображал нянь и служанок с их подопечными, женщин-иммигранток итальянского происхождения, носивших платки и заполнявших парк в хорошую погоду. Джон Слоун, друживший с Шинном и Глэкенсом, в течение двух десятилетий жил либо на самой площади, либо рядом с ней. На своих гравюрах он изображал игравших в парке мальчиков.
Такие фотографы, как Джесси Тарбокс Биллс, делали снимки Вашингтон-сквер живописным снежным вечером, туманной ночью или в дождь. Андре Кертеш, живший в доме 2 по Пятой авеню, собрал целую серию фотографий, сделанных с выходившего на парк балкона своей квартиры на 12-м этаже. Первая художественная выставка на открытом воздухе прошла на Вашингтон-сквер в 1932 году, с целью оказать поддержку художникам в тяжелые времена Депрессии. К 1950-м годам эта проводившаяся раз в полгода выставка уже давно не ограничивалась Вашингтон-сквер. Быть может, качество работ было не таким, как прежде, но открытая выставка стала постоянным событием в жизни городских художников (в том числе любителей). Подобно тому как случилось с Флэтайрон-билдинг, художники и фотографы превратили арку Вашингтона в один из главных символов города.
Транспорту разрешили пересекать парк через мемориальную арку, в 1950-х годах градостроители, во главе которых стоял Роберт Мозес, предложили продлить Пятую авеню на юг. Затем Мозес выступил с идеей создания автомагистрали ниже уровня площади, по которой можно направить транспортный поток через площадь на улицу Вашингтон-сквер-саут. И только когда политические круги выразили недовольство (особенно отличилась исследовательница жизни американских городов Джейн Джейкобс), оценочная комиссия согласилась надолго закрыть парк для транспортного движения. Это решение было принято в 1958 году.
В 1963 году было принято окончательное решение о закрытии парка для транспортного движения. Это решение сделало Вашингтон-сквер с ее многочисленным студенческим «населением» еще более привлекательной для исполнителей неформальной музыки в стиле «фолк» и «декорацией для битников». Сюда потянулись толпы туристов. Но вскоре парк стал рынком наркотиков и вступил в долгую фазу упадка. Как вспоминал Ричард Сеннет: «...Качели у детских песочниц в северной части парка служат лавкой по продаже героина, скамейки под статуей какого-то польского патриота используются в качестве прилавка, на котором выставлены разнообразные таблетки, на всех четырех углах площади идет оптовая торговля кокаином. Теперь молодые люди не ночуют в парке; хотя различные дельцы и их подручные хорошо знакомы мамашам, которые наблюдают за своими детишками, резвящимися на качелях, и студентам расположенного поблизости университета, полиция, похоже, совсем не замечает этих преступников». «Виджи» (фоторепортер польского происхождения Артур Феллиг) и Дайана Арбус оставили нам память о Вашингтон-сквер, которая стала прибежищем пьяниц, психически неуравновешенных и брошенных на произвол судьбы людей. К 1970-м годам, когда город вступил в полосу невиданного финансового кризиса и, казалось, был весь исписан непристойными надписями, погряз в нищете и переживал разрушение общественных устоев, Вашингтон-сквер оказалась одним из символов этого падения. С тех пор ситуация резко улучшилась, но парк по-прежнему остается весьма проблемным местом. Сегодня в нем редко увидишь людей, безмятежно прогуливающихся с зонтиками от солнца.
В 1894 году университет снес свое готическое здание, а еще через два года переименовался в Нью-Йоркский университет. Подобно расположенному в Вест-Виллидж Сент-Винсентскому госпиталю, Нью-Йоркский университет за последние два или три десятилетия стал одним из самых алчных игроков на рынке недвижимости Гринич-Виллидж. Расширение университета до его нынешних размеров, наряду с репутацией прославленного исследовательского центра, где во главу угла поставлена профессиональная подготовка, приводят к постоянным конфликтам с населением окружающих микрорайонов; причиной конфликтов является острый и, по-видимому, неиссякаемый спрос университета на помещения для проведения занятий, лабораторий и студенческих общежитий. Сегодня университет является владельцем или арендатором большого количества недвижимости вокруг Вашингтон-сквер. Ему принадлежат 60 зданий в других районах города общей площадью более 6,3 млн кв. футов. С 1970 года эта цифра удвоилась. Когда в 2000 году предлагалось перевести аудитории и служебные помещения юридического факультета на Западную Третью улицу, тем самым уничтожив дом, в котором когда-то жил Эдгар Аллан По, и когда судья Верховного суда штата не мог найти законной причины, чтобы предотвратить уничтожение дома этого писателя, — в подобных случаях напряженность между университетом и местными жителями становится вполне очевидной. Когда это здание внесли в список домов под снос, один из представителей университета любезно заверил общественность, что «университет и юридический факультет продолжат работать над тем... чтобы составить проект и построить здание, которое, несомненно, станет лучшим во всем районе».
Новая деревня, 1912—1917 годы
С появлением метро и автомобиля имевшиеся в Гринич-Виллидж конюшни и маленькие мастерские по ремонту конных колясок закрылись, что создало избыток свободной недвижимости с низкой арендной платой — идеальной для использования в качестве студий и художественных мастерских. В результате реконструкции старых зданий в них появились маленькие и недорогие квартирки, в которых нуждались писатели. Аналогичный процесс наблюдался и в 1960-е годы, когда появились «сохосы» (SOHO — Small office, Home office — «малый офис, домашний офис») и художники стали селиться на чердаках промышленных зданий (см. главу 6). Не имевшую постоянного жилья богему, художников, писателей и радикалов Гринич притягивал низкой арендной платой и стремительно укреплявшейся репутацией района, который отличался от остального города. Он был уже не просто местностью или Девятым районом, а образом мысли, состоянием духа, стилем бунтарского отстаивания своих прав. Будучи воинствующим анархистом, шеф-повар Ипполит Хейвел весьма лаконично сформулировал эту мысль: «Гринич-Виллидж — состояние души, а оно не имеет границ». Горделивые претензии обитателей Гринича на самобытность были тонко подмечены Мартином Грином, который, хотя и не принадлежал к числу местных бунтарей, был одним из самых проницательных исследователей социальной среды этого района: «Деревня вечно пребывала в состоянии отдаления от остальной страны». Процветание района объяснялось не просто изменениями на рынке недвижимости и дешевой арендной платой, а тем, что Гринич предлагал нечто необычное и не связанное с материальным преуспеванием, например оценку людей по их человеческим качествам, старые, не подвергшиеся реконструкции салуны и наполненную событиями культурную жизнь. Гринич являлся постоянным упреком цензорам, пуританам, «дурачью» и провинциальности американской культуры.
Начиная с 1840-х годов, когда борьба между «Молодой Америкой» и англофильской «Никербокер ревью» была в самом разгаре, в Нью-Йорке соседствовали культура избранных и культура «толпы», культура кафе, в которых собирались фанатики, идеологических салунов и районов, обитатели которых отличались предвзятостью. Художники и писатели находили дружескую поддержку в самых невероятных местах, и среди самых значимых для них был Гринич-Виллидж.
В Гриниче имелись бесчисленные группы, объединения и кружки, порой соединявшие людей по роду деятельности или по политическим убеждениям, а иногда по журналу, который они читали, или по салуну и ресторану, который они посещали. Объединение мидтаунской журналистики, члены которого обожали посещать трущобы, сделало своим центром квартиру Линкольна Стеффенса на Вашингтон-сквер. В жизни художественной богемы в Гринич-Виллидж доминирующую роль играли друзья и последователи Роберта Генриха также Джона и Долли Слоун. Все они переехали в Нью-Йорк из Филадельфии и создавали свои произведения, будучи членами «Восьмерки», первого объединения американских художников XX столетия. На своих полотнах художники «Восьмерки» изображали виды Гринич-Виллидж. Здесь же они выставляли свои работы, а кроме того, делали рисунки и политические карикатуры для издания «Массы», которое было рупором живших в районе радикалов. Уильям Глэкенс и Эверетт Шинн жили на Уэверли-плейс. Анархистов можно было найти в редакции издаваемой Эммой Голдман газеты «Мать Земля», в доме 210 по Восточной Тринадцатой улице и в Современной школе анархиста Феррера Сентра в доме 104 по Восточной Двенадцатой улице (в том доме, где проводили занятия Роберт Генри и Джордж Беллоуз). Свою первую лекцию о русском анархисте князе Кропоткине и о философии регионализма Льюис Мамфорд прочитал на собрании Общества Феррера в Нью-Йорке в 1917 году.
На Вашингтон-сквер находилось университетское объединение, созданное при Нью-Йоркском университете, а отличавшиеся некоторым снобизмом группы интеллектуалов из «престижных кварталов» сосредоточивались вокруг Колумбийского университета. В число этих интеллектуалов входили Рудольф Бурн и Макс Истман (Истман изучал философию в Колумбийском университете, когда там ее преподавал Джон Дьюи, а затем переехал в нижнюю часть города и в 1912 году стал редактором газеты «Массы»). Объединение центров социальной помощи, в которое входили Хатчинс Хэпгуд и Найт Бойс, было создано на базе Университетского центра, Центра Лиллиан Уолд на Генри-стрит и Гриничского дома Мэри Симкович на близлежащей Барроу-стрит. Но это объединение всегда ощущало неуважительное отношение со стороны Гринича. Квартира Кристал Истман в доме 12 но Чарльз-стрит была местом проведения бесконечных семинаров по эмансипации, на которых суфражистки и феминистки (Маделейн Доти, Инес Милхолланд, Ида Руа) пытались выяснить, какими чертами будет обладать «новая женщина».
В Гриниче имелось и небольшое объединение социалистов, возглавляемое Уильямом Инглишем Уоллингом, блестящие политические очерки которого публиковались в «Новом обозрении». Кроме того, там издавалась газета «Массы», редакция которой находилась на Гринич-авеню, в доме 91. Центральными фигурами этого издания были его редактор Макс Истман, живший с Идой Руа на Уэверли-плейс, а также Джон Рид и Флойд Делл, жившие по соседству друг от друга в домах 42 и 45 по Вашингтон-сквер-саут. Они придерживались левых взглядов, причем всегда и везде. Поддерживая левое крыло социалистической партии, они были против ее руководящей группы во главе с Юджином Дебсом. Поддерживая организацию «Индустриальные рабочие мира», они выступали против Сэмюела Гомперса и Американской федерации труда, а также, встав на сторону коммунистической партии, они были против Уолл-стрит. Беспардонный радикализм газеты «Массы» был великолепной забавой и являлся предтечей контркультуры 1960-х годов, но в нем не хватало уравновешенности и доверия. Впрочем, обитатели Гринича считали, что такую добродетель, как уравновешенность, явно переоценивают. Что касается доверия, то здесь неизбежно вставал вопрос: доверия к кому и ради чего? Быть обитателем Гринича означало, что ты никогда и никому не должен внушать доверие. Самые заметные представители организации «Индустриальные рабочие мира» («Большой» Билл Хейвуд), а позже и коммунисты враждебно относились ко всему, что воспринималось как проявление духа Гринича. Самые разнообразные поборники свободной любви, последователи Фрейда и проявлявшие интерес к новым идеям поклонники этого сомнительного таланта нашли пристанище как в самом Гриниче, так и в периодических изданиях, которые здесь печатались.
В кружок Альфреда Стиглица входили художники, фотографы и молодые писатели, которые печатались в «Камера ноутс» и «Камера уорк» и которых часто можно было увидеть на фотовыставке «Галерея-291» по адресу Пятая авеню, дом 291. Среди них были Бенджамин де Кассерес и Садакичи Хартман, принадлежавшие к числу наиболее проницательных и оригинальных критиков новых движений в искусстве. Очерк де Кассереса «Неосознанное в искусстве» и очерк Хартмана «Эстетическое значение кино» (оба опубликованы в «Камера уорк» в 1911—1912 годах) стали важным вкладом в американский культурный авангард. Эти люди познакомили Нью-Йорк с самыми потрясающими художниками Парижа: Матиссом, Пикассо, Роденом. Большинство живших в Гринвиче романистов по своим убеждениям были реалистами (Эрнест Пул, Теодор Драйзер, Шервуд Андерсон), как и драматурги (Юджин О’Нил). Стихи молодых поэтов появлялись на страницах принадлежавших Альфреду Креймборгу маленьких журналов «Глиб» и «Азерс». У этого человека был девиз: «Старые выражения всегда с нами, но всегда есть и другие». В лучшие времена журнал «Азерс» имел 200 подписчиков. В Гринвиче это свидетельствовало о том, что ему доверяют. Была и другая группа молодых писателей, в центре которой стоял Гвидо Бруно, издатель серии «Bruno’s Chapbooks». Бруно взял в аренду мансарду по адресу Вашингтон-сквер, дом 58, и повесил плакат, провозгласивший ее «Мансардой Бруно, штаб-квартирой искусства и гения». Он принимал деньги от поэтов, которые были его поклонниками, и обещал опубликовать их работы в журналах «Бруноз Богемия» и «Бруноз Уикли», что иногда соответствовало действительности. В таверне «Минетта» (угол Минетта-лейн и Макдагал-стрит) частенько можно было увидеть Джо Гулда, в котором было всего полтора метра роста и сорок кило веса. Этот любитель выпить на чужой счет превозносил до небес свою бесконечную «Ненаписанную историю мира». Его манера попрошайничать пользовалась заслуженным успехом:
Мне потребовалось провести четыре года в Гарварде, чтобы стать тем, кем я сегодня являюсь. Иногда люди спрашивают меня, как я живу. Воздух, кетчуп, самоуважение, ковбойский кофе, сандвичи с яичницей, окурки сигарет, словом, ничего необычного. Какая религия мне по душе? Я из Новой Англии. Зимой я буддист, летом нудист. А теперь вы можете внести свой вклад в фонд Джозефа Фердинанда Гулда, если, конечно, пожелаете. Позднее вы сможете найти меня за каким-нибудь столиком.
Другими словами, в Гриниче существовало множество различных проявлений богемности и велась бесконечная полемика о сексе, полах, расе, политике и эстетике.
Коренные жители Гринич-Виллидж не входили в состав объединений и кружков. (Поэт-битник Грегори Корсо — исключение из этого правила. Он родился на Бликер-стрит, в доме 190, на первом этаже которого размещалось бюро похоронных принадлежностей, а на другой стороне улицы находился бар «Сан-Ремо».) Культуру Гринича создали приезжие, иммигранты из Европы или со столь же далекого американского Среднего Запада. Гордившийся своей разнородностью и терпимостью Гринич создал нехарактерный для Нью-Йорка тип «богемной» личности — обитателя Гринич-Виллидж. И все же Гринич был идеей, и служил мощным магнитом, который притягивал к себе все то, что имело отношение к культуре. Его характерными чертами были необычайная изменчивость направлений культурной деятельности и гибкость общественных отношений. Резко отличавшиеся друг от друга объединения имели сбивающую с толку привычку не сидеть на месте, когда их пытался запечатлеть тот, кто изучает особенности носителей культуры. Связи (эротические, политические, артистические) не были устойчивыми, а союзы не были долговечными. Скрытая напряженность отношений прорывалась наружу, но потом и это забывалось. Высокий уровень все новых и новых художественных произведений, породивший Гринич и усиливший его крайний индивидуализм, сделал неблагодарным занятием любые попытки подчистить историю общественных отношений этого района.
Возможно, наилучшим примером «многогранности» Гринич-Виллидж является дом 137 на Макдагал-стрит, неподалеку от Вашингтон-сквер, где в 1913 году открылся книжный магазин. Его владельцы, Альберт и Чарльз Бони, взяли деньги, которые один из братьев получил от родителей, чтобы оплатить учебу в Гарварде, и потратили их на открытие книжного магазина, тем самым совершив нечто вроде классовой измены. Братья Бони надеялись, что их магазин станет для молодого поколения писателей культурным центром. Они также хотели издавать книги, которые не могли найти рынка сбыта в нью-йоркском издательском мире, где господствовали «Скрибнере санз» и «Харпере», отличавшиеся высокомерным консерватизмом и в основном подчиненные «браминам»2 из Новой Англии.
После неожиданного успеха с книгой о социологии преступности, написанной английским социалистом Робертом Блэчфордом, братья Бони с радостью приняли Альфреда Креймборга, познакомившего их с образцами новой поэзии, которая стала появляться в лондонской периодике. Креймборг поддерживал переписку с американским поэтом Эзрой Паундом и получил от него рукопись «Антологии имажинизма», которую Паунд составил в ответ на весьма успешный сборник Эдварда Марша «Георгианская поэзия 1911—1912 гг.». Креймборг хотел открыть в Нью-Йорке журнал новой поэзии. Журнал «Поэзия» Гарриет Монро в Чикаго (основан в 1912 г.), «Поэтический журнал» в Бостоне и смелые начинания Паунда в Лондоне показали, что Нью-Йорк — город, в котором молодые поэты не могут найти ни «поэтической сцены», ни симпатий со стороны периодических изданий. С рукописью Паунда в руке, Креймборг убеждал братьев Бони издавать журнал «Глиб». С 1913 по 1914 год вышло десять номеров этого журнала. Поддерживая усилия Креймборга, Паунд с той же целью обхаживал Джона Куинна, состоятельного адвоката, который вполне откровенно выразил свое отношение к Гриничу: «Не знаю, известно ли вам о существовании псевдобогемы на Вашингтон-сквер. Она вызывает отвращение у приличного человека, который не нуждается в искусственной стимуляции своих сексуальных чувств. Это вульгарное, омерзительное сборище художников второго и третьего разряда, бывших художников, агитаторов ИРМ («Индустриальных рабочих мира») и шлюх, постоянных и случайных, свежих и уже потасканных...» Со своей стороны, Бони использовали Креймборга в качестве корректора рукописей и главного специалиста по части «молодежных романов». В Креймборге, по словам одного современника, была «неистребимая тяга к инновациям, новым открытиям, свежим идеям и смелым художественным проектам». Креймборг приносил на Макдагал-стрит рукописи Карла Сэндберга, Эдгара Ли Мастерса и Вэчела Линдсея. Молодые женщины-писательницы (Марианна Мур и Лола Ридж) находили в Креймборге благожелательного читателя.
По соседству с книжным магазином на Вашинггон-сквер находился основанный в 1913 году Либеральный клуб Генриетты Родман, где писатели и художники, жившие в расположенных неподалеку маленьких меблированных комнатах, могли насладиться «творческими беседами». По словам Флойда Делла, Родман была поборницей «красоты и доброты, этакой Кандидой в юбке и сандалиях». Однажды она пояснила, что «длинные волосы и корсеты не так удобны, как короткая стрижка и свободная одежда». На протяжении 25 лет она работала учительницей муниципальной школы Нью-Йорка и была активисткой создания профсоюза учителей. Родман стояла во главе противников проводимой школьными советами практики увольнения замужних учительниц после того, как они рожали детей. Принятое в 1915 году судебное постановление положило конец подобной практике. Провалились и попытки привлечь Родман к судебной ответственности за то, что она в местной прессе высмеивала школьные советы. Она была радикалкой, оказала серьезное влияние на жизнь города, и, одна из немногих, сумела вовлечь обитателей Гринича в движение феминисток и в решение проблем профсоюзов. Превратив Либеральный клуб в уникальный общественный институт города, Родман свела воедино разнородные элементы зарождавшейся в Гринвиче контркультуры. Клуб стал перекрестком, где встречались социальные работники, идеалисты и реформаторы, словом, все, кто постоянно бросал вызов ценностям респектабельного Нью-Йорка.
Такую же роль начинала играть и Мэйбл Додж — жена богатого архитектора, проживавшая в доме 23 по Пятой авеню. Если Родман председательствовала на проходивших в непринужденной обстановке собраниях Либерального клуба, где, чтобы обсудить новые идеи и политику, не требовалось переодеваться к ужину, то изысканная обстановка квартиры Додж и ее полночные ужины налаживали контакты между Гриничем и «обществом». Радикальный журналист Джон Рид был любовником Мэйбл Джодж и (когда бывал в городе) регулярно посещал Либеральный клуб: различные связи в Гриниче накладывались и пересекались. Написанная Флойдом Деллом пьеса «Святой Георгий в Гринич-Виллидж», главный герой которой немного напоминал Шервуда Андерсона, сделала клуб мишенью сатиры. В свободной республике Либерального клуба не было никаких запретов. Проводившиеся здесь «языческие вакханалии», на которых присутствовали интеллектуалы и художники, одетые фавнами и вакханками, сатирами и нимфами, были известны всему городу, но не всегда находили положительный отклик. (Так, Г. Л. Менкен считал Либеральный клуб пристанищем «фигляров с Вашингтон-сквер».)
В цокольном этаже дома, где находился Либеральный клуб, размещался ресторан Полли Холладей. Сюда в равной степени привлекали гуляш и остроумные шутки идеолога анархизма Ипполита Хейвела, который был любовником Полли, а заодно шеф-поваром и метрдотелем этого ресторана. Когда-то Хейвел был любовником Эммы Голдман, еще в те времена, когда оба жили в Лондоне, а после переезда в Нью-Йорк, то есть приблизительно с 1909 года, он стал непременным «атрибутом» любого проявления активности анархистов в городе. Охарактеризованный Беном Рейтманом как человек, который «думал как немец, говорил как англичанин, а пил как все национальности, вместе взятые», Хейвел вступал в яростную полемику с социалистами из газеты «Массы», что вносило разнообразие в политическую жизнь Гринича.
Обитатели Гринича испытывали пристрастие к импровизациям, а не к созданию общественных организаций. Когда такие издания, как «Мать Земля» или «Массы» нуждались в средствах, они устраивали бал-маскарад или упрашивали какого-нибудь знаменитого писателя из Европы выступить с лекцией. (Эта традиция оказалась живучей: в 1934 году издание «Партизан ревью» появилось на свет благодаря доходам, полученным от лекции посетившего Нью-Йорк английского марксиста Джона Стрэчи.) Но неистребимая тяга обитателей Гринича к либеральному феминизму, расовой и классовой справедливости, а также к сексуальному раскрепощению, тяга, которую они выражали через книги, статьи и далеко выходившие за рамки культурных традиций «Прогрессивной эры»3 произведения изобразительного искусства, стала причиной того, что со временем Америка задалась вопросом о признании либеральных ценностей и свобод. Но в Гриниче никогда не было особенно активных политических борцов. Газета «Массы» — слишком грубая для социалистов, слишком богемная для коммунистов, слишком развращенная для респектабельной публики и слишком интеллектуальная, чтобы ее читателями стали широкие слои населения. У радикалов 1920-х и 1930-х годов словосочетание «гриничский вилладжизм» вызывало презрительную усмешку и отвращение. Последующие поколения обитателей Гринича, в том числе и переехавшие сюда известные личности, относились к политическим пристрастиям довоенного Гринича с благодушным высокомерием.
Те, кто, как Флойд Делл, порвали с традициями, теперь критически относились к лицемерию местных жителей и переменчивости их взглядов.
В 1913 году Истман убеждал окружающих «не ограничивать себя никакими догмами». Предписание Эзры Паунда «менять партнеров» полностью соответствовало существующим в Гринич-Виллидж культурным традициям. Но насколько обделенной была бы американская культура без того радикализма и приверженности идеям Фрейда, которые пропагандировала газета «Массы», без того вклада, который внесли «Провинстаунские актеры», начинавшие свою деятельность в книжном магазине на Вашингтон-сквер! Возвратившись на зиму в Нью-Йорк, они взяли в аренду перестроенное из конюшен здание по адресу Макдагал-стрит, дом 139, и превратили его в камерный театр. Через два года они переехали в дом 133, где их первыми спектаклями стали пьесы Юджина О’Нила «Косматая обезьяна» и «Император Джонс». То, что происходило на Макдагал-стрит, оказалось одним из наиболее значимых явлений американской культурной жизни.
1
Ашканская школа («школа мусорного бачка») — радикальное направление в реалистической живописи первой четверти XIX в. Художники этой школы изображали трущобы, ночные бары и другие злачные места. Ведущие представители школы — Роберт Генри, Джон Ф. Слоун, Уильям Глэкенс, Эверетт Шинн, Морис Б. Прендергаст. Эта школа стала главным инициатором проведения «Арсенальной выставки» 1913 г. — Примеч. перев.
2
«Брамины» — не занимающие выборных постов представители элиты общества, влияющие на политику. Первоначально понятие относилось только к бостонским аристократам. — Примеч. перев.
3
Прогрессивная эра — период нахождения у власти президентов Т. Рузвельта и В. Вильсона. — Примеч. перев.
Деревня Кэролайн Уэр
Когда в 1940-х годах в Гринич-Виллидж прибыл Аллен Гинсберг, в округе осталось мало старожилов, которые помнили «языческие вакханалии» в редакции газеты «Массы» и которые могли показать дом, где жил Джон Рид (а жил он в меблированной комнате над помещением второго ресторана Полли Холладей, Западная 4-я улица, 147), когда писал «Десять дней, которые потрясли мир». Джо Гулд все еще клянчил выпивку в «Максорлиз» или в таверне «Минетта», нахваливая свою «Ненаписанную историю мира». «Мне потребовалось провести четыре года в Гарварде, чтобы стать тем, кем я сегодня являюсь», — с иронией замечал он, поднимая стакан. Гринич эпохи расцвета газеты «Массы» канул в лету. Его уничтожили те перемены, которым подвергся западный мир во время Первой мировой войны и после ее окончания. Решение вступить в войну, принятое в 1917 году президентом Вильсоном, стало причиной глубокой пропасти, разделившей радикалов, выступавших против войны, и тех, кто в силу своих убеждений или из прагматизма поддержал Вильсона. Русская революция и создание в Америке коммунистической партии навсегда раскололи левое крыло Гринича. Безоговорочной поддержке коммунистической партии положил конец семинар, на котором без конца спорили представители всех направлений радикализма, ставшего визитной карточкой как Либерального клуба и ресторана Полли, так и их посетителей. Во время войны травля «Индустриальных рабочих мира» и противников войны привела к закрытию таких периодических изданий, как газета «Массы», и к тюремному заключению либо депортации ведущих радикалов. Эмму Голдман и Александра Беркмана депортировали в Россию. Присмотревшись к тому, что происходит в Советском Союзе, они стали самыми непримиримыми противниками революции. В 1917 году Рид — «обманутая знаменитость» — приехал в Россию в качестве журналиста. В 1920 году, после того как Рид умер, в Нью-Йорке стало известно, что он разочаровался в политическом курсе советской тирании, но этим сведениям не поверили, сочтя их антикоммунистической пропагандой. Проводившиеся после войны «рейды Палмера»1 покончили с остатками левых. Родман умерла от неоплазмы в 1923 году. Флойд Делл занялся психоанализом, женился и уехал из Нью-Йорка. А Истман, этот седовласый и красноречивый редактор «Масс» и «Либерейтор», стал одним из ведущих антикоммунистов и популярным автором республиканских периодических изданий. Из-за введения сухого закона общение в тавернах Гринича прекратилось. Мир незаконной торговли спиртным, самогонного джина и гангстеров с автоматами Томпсона принадлежал иному уровню интеллектуального развития, чем тот, которым отличался Гринич. Выдвинув в 1920 году кандидатом на пост президента Гардинга, консервативные республиканцы лишний раз подтвердили, что период их правления подходит к концу.
Реакцией богемного населения Гринича на столь стремительные и глубокие изменения культурного климата было разочарование и уход в себя. Некоторые переехали в пригороды. Предательство, необходимость идти на уступки, прекращение всякой активности, политическая травля и усилившаяся потребность в эскапизме привели к послевоенному бегству в Европу. В 1920-е годы Париж, а не Гринич-Виллидж сделался прибежищем американского авангарда.
Гринич тоже изменился. Теоретики-социологи «Прогрессивной эры» были встревожены появившимися в Америке признаками социальной дезинтеграции и пытались найти способ восстановить прежнее общественное устройство. Часть представителей прогрессивной мысли сосредоточились на проблемах города и сочла весьма перспективной борьбу за восстановление «общинности» микрорайонов. Тогда появились такие заметные фигуры, как Джейн Аддамс, деятельность которой в чикагском обществе «Халл-хаус» стала моделью социальной реформы, опиравшейся на общины. В конце 1920-х годов Фонд Рокфеллера поддержал исследования по выявлению полезных для социального обновления потенциальных возможностей, которыми обладали центры социальной помощи. Вскоре стало ясно, что требуется более глубокое изучение городских районов, их структуры и типов. При содействии Колумбийского университета профессор социологии колледжа Вассара Кэролайн У эр возглавила исследовательскую группу по изучению Гринич-Виллидж.
Уэр надеялась установить природу изменений городской жизни, которые оказывали воздействие на Гринич. Ее опубликованная в 1935 году работа «Гринич-Виллидж, 1920— 1930 гг.» стала классикой в области изучения социальных проблем города. Показанные в этой работе особенности жизни в Гриниче далеки от красочных воспоминаний таких личностей, как Флойд Делл, Макс Истман или Альфред Креймборг. В 1930-е годы Уэр обнаружила, что мало кто из обитателей Гринича обладает чувством солидарности или осознает себя частью общины. Всех их можно было разделить на три группы, между которыми почти не было контактов: еще оставшиеся представители богемы 1912 года, покинувшие свои семьи и отделившие себя от социума родного города; иммигранты из Италии, обнаружившие, что жизнь в Америке предлагает такие модели ассимиляции, которые противоречат повседневной реальности; наконец, ирландцы, которые нашли собственный способ адаптации к нью-йоркской жизни, становясь служителями католической церкви, сотрудниками полиции и политиками. Миграция ирландцев в Гринич в 1890-х годах превратила его в оплот демократов, в котором доминирующую роль играли политические клубы районного уровня, присягавшие на верность Таммани-холлу2. В связи с наступившими переменами и отъездом старожилов этот район, который когда-то был центром социальной активности, утратил свойственную маленьким городам атмосферу широкого участия жителей в общественной жизни. К тому времени, когда Уэр проводила свои исследования, то есть к началу 1930-х годов, «настоящие американцы» старого Девятого района либо играли незначительную роль в жизни Гринича, либо вообще не играли таковой.
Уэр выяснила, что традиционные источники сплоченности (семья, церковь, школа, работа) в значительной степени утратили былую мощь. Даже после трагедии, вызванной пожаром, который случился в 1911 году в здании «Трайэнгл шортвейст компани» по адресу Вашингтон-плейс-ист, 22, рабочие Гринича практически не проявили классовой солидарности, а ведь 146 женщин погибли из-за того, что владельцы фирмы держали пожарные выходы закрытыми, чтобы работницы не отходили от швейных машин. В результате перемен, затронувших население, Гринич стал восприниматься всеми его обитателями как менее значительный район и центр общественной жизни, нежели тот, каким он был прежде. Только среди жителей с самым низким уровнем доходов наблюдалась солидарность с товарищами по несчастью. Численность населения Гринича увеличивалась, и теперь даже семья перестала играть какую-либо роль.
Многие обитатели Гринича полностью разорвали семейные связи. Район изобилует одинокими людьми, живущими либо поодиночке, либо группами... Есть и другие люди, всех возрастов, мужчины и женщины, отрекшиеся от всего, что имеет отношение к дому и семье, и не сделавшие ни единой попытки скорректировать свои жизненные планы таким образом, чтобы найти какую-либо замену семье и домашней жизни, от которых они отказались... В жизни многих обитателей Гринича никакие общественные институты, даже семья, не играют сколько-нибудь существенной роли.
Более всего жители Гринича любили свободу, которую воспринимали как право на то, чтобы их оставили в покое, и «возможность жить, не оглядываясь на то, что подумают соседи». Эти минимальные условия их вполне устраивали. По мнению Уэр, такая свобода представляла собой «отрицание добрососедства». По причине отсутствия признанных лидеров общины и общественных институтов, которые содействуют сплоченности и накладывают обязанности, Гринич перестал быть общиной. Он стал городским районом, своей безликостью во многом напоминавшим все прочие.
Сцены из жизни Гринич-Виллидж: «фолк», битники, хипстеры
К окончанию Второй мировой войны господство Нью-Йорка в культурной жизни Америки стало бесспорным фактом. Театр, телевидение, издательское дело, пресса, популярная музыка, изобразительное искусство — во всем, за исключением кино, Нью-Йорк выступал в роли арбитра на американском рынке культуры. Гринич находился в стороне от коммерческого давления, но это не давало гарантий, что и в дальнейшем он его избежит. В 1955 году, когда стала выходить газета «Виллидж войс», Гринич вновь обрел голос (раздражительный, эгоцентричный, пристрастный), который в целом терялся на фоне эпохи «безмятежных пятидесятых».
Благодаря переменам на рынке недвижимости Гринич приобрел новый вид. Рост арендной платы изгнал из района еще сохранившиеся здесь мелкие производства, книжные лавки и кустарные мастерские. Исчезали квартиры без горячего водоснабжения, которые по причине низкой арендной платы весьма привлекали молодых художников и писателей. Но знаменитая социальная терпимость Гринича позволила ему быстрее других районов приспособиться к новым вкусам и найти в них собственное выражение. Молодые певцы в стиле «фолк», воскресившие исполнительские традиции Вуди Гатри и Пита Сигера, часто посещавших Нью-Йорк в предшествующее десятилетие, сделали Вашингтон-сквер местом своих импровизированных выступлений. К середине 1950-х годов сотни молодых людей каждый уикэнд появлялись в парке с самыми разнообразными струнными инструментами. Городская пресса относилась с пренебрежением к этим энтузиастам, поскольку они были хипстерами, битниками, наркоманами и фанатиками джаза. Разного толка политики быстро поняли, что выставят себя в выгодном свете перед избирателями, если выкажут враждебное отношение к этим аномальным проявлениям радикальных взглядов. Поэтому они подчеркивали свое неприятие Нью-Йорка, ставшего ареной для экспериментов в области культуры.
Время от времени полиция предпринимала попытки изгнать толпы музыкантов-любителей. Полицейские детективы тайно записывали на магнитофонную пленку грубоватого комика Ленни Брюса, когда тот выступал в клубе «Виллидж вэнгард». Они надеялись его арестовать, устраивали облавы в клубе и следили за ростом «подрывной деятельности» в Гриниче. Обычной практикой были повальные обыски в джазовых клубах, а периодические облавы с целью найти наркотики, что грозило изъятием разрешения на продажу спиртного, во многом способствовали взяточничеству. Полиция регулярно арестовывала певцов в стиле «фолк», выступавших на Вашингтон-сквер. Невозможно представить себе, на что готовы были пойти полицейские, но, похоже, и они стали частью продолжавшегося в городе шоу. Одетые в настолько тесные костюмы, что трудно было дышать, нахлобучившие на головы парики, они разгуливали по Таймс-сквер, выполняя роль приманок, дабы взять с поличным насильников и гомосексуалистов. Обычно арестовывали каких-нибудь охламонов. В нью-йоркской полиции была специальная группа, члены которой отращивали бородки, одевались в одежды битников и принимали участие в джазовых и поэтических выступлениях (проводившихся в клубах и кофейнях, где читали стихи собственного сочинения), чтобы держать присутствующих под наблюдением.
Еще со времен Депрессии владельцам кабаре и артистам приходилось обращаться в нью-йоркскую полицию, которая делала их фотопортреты и снимала отпечатки пальцев; только после этого они могли получить «карточку кабаре». Артистам, прежде побывавшим под арестом, нужно было «подмаслить» чиновников лицензионного отдела, чтобы получить карточку. Это давало полиции множество возможностей издеваться над чернокожими исполнителями и теми, кто употреблял наркотики или в этом подозревался. Бунтисполнителей фолк-музыки и разразившийся в 1960 году скандал с «карточками кабаре» стал прелюдией к намного более жестоким столкновениям между полицией и сообществом гомосексуалистов бара «Стоунуолл» на Кристофер-стрит.
Такие джаз-клубы, как «Виллидж вэнгард», и ресторанчики («Фигаро», «Риенци», «Кэрикатьюа», «Café Wha?», «Биззар») поддерживали увлечение фолк-музыкой, позволяя исполнителям выступать перед восторженными сверстниками и принимать от них мелкие деньги. Такие заведения назывались «баскет-хаусами». Вскоре исполнители фолк-музыки вышли на профессиональный уровень. Это произошло, когда клубы наподобие «Виллидж-гейт» и «Блю энджел», главной изюминкой которых прежде были выступления джазменов, обнаружили, что число поклонников новой музыки (так называемых «фолкников») неуклонно растет. Клуб «Виллидж-гейт» приглашал ведущих фолк-певцов и оплачивал их выступления, а в счета слушателей вписывалась плата за вход. Макс Гордон приглашал в «Виллидж вэнгард» ансамбль «Уиверс» и такие выдающиеся группы, как «Кингстон трио», «Питер, Пол и Мэри», певцов Гарри Белафонте и Мириам Макебу, а также эстрадных комиков Вуди Аллеан, Морта Саля и Ленни Брюса.
В январе 1961 года в Нью-Йорк прибыл девятнадцатилетний Бобби Циммерман. Этот бросивший учебу студент колледжа, который выступал в ресторанчиках Миннеаполиса, обнаружил, что Нью-Йорк уже давно является «сценой» для исполнителей фолк-музыки. Расположенное на Западной 4-й улице заведение Аллана Блока «Сэндал шоп» было местом встреч представителей фолк-культуры. В 1957 году открылся фольклорный центр Иззи Янга по адресу Макдагал-стрит, 110. В мае 1960 года на Западной 4-й улице открылся «Герде Фолк-сити». Каждый вечер Циммерман под именем Боба Дилана выступал в том или ином ресторанчике, получая скромные чаевые. Он снял квартирку на Западной 4-й улице, за которую ежемесячно платил 80 долларов. В апреле 1961 года он познакомился с Джоан Баэз, которая приехала в Нью-Йорк, чтобы протестовать против введения ограничений на исполнение фолк-музыки в парке Вашингтон-сквер. Первая пластинка Баэз вышла в ноябре 1960 года на студии «Вэнгард рекорде», офис которой находился на Западной 14-й улице, неподалеку от Восьмой авеню, то есть на северной окраине Гринича. Ее феноменальный успех (140 недель в списке журнала «Биллборд») привел в смятение все студии грамзаписи, каждая из которых отчаянно пыталась найти свою собственную Баэз, а вскоре и своего Боба Дилана. Фолк-музыка ясно указывала на существование взаимосвязи между появившимся в Гриниче новым направлением в сфере культуры и коммерческой эксплуатацией этого направления.
С конца 1940-х годов вся культура Гринича была поделена между тремя барами. Постоянными посетителями бара «Сан-Ремо» на углу Бликер-стрит и Макдагал-стрит и таверны «Белая лошадь», которая и поныне существует на пересечении Хадсон-стрит и Западной 11-й улицы, были не представители постоянно существующих в Нью-Йорке объединений или групп, а отдельные личности, часто приезжие, которые по собственному выбору порвали с социальным окружением. Третьим заведением была таверна «Сидар-стрит» по адресу Юниверсити-плейс, 24, между 8-й и 9-й улицами (позднее переехала в дом 82 по той же улице). Этому бару отдавали предпочтение молодые художники-абстракционисты, занимавшие студии и мансарды Ист-Виллидж и Нижнего Ист-Сайда. Здешними завсегдатаями были Джэксон Поллок, Франц Клайн и Уиллем де Кунинг. Писатели из «Сан-Ремо» и художники из «Сидар» практически не поддерживали отношений. Участники объединения «Нью-йоркские поэты» (Фрэнк О’Хара, Джон Эшбери, Кеннет Коч и Барбара Гест) относились к числу тех немногих, кто свободно перемещался между двумя центрами притяжения. «В Сан-Ремо, — вспоминал О’Хара, — мы спорили и болтали; в “Сидар” мы часто писали стихи, слушая, как спорят и болтают художники».
«Сан-Ремо» был любимым местом встреч нью-йоркских писателей. Максвелл Боденхейм, написавший книгу «Моя жизнь и любовь в Гринич-Виллидж» (опубликована посмертно в 1954 году), был одним из тех немногих «могикан» старого Гринича, которые часто посещали «Сан-Ремо». Такие вновь прибывшие писатели, как Джеймс Эйджи, Джеймс Болдуин, Майкл Харрингтон, Уильям Стайрон и Эдуард Олби, сделали «Сан-Ремо» своим пристанищем, а в конце 1940-х превратили его в центр литературной жизни Гринича. Бар славился как одно из посещаемых экзистенциалистами заведений и как место встреч музыкантов, выступавших в соседних джазовых клубах. Он стал родным домом и для «Трех граций» — трех молодых женщин, приходивших бар в нарядах, украшенных броскими, но дешевыми безделушками, очках в тонкой оправе и старомодных платьях. Барри Майлс считал, что «грации» были первыми, кто принял внешний облик хиппи, появившийся лишь в следующем десятилетии. О них упоминает и Аллен Гинсберг в своем стихотворении «Вопль».
Гинсберг, снимавший в 1952 году комнату на 15-й улице, стал одним из завсегдатаев «Сан-Ремо». В письме Нилу Кэссади он назвал «Сан-Ремо» объединением «подземных людей». Позднее именно это словосочетание было использовано Джеком Керуаком в качестве названия романа, действие которого он перенес в Сан-Франциско, но на самом деле это была именно нью-йоркская история о его собственной связи с чернокожей женщиной и о том круге друзей, которые то и дело посещали его квартиру на Восточной 7-й улице. Гинсберг знал Керуака с 1943 года, когда познакомился с Эди Паркер и ее тогдашним приятелем (а впоследствии мужем) Джеком, встретившись с ними в популярном баре «Уэст-Энд» на Бродвее, напротив студенческого городка Колумбийского университета. Вместе со своим другом Люсьеном Карром Гинсберг навещал их общего приятеля Дэвида Каммерера, у которого была квартира на Мортон-стрит, в доме 48, совсем неподалеку от Седьмой авеню. Там они встречались с еще одним другом — приехавшим из Сент-Луиса Уильямом Берроузом, который работал в Гриниче барменом. Ведущие представители поколения битников считали «Сан-Ремо» местом, вполне пригодным для встреч, и именно на Макдагал-стрит Гинсберг, Керуак, Корсо, Ламантиа и Берроуз с пользой проводили время.
Гринич-Виллидж оказался тем местом, где Гинсберг и его друзья экспериментировали с наркотиками и сексуальными отношениями, также и местом застольных откровений. «Расслабившись, я сидел в “Сан-Ремо”, когда время приближалось к закрытию», — писал Гинсберг в своем дневнике за 1952 год. В этот момент в бар вошел Дилан Томас с каким-то своим другом. Последовала заумная беседа подвыпивших литераторов:
— Ты знаешь... ты когда-нибудь изучал английскую литературу? — спросил приятель [Томаса].
— Конечно, я ведь и сам поэт, — ответил я.
— Ты знаешь, кто это? — спросил он.
— Разумеется мужик, это же ясно.
— Здесь дело в другом, — возразил Томас.
— Ладно, нечего на меня так смотреть, — сказал я холодно.
— Просто я был в другом пабе... забегаловке... или как вы их там называете... и одна девушка сказала мне... не желаете ли кое-куда сходить и посмотреть, как я и еще одна девчонка покажем фокус?
— Вопрос в том, как интерпретировать слово «фокус», — сказал я.
— Да нет, я сам профессионал, — возразил Томас.
— Ладно, просто я подумал, что все дело в языке, — сказал я.
— Но она запросила 50 долларов... которых у меня не было.
— Понятно.
— У тебя нет на примете каких-нибудь дилетанток? — спросил он.
Гинсберг, Керуак и их друзья промчались по Манхэттену и унеслись прочь, мало что оставив после себя, помимо воспоминаний о вечеринках, встречах, моментах интимной близости и мгновениях ярких творческих озарений. Когда в 1955 году они появились в Сан-Франциско, знакомство с местной «поэтической элитой» оказалось нелегким делом, а со временем взаимоотношения с ней стали еще более напряженными. Гинсберг привез учтивое рекомендательное письмо, написанное Уильямом Карлосом Уильямсом в адрес Кеннета Рексрота. (Последний читал стихи Гинсберга, но они не произвели на него впечатления: «Вы слишком долго ходили в Колумбийский университет. У вас уже не тот возраст, чтобы продолжать заниматься этим никчемным сочинительством. Что с вами?») Таков был нагоняй, который Гинсбергу пришлось выслушать. Записавшись на курсы соискателей степени магистра гуманитарных наук Калифорнийского университета в Беркли, он в июле 1955 года переехал в маленький коттедж по адресу Мильвиа-стрит, 1624, неподалеку от студенческого городка. В августе он написал «Вопль» и посвятил это первое из своих выдающихся стихотворений Карлу Соломону — такому же, как он сам^завсегдатаю «Сан-Ремо», с которым он дружил в Нью-Йорке и который впоследствии попал в сумасшедший дом.
Через Рексрота Гинсберга представили Роберту Данкену и Джеку Спайсеру. Следуя совету Рексрота, он навещал двадцатипятилетнего аспиранта Гэри Снайдера, который изучал в Беркли китайский и японский языки. В Сан-Франциско Гинсберг познакомился с Кеннетом Патченом и Майклом Макклюром. Чтение любимых стихов в «Сикс Гэлери», состоявшееся 13 октября 1955 года, во время которого Гинсберг прочитал первую часть «Вопля», стало первым публичным выступлением как для него, так и для Макклюра, Уэйлена, Снайдера и Филипа Ламантиа. (Майкл Макклюр считал, что на самом деле именно чтения в «Сикс Гэлери» положили начало эпохе 1960-х.) За этим последовали чтения в весьма восторженной аудитории Беркли. В течение нескольких дней по всем районам Сан-Франциско прокатилась целая волна поэтических чтений. Об этом новом явлении вскоре стало известно и в Нью-Йорке.
Слушателями этих чтений были только что приехавший из Мехико Керуак и поэт Лоуренс Ферлингетти, который был одним из основателей книжного магазина «Сити лайтс» на углу Бродвея и Коламбус-авеню в квартале Норт-Бич во Фриско. Это был первый книжный магазин в Америке, где продавались только такие книги в мягких обложках, которые соответствовали высокому художественному уровню. «Одной из главных идей, заложенных в этот магазин, — вспоминал Ферлингетти, — было то, что он должен стать центром сообщества интеллектуалов, а не местом встречи озлобленных». Для битников «озлобленность» означала крайне неприятное состояние нервозной подавленности. Они были уверены, что существует подлинное «сообщество» художников, которое состоит вовсе не из озлобленных людей и которое не ограничивает себя только поэтами и читателями поэзии из Сан-Франциско и Гринич-Виллидж. Они считали, что это — свободное международное братство бардов и духовных личностей, не привязанных к какому-либо району и не проявляющих лояльности к какому-либо сообществу, сохраняющих верность лишь собственным взглядам. По мнению Гинсберга, битники считали себя творческими гениями.
Созданный средствами массовой информации миф о «поколении битников» появился в сентябре 1957 года, практически одновременно с публикацией второго романа Керуака «На дороге». Происхождение термина «поколение битников» стало предметом горячих дискуссий. Джон Клеллон Холмс заявил, что именно он первым использовал его в своем романе о джазе, опубликованном в 1952 году под названием «Иди» (в 1959 году роман переиздали под названием «Битники»). Что касается Керуака, тот связывал этот термин со словом beatitude (блаженство), то есть состоянием блаженства и счастья, присущего поистине свободному духу. Журналы «Тайм» и «Лайф» печатали статьи о «поколении разочарованных» и об особенностях нового жаргона. Через несколько недель после публикации романа Керуака был запущен первый русский спутник, и с тех пор юных последователей «поколения разочарованных» все чаще стали называть «битниками» (по созвучию с русским словом «спутник»). Во второй срок президентства Эйзенхауэра битники стали горячей темой для прессы, а погруженный в раздумья статный Керуак присутствовал на фотографиях во всех средствах массовой информации. «Плейбой» и «Эсквайр» хотели, чтобы он написал обзорную статью, раскрывающую «намерения» битников. На разворотах журналов помещались фотоснимки «чувих», как называли своих подруг битники.
«Поколение битников», «разочарованные» и «битники» дополнили скромный список терминов, относящихся к американской контркультуре. От предшествующих течений американского авангарда движение битников отличалось тем, что сразу же получило широкую известность. Внезапно за писателями, которых не печатали, стали ходить по пятам, брать у них интервью, носиться как со знаменитостями и вводить в соблазн. Сами же они обнаружили, что уже в состоянии зарабатывать себе на жизнь литераторством. Но ожидания, которые возлагались на последующие публикации этих писателей, оказали пагубное воздействие на их творческий рост. Успех погубил поколение битников еще при появлении на свет. Они не удостоились скромных похвал, которыми поощряют эксперимент и творческий рост. В тот момент, когда они праздновали победу, все вышло из моды. Уже к 1959 году можно было купить спортивные рубашки с надписью «Поколение битников» (и с эмблемой какого-нибудь университета). Джек Бенни рассказывал байки о битниках. А Джек Паар вел высокоинтеллектуальные дискуссии о движении битников и духе времени. В средних школах проводились вечеринки битников. В путеводителях и городских картах были указаны основные места тусовок битников в Сан-Франциско и Гринич-Виллидж. Ни одно литературное направление не сумело столь стремительно выйти из состояния полной безвестности и заняться маркетингом. Сами же битники спасались бегством — в Марокко, Японию, Мексику, куда угодно, но только не в кафе, галереи и поэтические салоны, где их идеи размывались. Гинсберг вернулся в Нью-Йорк лишь в 1959 году и выступил с чтениями в кафе «Гэслайт» на Макдагал-стрит.
Ему нравилось чувство агрессивной враждебности, «антиполицейские традиции» бара «Сан-Ремо» и его посетителей. Еще раз испытав затруднения, связанные с полицией, он почувствовал себя в своей тарелке. Но когда бармены «Сан-Ремо» стали грубо разговаривать с клиентами и третировать их, это кончилось тем, что бар лишился своих завсегдатаев. Публика переместилась в «Луис-бар» на расположенной неподалеку Шеридан-сквер. «Сан-Ремо» так и не вернул клиентов, потерянных в начале 1950-х годов, а находившаяся на Хадсон-стрит таверна «Белая лошадь» более всех выиграла от перемены в настроениях публики.

В начале 1950-х годов Дилан Томас превратил «Белую лошадь» в нечто наподобие храма честолюбивых писателей. Находясь в городе, романист Джеймс Джонс регулярно посещал это заведение. Делмор Шварц, который к тому времени жил в дешевых отелях и меблированных комнатах и боролся со своими искушениями, проводил долгие часы в таверне, окруженный писателями, местными пьяницами и легкодоступными молодыми женщинами. Согласно воспоминаниям его биографа Джеймса Этласа, за двумя стаканами пива, «Делмор мог разглагольствовать о политике, бейсболе и о тех временах, когда он работал в “Партизан ревью”, или вытаскивал один из зачитанных до дыр и испещренных пометками экземпляров “Поминок по Финнегану” и зачитывал вслух несколько страниц». Но именно Норман Мейлер стал одним из тех крутых и много пьющих парней из «Белой лошади», которые в 1955 году дали «продвинутый» нью-йоркский ответ на появившуюся в Сан-Франциско общину писателей-битников, чьи достижения были весьма преувеличены. Опубликованная в 1957 году на страницах журнала «Диссент» работа Мейлера «Белый негр» не являлась сводом правил, которые можно естественным путем ввести в средней школе. Битники говорили на особом языке, которому было не так просто научиться. В своем эссе Мейлер привлекал внимание читателя к новым словам, которые вошли в лексикон хипстеров. «Этими словами, — писал Мейлер, — являются “чувак”, “трахаться”, “подкалывать”, “переспать”, “втюхивать”, “крутой”, “групповуха”, “клевый”, “обалденный”, “врубаться”, “сбрендить”, “гнус”, “въезжать”, “дать на лапу”. Мейлер попытался определить границы «продвинутой этики» («делать то, что чувствуешь, когда и где это только возможно и... вступить в главное сражение: открыть для себя, и только для себя, границы дозволенного, потому что это именно то, в чем ты нуждаешься»), которая дает писателю возможность «убивать, кончать самоубийством, участвовать в оргиях, получать оргазм, совершать инцест». Все это подозрительно напоминало давний американский индивидуализм в сочетании с идеями европейского экзистенциализма и анархизма.
В своем эссе Мейлер предположил, что существует глубокое родство между белыми хипстерами и чернокожей Америкой. Это предположение приписали его буйной фантазии, которая не могла не использовать афроамериканцев для того, чтобы обвинить белых американских либералов. «Чтобы понять их, надо быть черным», — предупреждал Мейлера Джеймс Болдуин. Иными словами, Мейлер затронул одну из самых поразительных особенностей Гринича: в 1950-е и 1960-е годы он был одним из тех немногих мест в Нью-Йорке (на самом деле и в Америке), где белые и черные исполнители вперемешку выступали перед своими слушателями, которые и сами являлись представителями различных национальностей, рас и этнических групп.
Попытки Мейлера выявить четкие различия между хипстерами и битниками всякий раз терпели неудачу. (Первой реакцией битников на эссе Мейлера было обескураживающее пренебрежение: им показалось, что он упустил главное, не учел того значения, которое битники придавали мистицизму, и позволил себе соблазниться картинами неистовой жестокости а-ля Достоевский.) На самом деле Мейлер никак не мог изменить облик того общего поля индивидуализма, в котором существовали и хипстеры, и битники. В 1950-е годы изменилась терминология, но Гринич остался Гриничем, и трудно было представить, что члены Либерального клуба 1912 года испытают хотя бы малейшее неудобство, окажись они в «Сан-Ремо» или «Белой лошади» образца 1959 года.
После 11 сентября именно в «Белой лошади» имело место одно поразительное проявление гражданского согласия. В этот бар вошли четверо пожарных в покрытых сажей и пеплом ботинках, шлемах и куртках. Завсегдатаи — маклеры и «бородатые интеллектуалы» — приумолкли, а потом тишину нарушили приветственные возгласы: «США! США!» Старые деревянные столы сдвинули в круг и на освободившемся пространстве официантки стали танцевать и фотографироваться с пожарными. Один из пожарных заметил: «Если ты в форме, нельзя пройти и квартала, чтобы не встретить людей, которые выражают тебе благодарность».
Уорхол и его «Фабрика»
Были в Нью-Йорке и такие центры поп-арта, где не приветствовались визиты много пьющих завсегдатаев «Белой лошади», «Сидара» или «Сан-Ремо». Такие места представляли собой открытые тусовки гомосексуалистов, отличительной чертой которых была склонность к мазохистской субкультуре. Постоянно менявшийся персонал интенсивно употреблял наркотики, а вожаки обладали впечатлительностью, свойственной прихожанам католической церкви, в лоне которой они выросли и которую затем покинули. Сосредоточившись на изобразительной части поп-культуры, Энди Уорхол и фотограф Роберт Маплторп стали знаменитыми фигурами, связавшими мир живших в Гриниче и Нижнем Ист-Сайде писателей и художников «нижнего города» с галереями 57-й улицы, богатыми коллекционерами с Парк-авеню и светским миром Верхнего Ист-Сайда. Проработав десять лет в сфере коммерческого искусства (он оформлял витрины универмага «Бонуит Теллер», делал эскизы рождественских открыток для «Тиффани» и был художником по рекламе компании «Миллер шуз»), Уорхол отважился познакомить нью-йоркский мир «высокого искусства» с методами, используемыми в промышленной графике. Его «Фабрика», занимавшая этаж в доме 231 по Восточной 47-й улице, открылась в 1963 году. Там она оставалась вплоть до 1968 года, когда Уорхол перевел ее на Юнион-сквер-уэст, 33. Третья «Фабрика» находилась на Бродвее, в доме 860. Во всех трех местах Уорхол и его помощники занимались графикой и снимали фильмы.
Уорхол сразу же отказался от характерной для поп-арта эпохи абстрактного экспрессионизма чехарды окрашенных поверхностей с неистовыми мазками, потеками и грязными пятнами. В 1960 году Уорхол экспериментировал с несколькими изображениями бутылки из-под кока-колы, каждое из которых было выполнено в отличном от других стиле. Сам он отдавал предпочтение третьей версии, в которой было что-то от рекламы, и абсолютно ничего от самого художника (ни личности, ни переживаний). «Реальное искусство» могло использовать лишенные индивидуальности методы работы промышленного художника. Применение шелкографии и сделанные фотографическим способом изображения давали полную обезличенность, ставшую стилем зрелого Уорхола.
В 1960-е годы «Фабрика» стала знаменитым хэппенингом нью-йоркской культуры. Это было одно из тех мест, где смело выставлялся напоказ новый, еще только создаваемый образ жизни гомосексуалистов. В обществе, которое изобиловало агрессивно настроенными противниками гомосексуализма, Уорхол окружал себя «телохранителями», в число которых входили молодые геи приятной наружности. Его кинокартины были умышленно скандальными и эротичными, во всяком случае, теоретически. Те зрители, которые надеялись увидеть неприкрытую порнографию, в полном замешательстве уходили с просмотров. Получивший от сотрудников «Фабрики» прозвище «Дрелла» — комбинация слов «Дракула» и «Синдерелла» (Золушка) — Уорхол привлекал знаменитостей панк-рока, богатых поклонников и целое собрание смазливых, высокомерных и женоподобных английских аристократов. Он взял в оборот «крошку» Джейн Хольцер, молодую представительницу светского общества Парк-авеню, и быстро превратил ее в суперзвезду отделов светской хроники. Писатели и фотографы вскоре обнаружили, что Уорхол является самым ненадежным, алчным и непредсказуемым менеджером из всех, с какими когда-либо сталкивались художественные круги Нью-Йорка.
Знаменитым Уорхола сделали шелкографические репродукции консервных банок, повторяющиеся на одном полотне портреты Мэрилин Моноро, Элвиса Пресли и Джеки Кеннеди.
Получить собственный портрет работы Уорхола значило иметь определенное положение в художественных кругах Нью-Йорка. Коллекционеры его работ по достоинству оценили те преимущества, которые давал заказ портрета. Подобно Этель Скалл, портрет которой был «сделан» в виде масштабного шелкографического изображения, они становились мини-знаменитостями. Ожидая, что с нею будут обращаться как с личностью, заслуживающей особого отношения (как, например, Ричард Эйведон обходился с представителями высшего света), или с благопристойной учтивостью, которую отмечали те, кто становился моделями для знаменитых фотопортретов Юсуфа Карша, Этель Скалл и одевалась соответствующим образом. Однажды Уорхол подвел ее к фотоавтомату на 42-й улице и, вытащив 100 долларов монетами, попросил забраться внутрь и смотреть на красный огонек. «Мы перебегали от одной будки к другой, — вспоминала Скалл. — Повсюду сушились фотоснимки. Наконец он спросил: “Не желаешь взглянуть?” Снимки оказались шикарными».
Уорхол доказал, что по-прежнему поддерживает связи с миром даунтауна, когда в конце 1963 года снял в квартире жившей в Нижнем Ист-Сайде Наоми Левайн фильм «Поцелуй» и организовал в галерее Рут Клигман на Вашингтон-сквер первый просмотр фильма «Минет». В октябре 1968 года в театре «Гаррик» на Бликер-стрит начался длившийся семь месяцев сенсационный показ фильма «Плоть». В Нижнем Ист-Сайде у него была квартира: все либо окрашено в серебристый цвет, либо покрыто серебристой жестяной фольгой.
Роберт Маплторп, который работал в студии на Бонд-стрит, как и Уорхол, получил католическое воспитание. Но там, где Уорхол не испытывал никаких страстных позывов, у Маплторпа появлялся всеподавляющий сексуальный аппетит. Бродивший каждую ночь по расположенным в Уэст-Виллидж барам гомосексуалистов, Маплторп оказался на гребне волны садомазохизма, которая в 1970-е годы захлестнула американскую культуру. В Гриниче выбор выставленных на продажу резиновых и кожаных предметов соответствующего назначения, ошейников с шипами и садомазохистских масок был более широк, чем выбор книг поэтов-битников. Делая тысячи снимков своих друзей, любовников, клиентов и разного рода случайных знакомых, Маплторп начал карьеру фотографа, снимавшего цветы (весьма эротического вида) и фотопортреты (Трумэна Капоте, Сьюзан Зонтаг, художника Элиса Нила), а также таких фотомоделей, как занимавшаяся бодибилдингом Лайза Лайон, которая разжигала в нем чувство сексуальной экзотики. К 1980 году он потерял интерес к белому садомазохизму и полностью переключился на субкультуру чернокожих гомосексуалистов. В своих снимках он, как и Уорхол, отдавал предпочтение холодной, классической отстраненности. Резкий контраст между возбуждающей сексуальные чувства натурой фотомоделей и холодной отто-ченостью снимков порождал внутреннюю напряженность работ. Как и Уорхол, он нанимал умелых специалистов, которые печатали его снимки. Порой он хвастался, что является фотографом, который сам не отпечатал ни одного снимка. Вспыхнувшая в 1980-е годы эпидемия СПИДа убила Маплторпа и унесла жизни многих писателей, представителей светского общества, художников и друзей, сделавших «Фабрику» Уорхола заметным художественным явлением эпохи.

1
Рейды Палмера — массовые полицейские облавы на сторонников левых взглядов, организованные министром юстиции США А. Палмером в 1919—1920 гг. Около 10 тыс. человек были осуждены или высланы из страны. — Примеч. перев.
2
Таммани-холл — штаб-квартира Демократической партии штата Нью-Йорк, по названию благотворительного Общества Таммани, в зале которого с 1789 года проходили собрания партии. — Примеч. перев.
Глава пятая. Парки
Урбанистическое пространство и романтические пейзажи
Города — те места, где использование пространств весьма затруднено. Центральный парк наглядно это подтверждает: прежде естественное свободное пространство, доступ к которому был демократично открыт для всех, ныне взято под контроль, обнесено оградой и разделено на участки. Защитники парка часто и порой успешно выступают против бездумного вандализма, неуместных даров благотворителей и усовершенствований, продиктованных политической конъюнктурой. Но рассказывать о противостоянии между борцами за первозданную красоту и ее разрушителями, то есть между хорошими парнями и плохими, значило бы дать ложное представление о тех процессах, которые здесь происходят. Это описание заслонило бы собой тот факт, что Центральный парк в своем нынешнем состоянии вот уже полтора столетия продолжает давать людям пристанище, благодаря тому, что все ясно и четко понимают — парк расположен в «трепещущем сердце демократичного города». Давлению, будь то со стороны политиков, благотворителей или реформаторов, иногда могут оказать сопротивление защитники благородной старины. Но реальный мир с его бюджетными сокращениями, равнодушием общественных институтов и чувствительностью к переменам общественного мнения относительно того, где и как можно отдохнуть и каким должен быть доступ, — реальный мир со временем стал оказывать мощное влияние на формирование очертаний парка и на его сегодняшнее состояние. В Центральном парке масса табличек «По газону не ходить» и множество ограждений, которые являются материальными подкреплениями этого послания. Кроме того, здесь невероятное количество возможностей для организованного проведения досуга. В 1972 году Генри Хоуп Рид, которого в 1967 году мэр Линдсей назначил первым куратором парков, представил список спортивных развлечений, имевшихся в Центральном парке: бейсбол и софтбол, езда на велосипеде, катание на лодках, боулинг, крокет, рыбная ловля, ручной мяч, хоккей, верховая езда, метание подков, катание на коньках, соревнования судомоделистов, водное поло, катание на роликовых коньках, шаффлборд, катание на лыжах, футбол, плавание и теннис. Возможность заниматься столь разнообразными видами спорта является лишь одним из примеров того, как используется этот парк. Одно из сообщений о парке в 1992 году начиналось с упоминания о толпах любителей бега:
...(некоторые бегают, толкая перед собой детские коляски, другие — вслед за собаками на длинных поводках); бывают соревнования любителей спортивной ходьбы и спонтанные забеги случайных прогуливающихся. Здесь есть группы велосипедистов, которые с жужжанием проносятся мимо, словно рои пчел, но есть и менее энергичные велосипедисты, которые передвигаются так же неспешно, как колесные пароходы на Миссури. Дорожки в глубине парка переполнены колясками, скейтбордистами, конькобежцами, а с недавнего времени сотнями, а может, и тысячами людей, увлеченных последней причудой — роликовыми коньками, и тому подобное.
Здесь есть зоопарки, музеи, ночные клубы, театры и закрытые эстрады для оркестров. И все же парк — это прежде всего люди.
Но сегодня Центральный парк приходится защищать от людей. Сейчас мы можем с большей ясностью, чем прежде, понять, что парк — хрупкий организм, который отчаянно нуждается в том, чтобы ему не мешали излечивать себя от загрязняющих выбросов города и от набегов многочисленных посетителей. В результате некоторые районы Центрального парка обнесены заборами и заграждениями для того, чтобы люди не ходили по газонам и не приближались к растениям, которым грозит исчезновение. С той же целью посетителям предлагается упорядоченное использование возможностей парка. По мнению Фредерика Ло Олмстеда, который был смотрителем парка и соавтором его планировки, составленной в 1857 году, именно нью-йоркцы — те, кому грозит исчезновение (по причине грязи, перенаселенных, лишенных санитарных условий жилищ и общего бремени городской жизни) и для кого парк с его открытыми зелеными полями является лекарством и противоядием.
Появлением во второй четверти XIX столетия множества общественных парков Нью-Йорк обязан переменам в отношении американцев к городу и к природе. Романтики и метафизики предпочитали рассматривать мир природы как хранилище гражданских и духовных ценностей. Природа была тем критерием, той системой координат, опираясь на которые, можно было постичь и оценить стремительно растущий город. Развитие промышленности и коммерции сопровождалось ростом социальных проблем, которые пришли вместе с загрязнением окружающей среды, перенаселенностью, огромным богатством, ужасающей бедностью и усилившимся социальным неравенством.
Американцы обожали природу, но многие из них считали, что неприукрашенный, дикий ландшафт Запада прямо-таки напрашивается на всякого рода «исправления». Можно было сколько угодно восхищаться идеей «простой жизни», но изнурительный фермерский труд, тяжелая борьба за существование и жизнь в уединенной бревенчатой хижине или простота Генри Дэвида Торо, поселившегося у пруда Уолден, не могли понравиться большинству американцев. Скорее, как поясняли книги и статьи Эндрю Джексона Даунинга о ландшафте и домах, выразителями новых сельских идеалов надлежало стать представителям профессии садовника-декоратора, а воплощением этих идеалов должны были стать привлекательные готические коттеджи, построенные в живописных сельских местах. Двадцатишестилетний Даунинг был владельцем питомника в Ньюберге на Гудзоне, когда в 1841 году вышла его книга «Курс теории и практики ландшафтного садоводства». Это смесь патриотических проповедей («Любовь к родине неотделима от любви к дому»), советов по ботанике (дуб «более разнообразен по внешнему виду и является самым красивым, благородным, величественным и колоритным деревом из лиственных пород»), подсказок по практическому садоводству и пропаганды «естественной», английской ландшафтной архитектуры; она сделала Даунинга влиятельнейшим представителем первого поколения американских садовников-декораторов. Даунинг считал, что загородные дома в стиле сельской готики, с высокими фронтонами, ажурными переплетениями, эркерами и крутыми нависающими карнизами, более всего соответствуют американским условиям и наилучшим образом будут воспитывать стремление к душевному благородству и общественному порядку. Он утверждал, что, проектируя загородные дома, следует избегать излишней декоративности. «Простые и более строгие формы, — читаем в «Архитектуре загородных домов» (1850), — лучше гармонируют с простыми традициями сельской жизни». Он обоснованно выступал против «грекомании», увлечения архитектурой классики и Возрождения, элементами которой изобиловало построенное в 1842 году на Уолл-стрит здание таможенного управления Соединенных Штатов (см. главу 2). И когда элементами архитектуры жилища все чаще и чаще становились окрашенные известковым раствором, похожие друг на друга портики и колонны, Даунинг настаивал на превосходстве и уместности деревянных и каменных коттеджей в английском или готическом стиле. Он чувствовал, что именно такие домики станут органической частью американского ландшафта.
Идеальные виллы Даунинга должны были строиться в «живописной» местности, для которой, как он писал, характерны:
...неправильные, ломаные линии — линии, выражающие неистовство, стремительность действий и отчасти непокорность. .. Прекрасное несет в себе идею хладнокровно и гармонично выраженной красоты; Живописное несет идею красоты, выраженной неистово и беспорядочно. Мы находим прекрасными большинство симметричных строений, построенных с безукоризненным соблюдением всех пропорций и с применением простейших материалов. Но, с другой стороны, мы находим живописными и построенный для защиты замок неправильной формы, и примитивную мельницу, у которой почти такой же неухоженный вид, как у горной долины, где она расположена, и крытый соломой и поросший мхом деревянный дом, на котором остались следы воздействия погоды.
Под влиянием Даунинга американским паркам намеренно придавался простой и естественный вид с минимальным количеством признаков искусственной планировки. Когда американцы посещали городские парки, задуманные под влиянием идей Даунинга, они видели перед собой идеализированный сельский ландшафт, спланированный так, чтобы ни в чем не быть похожим на окружающий мир города. Естественность и простота лежали в основе планирования городских кладбищ и парков Нью-Йорка.
Первая в Америке попытка воплотить идею использования принципа естественности при создании романтических ландшафтов была предпринята в 1831 году, когда с помощью Массачусетского садоводческого общества кладбище Маунт-Оберн в Кембридже, штат Массачусетс, спланировали как «кладбище-дендрарий». Вскоре та же участь постигла Гринвудское кладбище в Бруклине, разбитое в 1839 году на участке площадью почти 300 акров в районе Гованус-Хайтс. Главный вход и сторожка у ворот — великолепный готический шедевр, созданный Ричардом Ап-джоном в 1860-е годы, — расположен на Пятой авеню, напротив 25-й улицы (туда можно добраться на метро, выйти в Бруклине, на 25-й улице). Кладбище имеет шесть искусственных озер, окруженных искусно профилированным и озелененным ландшафтом. Впоследствии оно стало местом захоронения более полумиллиона человек. Гринвудское кладбище является настоящей сокровищницей викторианской архитектуры и планировки.
Реакция общества на Маунт-Оберн и Гринвуд отражала менявшееся в положительную сторону отношение людей к паркам и идеалам живописного ландшафта. Гринвуд стал чем-то вроде парка развлечений, куда бруклинские обыватели могли совершать светские выезды. Кладбище сделалось настолько популярным местом, что по воскресеньям там бывали заторы. Живописный вид, создаваемый могильными камнями, погребальными урнами и надгробными памятниками на фоне потрясающего ландшафта (неровные поверхности, извилистые дорожки для экипажей, открытые луга, усыпанные листьями поляны), был доводом в пользу новых идеалов «управляемой неухоженности» естественного ландшафта. Наряду с популярностью возникла и неожиданная проблема. Люди, которые приходили на кладбище, чтобы развлечься, и вели себя так, словно находились на увеселительной прогулке, мешали тем, кто желал в тишине предаться печальным раздумьям. Слишком много неухоженности, слишком слаб общественный контроль... Суета и показные выезды изменили атмосферу кладбищ, и еще долго не вводились строгие правила, регулирующие нормы поведения и ограничивающие доступ случайных посетителей. Сегодня вход на Гринвудское кладбище ограничен, что является следствием давней борьбы за возвращение «приличий». И все же сторонники парков и сельских кладбищ утверждали, что эти места являются «мраморными подмостками», которые по большей части оказывают на людей хорошее влияние.
Вудлонское кладбище
Предпочтение, которое американцы отдавали сельским кладбищам, и растущий интерес к городским паркам привели к тому, что в 1863 году в районе Бронкса Ривер-вэлли было создано Вудлонское кладбище. Расположенное в десяти милях к северу от манхэттенского мидтауна и протянувшееся вдоль железной дороги Нью-Йорк — Гарлем (Вудлон находится на северном конце 4-й линии метро), оно занимает участок местности, который имеет историческое значение. В 1776 году генерал Джордж Вашингтон приказал построить редут, который должен был задержать британские войска, продвигавшиеся на север вдоль Пост-роуд в Бронксе, тогда как основные силы Континентальной армии отступали к Уайт-Плейнс. Редут Ганхил тянется вдоль Гелиотроп-авеню, проходящей по южному краю кладбища.
Три четверти территории (общей площадью 400 акров), приобретенной для Вудлона, в XIX веке представляли собой обрабатываемые участки, а остальное было покрыто лесом. Подобно Гринвуду и Центральному парку, здесь был реализован принцип «естественности». Филадельфийский архитектор Джеймс Сидней предложил сложную планировку, включавшую в себя изогнутые подъездные аллеи, пешеходные дорожки и участки овальной формы. Обсаженные деревьями дорожки общей протяженностью двадцать миль делают это кладбище одним из самых изысканных и уединенных мест города. В отличие от Гринвуда, здесь нет никаких ограничений доступа.
Начиная с 1863 года, когда было произведено первое захоронение, на Вудлонском кладбище в общей сложности погребли 300 тыс. человек. Время от времени его сравнивают с парижским кладбищем Пер-Лашез. Открытое в 1804 году на востоке Парижа и занимавшее землю, некогда принадлежавшую духовнику Людовика XIV, кладбище Пер-Лашез стало местом, где хоронили преимущественно писателей, художников, политиков, музыкантов (от Шопена до Джима Моррисона), философов, фотографов, генералов и ученых. Представление Вудлона американским вариантом Пер-Лашез — не такое уж надуманное. Здесь похоронены шесть мэров Нью-Йорка (включая Фиорелло Ла Гуардиа), три сенатора, судья Верховного суда и удостоенный в 1950 году Нобелевской премии мира Ральф Банч. На этом кладбище находятся могилы четырех богатейших бизнесменов, владевших сетями универмагов: Р. Г. Мэйси, Ф. У. Вулворта, Д. К. Пенни и Сэмюела Кресса, ставшего основателем «С. С. Кресдж компани», которая затем трансформировалась в «Кеймарт». Список похороненных здесь артистов представляет собой энциклопедию американской поп-культуры: Ирвинг Берлин, Джордж М. Коан, отец блюза У. К. Хэнди, Виктор Герберт, «Толстяк» Арбакл, знаменитая танцевальная пара Вернон и Айрин Касл и скрипач Фриц Крейслер. Среди погребенных на Вудлонском кладбище джазменов — Дюк Эллингтон, Майлс Дэвис и Коулман Хокинс. Здесь похоронены газетные магнаты (Джозеф Пулитцер), капиталисты (Джей Гулд, Уильям К. Уитни и Коллис П. Хантингтон), феминистки (Элизабет Кэди Стэнтон, Кэрри Чепмен Кэт и Альва Вандербильт Бельмонт), литературные критики (Ф. О. Матгиессен), легендарные блюстители закона («Нетопырь» Мастерсон), карикатуристы (Томас Наст) и меценаты (Роберт Леман — финансист, который оставил музею «Метрополитен» свое впечатляющее собрание картин, и Огастес Д. Джуллиард, по воле которого была создана знаменитая Джуллиардская музыкальная школа). Вдоль Оук-хилл-авеню расположены захоронения «четырехсот». Их красивые мавзолеи напоминают нам о том, что в конце XIX столетия эти люди были ведущими фигурами нью-йоркского светского общества. Они жили в лучших домах на Пятой авеню, у них были «коттеджи» в Ньюпорте, и с такой же роскошью их похоронили на Вудлонском кладбище. В секторе «Катальпа» находятся очень скромные могилы писателя Германа Мелвилла и членов его семьи.
В стандартных путеводителях по Нью-Йорку редко встретишь упоминания о городских кладбищах. Тем не менее, они являются объектами, которые представляют серьезный исторический и культурный интерес, и относятся к числу мест, менее всего потревоженных неугомонными ветрами городских перемен. Вполне очевиден тот исторический интерес, который представляет кладбище при церкви Троицы, но большое кладбище Троицы в северной части города, между 153-й и 155-й улицами, западнее Амстердам-авеню, оставляет незабываемое ощущение, напоминая о том, что первоначально остров Манхэттен был труднопроходим. Первое шеаритское израильское кладбище на Сент-Джеймс-плейс, между Оливер-стрит и Джеймс-стрит, считается старейшим еврейским кладбищем Нью-Йорка. С трех сторон этот маленький участок почти целиком поглотили жилые дома. Надгробия евреев, принимавших участие в войне за независимость, являются реконструированными памятниками, но они уже настолько разрушились и обветшали, что производят впечатление подлинных. Гринвудское кладбище, как и Вудлонское, есть яркий пример воплощения распространенного в XIX веке романтического идеала «естественности». Подобно Вудлону, оно имеет обильный список погребенных знаменитостей.
Парки и город
В 1850 году город располагал целой россыпью парков, каждый из которых был весьма скромных размеров. Их общая площадь едва достигала 170 акров, а численность населения города превышала полмиллиона человек. Те нью-йоркцы, которые видели просторные парки Вены, Лондона или Парижа, понимали, насколько проигрывает их родной город в сравнении с великими европейскими столицами. Надо было многое сделать, чтобы убедить жителей какого-либо микрорайона, что парки дают определенные преимущества. Элита получала тем самым шанспроявить свое лидерство: ведь городские элиты опасались, что стихийная демократия никогда не создаст по-настоящему цивилизованного и культурного городского ландшафта. Каждый, кто жил на Пятой авеню, видел, что парки являются выражением чувства гордости за город, пределом стремлений горожан, и сожалел о том, насколько вялыми были попытки улучшить существующее положение, предпринятые городом в течение нескольких десятилетий перед гражданской войной.
Старейшие в городе незастроенные и доступные каждому пространства представляли собой реликты эпохи голландского Нового Амстердама. Парк, где стояло здание городского совета, располагался на участке общего пользования, который оставила без внимания Голландская Вест-Индская компания. Низкая плотность застройки Нового Амстердама означала, что некоторые жители города (пропорцию трудно установить) наслаждались большими, умело спланированными садами и пешеходными дорожками, обсаженными деревьями и кустами. Возможно, тогда не было особой нужды задумываться о создании открытого зеленого пространства — частные сады были многочисленны, а до сельской «глубинки» было подать рукой.
Именно Боулинг-грин, маленький, огороженный участок овальной формы в самом начале Бродвея, стал первым общественным парком города. Находившийся в самом сердце английской колонии участок земли, на котором был разбит Боулинг-грин и который прежде использовался в качестве площадки для парадов, в 1732 году был сдан городским советом в аренду группе горожан, подавших прошение огородить это пространство и разбить на нем лужайку для игры в шары «ради отдыха и развлечения жителей». В 1734 году Абигейл Фрэнкс писала, что губернатор «сделал весьма милую лужайку для игры в шары, с красивой дарожкой с деревьями праложенной прям перед фортом в т[о]м бальшом грязном месте где она падходит к трем дальним домам...» Окружающие улицы оставались немощеными вплоть до 1760-х годов, когда их замостили булыжником. Земля поблизости от Боулинг-грин на колониальном рынке недвижимости продавалась с наценкой и привлекала внимание состоятельных купцов. Ремесленники сочли арендную плату непосильной. Кстати, так начали возникать жилые районы, «расслоившие» горожан по уровню достатка и классовой принадлежности. Во время британской военной оккупации на Боулинг-грин встречались команды игроков в крикет из Бруклина и Гринича. Но во время революционной неразберихи Боулинг-грин стал свидетелем нескольких драматических моментов. В 1765 году толпа нью-йоркцев, протестуя против закона о гербовом сборе, забросала камнями британский гарнизон форта, повесила куклу, изображавшую губернатора, и сожгла его оставленную на Боулинг-грин коляску. Десятого июля 1776 года, когда известия о провозглашении независимости достигли Нью-Йорка, установленную на Боулинг-грин конную статую короля Георга III сбросили с постамента горожане, которые праздновали разрыв с Британией. Считается, что эта свинцовая статуя была переплавлена на пули и пушечные ядра, которые затем использовали против «красных мундиров».

После перемирия 1783 года Боулинг-грин восстановил полученную еще в колониальную эпоху репутацию востребованного элитой жилого анклава, который в самом конце XVIII века находился в непосредственной близости от коммерческого и общественного центра нью-йоркской жизни. Его называли «улицей важных персон», а может, присваивали и другие, менее благозвучные имена. (Совсем недавно, в 1978 году, этот маленький парк реконструировали.) Вдоль близлежащих улиц — Гринич-стрит, Уайтхолл-стрит, Бивер-стрит, Брод-стрит, Уотер-стрит, Стэйт-стрит и Перл-стрит — стояли красивые кирпичные и каменные дома. По адресу Стэйт-стрит, 7, находится украшенный колоннадой дом Джеймса Уотсона, который строился с 1794 по 1806 год. Этот дом — единственный уцелевший особняк из тех, что когда-то преобладали в этом районе.
Бэттери
Тот участок земли на южной оконечности Манхэттена, где был разбит Бэттери-парк, голландцы называли «Capske Hook» — «Скалистый выступ». Сегодняшний Бэттери, с его аккуратными дорожками и весьма популярной прогулкой под навесом, откуда открывается неповторимый вид на гавань Нью-Йорка, приобрел столь привлекательный облик в XIX веке. Благодаря неоднократным расширениям береговой линии (из-за возникновения все новых и новых свалок) Бэттери-парк стал тем благоприятным для отдыха местом, которым остров никогда не располагал. До 1788 года, когда была расчищена местность, где стоял форт, Бэттери в основном использовался как пристань для малых судов, которым не требовалось входить в Ист-Ривер, где имелись большие причалы и обширные водные пространства между пирсами.
На небольшом выходе каменистой породы в нескольких сотнях ярдов от Бэттери в 1807—1809 годах построили форт Касл-Клинтон (или «Западный Бэттери»). Сегодня билеты на паромы к статуе Свободы и острову Эллис продаются в киоске, расположенном в центре Касл-Клинтона, теперь целиком включенного в состав Бэттери-парка. Автором его проекта был Джон Макком-младший (см. главу 6, где рассказывается о его роли в строительстве здания городского совета). Принимая во внимание, что англичане уже захватывали Нью-Йорк в 1664 и 1776 годах, вполне логично было предположить, что наиболее вероятным агрессором снова станет Королевский флот. На самом деле никакого вторжения не произошло (вместо этого британская армия сожгла Белый дом в Вашингтоне), и в 1823 году правительство Соединенных Штатов передало Касл-Клинтон городскому совету Нью-Йорка. Переименовав в Касл-Гарден, его сдали в аренду промоутерам для развлечения публики и проведения сценических представлений. Триумфальные выступления «шведского соловья» Дженни Линд, состоявшиеся в 1850 году перед шестью тысячами человек в Касл-Гардене, заставили весь город восторгаться пением знаменитой сопрано. Постепенное расширение парка за счет мусорных свалок привело к тому, что Касл-Гарден оказался в самом его центре и с 1855 по 1890 год служил главным приемником иммигрантов. Между 1880 и 1884 годами в Нью-Йорк прибыло почти два миллиона иммигрантов. Корабли бросали якоря в гавани и в других удобных местах севернее Касл-Гардена. Самые робкие вставали в шести милях от берега. Там они оставались на карантине, ожидая прибытия инспектора, который утверждал список пассажиров и направлял судно в порт. После снятия карантина все пассажиры, которые соответствовали требованиям, доставлялись на пароме в Касл-Гарден, где таможенники проверяли багаж, а санитарные врачи проводили беглый осмотр, после чего вновь прибывшим разрешалось продолжить путь к местам назначения в городе или в других районах страны. В целом это была большая и, как правило, результативная работа, поскольку лишь незначительное меньшинство иммигрантов задерживалось здесь в ожидании разрешения на въезд более, чем на день. Но открытие «перевалочного пункта» на острове Эллис значительно ускорило процедуру приема иммигрантов.
Внушительное вооружение Касл-Клинтона (двадцать восемь 32-фунтовых орудий) вызвало любопытство горожан. Стрельба холостыми зарядами привлекала толпы зевак, собиравшихся у деревянного забора вдоль береговой линии. Там, где были солдаты и флагштоки и регулярно исполнялись военные марши, — там, наслаждаясь холодными напитками, разгуливали бравые нью-йоркские мужчины. Традиционные тележки у тротуара с большими кусками льда (так называемые «снокоун»), щедро засыпаемого уличным торговцем в бокал, куда добавляется ароматный сироп, прошли вместе с городом долгий исторический путь. Дамам Нижний Бродвей, Боулинг-грин и Бэттери предоставляли возможность показать себя, что было довольно затруднительно в других районах шумного города.
Когда находившийся на южной оконечности Манхэттена коммерческий район города расширил свои границы, гранды политики и коммерции, которые прежде занимали изысканные особняки Нижнего Бродвея, переехали в северную часть города. Общественная значимость Бэттери несколько уменьшилась. «Бэттери весьма приятное место для воскресных вечерних прогулок, — отмечал Джереми Коклофт, герой опубликованной в 1807 году «Всякой всячины» Вашингтона Ирвинга, — хотя и не слишком изысканное — кто только там не гуляет. Однако то подлинное удовольствие, которое там получаешь, портит обычное общение: светские дамы Нью-Йорка воротят нос, когда предлагаешь им погулять по Бэттери». Вид на гавань производил (и производит) глубокое впечатление, но к 1850-м годам те, кто наслаждался Вашингтон-сквер или прогуливался по фешенебельной части Бродвея в районе Грейс-черч, возле 10-й улицы, не испытывали желания утруждать себя длительной поездкой на южную оконечность города.
Бэттери был важным перевалочным пунктом для войск, проходивших через Нью-Йорк во время гражданской войны, — и сохраняет свою причастность военной истории благодаря тому, что в 1963 году здесь установили памятник американским военнослужащим, погибшим в Атлантике во время Второй мировой войны. Во время спасательных и восстановительных работ на месте Всемирного торгового центра в сентябре и октябре 2001 года сотни морских пехотинцев и национальных гвардейцев жили в палаточном лагере, который разбили в парке. Весьма претенциозный Бэттери-парк-Сити (на который оказало столь губительное воздействие разрушение Всемирного торгового центра), как и сам Бэттери-парк, появился благодаря реализации широкомасштабной программы расширения территории за счет свалок. В значительной степени благодаря земляным работам в районе ВТЦ было получено девяносто два акра новой земли, отведенной под чрезвычайно амбициозную застройку управления Бэттери-парк-Сити, созданного в 1968 году по решению законодательного собрания штата. Финансируемое на средства от продажи облигаций штата, строительство началось в 1974 году, а к середине 1990-х годов здесь уже проживали свыше 5000 человек, которые пользовались инфраструктурой, включавшей в себя школы, магазины, торговый центр, а также снабженную навесом прогулочную дорожку, с которой открывался потрясающий вид на нью-джерсийский берег Гудзона и на статую Свободы. Закрытие линии метро и радикальные изменения планов развития, вызванные событиями 11 сентября 2001 года, нанесли серьезный удар по программе «реставрации» жилого статуса юга города.
Частная собственность и радикализм
В Нью-Йорке имеется место, запланированное для общественного отдыха, которое могло бы соперничать с Центральным парком. На самом деле, осуществись эти планы, Центрального парка в его нынешних размерах и в том месте, где он сейчас находится, вероятно, никогда бы не было. В 1807 году члены комиссии, на которую возложили ответственность за разработку плана упорядоченной застройки города, оставили достаточно свободного места (между Третьей и Седьмой авеню, от 23-й и до 34-й улицы) для «Плаца». Когда застройка стала продвигаться на север, «Плац» сократили в размерах, а в 1829 году от него вообще отказались.
Из менее крупных мест общественного отдыха, Вашингтон-сквер, появившаяся в 1828 году как парк, вероятно, подверглась благотворному влиянию окружающего ее микрорайона (см. главу 4). Самый маленький, Грамерси-парк, разбитый в 1831 году Сэмюелом Раглсом, был частным парком, площадь которого едва достигала одного акра. Он закрывался на замок, причем вход был разрешен ограниченному числу горожан. Из окружавших его особняков в итальянском стиле были видны ивы, клены и каштаны, придававшие этому парку очаровательный вид, которым наслаждались главным образом обладатели ключа от замка парковых ворот. Ограничение доступа вызвало горячие споры, но доверительный совет Грамерси-парка, члены которого выбираются на пожизненный срок, энергично выступил против публичности. Тогда в 2001 году О. Олдон Джеймс-младший подал судебный иск в федеральный суд первой инстанции. Будучи председателем клуба «Нэшнл артс клаб» по адресу Грамерси-парк-саут, 15, Олдон Джеймс утверждал, что администрация парка не допускает детей на основании их расовой принадлежности. Истец просил суд объявить управляющую структуру незаконной и заменить ее выборным органом. Со своей стороны детективы нью-йоркского департамента финансов произвели внезапную проверку «Нэшнл артс клаб», которая стала частью расследования дела о крупных хищениях и налоговом мошенничестве, согласно слухам, действительно имевших место.
Парк Томпкинс-сквер был разбит в 1833 году на участке площадью десять акров между Авеню А и Авеню Б, протянувшемся от 7-й до 10-й улицы. Еще в 1851 году Томпкинс-сквер использовался в основном как площадка для парадов, а на окружающих его улицах находились маленькие фабрики и дома, в которых жили рабочие, ремесленники и иммигранты из Ирландии. Когда в середине XIX века на город обрушилась волна иммигрантов из Германии, облик этого места изменился. Немцы, которые называли Ист-Сайд «Маленькой Германией», между собой называли Томпкинс-сквер der Weisse Garten, то есть «Белым садом». Окруженный пивными, ресторанами, сигарными фабриками, музыкальными обществами, спортивными ассоциациями и пивоварнями, Томпкинс-сквер приобрел вполне немецкий облик.
Помимо прочего, он оказался в самом центре германского профсоюзного движения. Der Weisse Garten часто становился местом проведения демонстраций в поддержку введения восьмичасового рабочего дня, которые разгоняла полиция. Самое драматическое из столкновений произошло 13 января 1874 года — того года, когда экономика города находилась в глубоком кризисе. Власти отменили разрешение провести в парке Томпкинс-сквер демонстрацию против роста безработицы, причем сделали это накануне мероприятия. Известие об отмене не довели до всех участников демонстрации, и когда на следующий день в парке собралось десять тысяч человек, на них внезапно набросились полицейские с дубинками. Молодой активист международного профсоюза рабочих сигарной отрасли и будущий лидер Американской федерации труда Сэмюэл Гомперс вспоминал события того дня в своей автобиографии:
Вскоре конная полиция набросилась на толпу, собравшуюся на Восьмой улице, сшибая с ног и избивая без разбора мужчин, женщин и детей. Это была вакханалия жестокости. Меня затянуло в уличную толпу, и, спрыгнув в какой-то подвал, я едва уберег голову от сокрушительных ударов... В этой части города царил террор.
К исходу XIX столетия центр немецкой диаспоры Нью-Йорка стал перемещаться по Третьей авеню на север, в направлении Йорквилла, севернее 86-й улицы и восточнее Центрального парка.
Парк Томпкинс-сквер оставался, однако, в самом центре радикальной агитации и в 1917 году стал местом, откуда начинались марши протеста против вступления Америки в Первую мировую войну. Здесь себя чувствовали как дома и левые, и антифашисты. В 1919—1920 годах в Нью-Йорке развернулась кампания против «красной опасности», когда власти штата, пытавшиеся сокрушить политических радикалов и просто недовольных, протолкнули закон против «преступной анархии» (максимальное наказание — от пяти до десяти лет тюремного заключения) и закон о красном флаге, согласно которому демонстрация красного флага считалась уголовно наказуемым проступком. В 1920 году из законодательного собрания штата Нью-Йорк изгнали социалистов, а также был сформирован следственный комитет штата по «красной угрозе» во главе с Клейтоном Р. Ласком, который подавлял радикалов, стремясь уничтожить социалистическую партию и другие левые организации.
Исход битвы, которая шла на улицах, прилегающих к парку Томпкинс-сквер, решился в городских судах и в законодательном собрании штата в городе Олбани. Вопреки распространенному мнению, что город всегда был открыт для радикальных движений, следует признать, что антирадикализм играл весьма значительную роль в политике Нью-Йорка. Будучи стилем жизни и политической программой, антирадикализм укреплял свои позиции в городе. В 1960-Х годах в парке активно «тусовались» афроамериканцы и пуэрториканцы, что, без сомнения, добавляло острых ощущений отцам города. В мрачный период Вьетнамской войны здесь шло противостояние между полицией и демонстрантами антивоенного движения. Появлялись, сменяя друг друга, группы битников, хиппи, поэтов и художников, сделавших Томпкинс-сквер местом проведения бесконечных антивоенных демонстраций, которые безжалостно разгоняла полиция. 30 мая 1967 года госпитализировали трех демонстрантов, а тридцать человек арестовали. В 1991 году, когда этот район начали облагораживать, здесь наблюдались беспорядки, вызванные принудительным выдворением скваттеров из парка. Уже более столетия Томпкинс-сквер обладает репутацией центра проявлений иммигрантского радикализма, инакомыслия и беспорядков.
Олмстед и Центральный парк
До появления Центрального парка город располагал лишь небольшими зелеными территориями, через которые пролегали незатейливые пешеходные дорожки, и мало что могло оказать воздействие на воображение. В таких парках никто не заикался о «благах природы», никто не считал их местами уединения и обновления. Восемьсот сорок акров Центрального парка установили новые, прежде невообразимые стандарты для городских зеленых зон. Эти стандарты были подтверждены тремя тысячами акров разбитого в 1859 году филадельфийского Фэрмаунт-парка.
Издатели, поэты, проповедники и журналисты подхватили идею создания парков и развернули рекламную кампанию, заявляя, что парки не только будут украшением города, но и улучшат жизнь горожан, укрепят общественную дисциплину и поднимут Нью-Йорк на уровень великих городов мира. В 1850-х годах воспоминания о парках Европы обостряли неудовлетворенность нью-йоркцев своим городом. «В городской черте не найти ни единого места, где приятно пройти пешком, проехать верхом, прокатиться в коляске или побродить», — отмечал Кларенс Кук в «Описании нью-йоркского Центрального парка» (1869). Город обладал малым числом мест, пригодных для общественного отдыха. Не было «ни одного катка для катания на коньках, ни одного водного пространства, безопасного для прогулок на лодке, ни одного поля для бейсбола или крикета, ни одного радующего глаз сада, где можно поболтать с другом или понаблюдать за тем, как играют дети, или за чашкой чая или кофе послушать музыку в исполнении хорошего оркестра». В 1850 году, во время кампании по выборам мэра, кандидат от демократов и кандидат от вигов поддержали идею парка; в результате ее реализация легла на плечи победителя-вига, импортера спермацетового масла по имени Эмброз Кингсленд, который официально предложил городу создать большой общественный парк.
Коммерческие круги города сомневались в необходимости и ценности парка и обрушились с нападками на первое предложенное для него место — полосу земли вдоль Ист-Ривер, владельцем которой был Джон Джонс. Высказывали недовольство тем, что парк, который предлагалось разбить в «лесу Джонса» (Джонс-Вуд), будет слишком большим, слишком дорогостоящим и слишком удаленным от остальных районов города. Защитники прав рабочих считали всю эту затею сговором с целью «украсть честно заработанные доллары» и создать место развлечений для избранных. Утонченные натуры опасались того, что в парке будут властвовать хулиганы. Даунинг высмеивал тех, у кого это предложение вызывало тревогу, и повторял, что в парках Европы все люди могут наслаждаться «одной и той же музыкой, одной и той же атмосферой искусства, получать удовольствие от одного и того же ландшафта и привыкать к социальной свободе благодаря влиянию общения и окружающего их пространства и красоты». Парк, как утверждали его сторонники, укрепит американскую демократию. Ни больше ни меньше.
В 1852 году был признан пригодным обширный участок земли в центре города, севернее 59-й улицы и между Пятой и Восьмой авеню. К тому времени, когда землю приобрели (выселив всех жителей Сенека-Виллидж) и провели топографическую съемку, политическая власть в городе перешла от вигов к демократам. Городское управление получило новую хартию, а в 1857 году страна погрузилась в финансовый кризис, в результате которого многие нью-йоркцы лишились работы. Решением законодательного собрания штата был утвержден совет уполномоченных в составе одиннадцати человек, что было попыткой вывести столь масштабный проект из-под контроля известных своей коррумпированностью городских властей. После этого начались работы по осушению болот, находившихся на участке местности, который уже называли Центральным парком. В 1857 году Фредерика Ло Олмстеда, фермера, журналиста и «случайного издателя», назначили управляющим Центрального парка. Именно благодаря этому назначению парк обрел свой нынешний облик.
В последнее время наблюдается тенденция, ярким выразителем которой выступает Витольд Рибчинский из Университета Пенсильвании (его работа «Взгляд со стороны: Фредерик Ло Олмстед» опубликована в 1999 году), рассматривать Олмстеда как деятеля современного типа, сторонника гибкого, терпимого и прагматичного подхода к решению проблем градостроительства, практически согласного разрешить паркам самим поддерживать свое существование. Но был и другой Олмстед, который с головой ушел в политику Нью-Йорка и для которого борьба с городской коррупцией стала одним из главных испытаний, определивших его дальнейшую жизнь. В попытке низвергнуть шайку Твида по прозвищу «Босс», которая после гражданской войны держала под контролем весь Нью-Йорк, разработали программу, определившую политическое будущее города. Когда шайку лишили доступа к лакомым финансам, которые щедро выделялись на создание парка, Олмстед наконец получил шанс проявить себя и внести одно из самых значительных изменений в облик Нью-Йорка XIX столетия.
Олмстед не только выполнил планировку парка, он определил и защищал его независимость от политиков, благодаря которым Нью-Йорк стал для всей страны символом коррупции городских властей. Современники считали достижения Олмстеда поистине героическими и поговаривали, что он был бы прекрасным кандидатом в президенты. Его же вполне устраивала работа планировщика парков, но важно понять, что для Олмстеда планирование парков было оружием более масштабных схваток, в которые вступали другие, желавшие реформировать город и сделать его обитаемым. Без их поддержки отрешенный практик никогда не смог бы оказать сопротивление Боссу Твиду.
В свое время Олмстед пытался заниматься сельским хозяйством и литераторством, но у него было мало практического опыта в области архитектуры и градостроительства. В 1850 году его сотрудник Калверт Вокс — архитектор, получивший профессиональную подготовку в Лондоне, — работал помощником Даунинга. Не прошло и двух лет, как он стал партнером Олмстеда, а в 1852 году, после того как Даунинг утонул во время аварии речного судна, Вокс занял место бывшего патрона.
Когда в 1857 году Олмстед и Вокс представили документы на конкурс проекта Центрального парка, Олмстед уже был назначен управляющим строительством этого парка. Он был приемлемой, имевшей хорошую репутацию фигурой и получил широкую поддержку политической элиты города. Вокс был человеком, который располагал необходимым опытом проектирования, но Олмстед обладал качествами выдающегося лидера, способного четко изложить идеи проекта. Он был гораздо более известной личностью, но вклад Калверта Вокса и декоративная отделка Джейкоба Рэя Моулда, создавшего мосты, бельведер и террасу, прекрасно дополнили концепцию ландшафтной архитектуры.
План Олмстеда и Вокса («Газон») представлял собой концепцию парка как «самостоятельного произведения искусства», созданного с целью воплотить «единый благородный мотив, для чего все части проекта с большей или меньшей степенью изысканности должны быть слиты воедино и продуманы». В часто цитируемом высказывании Олмстеда он точно определяет свою пуританскую концепцию, которая состояла в том, что «идея самого парка всегда должна восприниматься посетителем как главенствующая». Другими словами, парк должен быть проводником добродетелей природы, и в идеале его не следует загромождать памятниками, статуями и прочими культурными ценностями. Тем не менее для Олмстеда значительными элементами идеи парка были прикладная социология и стремление к реформам. Он хотел, чтобы Центральный парк давал гражданам любой классовой принадлежности возвышенное представление о еде и этикете, которые тесно взаимосвязаны и выходят за рамки добродетелей простоты, столь близкой американскому пониманию природы.
Олмстед надеялся, что парк поддержит и укрепит высокие стандарты поведения и общественного порядка. Он твердо верил, что его проект поможет искоренить многие общественные пороки: «Парк произведет заметные перемены в привычках наших людей — каждый погожий день привлекая к себе сотни и тысячи экипажей и предоставляя их пассажирам восхитительную возможность приятно провести время, которой до сих пор не было в этом городе».
В 1850-е годы, когда Олмстед предложил свой проект, лишь десять процентов жителей Нью-Йорка жили севернее 40-й улицы. Другими словами, это был пригородный парк, расположенный в незастроенной, наполовину сельской местности. Он находился вдали от многоквартирных домов городской бедноты, которая извлекла бы наибольшую выгоду из пользования «Газоном». Олмстед надеялся, что парк будет поддерживать атмосферу сельской местности, но чтобы создать видимость естественности, требовалось приложить много усилий и понести много расходов. До строительства Бруклинского моста, то есть до 1880-х годов, масштабы строительных работ и финансовых вложений в Центральный парк были уникальными. (С 1859 по 1862 год посадили почти 150 тыс. деревьев.) Однажды целостность проекта Олмстеда едва не пострадала: законодательное собрание штата отвело под музей «Метрополитен» участок земли в пределах парка. Но этот проект отклонили из-за двух важных водохранилищ, которые четко отделяли верхний парк от нижнего. (В 1920-х годах нижнее водохранилище сочли излишним и засыпали землей, привезенной грузовиками со свалок, а затем засеяли травой. Так появилась Большая Лужайка. Более крупное по размеру принимающее и распределяющее водохранилище, ограниченное 86-й и 96-й улицами, было создано, как и многое другое в Центральном парке, целой армией работавших здесь иммигрантов ирландского происхождения. В 1993 году его изолировали от городской системы водоснабжения). Созданный Олмстедом и Воксом парк. который в 1858 году был открыт для публики, дал Нью-Йорку нечто такое, что отличало его от других городов.
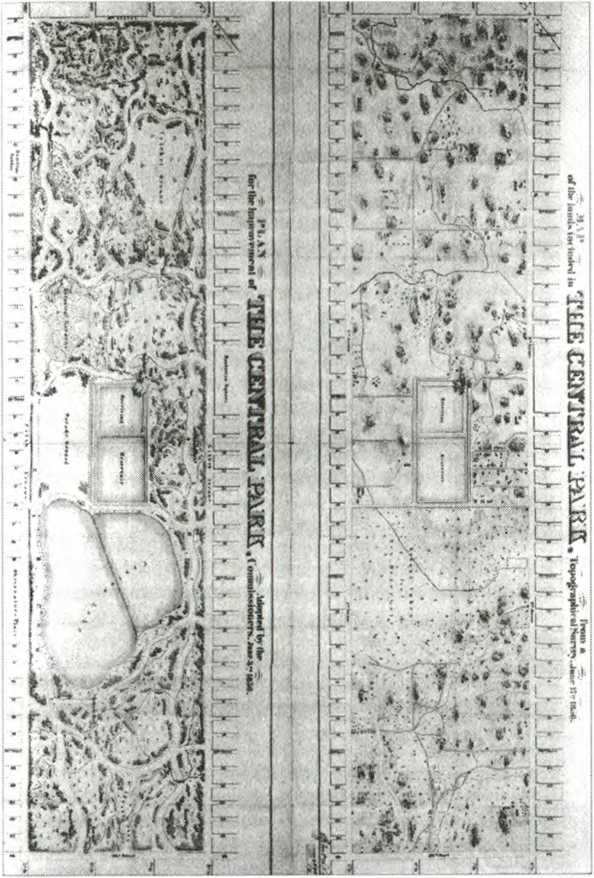

И все же было бы ошибкой предполагать, что к этому парку, или к его проекту, в городе относились как к неприкосновенной святыне. Прогрессивные реформаторы начала XX столетия, стоявшие в авангарде движения за создание спортивных площадок в беднейших районах города, обеспечение организованного отдыха и занятий спортом, развернули в Центральном парке бурную деятельность. Первой из девятнадцати площадок, которым суждено было появиться в парке, и первой названной по имени благотворителя, стала Площадка Хекшера, разбитая в 1925 году в районе 61-й улицы и Седьмой авеню. Внук этого благотворителя, носивший, как и его дед, имя Огаст Хекшер, впоследствии стал уполномоченным по паркам и написал книгу «Выживший в городе: мемуары бывшего уполномоченного» (1974), которая представляла собой смелый отчет о состоянии парка и о политике городских властей во времена мэра Линдсея.
Центральный парк был естественным местом реализации всевозможных гражданских усовершенствований и в разное время давал приют Национальной академии художеств, новому оперному театру (это был театр на отрытом воздухе, вмещавший 50 тыс. зрителей), футбольному стадиону, объектам жилищного строительства; тут предполагалось воплощать и иные замечательные, но благополучно отвергнутые идеи. Были и другие проекты, которые энергично поддерживал Роберт Мозес, занимавший с 1934 по 1960 год пост управляющего парками. Когда в 1934 году овец с «Овечьего луга» изгнали в бруклинский Проспект-парк, Мозес настоял на перестройке овчарни Джейкоба Рэя Моулда в ресторан под названием «Таверна на лугу». Каток Уолмана (1950—1951) и Театр Делакорта (1963) получили такую же поддержку на высоком уровне.
Окупаемость городских парков
Олмстед и многие из тех, кто энергично поддержал идею создания парка, рассматривали парк как место, где можно предаться тихим радостям созерцания. В проекте «Газона» было заложено нечто большее, чем стремление к демократичности. В конце концов, предполагалось, что пользование парком будет бесплатным, точнее говоря, содержание парка будет оплачиваться из доходов от налогообложения, продажи облигаций и особых сборов, взимаемых с владельцев прилегающей собственности. Для поддержания порядка парк Олмстеда располагал собственными полицейскими силами.
Непредсказуемые изменения политического курса городских властей и государственного бюджета оказывали на парк болезненное воздействие. При сокращении бюджетных расходов, чтобы уйти от решения вопросов содержания парка, проще всего было объявить о приостановке приема на работу необходимых специалистов. Тогда озера верхнего парка набирали ил. Штат садовников сокращался снова и снова. Когда в парках сажали цветущие кустарники, их связывали друг с другом цепями вокруг корней. Предполагалось, что иначе кусты украдут. Группы закованных в цепи цветов были ярким символом социального кризиса, в котором находился город. Пренебрежительное отношение к парку — давняя традиция городских властей. Между 1913 и 1919 годами расходы на содержание манхэттенских парков сократились на 50 процентов. И хотя в 1920-х годах уровень расходов повысился, пренебрежительное отношение уже нанесло ущерб. Никто не обращал внимания на то, что Мраморный мост Вокса ветшает, и в 1934 году он окончательно разрушился. После принятия устава города в 1936 году офис архитектора по ландшафту перестал поддерживать парк в должном состоянии (понятно, что к этому приложил руку Роберт Мозес). Управление парками обратилось в муниципальную Золушку, к которой никто не испытывал особо нежных чувств.
Финансовый кризис, обрушившийся на Нью-Йорк в 1970-е годы, имел гибельные последствия для парковой системы. В 1960-е годы экономика Нью-Йорка приостановила рост, а расходы бюджета увеличивались более чем на восемь процентов ежегодно. Это был период серьезной социальной напряженности (война во Вьетнаме, высокий уровень насилия и преступности, катастрофический рост потребления наркотиков, усилившаяся расовая вражда), когда политики шли на временные уступки, отчаянно пытаясь отреагировать на запросы общества и требования многочисленного электората, состоявшего из входивших в городские профсоюзы рабочих. Социальное обеспечение малоимущих и безработных требовало все больше и больше ресурсов, тогда как основные городские службы (полиция, пожарные, санитарный надзор и образование) получали все меньше и меньше средств из бюджета. В сущности, школьные здания не ремонтировались, старые учебники не заменялись новыми, улицы не убирались так, как они убирались раньше, а выбоин на дорогах города становилось все больше. Резко выросла стоимость проезда на исписанной граффити подземке. Бюджетные расходы на содержание парков урезали, а сенатор Дэниэл Патрик Мойниган утверждал, что, поскольку город не может следить за своими парками, их нужно передать в ведение Службы национальных парков. Город приобрел запущенными угрожающий вид. В 1975 году совокупный доход Нью-Йорка составил 10,9 млрд долларов, а расходы — 12,8 млрд долларов. Годовой текущий дефицит равнялся почти 2 млрд. По причине неоднократного повышения налогов Нью-Йорк стал одним из самых дорогих для проживания мест в Америке и приобрел репутацию города с неблагоприятными условиями для бизнеса. Сделав вполне очевидные выводы, ньюйоркцы покидали город во все возрастающем количестве. Предприятия в массовом порядке переводили в штаты Сол-нечного пояса. База налогообложения слабела, долги города резко возросли. В марте и апреле 1975 года не отличавшийся творческим подходом к решению городских проблем 104-й мэр города Эйб Бим почувствовал, что совершенно выбился из сил. Вслед за изгнанием с кредитного рынка (Бим жаловался на «заговор» банкиров и республиканских газет) город утратил контроль над собственными финансовыми делами. Чтобы избежать невообразимого дефолта, штат выделил городу кредит в размере 800 млн долларов и создал «Муниципальную корпорацию помощи» («Биг МАК»). Председателем МАК назначили одного из партнеров инвестиционного банка «Лазар фрерс», Феликса Дж. Роатена. За время пребывания на этом посту (Роатен покинул МАК в 1993 году) он оказал огромное влияние на состояние финансов города. В оставшиеся до конца десятилетия годы Нью-Йорк только и делал, что выкарабкивался из сменявших друг друга кризисов. Нужно было принимать дополнительные меры. Налоги безжалостно поднимались, а городские службы приходили в упадок. В следующем десятилетии благодаря интенсивному строительству, развернувшемуся в центре города, возросла занятость населения, планировалось возведение новых небоскребов, и финансовое состояние города значительно улучшилось. А в 1990-е годы произошел резкий сдвиг в положительную сторону. Но устранение последствий пренебрежительного отношения к инфраструктуре и скверного управления финансами потребует долгого времени. Между тем «серые кардиналы» нью-йоркской политики (профсоюзы и банки) ничуть не утратили унаследованной от предшественников жажды власти.
«Перед все более многочисленными толпами открывается унылое зрелище растоптанных кустарников, покрытых пылью лужаек, эрозии, мусора и мостов (в особенности моста Боу-бридж на озере), заброшенных до такой степени, что они представляют опасность для публики», — писал Генри Хоуп Рид, в 1960-е годы смотритель парков. Комиссия по охране Центрального парка, созданная в 1980 году Элизабет Барлоу Роджерс, обогатила это большое, обветшалое и почитаемое место общественного отдыха новаторскими идеями. Миссис Роджерс (которую уполномоченный по паркам Генри Дж. Стерн назвал «женщиной, в XX столетии спасшей Центральный парк») обращалась с парком так, словно это учреждение культуры, сравнимое с музеем «Метрополитен». Она собрала 150 млн долларов пожертвований именитых семейств, представителей высшего света и самых известных компаний города (думаю, среди них были концерн «Экссон» и семейство Рокфеллеров). Она достаточно успешно решила проблему сбора средств, а городские власти неизменно уклонялись от финансирования парка.
Комиссия Роберта Ф. Вагнера-младшего опубликовала полученные сведения в документе с оптимистическим названием «Возвышение Нью-Йорка» (1987), в котором имелось несколько вполне уместных напоминаний о значении парков для города и отмечалась взаимосвязь между ответственностью города и ответственностью горожан:
Городские власти должны... бороться за более красивый и человечный город, а не просто за коммерческий центр. Качество мест общего пользования (парки, улицы, станции метро) должно быть главенствующим требованием при градостроительстве и перестройке Нью-Йорка, — а уважительное отношение к местам общественного пользования должно главенствовать в поведении ньюйоркцев. Это отношение, которому надлежит стать доми-пирующей частью общественной культуры Нью-Йорка, должно быть личным вкладом каждого жителя Нью-Йорка в жизнь города.
Наглядное отражение перемен в финансовом состоянии города и успеха первого для Центрального парка случая партнерства государственного и частного секторов — та масштабная приватизация в сфере содержания парка, которая была предпринята в 1990-е годы. Маленькие группы добровольно брались за уборку территорий и разбивали сады. Когда администрация парка узнала о существовании таких проектов (которые осуществлялись параллельно с развернувшимся в Ист-Виллидж движением по созданию садов в микрорайонах), первой инстинктивной реакцией было желание их прикрыть. Но опыт неоднократных сокращений бюджетного финансирования заставил Чарльза Маккини, занимавшего пост администратора расположенного в Верхнем Вест-Сайде Риверсайдского парка, признать важную роль добровольческих групп. Добровольцам поручили следить за отдельными участками парков, но со многими ограничениями, которые касались прав пропуска на территорию и принятия окончательных решений по внесению каких-либо изменений. Хитрость заключалась в том, что, приветствуя инициативу добровольцев и направив их энергию в нужное русло, управление парками оставляло за собой функции контроля.
Для проведения масштабных работ по уборке парков мэр Джулиани использовал адресатов «Хоум Релиф» — финансируемой штатом социальной программы оказания помощи не имеющим детей безработным. Кроме того, администрация мэра разрешила Управлению парками получать, помимо базовых доходов, прибыль от сдачи в аренду вверенного ему имущества. Джулиани неоднократно выдвигал идею сделать парки более коммерческими, проводить в них более масштабные и более прибыльные общественные мероприятия и тем самым снизить расходы города на их финансирование. Трудно представить себе более продуманную стратегию, направленную на изменение «атмосферы» и облика мест общественного пользования, чем этот адресованный каждому парку призыв стать местом, где стремление к развлечениям заменит то архаическое чувство опеки, которое люди все еще испытывают в отношении парков. Когда городской чиновник самого высокого ранга относится к паркам как к Диснейленду, едва ли можно ожидать, что широкая публика будет относиться к ним иначе. Сегодня работы по улучшению состояния парков финансируются лишь на 50 процентов от предусмотренных затрат, остальные средства придется брать из пожертвований и доходов от коммерческих проектов. Разрешение, которое мэр дал парковой системе, по сути, является для нее серьезной западней: примыкающие к зеленым зонам структуры, которые оказывают поддержку работам по улучшению состояния парков, помимо этого, должны выплачивать в городскую казну деньги на содержание парков. Когда группа примыкающих структур обратилась к Управлению парками с просьбой закрыть парк Маккарена в Бруклине, опасаясь того, что ночью хулиганы разрушат новую дождевальную установку, власти ответили: охранять парк некому. Гонку между растущей коммерциализацией и вандализмом выигрывают вандалы.
Нет ничего удивительного в том, что в 1990-е годы уровень содержания городских парков продолжал снижаться. На протяжении почти всего десятилетия наблюдалось весьма благоприятное состояние городских финансов, но, несмотря на это, в большинстве парков мало что изменилось к лучшему. Бюджет Управления парками и местами отдыха приводит в уныние. В 2001 году город принял на работу в общей сложности 27 садовников для ухода за парковыми зонами площадью 27 тыс. акров. В 1997 году с Комиссией по охране Центрального парка заключили десятилетний контракт на проведение работ по содержанию парка. Имея возможность финансировать три четверти своих расходов из частных источников, комиссия наняла 73 садовника для ухода за 843 акрами парковой зоны.
Приватизация, с неизбежным для нее надзором за входом и ограниченным доступом, представляет собой стратегию, вызывающую тревогу и, по сути, недопустимую. Поэтому открытым остается следующий вопрос: как защитить парки? Если вернуться к тем первым, проходившим еще в 1850-х годах дебатам, которые вызвало предложение создать Центральный парк, мы обнаружим четко сформулированное объяснение того, почему парки являются не только желанными украшениями города, но и необходимостью (они улучшают качество жизни в плотно заселенном городском пространстве). Можно не принимать в расчет ту часть дебатов, в которой утверждалось, что парки будут насаждать привычки и формы поведения, которые укрепят общественный порядок. Если это когда-нибудь и соответствовало действительности (а ведь вполне могло), сегодня, по всей вероятности, данный аргумент уже не способен изменить людей. Помимо мнения, что парки являются украшением и приманкой, которая дает любому городу конкурентное преимущество и доллары (или фунты, или евро) туристов, и довода, что парки служат украшением окружающих жилых застроек, есть и тезис Линдена Миллера, который работал дизайнером по ландшафту в Брайант-парке и Вагнер-парке. Его высказывания были опубликованы в «Нью-Йорк таймс» вскоре после атаки террористов на Всемирный торговый центр: «Жизнь города — не только напряженный ритм мидтауна, но и жилые районы, озелененные территории, качели, бейсбольная площадка и возможность посидеть на скамейке».
Парки и то, что они предлагают обществу, являются выражением некой фундаментальности демократичного города. Членство в частных гимнастических залах и оздоровительных клубах — дорогое удовольствие, которое может себе позволить лишь часть населения. Можно предположить, что летние отпуска на первоклассных курортах, зимний отдых на островах Карибского моря и даже пробежка по парку ранним утром недоступны для большинства семей и сотен тысяч детей, которые учатся в школах города. Парки предназначены именно для этих детей и их родителей, хотя политики боятся открыто это признать. Когда парки недостаточно финансируются и плохо содержатся, городские власти, как правило, умывают руки и хрупкое социальное согласие ослабевает.
И все же трудно найти «реалистичные» альтернативы, когда имеешь дело с продолжающимся финансовым кризисом парковой системы. В свете невиданного дефицита бюджета (результат атаки на Всемирный торговый центр) и снижения доходов от налогообложения по причине спада национальной экономики доля финансовой поддержки частного сектора несомненно возрастет. Десятилетиями власти города уходили от ответственности за содержание общественных парков. Своим сегодняшним состоянием парки обязаны самоотверженности и упорству руководителей и работников Управления парков и мест отдыха, а также защите действующих из лучших побуждений частных лиц и городской прессы. Было бы неверно ожидать, что частное финансирование сможет поддержать всю парковуюсистему.
Лишь крупнейшие парки могут заявить о себе во весь голос и получить профессиональную поддержку таких организаций, как Комиссия по охране Центрального парка и Союз Проспект-парка. В 1930-е годы, когда происходило укрупнение парковой системы города, Роберт Мозес поставил условием, чтобы каждое место отдыха обслуживали шесть смотрителей. Стал нормой краткий (час в день) осмотр территории одним из работников Управления парков. Дисбаланс капиталовложений также накапливает проблемы на будущее. Сумма в 200 тыс. долларов на акр, которая в середине 1990-х годов была доступна для реконструкции Брайант-парка на 42-й улице, не идет в сравнение со среднегородской суммой (5700 долларов) и нереальна для парков, у которых менее известные соседи, или тех, которым покровительствуют менее состоятельные нью-йоркцы. Но когда есть другие, более насущные проблемы и когда финансовые перспективы города выглядят весьма рискованными, вполне можно совместить потенциал таких организаций, как Комиссия по охране Центрального парка, с предложением сенатора Мойнигана относительно Службы национальных парков. Возможно, что в настоящее время это единственный способ сохранить систему. Быть может, сейчас самое время при входе в парк доставать чековую книжку.
Поразительным свидетельством того, какое значение придают нью-йоркцы городским паркам, стал тот факт, что после 11 сентября резко увеличилось количество посетителей парков, ботанических садов и зоопарков. Между тем, главные учреждения культуры, во главе с музеем «Метрополитен» и Бруклинским музеем, пострадали от резкого сокращения посетителей. Упавшую на целом на треть посещаемость объяснили крахом индустрии туризма, который имел место после террористического акта. Более других пострадали учреждения культуры, находившиеся в непосредственной близости от Всемирного торгового центра, такие как, например, музей еврейского наследия в Бэттери-парк-Сити. Менее крупные музеи и те, которые имели тесные связи с жителями микрорайонов, в которых находились, легче преодолели последствия кризиса. Но именно парки и, возможно, на редкость мягкая осенняя погода, стоявшая в конце 2001 года, притягивали все большее число посетителей.
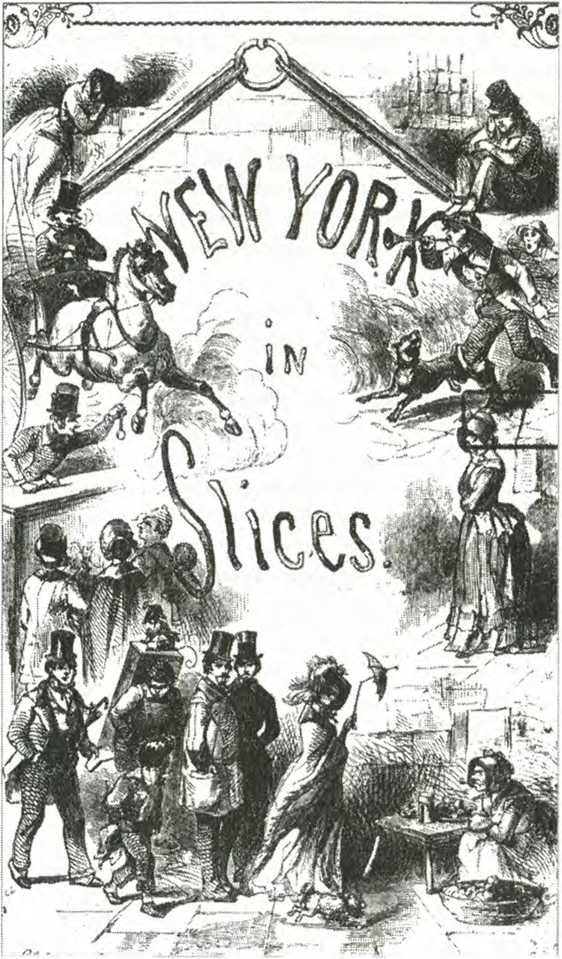
Глава шестая. Бродвей
«В Нью-Йорке не гуляют, — писал Жан-Поль Сартр зимой 1945 года, во время своего визита в город, — там либо убивают время в драгсторах, либо ездят в скоростном метро». Сегодня впору вновь заявить, что Нью-Йорк следует познавать пешком. Если Уолл-стрит и фондовую биржу можно созерцать, сидя с чашкой кофе на ступенях национального мемориала Федерал-холл, то Бродвей просто создан для пеших прогулок.
Если у вас есть удобная обувь, то при желании за день можно пройти семнадцать миль от Боулинг-грин до северной оконечности Манхэттена. У любителей праздно послоняться, бродяг и тех, кто предпочитает гулять, потягивая кофе и разглядывая витрины магазинов, подобное путешествие может занять два или три дня, а то и неделю доставляющих удовольствие прогулок. Нигде на свете нет улиц, похожих на американские. «Бродвей — весьма величественная улица, — писал Джордж Фостер в «Срезах Нью-Йорка» (1849), — и вместе с тем самая пестрая, самая людная и самая фешенебельная улица на континенте». Во время прогулки по Бродвею можно сделать массу разных дел: продегустировать различные блюда, осмотреть впечатляющие творения архитектуры, посетить церкви, синагоги или исторические памятники, сделать фотографии интересных и неожиданных архитектурных деталей, заняться покупками и, конечно же, воспользоваться великолепной возможностью понаблюдать за людьми (ведь Бродвей — ярчайшее отражение жизни Нью-Йорка).
Рождение Бродвея
Голландская «Нееге Straat» (Главная улица) представляла собой широкую немощеную дорогу, пересекавшую западную часть города с юга на север, от форта Амстердам до улицы «Het Cingle», которую британцы переименовали в Уолл-стрит. В том месте, где начинался общественный выгон (сегодня там Сити-холл-парк), от Бродвея ответвлялась Парк-роу, по которой телеги фермеров и экипажи двигались на северо-восток, на Хай-роуд, уходившую в сторону Бостона. Протянувшийся, как и сам город, в направлении север — юг, колониальный Бродвей имел хороший водосток и, будучи отделен от заболоченной местности бордюром, вполне подходил для верховой езды и движения экипажей. С Бродвея открывался уникальный вид на город и его окрестности: на востоке можно было разглядеть Бруклин, а на западе — реку Гудзон и Нью-Джерси. Торговой эта улица считалась в меньшей степени, чем «Нееге Graht» (Широкая улица) с ее «каналом» — узкой зловонной канавой, которая во время прилива использовалась для перевозки товаров, доставлявшихся на маленьких баржах в пивоварни и пакгаузы в центре Нового Амстердама. На западной стороне «Нееге Straat» располагался самый изысканный жилой район голландского города. Вдоль улицы выстроились радующие глаз дома церковников, купцов и чиновников голландской Вест-Индской компании. При каждом из этих домов были фруктовые сады и огороды, спускавшиеся к Гудзону. Сельские усадьбы и фермы Яна Янсена Дамена и Эверарда Богарда располагались вдоль берега Гудзона. На восточной стороне улицы стояли менее крупные строения, весьма скромные дома и мастерские городских ремесленников. Социальную дифференциацию, которая вполне устраивала жителей западной стороны улицы, усугубило строительство первой церкви Троицы, отягощенное растущим предубеждением к обитателям восточной стороны, стоявшим на более низкой ступени в социальной и экономической иерархии города. Это предубеждение сохранилось и в XIX веке.
В 1690-е годы, когда закладывались основы современного Нью-Йорка, пересечение Бродвея и Уолл-стрит стало центром английской колонии. Вместо Stadt Huys появилось здание городского совета. Там, где Уолл-стрит упиралась в берег Ист-Ривер, построили пристань. Была возведена церковь Троицы. Фасад первого из трех строений на западной стороне Бродвея выходил на Уолл-стрит и смотрел на то место, где позднее построили рынок рабов. Бродвей был в большей степени сельским проселком, нежели дорогой, так как его пересекали тропинки и маршруты выгона коровьих стад, издавна пролегавшие в этих местах. Но улучшения были не за горами. В 1709 году Бродвей замостили булыжником, а посредине улицы пролегла сточная канава. Тем, кто жил на Бродвее, разрешили сажать деревья, и со временем улица стала обретать изысканный вид. Именно англичане в начале XVIII века начали рассматривать Бродвей как витрину города. Когда набирало темп переселение ньюйоркцев в верхнюю часть города, именно Бродвей сделался местом «изысканного времяпрепровождения». Так некий англичанин, посетивший Нью-Йорк в 1808 году, писал:
Ни парк, ни Бэттери не являются местами, которые часто посещают представители нью-йоркского света, поскольку это слишком банально. Место изысканного времяпрепровождения находится на Бродвее и открыто с одиннадцати до трех; в это время улица столь же многолюдна, как Бонд-стрит в Лондоне: экипажи, хотя и не столь многочисленные, снуют взад и вперед. Дорожки для пешеходов обсажены тополями, которые летом создают приятную тень, спасающую от солнца.
Сегодня только смелая игра воображения позволит связать Бродвей с той хорошо знакомой голландцам и английским колонистам, изрезанной колеями грязной дорогой, вдоль которой стояли неказистые домишки. На месте форта Амстердам, воздвигнутого голландской Вест-Индской компанией для защиты поселения от местных племен, время от времени проявлявших недружелюбное отношение, стоит построенное в 1907 году по проекту архитектора Кэсса Гилберта роскошное здание таможенного управления Александра Гамильтона. Созданный Гилбертом проект в стиле бо-ар включает 48 ионических колонн, внушительную мраморную ротонду с фресками эпохи «Нового курса» Франклина Д. Рузвельта работы Реджинальда Марша, богато украшенный фри, и впечатляющих размеров скульптуры Дэниела Честера Френча, символизирующие четыре континента. Это фигуры задумчиво сидящих женщин, которые в первый момент производят такое впечатление, словно они кого-то оплакивают. Военные мемориалы и кладбища погибших солдат и мирных жителей, появившиеся во всех уголках Европы после окончания Первой мировой войны, обязательно имеют скульптуры, выражающие общую скорбь. Между ними и скульптурами Френча есть некое зловещее сходство. Для столь яркого и роскошного здания скульптурная группа скорбящих женщин — весьма неожиданное дополнение.
Здесь контролировали сбор налогов (раньше этим занимались на Уолл-стрит), а ныне это здание делят федеральный суд по делам о банкротстве и музей коренных жителей Америки. (В Нью-Йорке всегда существовала проблема со свободными помещениями.) В 1973 году, после открытия Всемирного торгового центра, таможенное управление выехало из экстравагантного творения Гилберта, а в 1994 году сюда перебрался центр Джорджа Густава Хэя при национальном музее коренных жителей Америки. Центр Хэя — подразделение Смитсоновского института и располагает более чем миллионом артефактов (лишь мизерная доля которых демонстрируется), а также богатым архивом фотоснимков и других визуальных материалов, касающихся как туземных культур Центральной и Южной Америки, так и культур многих племен Северной Америки.
Начиная с номера 1
Дом номер один по Бродвею, большое, возвышающееся над Боулинг-грин офисное здание, является последним в длинном ряду строений, занимавших этот важный участок местности. Близость к форту и его томимому жаждой гарнизону сделала миссис Кокс, владелицу голландской таверны, находившейся в доме 1, одной из первых толковательниц заклинания, которое знает каждый нью-йоркский агент по торговле недвижимостью: «Местоположение, местоположение, местоположение». Земля, на которой стояла таверна, переходила из рук в руки и сменила множество самых разных владельцев, как голландцев, так и англичан. Так продолжалось вплоть до 1740-х годов, когда ее купил Арчибальд Кеннеди, главный управляющий сборами колонии (то есть сборщик таможенных пошлин), впоследствии граф Кэссилис. Таверну снесли, и Кеннеди построил на ее месте изысканный особняк, в котором разместился штаб британских войск, когда в 1776 году те оккупировали город. Когда в 1783 году британцы ушли из города, Айзек Сирс, заметная фигура в стане патриотов, вернулся в Нью-Йорк и взял в аренду дом 1 («один из изящнейших домов в городе»). Арендная плата была беспрецедентной — 500 фунтов в месяц.
Особняк Кеннеди сохранил репутацию одной из самых импозантных резиденций в городе, и до гражданской войны его занимали известные банкиры и даже мэр-демократ Эндрю Микл. Упадок начался, когда жилые районы города переместились на север. После гражданской войны новые арендаторы, соблюдавшие правила социальной иерархии, уже не могли жить в Боулинг-грин, и особняк Кеннеди на короткое время стал отелем, потом закрытой школой для девочек, а перед тем как в 1882 году его снесли, в нем помещался пансион. Затем по адресу Бродвей, 1 воздвигли Дом Вашингтона, в котором разместилась «Юнайтед Стэйтс лайн» — главный американский участник борьбы за первенство на североатлантических пассажирских линиях. Ее соперниками были могущественная «Кьюнард» (офис по адресу Бродвей, 25, в квартале к северу), а также французские и германские судоходные компании. После Первой мировой войны Дом Вашингтона был облицован известняком. В 1980-х годах облицовку обновили, и теперь здесь размещается компания «Интернешнл мерчант марин компани».
В северной части Боулинг-грин стоит «Нападающий бык» — грозного вида статуя, созданная Артуро ди Моди-кой в 1988 году. Дети дружелюбно похлопывают зверя по носу и кривляются, позируя перед объективами, а родители пытаются объяснить, зачем на Бродвее установлена статуя быка в полный рост. Впрочем, вместо того чтобы тратить время на объяснения метафор и рассуждения об изменениях конъюнктуры на Уолл-стрит, лучше просто пройти пять кварталов вверх по Бродвею до Либерти-стрит и осмотреть перевернутый «красный куб» Исаму Ногучи возле здания «Марин Мидлэнд бэнк» по адресу Бродвей, 140. Затем, привыкнув к виду современной скульптуры, нужно свернуть на восток, на Либерти-стрит, и пройти мимо Федерального резервного банка с его знаменитыми золотыми подвалами, расположенными на глубине 80 футов под мостовой. А после этого можно возобновить изучение современного искусства, задержавшись на Луиза-Невельсон-плаза и осмотрев «Тени и флаги». Это творение Луизы Невельсон (1977) представляет собой семь внушительного размера стальных скульптур. Затем можно пройти к «Группе из четырех деревьев», установленной в 1972 году Жаном Дюбуфе на небольшой площади перед башней банка «Чейз Манхэттен», которая занимает весь квартал между улицами Либерти-стрит и Пайн-стрит. Бывшая студия Нагучи на Вернон-бульвар в Куинсе была перестроена, и в ней разместился музей-сад. Помимо покрытых резьбой каменных фрагментов, в этом саду имеется двенадцать крытых галерей, в которых выставлено более 250 произведений искусства. Музей-сад связывает с музеем современного искусства, центром современного искусства «Пи Эс 1» и другими музеями Куинса бесплатный по выходным автобусный маршрут «Куинс артлинк бас сервис». Скульптура Нагучи имеется и возле расположенного в Рокфеллеровском центре здания «Ассошиэйтед пресс». Еще одна работа Невельсон под названием «Ночное присутствие IV» размещена в центре перекрестка Парк-авеню и 92-й улицы. «Изогнутый пропеллер» работы Александра Колдера представлял собой ярко-красную стальную конструкцию высотой 25 футов, установленную в 1970 году в строении № 7 Всемирного торгового центра. Она разбилась во время обрушения этого здания. Но половину 15-тонной конструкции нашли, сейчас ведется поиск второй ее части. Фонд Колдера считает, что скульптуру можно восстановить, если удастся найти хотя бы 30 процентов второй половины. (Среди значительных произведений искусства, которые были безвозвратно потеряны 11 сентября, — скульптуры Родена, находившиеся в частном музее Кантора Фитцджеральда на 105 этаже строения № 1 Всемирного торгового центра, «Гобелен Всемирного торгового центра» работы Жоана Миро, с 1974 года хранившийся в бельэтаже строения № 2 ВТЦ и полностью уничтоженный; написанная Роем Лихтенстайном в 1975 году работа из серии «Антаблемент», которая исчезла вместе с вестибюлем строения № 7 ВТЦ.)
Существует традиционная «Тропа наследия», маршрут, включающий обзор десятков произведений искусства, выставленных в Нижнем Манхэттене. Бесплатные карты-схемы предлагаются во многих торговых точках.
Нижний Бродвей, от Бэттери до Сити-холл-парка, больше похож на глубокое ущелье или на аэродинамическую трубу, стенами которой являются высокие коммерческие здания. Все пешеходы здесь спешат по своим делам. Для Нижнего Бродвея характерно отсутствие праздношатающихся личностей и сколько-нибудь интересных достопримечательностей, за исключением двух маленьких музеев: музея полиции, расположенного на пересечении Бродвея и Моррис-стрит, и музея истории американских финансов, расположенного на восточной стороне Бродвея, рядом с домом 26, где раньше находились офисы компании «Стан-дард ойл». По меньшей мере с несколькими коммерческими зданиями Нижнего Бродвея связаны довольно интересные истории. В расположенном на углу с Бивер-стрит доме 26, который представляет собой устрашающего вида строение высотой 480 футов, с 1884 года размещались офисы компании Джона Д. Рокфеллера «Стандард ойл». После развала «Стандард ойл» в 1911 году одна из компаний-правопреемниц созданного Рокфеллером колосса оставалась в доме 26 вплоть до 1950-х годов. Однако подлинным наследием, которое досталось Нью-Йорку от Рокфеллеров, стал построенный в начале 1930-х годов Рокфеллеровский центр в мидтауне. В конструкцию первого здания Рокфеллера на Бродвее внесли серьезные изменения и расширили ее. Соседний дом (расположенное по адресу Бродвей, 25, бывшее здание компании «Кьюнард») стоит на том месте, где в 1846 году находился отель и ресторан «Дельмонико». Его фасад в стиле псевдоренессанса возвышается над Боулинг-грин, а богато украшенный зал, в котором заказывали билеты и который теперь занимает почтовая служба США, напоминает о тех временах, когда коммерческая архитектура Нью-Йорка была изысканной и впечатляющей.

Севернее Уолл-стрит Бродвей — это сплошные банки и страховые компании. Наиболее интересным является здание Эквитбл-билдинг, расположенное по адресу Бродвей, 120, между улицами Пайн-стрит и Сидар-стрит. Это огромное сооружение занимает участок земли площадью менее одного акра, на котором возвели здание общей площадью 1,2 млн квадратных футов. Эквитбл-билдинг стал весьма внушительным подтверждением гигантских возможностей современной архитектуры, но его строили без учета последствий появления на Бродвее конструкции столь огромных размеров: по утрам он погружает Бродвей в густую тень. Не учли и того обстоятельства, что значительное увеличение числа служащих окажет катастрофическое воздействие на и без того перегруженное уличное движение и систему общественного транспорта. Паническая реакция на появление Эквитбл заставила оценочную комиссию, ужаснувшуюся потенциальным социальным проблемам, принять в июле 1916 года решение о зонировании, разделившее город на участки трех категорий землепользования: коммерческой, жилищной и неограниченной. Около 40 процентов территории Манхэттена отнесли исключительно к жилищной категории, и дальше 23-й улицы запретили строить новые фабрики. К моменту принятия в 1916 году правил зонирования были созданы «районы», в которых высота новых зданий ограничивалась пропорционально ширине прилегающей улицы. Сочетание ограничений по пользованию и по величине оказалось чрезмерно сложным для применения и привело к появлению поразительной архитектурной формы, скопированной с вавилонских зиккуратов, в которой верхние этажи высоких зданий сдвинуты назад, чтобы не мешать солнечному свету падать на улицу. Правила зонирования не имели обратной силы и потому не затронули ни одного из уже существующих зданий. И поскольку эти положения были сформулированы с излишней, может быть, заботой о правах собственности (например, в них четко и лаконично трактовалось понятие общественного блага), они успешно прошли все юридические процедуры принятия. Это была первая в Америке попытка взять под контроль процесс застройки в масштабах города. Правила 1916 года позволяли сохранять высокую плотность застройки, и, согласно оценкам, при таком законодательстве все население Соединенных Штатов 1900 года могло бы получить жилье в разрешенных для строительства многоквартирных домах Нью-Йорка. Различные элементы правил зонирования, доставшиеся в наследство от «случая Эквитбл-билдинг», самым непредсказуемым образом сформировали архитектурный облик Нью-Йорка.
Церковь Св. Павла
Пешком можно довольно быстро преодолеть расстояние между церковью Троицы и церковью Св. Павла, расположенной на восточной стороне Бродвея между Фултон-стрит и Визи-стрит. Фундамент созданной по проекту шотландского архитектора Томаса Макбина церкви Св. Павла заложили 14 мая 1774 года на участке пахотной земли у реки Гудзон. (Отсюда открывался замечательный вид на башни-близнецы расположенного по соседству Всемирного торгового центра.) Церковь, построенная Макбином, — единственное здание Бродвея, фасад которого не выходит на эту улицу, хотя центральный портик, поддерживаемый ионическими колоннами, почти достигает бродвейского тротуара. Как вспоминал один из первых историков города, когда церковь построили:
...с ее западной стороны открывался ничем не заслоненный вид на реку и на берега Джерси; в те времена воды Гудзона подходили к нынешней Гринич-стрит, а все, что располагается западнее, — «рукотворная земля». Должно быть, отсюда открывалась приятная и ласкающая глаз перспектива; мы можем себе представить, как в те далекие дни наши предки перед службой и после ее окончания собирались в крытой галерее и некоторое время стояли неподвижно, глядя на склон зеленых полей и на различимый поверх вершин деревьев прекрасный поток, несущий свои воды в направлении бухты.
Церковь Св. Павла была вторым из трех храмов, построенных приходским управлением церкви Троицы в связи со стремительным ростом численности англиканской общины города. Программа строительства храмов была прервана пожаром, который уничтожил первую церковь Троицы вскоре после оккупации города британскими войсками 22 сентября 1776 года. Вплоть до 1787 года, когда была построена вторая церковь Троицы, церковь Св. Павла была главным в городе молитвенным домом англикан. Причем сразу же после открытия церкви Св. Павла для молитвенных служений в тот год, когда разразилась война за независимость (башня из нетесанного камня, воздвигнутая Джеймсом Кроммелином Лоуренсом, и колокольня появились в следующем десятилетии), были проданы церковные скамьи, дабы собрать необходимые для содержания храма средства.

На Манхэттене есть здания и более преклонного возраста, но церковь Св. Павла уникальна тем, что на протяжении более двух столетий она непрерывно используется по назначению. Соседство со Всемирным торговым центром сделало ее кладбище любимым местом отдыха, где офисные клерки грелись на солнышке в обеденный перерыв. После атаки террористов она стала одним из важнейших неофициальных мест поклонения, стихийно возникших по всему городу в память о погибших. И именно здесь 27 декабря 2001 года Руди Джулиани произнес прощальную речь, перед тем как истек срок его пребывания на посту мэра:
...Пребывание в этой церкви весьма и весьма символично... Причина, по которой я выбрал этот храм, состоит в том, что он является в высшей степени священным. Это место действительно имеет особое значение для людей, которые обладают ощущением и пониманием патриотизма. Церковь является священной в силу того факта, что была освящена как храм Божий в 1766 году. Так давно! А в апреле 1789 года сюда пришел Джордж Вашингтон, принес присягу в качестве первого президента нашей республики и молился здесь, в этой церкви, что делает ее чрезвычайно священной для людей, которые остро чувствуют, что такое Америка.
Церковь освятили снова — в 2001 году, И сентября. Когда я вошел сюда, то по привычке поднял голову, потому что каждый раз, входя в эту церковь, я поднимал взгляд и видел башни-близнецы, такие высокие и прекрасные. Эта церковь много лет находилась в тени башен-близнецов. А И сентября, когда башни-близнецы были злодейски атакованы и рухнули после самого опустошительного нападения на Америку, разрушившего все окружающие здания и распространившего ущерб повсюду, вплоть до здания городского совета и далее на юг, до южной части Бэттери-парк-Сити, покрывшего это пространство обломками и телами и нанесшего чудовищные повреждения городским зданиям, эта церковь не только не разрушилась, но ни единое окно в ней не разбилось, ни единый камень не пострадал. И я думаю, что это весьма и весьма символично. Место, где Джордж Вашингтон молился, когда стал первым президентом Соединенных Штатов, осталось сильным, могучим, нетронутым и не сломленным атаками тех людей, которые ненавидят наши ценности. И значит, наши ценности намного сильнее, чем они.
Да, эта церковь отстаивает наши ценности. И это очень важное место. Я надеюсь, вы часто будете возвращаться сюда, чтобы поразмышлять над тем, что значит быть американцем и нью-йоркцем.
Церковь Св. Павла создавалась по образцу лондонской церкви Св. Мартина-в-Полях и была построена из камней (манхэттенского сланца), добытых в той же местности, где стоит. Алтарь, реконструированный в 1790-е годы, приписывают Пьеру Шарлю Ланфану, французу, который служил инженер-майором в Континентальной армии, отстроил заново здание городского совета на Уолл-стрит (см. главу 2), а также предложил план столицы в Вашингтоне. Внутри церкви светло и просторно. В погожий день, когда солнечные лучи, проникая через цветные витражи, падают на полированные черно-белые плиты пола и отражаются от обстановки, кажется, что такого освещения, как в этом храме, нет ни в одной другой церкви города. Из галереи открывается прекрасный вид на четырнадцать канделябров ручной работы, изготовленных из уотерфордского хрусталя. Оттуда же можно с благоговением взглянуть на скамью президента Джорджа Вашингтона, а на противоположной от центрального прохода стороне — увидеть скамью Джорджа Клинтона, который был губернатором штата Нью-Йорк в эпоху войны за независимость. Такие же скамьи использовались королевским губернатором провинции Нью-Йорк, а во время оккупации города британскими войсками на них садились лорды Хау и Корнуоллис, которые командовали британскими вооруженными силами.
В 1848 году художнику Джону Уильяму Хиллу поручили подняться на церковную колокольню и запечатлеть панораму города. На гравюре работы Генри Паприла, изданной Генри Мегарри, можно подробно рассмотреть рисунок Хилла, на котором церковь Св. Павла расположена в центре Нью-Йорка середины XIX века.

«Нью-Йорк с колокольни церкви Св. Павла». Генри Паприл, 1848. По рисунку Джона Уильяма Хилла Вручную раскрашенная акватинта
В то время вокруг церкви Св. Павла располагались все главные центры культурной жизни города. Галерея дагерротипной миниатюры Мэтью Брэди, в которой можно было увидеть новейшие изображения политиков и эстрадных артистов и которая привлекала к себе внимание толпы, находилась на углу Бродвея и Визи-стрит. Музей Пила и галерея изящных искусств располагались по адресу Бродвей, дом 252; там выставлялись экспонаты, представлявшие «научный» интерес, и «объекты естественной истории», имелись коллекция картин и портретов 150 «выдающихся граждан и иностранцев» и Большая косморама, выполненная итальянскими художниками и отражавшая «великолепие видов» экзотических мест и чудес. В лекционном зале Пил организовывал демонстрации чудес новой науки, гипнотизма. По соседству, в расположенном на углу Бикман-стрит и Нассау-стрит Клинтон-холле, размещались френологические кабинеты Орсона и Лоренцо Фаулеров. Здесь часто бывал Уолт Уитмен. Тщательно изучив череп поэта, один из братьев Фаулеров составил френологическую карту. «Она все еще у меня», — с гордостью замечал он.
Рядом, на углу Бродвея и Парк-роу, стоял основанный в 1842 году Американский музей Ф. Т. Барнума. Последний ловко устраивал сеансы псевдогипнотизма, пока не вытеснил своего конкурента Пила. После этого он купил экспозицию музея Пила и предлагал за прежнюю плату осмотреть экспонаты «двух музеев в одном». Громкая реклама Американского музея стала образцом, но не для городских центров «высокой культуры» (которые оставались провинциальными, респектабельными и консервативными), а для американского шоу-бизнеса. В 1842 году Барнум начал демонстрировать публике Чарльза С. Стрэттона, ребенка весом шестнадцать фунтов и ростом менее двух футов, которому придумал сценический псевдоним Генерал Мальчик-с-пальчик. Когда интерес публики пошел на убыль, Барнум нашел другого лилипута, Джорджа Вашингтона Моррисона Натта, которого показывали вместе с его миниатюрной каретой, лакеями и шетландскими пони. Барнум также показывал миниатюрную даму по имени Мерси Лавиния Уоррен Бампус. И Генерал Мальчик-с-пальчик, и «коммодор» Натт на глазах у публики влюблялись в Лавинию и, соперничая друг с другом, пытались добиться ее руки и сердца. Это приводило в восторг. Когда Генерал Мальчик-с-пальчик, уже состоятельный и искушенный владелец яхт и лошадей, завоевал наконец сердце Лавинии, Барнум устроил церемонию бракосочетания, которая состоялась в 1863 году в фешенебельной церкви города Грейс-черч. Среди гостей, которые присутствовали на бракосочетании развлекавших всю страну людей, были генерал Эмброз Бернсайд, супруга Джона Джейкоба Астора-третьего и супруга Уильяма Г. Вандербильта. Барнум превратил угол Бродвея и Энн-стрит в одно из самых известных мест города.

Недалеко от пересечения Бродвея и Парк-роу стояло почтенного возраста здание открытого в 1798 году Паркового театра. Это было очень простое трехэтажное здание. Его протяженность по фасаду составляла 80 футов, а глубина — 160 футов. Потолок здания представлял собой лазурно-голубой свод с облаками и небесными сферами. Интерьер украшал большой портрет Джорджа Вашингтона во весь рост. Над сценой висел зелено-золотой балдахин с девизом: «Дай естеству увидеть себя в зеркале». Сцена была больше сцены любого другого американского театра. Но Нью-Йорк, в чем убеждался один импресарио за другим, отнюдь не Лондон, тут нельзя придерживаться тех норм театрального искусства, которые приемлемы для аристократов. Даже самая грубая постановка не могла собрать большую аудиторию. Публика желала приятно провести время, алкала новшеств и дешевых развлечений. Люди просто не пошли бы на серьезную пьесу. Попытки сыграть прославленную оперную классику (например, роскошная постановка «Фиделио» в 1839 году) проваливались как из-за самого театра, так и по причине отсутствия вкуса у нью-йоркской аудитории. «Ложи напоминали загончики для скота, — отмечал Ричард Грант Уайт. — Пол был грязным и с дырами; сиденьями служили скамьи без обивки и спинок. В партере никогда не было женщин...» Атмосферу представления нарушали раздававшиеся с галерки неподобающие вопли и свист, а также регулярные «залпы яблоками, орехами и имбирными коврижками», которые дождем падали на «достойных людей в партере». Мужчины дерзко разглядывали в подзорные трубы местных красавиц. Нью-йоркские дамы первыми выразили недовольство языком и двусмысленностью эпизодов некоторых постановок, а неблагопристойное поведение юных героинь (их играли как актрисы, так и молодые актеры, переодетые женщинами) вызвало столь свойственное провинциалкам неодобрение. Поговаривали и об организованных весьма уважаемыми горожанами бойкотах спектаклей, которые считались непристойными. Тем не менее этот театр, вмещавший более 2000 зрителей и располагавший специальной «галеркой для цветных», оставался лучшим местом общественного развлечения вплоть до появления открывшейся в 1853 году Музыкальной академии.
Из неудач с постановками в Парковом театре антрепренеры извлекли несколько серьезных уроков. Первый состоял в том, что в обветшалом театре никогда не завоюешь любви или преданности состоятельных нью-йоркцев. Второй — в том, что даже такие большие и красивые театры, как Музыкальная академия на Восточной 14-й улице или старое здание театра «Метрополитен-опера» (на Бродвее, между Западной 39-й и Западной 40-й улицами), не способны опровергнуть тот факт, что неудачное местоположение ведет к столь же фатальным результатам, как и неряшливые декорации. Центр развлечений смещался на север, но публика восприняла это достаточно спокойно и не настаивала на том, чтобы учреждения культуры шли в ногу со временем.
На панораме, которую Джон Уильям Хилл изобразил с высоты колокольни церкви Св. Павла, мало монументальных общественных зданий и не видно ни одного особо выдающегося памятника. Здание городского совета находилось в противоположной стороне, севернее церкви Св. Павла. Облик Нью-Йорка хорошо знаком нам по тысячам изображений и по высоким зданиям, которые заявляют о богатстве и коммерческом значении; интересно отметить, насколько сильно отличался облик города в 1848 году от того, каким он стал спустя всего полвека. Нью-Йорк Джона Уильяма Хилла был городом возведенных согласно плану трех-, четырех- и пятиэтажных зданий, с населением 515 тыс. жителей. Холщовые навесы (на некоторых были нахально нанесены рекламные лозунги — например, «Гаванские сигары») давали перемещавшимся по Бродвею пешеходам защиту от летнего солнца. За бросающимся в глаза шпилем церкви Троицы находилась гавань. Над Ист-Ривер возвышался лес корабельных мачт. Это был крупнейший город Америки, уже проявлявший все признаки того, насколько важным ему предстояло стать.
Здание городского совета
Туристу, который осматривает город, не следует забывать о внутренних интерьерах.
Панорама Нью-Йорка (1938)
Не так давно, в более спокойную, чем сейчас, эпоху, здание городского совета было открыто для широкой публики. Туристы могли в свое удовольствие побродить внутри ротонды и посетить комнату губернатора. Доступ был ограничен лишь для сотрудников администрации действующего мэра и других чиновников, но широкой публике разрешалось присутствовать на открытых заседаниях городского совета (публика испытывала странное чувство тесной сопричастности к этой охрипшей демократии) и оценочной комиссии. Больше такого нет. В 1998 году мэр Джулиани ввел ограничения на общественное пользование ступенями здания городского совета и на использование площади перед зданием для проведения митингов и демонстраций. Теперь в мероприятиях, не санкционированных городскими властями, могут принимать участие не более 50 человек. Попытка ограничить численность до 25 человек была отвергнута федеральным судом первой инстанции. Сегодня люди не могут пройти к входу в городской совет через парк. На неопределенное время здание закрыто для широкой публики, перед городским советом стоят одетые в форму охранники, которые контролируют вход. Остается лишь восхищаться на расстоянии.
Первая реакция, которую вызывает здание городского совета, как и любые другие крупные и впечатляющие здания, возведенные по всей Америке, — изумление, но изумление скромными размерами, архитектурным очарованием и тем, что подобное здание уцелело в этом самом беспокойном из городов. После десятилетий ненадлежащего содержания и равнодушного отношения городских властей в эпоху после окончания гражданской войны («период коричневой от жевательного табака слюны»), внешний вид и физическое состояние здания настолько ухудшились, что в 1893 году городские власти заключили: необходимо возвести новое здание городского совета. За предложенным сносом ветшающего строения должно было последовать строительство более крупного здания, фактически занимающего весь Сити-холл-парк; там предполагалось разместить архивное бюро, суд, правительственные учреждения и палаты совета. Был объявлен конкурс на лучший архитектурный проект, но дело закончилось фарсом: отборочная комиссия сочла все предложенные проекты столь посредственными, что отказалась выбрать лучший. После такого фиаско не могло быть и речи о новом конкурсе. Старое здание городского совета решили пощадить.
«Городской совет — великолепный маленький дворец, — писал архитектурный критик газеты «Нью-Йорк таймс» Пол Голдбергер, — незаконнорожденное дитя французского ренессанса и наследник георгианского стиля; он изящен и самонадеян». Здание городского совета — это petit palais (маленький дворец) эпохи Людовика XIV, творение француза Жозефа Франсуа Манжена и нью-йоркца шотландского происхождения Джона Маккома-младшего, которые в свое время выиграли конкурс архитектурных проектов. Манжен, зодчий ряда других важных строений Нью-Йорка (например, тюрьмы штата в Гринич-Виллидж и Паркового театра на Парк-роу), являлся главным проектировщиком городского совета. Но именно Маккома, бригадира строителей, среди главных достижений которого была часовня Св. Иоанна на Вэрик-стрит, назначили руководителем строительных работ, за что ему платили весьма большие деньги — 6 долларов в день. Он сумел добиться того, что львиная доля похвал за строительство досталась именно ему, и даже не пытался содействовать признанию вклада Манжена. Осталось мало документальных свидетельств, проливающих свет на их сотрудничество, и потому невозможно четко установить величину заслуг каждого, как невозможно определить и соотношение вклада Фредерика Ло Олмстеда и Калверта Вокса в проект Центрального парка. Строительство началось в 1803 году, а официальное открытие городского совета состоялось 4 июля 1811 года. Здание обошлось городу в 538 734 доллара, что по тем временам было громадной суммой. Впоследствии выяснилось, что ежегодные расходы на строительство городского совета были почти равны половине ежегодных доходов Нью-Йорка. Вплоть до 1850-х годов, то есть до реализации проекта Центрального парка, строительство здания городского совета оставалось крупнейшим проектом общественных работ, осуществленным в Нью-Йорке до гражданской войны.

В 1803 году для снижения расходов отцы города настояли на пересмотре проекта в сторону уменьшения размеров. Похоже, Манжен не желал с этим соглашаться, но Макком согласился. Вероятно, на этом их сотрудничество закончилось. В итоге задняя сторона здания, выходящая на север, была отделана более дешевым материалом — бурым песчаником из Ньюарка, а не белым массачусетским мрамором, которым облицевали только обращенный на юг фронтон и боковые стены. Предполагалось (возможно, это легенда), что пройдет много лет, прежде чем кто-нибудь обратит внимание на заднюю сторону здания, которое уже в 1803 году находилось за пределами основной застройки. В действительности уже начинали прокладывать улицы севернее городского совета, а принятый в 1811 году план упорядоченной застройки ускорил процесс перемещения населения в северные районы города. Вполне возможно, что власти потворствовали строительству большого дома призрения, который загородил вид на городской совет с севера, скрыв вопиющее проявление скаредности. Время, воздействие погодных условий и загрязнение окружающей среды нанесли непоправимый ущерб первоначальной облицовке здания, и в 1950-х годах ее заменили более долговечным алабамским известняком.
Принцип симметрии, использованный Манженом при проектировании здания шириной 216 футов (и глубиной 105 футов), уравновешивает два крыла по обеим сторонам центрального портика и его ионическую колоннаду. В 1910 году здесь была установлена медная статуя Правосудия, представлявшая собой копию деревянной скульптуры 1812 года. Купол возвели в 1858 году, заменив первоначальный свод, уничтоженный излишне амбициозным фейерверком в честь прокладки первого трансатлантического кабеля. Тот пожар уничтожил большую часть интерьеров Манжена. Реконструкция проводилась без учета первоначального плана Манжена.
В интерьере городского совета доминирует расположенная в ротонде независимая лестница двойной кривизны, которая и создает, по выражению Годбергера, «один из изящнейших общественных интерьеров города». Именно у подножия этой лестницы, напротив кабинета губернатора, стояли катафалки с гробами президента Линкольна в 1865 году и президента Гранта в 1885 году. Созданная по проекту Манжена ограда из кованого железа и колонны, поддерживающие верхнюю галерею, показывают, какое непривычно пристальное для общественного учреждения внимание уделялось деталям.
Кабинет губернатора, анфилада из трех комнат, размещается на первом этаже, выше парадного входа. В 1814 году анфиладу утвердили в качестве кабинета губернатора штата Нью-Йорк во время его визитов в город. До 1920-х годов традиционный прием у мэра в канун Нового года проходил в кабинете губернатора. Здесь находится принадлежащая городу коллекция портретов исторических деятелей высокого ранга. В 1908 году городские власти предложили произвести косметический ремонт анфилады. Несмотря на потрепанный внешний вид комнат, горожане искренне считали, что известные старомодными вкусами члены городского совета окончательно превратят кабинет в руины великолепия, некогда сотворенного гениями Манжена и Мак-кома. Состоятельная благотворительница миссис Рассел Сэйдж предложила оплатить расходы на реставрацию и привлекла к работе собственного архитектора. С помощью снабженных комментариями рисунков Манжена, которые хранились в Нью-Йоркском историческом обществе, были восстановлены многие из утраченных деталей интерьера. Успех реставрации кабинета губернатора весьма встревожил сторонников защиты памятников, считавших здание городского совета жемчужиной архитектуры, вполне достойной того, чтобы ее уберегли от «сомнительных операций» муниципалов.
Нью-йоркская коллекция произведений искусства, выставленная в кабинете губернатора и в других помещениях городского совета, в основном состоит из портретов президентов, вице-президентов, губернаторов, мэров, героев армии и флота, американских государственных деятелей, изредка городских администраторов и зарубежных лидеров. Эти портреты были написаны по заказу городских властей художниками, работавшими в Нью-Йорке. Для важного собрания произведений искусства местоположение городского совета является далеко не идеальным. К тому же в здании нет систем контроля температуры и влажности, обязательных для музеев. Портреты не имеют постоянных мест, на обозрение выставляется лишь та или иная часть коллекции. Но как приятно видеть это чудесное собрание портретов именно там, где оно должно находиться! Традиция заказывать портрет главы города началась с первого мэра, которым стал после окончания войны за независимость Джеймс Дуэйн, занимавший этот пост с 1784 по 1789 год, и продолжалась вплоть до Фиорелло Ла Гуардиа, срок пребывания которого на посту мэра закончился в 1945 году. (Позднее мэров стали фотографировать.) Среди художников — ведущие американские портретисты: Джон Трамбл, Джон Уэсли Джарвис, Чарльз Уэсли Джарвис, Генри Инман, Рембрандт Пил, Джон Вандерлин и Сэмюел Ф. Б. Морс. В этой богатой коллекции главные места занимают портрет Джорджа Вашингтона работы Трамбла, портрет Эндрю Джексона работы Вандерлина и замечательный портрет маркиза де Лафайетт кисти Морса. Коллекция скульптур включает Джефферсона работы Давида д’Анжера и Вашингтона работы Жана Антуана Удона. В кабинете губернатора находится иписьменный стол Джорджа Вашингтона, на котором, как говорят, тот написал свое первое послание конгрессу.
Надзирает за коллекцией комиссия по искусству города Нью-Йорка. При весьма ограниченном штате специалистов и мизерном бюджете совет комиссии в составе 11 человек, среди которых по уставу должны быть художник, скульптор, архитектор и архитектор по ландшафту, а также представители нью-йоркской публичной библиотеки, музея «Метрополитен» и Бруклинского музея искусств, выполняет необычную для города роль: стоит на страже Хорошего Вкуса. Комиссия рассматривает все предлагаемые проекты статуй, осветительной арматуры, архитектурных украшений и прочего для парков и принадлежащей городу собственности. Посетители городских парков, в том числе и Центрального, обращают внимание на парковую «фурнитуру», которая изучена и одобрена комиссией по искусству. В 2000 году конфликт с управлением парков и мест отдыха и его своевольным представителем, Генри Дж. Стерном, привел к резким нападкам на комиссию («Мы имеем дело с сочетанием надменности, аристократического высокомерия и снисходительного отношения», — жаловался Стерн, которого трудно назвать самым скромным и застенчивым из нью-йоркцев) и предложению вообще ее упразднить. Политикам с их обожаемыми проектами, такими как унылые статуи, прославляющие одного национального героя за другим, передаваемые в дар важными в политическом отношении избирателями, не нравилось то, что комиссия наделена полномочиями производить критический отбор и чинить препятствия. Поэтому они с радостью присоединились к развернутой Стерном кампании, направленной на упразднение комиссии — стража Хорошего Вкуса.
За высказываниями Стерна стоял весьма характерный для Нью-Йорка конфликт вокруг 100 флагштоков с корабельными нок-реями, которые учреждение Стерна установило в парках и на кладбищах без предварительного рассмотрения комиссией по искусству. Судебный иск, поданный председателем комиссии в 1999 году, заставил неистового Стерна отступить и представить нок-реи на рассмотрение. На момент написания этой книги исход кампании против комиссии по искусству все еще неясен.
Сити-холл-парк
Необычный парк в форме клина, на территории которого стоит городской совет, представляет собой уцелевший фрагмент общественного выгона колонистов Нового Амстердама. Задуманный как парк, он впервые был обнесен изгородью в 1792 году и впоследствии несколько раз подвергался перепланировкам. Несмотря на свои скромные размеры, Сити-холл-парк занимает видное место в общественной жизни города. «Этот парк является центром Нью-Йорка, — писал в 1839 году анонимный автор статей издания «Ледиз Гарленд», — а две самые людные и красивые его аллеи с двух сторон ограничивают пространство». Парк был популярным местом для выходов в свет, отдыха и проведения многих важных общественных мероприятий. Ни план колониального города, ни принятая в 1811 году схема упорядоченной застройки не предусматривали больших пространств для общественного отдыха, где могли бы собираться горожане, но именно эту возможность, вряд ли сам того желая, предоставил Сити-холл-парк.
Здесь горожане могли реализовать гарантированное Первой поправкой к конституции право говорить о политике в общественных местах, но шествия, выступления ораторов, размахивание знаменами и страстная риторика не всегда приходились по вкусу нервным мэрам и полицейским. Городские магистраты делали все, чтобы подавить волнения и за учинение массовых беспорядков выносили суровые приговоры. Но Нью-Йорк был строптивым городом, для жителей которого пьянство, хулиганское поведение и нарушение общественного порядка были давно укоренившимися традициями. Множество салунов и борделей, находившихся неподалеку от Сити-холл-парка, и выстроившиеся вдоль Парк-роу театры сделали его естественным пристанищем для постоянно сменяющих друг друга групп протестующих, гуляк и пьяниц. Бродившие по парку проститутки и толпы юных гомосексуалистов, которых опознавали с первого взгляда (как заметил один современник) по «женственной внешности и манерам поведения», укрепляли ощущение того, что это действительно место общественного отдыха, равного которому нет в городе.
Многообразие функций стоявшего рядом здания, в котором до гражданской войны размещались городской совет и суд, привлекало в парк толпы чернокожих демонстрантов, когда в суде рассматривались дела беглых рабов. Предпринимались серьезные попытки спасти пойманных рабов. В 1857 году в здании городского совета вспыхнула достопамятная схватка между «муниципалами» — полицейскими, преданными мэру-демократу Фернандо Вуду, и «метрополитанами» — сторонниками законодательного собрания штата, перед которыми поставили задачу вручить судебный приказ и арестовать мэра. Когда разбушевавшаяся толпа высыпала в парк, прибывшие солдаты Седьмого полка национальной гвардии с примкнутыми к ружьям штыками стали разгонять взбунтовавшихся полицейских.
Помимо прочего, парк был местом важных публичных празднований. На пересечении Бродвея и Парк-роу, вдоль той стороны Сити-холл-парка, которая выходила на Бродвей, имеется пространство, вполне пригодное для парадов и других мероприятий с большим количеством людей. В 1824 году в здании городского совета был организован прием в честь генерала Лафайетта. Огромные толпы митингующих собирались здесь в 1860—1861 годах, когда углубился кризис, вызванный сецессией1, и еще более массовые митинги проходили, когда началась гражданская война. Когда 29 апреля 1861 года Нью-Йорк покидали солдаты армии северян, уходившие на защиту столицы государства, им салютовали орудия из Сити-холл-парка. Марш по Бродвею 11-го полка добровольцев штата Нью-Йорк, знаменитых «зуавов-пожарников», был одним из первых зрелищ эпохи военных парадов. Возглавляемые полковником Элмером Элсуортом, одетые в стиле алжирских горных племен — просторные серые жакеты, алые с голубым шаровары и фески, — зуавы были рекрутированы из добровольцев-патриотов, служивших в пожарных командах города. (Роман Нью-Йорка с пожарными начался задолго до событий 11 сентября 2001 года). Горожане собрали 60 тыс. долларов на закупку для полка винтовок Шарпа. Несмотря на репутацию хулиганов, «зуавы-пожарники» стали героями, когда по прибытии в Вашингтон открыли огонь по отелю Уилларда. Их лихой командир Элсуорт — первый военный из Нью-Йорка, который стал героем этой войны, — был убит, когда пытался срезать флаг южан с Маршалл-хауса в городе Александрия, штат Виргиния.
В апреле 1865 года, когда поступили вести о том, что в здании суда города Аппоматокс сдался в плен генерал Ли, огромная радостная толпа заполнила Бродвей. А всего через несколько дней массы мрачных людей собрались, чтобы оплакать убитого президента Линкольна, и вновь показали, что Сити-холл парк стал средоточием общенациональных торжеств и проявлений скорби. Когда в 1886 году решили проводить посвященные открытию статуи Свободы торжественные встречи на улицах города, именно в Сити-холл-парке мэр и весь город принимали почетных гостей. Когда радикальные группы собирались праздновать Первое мая, требовать восьмичасового рабочего дня или протестовать против военных интервенций за границей, их иногда обязывали ограничивать акции митингами и шествиями, которые заканчивались на Юнион-сквер или парке Томпкинс-сквер. Джимми Херф, этот «большевик-пацифист и агитатор организации “Индустриальные рабочие мира”, который так зримо показан в романе Джона Дос Пассоса «Манхэттен» (1925), стоя на зимнем ветру, наблюдает, как безработный убирает лопатой снег в Сити-холл-парке, и понимает, насколько жестокую борьбу за выживание ведут рабочие в этом городе:
Все еще ощущая запах типографских машин и слыша стрекот пишущих машинок, Джимми Херф стоял на площади перед городским советом и, засунув руки в карманы, смотрел, как разгребают лопатами снег измученные люди в надвинутых на глаза кепках с опущенными наушниками, люди, шеи которых были того же цвета, что и сырой бифштекс. Их лица, старые и молодые, были одного цвета, и одного цвета была их одежда. Колючий ветер обжигал уши и дул так, что переносицу ломило от боли.
В феврале 1936 года марши безработных закончились массовым митингом в Сити-холл-парке, а в 1970 году, когда протесты, вызванные Вьетнамской войной, достигли своего пика, соперничавшие группировки демонстрантов собирались именно в этом парке.
С 1878 года и почти до начала Второй мировой войны южную оконечность Сити-холл-парка занимало пятиэтажное федеральное здание. Это огромное строение в духе эпохи правления Наполеона III напоминало гигантский свадебный торт. Созданное по проекту А. Б. Мюлле, оно стало главным почтовым отделением города и, разумеется, за ним закрепилось название «Почта Мюлле». Имевшая фасады длиной от 130 до 340 футов, «Почта» возвышалась над парком и заслоняла вид на городской совет со стороны нижнего города. Ее снос был одним из удачных мероприятий, предпринятых в 1938 году. Но еще более удачной оказалась реставрация парка, проведенная в конце 1990-х годов. Парку вернули первоначально установленный в нем фонтан работы Джейкоба Рэя Моулда (который украсил парк множеством замечательных деталей), некогда демонтированный и перенесенный в Кротона-парк в Бронксе. Кроме того, установили тщательно продуманную парковую фурнитуру, скамьи, осветительную арматуру и посадили растения. Когда снимут охрану, которая в настоящий момент закрывает подходы к зданию городского совета со стороны парка, и когда уберут все заграждения и цепи — вот тогда можно будет считать, что реставрация парка закончена.
Модницы, денди, отели и магазины
Те, кто посещал Нью-Йорк в XIX столетии, описывали город с длинными нитями тихих пустынных улиц, вдоль которых стоят красивые дома из кирпича и бурого песчаника. Так выглядели широкие улицы торговых районов, в особенности Бродвей, который был витриной жизни города. Несмотря на неприветливость, чрезмерную многолюдность и шум Бродвея, приезжие один за другим отзывались о нем как об уникальном общественном месте. Здесь все было наполнено движением, повсюду раздавался оглушительный шум. За 14-й улицей вдоль осевой линии Бродвея были проложены в два ряда рельсы, по которым бежали омнибусы, окрашенные в желтый и алый цвета. Эти тяжелые «платформы» с грохотом передвигались между расположенными в центре города большими отелями и магазинами; запряженные двумя лошадьми элегантные наемные экипажи везли скрытых от посторонних глаз пассажиров. В 1850 году движение было таким интенсивным, что, стоя возле церкви Св. Павла, можно было за минуту увидеть до пятнадцати омнибусов, двигавшихся по Бродвею в обоих направлениях. В течение большей части дня все они заполнялись пассажирами. «Каждая платформа делает десять рейсов в день, — отмечал Джордж Фостер, — и берет в среднем двадцать пассажиров наверх и вниз. Это 70 000 шестипенсовиков или 4 375 долларов в день, заплаченных за проезд на омнибусе по городу. За год сумма превышает миллион с четвертью. Как только сложишь все эти шестипенсовики, получаются тысячи!» По улице тянулся нескончаемый шумный поток доверху нагруженных товарами телег и повозок, которыми управляли громогласные возницы, разгонявшие осмелившихся сойти с тротуара пешеходов. «Как хорошо я помню их», — писал Уолт Уитмен в «Памятных днях» (1892).
Сколько часов, утр и дней — о, сколько было у меня восхитительных вечеров! — в июне или, может, в июле, наслаждаясь прохладой, проезжал я вдоль Бродвея, вслушиваясь в живую речь (великолепную, образную речь, редчайшую по богатству), — или декламировал потрясающие воображение отрывки из Юлия Цезаря или монологи шекспировского Ричарда (а на этой многолюдной, суетливой, шумной улице можно было без опаски вопить во весь голос). Я знал тогда по именам всех возниц: Бродвейский Джек, Портной, Толстый Билл, Джордж Стормс, Старый Слон, его брат Юный Слон, Типпи, Поуп Райс, Большой Фрэнк... и десятки других, ибо всего их были сотни. Они отличались огромным аппетитом, прежде всего в животном смысле — еда, выпивка, женщины, — и всячески подчеркивали собственное достоинство; некоторые наверняка привирали, но большинству этих добродушных и достойных парней я верил. Они были не просто моими товарищами и приятелями — я нашел в них способнейших учеников.
Уитмен утверждал, что эти длительные прогулки по Бродвею на омнибусе с декламацией в полный голос «позволили зачать “Листья травы”».
На тротуарах яблоку некуда было упасть. В 1854 году автор статей в «Патнемз мантли» писал, что это была «самая броская, самая многолюдная и самая богатая улица в Америке... Сплошной поток беспорядочной активности и беспутного образа жизни». На Бродвее, отмечал Джеймс Д. Маккейб-младший в книге «Свет и тени нью-йоркской жизни» (1872), «элегантные джентльмены в костюмах из тонкого сукна, дамы в шелках и драгоценностях и нищие в грязных лохмотьях смешались, производя воистину республиканскую путаницу». Это было нечто такое, о чем стоило упомянуть в путеводителях, дневниках путешествий и письмах домой. «На Бродвее опять нескончаемый грохот и суматоха, толпы людей и суета, а еще в этом городе вполне приличные люди так прижимаются, словно ты их возлюбленная», — писала приехавшая из Швеции Фредрика Бремер. Но Бродвей был не только местом скопления обычной пестрой толпы. Еще в 1820-х годах он приобрел репутацию главной фешенебельной улицы города, где проходил нескончаемый показ последних новинок женской моды. «Чудовищные новые шляпы для дам, — писал Джон Пинтард, — занимают столько места, сколько занимает по ширине тротуар, так что едва ли можно идти вровень с такой дамой. Чтобы поглазеть на толпу, они появляются, словно стаи чаек, широко расправивших крылья. Им положительно требуется определенное умение, чтобы поместить свои шляпы и все остальное в экипаж». Нью-йоркские красавицы и матроны прославились на всю страну тем, с какой упрямой настойчивостью они придерживались последних парижских или лондонских мод, и демонстрациями ярких нарядов; это упрямство стало объектом мягкой насмешки в сатире Уильяма Аллена Батлера «Нечего носить» (1857). Героиня этого произведения, мисс Флора М’Флимси с Мэдисон-сквер, — олицетворение любительницы делать покупки, перевернувшей вверх дном все магазины в поисках:
...шляпок, мантилий, накидок, воротников, а также платков;
Платьев для завтраков, ужинов и для балов;
Платьев, в которых гуляют, сидят и стоят;
Платьев, в которых танцуют, флиртуют и говорят;
Платьев для осени и для зимы;
Платьев для лета и для весны?
Разных по форме и разных цветов,
Муслиновых, шелковых, кружевных, атласных,
Креповых и бархатных, парчовых, суконных и прочих,
Столь же божественных, сколь и дорогих...
В результате, как указывал английский писатель Джордж Огастес Сала, посетивший Нью-Йорк в 1865 году, Бродвей представлял собой восхитительное зрелище:
Как они умеют появляться, перемещаться, идти легкой поступью, плыть, метаться и дефилировать... и всякий раз, когда им подворачивается возможность познакомиться с отбившимся от стада самцом, они флиртуют с отчаянной и восхитительной энергией! Вот они выходят, разукрашенные во все цвета радуги и во многие другие цвета, о которых солнечный спектр может только мечтать! Точно лебеди, они стаями плывут по величавой реке Бродвея; и сколь восхитительно наслаждаться танцем этих лебедей!
Светские люди судили о нью-йоркских авеню по тому, сколько дам в широких юбках могли пройти по ним в ряд. Особенно высоко они ценили Пятую авеню, поскольку ширина ее тротуара равнялась трем юбкам.
Помимо этого, Бродвей был своего рода витриной для новой разновидности нью-йоркцев — денди. Эти яркие фигуры олицетворяли дух гедонизма и блеска в отличавшейся воздержанностью столице американской коммерции. Когда в 1840-х годах менялась мужская мода, стали использовать более темные и тяжелые ткани. Брюки выглядели мешковатыми, а размеры галстуков уменьшились до узких полосок из темной ленты. В то время, когда все уважаемые мужчины носили широкие бороды, которые придавали им мрачный вид мормонских патриархов, денди оставались нью-йоркцами, привлекавшими к себе внимание ослепительной элегантностью и яркими цветами костюмов. У многих приезжих европейцев манеры американцев вызывали сомнения, а претензии на «светскость» — снисходительную усмешку. Вездесущие, казалось, повсюду установленные плевательницы — вот первая причина подобного отношения. Но на Бродвее каждый день можно было увидеть другую Америку, которая не имела ничего общего с грубыми, лакающими виски и жующими табак поселенцами фронтира. Женщины носили яркие, модные наряды, по мнению привередливых европейцев, порой слишком яркие. Но совершеннейший сюрприз — прогуливающиеся по западной стороне Бродвея франты и щеголи, одетые в стиле эпохи Регентства. К тому же их было множество. Согласно сделанным в 1830-е годы оценкам, в Нью-Йорке насчитывалось 3000 денди.
Денди заявляли о себе одеждой, отполированными до блеска ботинками из лакированной кожи, обтягивающими панталонами в полоску, белыми марсельскими жилетами, безукоризненными шелковыми галстуками, белыми рубашками с крошечными золотыми запонками и безупречно чистыми перчатками лимонного цвета. Все оборачивались на них. Это действительно было зрелище. Вскоре светские аналитики разделили нью-йоркских денди на несколько видов. Они различали их по бросающимся в глаза аксессуарам: цепочке для часов, моноклю (лорнету) и трости: «денди с хлыстом или с тростью — те, у кого тонкая трость или хлыст толщиной с чеснок курительной трубки, сделанный из китового уса или из стали... черного цвета, до блеска отполированный, с верхней частью из слоновой кости, бронзовой нижней частью, золоченым глазком и шелковой кисточкой; те, которые с тростью или хлыстом, постоянно их носят и помахивают перед собой...» Денди был знатоком моды и ценителем красоты, и всякий раз, когда его представляли незнакомцу или незнакомке или когда он видел женщину, претендовавшую называться молодой и красивой, он тотчас вытаскивал из-за пазухи свой монокль и манерно вставлял себе в глаз.
У бродвейских денди были свои враги, которые часто не знали, то ли им объявить денди жеманными изнеженными хлыщами, то ли предупредить ничего не подозревающих женщин о существовании этих с важным видом расхаживающих «мерзавцев», которыми кишел Бродвей:
В один прекрасный день... вы увидите их на ступенях «Астора», «Говарда», «Франклина», «Сити» или других отелей... Если у вас есть время и терпение, чтобы постоять возле церкви Св. Павла, вы можете увидеть некоторых из этих бездушных людей, которые за три часа по пятьдесят раз проходят взад и вперед участок Бродвея между Леонард-стрит и Ректор-стрит. Они обычно протягивают руки и ухмыляются, когда заглядывают в лица других и заговаривают с ними... У них бородки, подобные бородкам козлов с горы Сен-Готард — их тонкие талии... стянуты пластинами из китового уса, шнурами и тонким полотном... Сейчас эти ничтожные и незнатные сыновья слабоумных женщин только и делают, что слоняются среди представительниц слабого пола, выискивая тех из них, кого смогут погубить.
Но далеко не каждый прохожий восхищался Бродвеем и тем, что тот символизировал. В толпе людей наверняка присутствовали пьяницы, карманники, а то и кто-нибудь похуже. В середине XIX века нью-йоркский юрист Джордж Темплтон Стронг, среди знакомых которого были члены нескольких богатейших семейств города, резко критиковал то, чем стал Бродвей. «Жаль, что у нас нет другой улицы, кроме Бродвея, пригодной для того, чтобы погулять вечером», — записал он в своем дневнике в 1840 году. — Эта улица всегда переполнена, причем на две трети толпа состоит из шлюх и мерзавцев. Вот одно из преимуществ верхней части города; улицы здесь хорошо вымощены, хорошо освещены и заселены достаточным количеством жителей». Прогуливающийся по Бродвею приличный человек едва ли мог избежать «встречи с каким-нибудь мерзким сборищем оборванных девиц, не старше двенадцати лет... хитрые взгляды которых говорят о том, что они уже воровки, а развращенные выражения лиц свидетельствуют о том, что они уже проститутки». Не могли избежать подобных встреч и модницы с денди, составлявшие более чем заметную для окружающих часть писцов, служащих, модисток, продавцов, ирландских иммигрантов и других «демократических тружеников», по образному выражению Уитмена, толпы которых сновали по Бродвею в утренние и вечерние часы. Показ мод откладывался на середину дня.
Прогуливающиеся по Бродвею могли воспользоваться одной из наиболее характерных примет города: роскошными отелями и магазинами. Знаменитого отеля «Сити», расположенного на западной стороне Бродвея между Темз-стрит и Сидар-стрит, больше не было, но его традиция (традиция роскошного жилья в самом центре Бродвея) сохранялась. «Сити» открылся в 1794 году, в нем было 137 номеров, бар, кофейня, концертный зал и расположенные в цокольном этаже магазины, а также большой зал для приемов, который использовался для проведения балов. В 1828 году отель приобрел Джон Джейкоб Астор за 101 тыс. долларов. Но, после того как в 1836 году открылся «Астор-хаус», также расположенный на западной стороне Бродвея и занимавший участок от Баркли-стрит до Визи-стрит, почтенный «Сити» оказался в тени нового отеля, и в 1847 году его снесли. «Астор-хаус» представлял собой шестиэтажное гранитное строение с тремя сотнями номеров, в которых можно было разместить 600 человек. Истратив на этот отель 400 тыс. долларов, Астор установил новый стандарт показных расходов. Среди всех миллионеров города такое могло прийти в голову лишь Астору. Он понимал, какую ценность представляет расположенная на Бродвее недвижимость в цокольном этаже. Поэтому весь цокольный этаж «Астор-хауса» был отведен под магазины, а в сам отель вел лестничный пролет. На посетителей производило впечатление то, что на каждом этаже имелись туалеты и ванная комната. Возможно, в меньшей степени их удовлетворяло то, что неподалеку от отеля находилось несколько высокодоходных борделей. Для Нью-Йорка это стало своего рода шаблоном: вокруг крупных отелей и мест увеселения, на прилегающих к ним улицах можно было обнаружить игорные дома, бордели и салуны.
Пройдя косметический ремонт и модернизацию, включавшую установку лифтов, «Астор-хаус» работал вплоть до 1913 года. Но его доминирующей роли в сфере предоставления роскошного жилья был брошен вызов, когда в 1850-е годы еще дальше к северу были построены два новых отеля («Метрополитен» и «Сент-Николас»), а в 1859 году еще севернее был открыт «Отель Пятой авеню», расположенный возле 23-й улицы, напротив Мэдисон-сквер. Эти гостиницы превзошли старый отель по размерам, удобствам и роскоши. Новые отели создавались в расчете на рекламу в прессе. В «Метрополитене» (расположенном между Принс-стрит и Хьюстон-стрит) общая длина мягких ковровых покрытий составляла 13 тыс. ярдов, имелась уникальная «небесная гостиная», откуда дамы могли наблюдать деловую суету Бродвея. Зеркала в «Сент-Николасе» (на западной стороне Бродвея между Брум-стрит и Спринг-стрит, часть первоначального здания сохранилась и находится по адресу Бродвей, дома 521—523) стоили около 40 тыс. долларов, а серебряный сервиз и шеффилдское столовое серебро — еще 50 тыс. долларов. Нынешняя конкуренция между отелями, которая постоянно повышает уровень роскоши и затрат (синдром Дональда Трампа), издавна укоренилась в коммерческой жизни города.
«То, что выставляется на витринах бродвейских магазинов, отличают богатство, красота и привлекательность, — писал Джеймс Д. Маккейб-младший, — это драгоценности, шелка, атлас, кружева, ленты, товары домашнего обихода, столовое серебро, игрушки, картины, короче говоря, всякого рода редкие, красивые и дорогие предметы, привлекающие внимание любого человека». В XIX веке делать покупки на Бродвее еще не означало посещать современные универсальные магазины, а не старые специализированные, но тенденция уже имела место. Магазины необычных галантерейных товаров, наподобие того, который в 1858 году открыл Роуленд Г. Мэйси, специализировались на продаже лент, кружев, вышивок, искусственных цветов, перьев, носовых платков, трикотажных изделий и перчаток. В течение следующих двух десятилетий Мейси расширил ассортимент товаров, введя в него мужские аксессуары, меха, товары домашнего обихода, книги и предметы кухонной утвари, а также галантерейные товары французского и немецкого производства. В 1870-х годах он добавил сатураторы, богемскую стеклянную посуду, коньки, а также широкий ассортимент изделий из фарфора и серебра, стулья, половики и коврики.
Товары выставлялись на прилавки, где покупатели могли их осмотреть. Каждый товар снабжался ценником. Указание цены каждого наименования товаров было нововведением филадельфийского торговца Джона Уонамейкера и нашло широкое применение в Нью-Йорке, сменив старую схему договорных цен. В больших витринах выставлялось множество товаров, которые можно было рассмотреть, проходя по тротуару. Входы в магазины заманивали потенциальных покупателей, а торговые залы были хорошо освещены. Торговцы поняли, что волнующая атмосфера способствует продаже товаров.
Универмаг Ховоута, расположенный по адресу Бродвей, 488—492, на углу с Брум-стрит (в данный момент это здание занимает «Стэйплс»), в котором Эдер В. Ховоут продавал фарфор, столовое серебро, посуду из хрусталя и канделябры высокого качества, был оснащен первым в Нью-Йорке действующим паровым лифтом конструкции Отиса. (Чугунный вход в лифт оформило нью-йоркское отделение фирмы «Дэниел Бэджер аркитэкчерал айрон уоркс».)
Универмаг «Тиффани», который в XIX столетии находился на углу Уоррен-стрит и Бродвея, символизировал характерную только для Бродвея смесь предметов роскоши и товаров, гарантированно удовлетворявших стремление потратить деньги: «Тиффани» уже стал модным салоном, — отмечал Дэнди Н. П. Уиллис, — его широкие стеклянные двери и соблазняющие витрины выходят на один из самых оживленных участков Бродвея. Он привлекательнее, чем музей, поскольку изобилует сюрпризами, и все они способствуют удовлетворению спроса на модные товары».
Помимо прочего, Бродвей являлся синонимом коммерческих афер Александра Т. Стюарта. Обладая ростом в пять футов и сильным акцентом жителя Белфаста, Стюарт сумел сделать в Америке беспрецедентную карьеру бизнесмена.
Репутация честного человека, правило платить за товары наличными, которого он придерживался всю жизнь, а также невероятное умение создать атмосферу доброжелательности наряду с весьма ценной рекламой (в газетах предлагались скидки женам и детям священников) — все это сделало Стюарта самым знаменитым оптовым торговцем города. Помимо того, он прославился тем, что платил своим подчиненным низкое жалованье и требовал от них соблюдения жесткой дисциплины. Историки часто превозносят прагматизм американского образа жизни, и этот вполне приспособившийся к данному образу жизни американский предприниматель оказал значительное влияние на формирование национальной мифологии. Но в американском бизнесе также присутствует дух деспотической жестокости и высокомерия, во всех отношениях типичный.

Одной из главных причин успеха, — писал современник Стюарта, — является жесткая система, с помощью которой он делает свой бизнес. У него на все хватает времени и сил, и того же он требует от подчиненных. Его продавцы и управляющие назубок знают свои обязанности, и лучшие из них проходят тщательный отбор, прежде чем назначаются на высокие должности. Благодаря строгому надзору хозяина, все идет как по маслу, и за каждым упущением следует адекватно суровое наказание.
В 1846 году Стюарт открыл оптовый склад на «худшей» стороне Бродвея, возле Чамберс-стрит. Сразу же получивший броское прозвище «Мраморный дворец», склад Стюарта стал первым в Нью-Йорке коммерческим зданием, построенным в итальянском стиле palazzo. (Это здание, в котором позднее размещалась редакция газеты «Сан», сохранилось, хотя и подверглось серьезной перестройке, и находится в квартале к северу от здания городского совета.) Рядом с ним открыли роскошный ювелирный магазин Тиффани и Янга. Бывший мэр и неутомимый летописец Филип Хоун рассматривал склад Стюарта как триумф коммерции на Бродвее, улице, которая останется в памяти современников как самая красивая жилая улица города. Этот склад был зловещим предзнаменованием будущего, которое ждет город и которое, как опасался Хоун, будет определяться «менялами» с Уолл-стрит и такими торговцами, как Стюарт. В мае 1850 года Хоун писал:
Мания превращения Бродвея в улицу магазинов сильна как никогда. Едва ли найдется квартал на всем протяжении этой замечательной улицы, который в той или иной степени не подвергся бы преобразованиям, «Сити» уступил место целому ряду великолепных универмагов. Стюарт расширяет сеть своих магазинов с целью занять все пространство от Чамберс-стрит до Рид-стрит. Здесь уже есть лучший на свете магазин тканей. Я определенно не могу вспомнить ничего подобного ни в Лондоне, ни в Париже. Магазины продолжают строить, но это здание несомненно будет одним из «чудес» западного мира. Три или четыре хороших кирпичных дома на углу Бродвея и Спринг-стрит уже снесены, и у меня нет никаких сомнений в том, с какой целью это сделано — ради постройки новых магазинов.
Такой магазин значил для нью-йоркцев многое. Более дальновидные горожане, возможно, задумывались о том, не означает ли это, что потребление, а не производство станет силой, формирующей будущее города. Кроме того, появление такого магазина было серьезным признаком все более доминирующего влияния коммерции и ее откровенно меркантильных ценностей, а возможно, и снижения почтительного отношения к иерархии джентльменов, установленной еще в колониальную эпоху. Все определяли деньги, а у Стюарта было много денег. Некоторым казалось, что великолепный магазин Стюарта сулит городу участь древнего Рима, что Нью-Йорку суждено поклоняться ложным божествам и что его потребность в предметах роскоши, вероятно, станет ненасытной. Для пятиэтажного магазина розничной торговли Стюарт приобрел весь квартал, расположенный возле Грейс-черч, между Бродвеем и Четвертой авеню и между 9-й и 10-й улицами. Стюарт расчистил пространство перед выходившим на Бродвей фасадом этого здания шириной 200 футов, который освещался несколькими тысячами газовых рожков, одновременно зажигавшихся с помощью электричества. Он был крупнейшим в стране торговцем и импортером, который ежедневно выплачивал по своим обязательствам в среднем 30 тыс. долларов. Имя Стюарта ассоциировалось в Нью-Йорке с потреблением, ценностью денег и роскошью.
Стюарт умер 10 апреля 1876 года и был похоронен на кладбище церкви Св. Марка. Спустя два года его останки были похищены с целью получить выкуп. Обезумевшая от горя вдова Корнелия выплатила кладбищенским ворам 25 тыс. долларов. После этого странного события, на Гринвудском и Вудлонском кладбищах вошли в моду усыпальницы, похожие на банки или на крепости. Выполненную в египетском стиле усыпальницу Вулворта на Вудлонском кладбище его внучка Барбара Хаттон насмешливо называла «пирамидой». После кончины вдовы Стюарта его восхитительный особняк на Пятой авеню был продан клубу для мужчин, а универмаг на углу Бродвея и Девятой улицы в 1896 году купил Джон Уонамейкер.
Чайнатаун
Бродвей, как и все многолюдные улицы Нью-Йорка, навязывает пешеходам напряженный ритм. Ожидание разрешающего сигнала светофора и последующий рывок на другую сторону улицы напоминают о том, что это не Рамблас в Барселоне, специально созданный для прогулок. Не так просто получить удовольствие от прогулки по Бродвею, требуется все время быть начеку — обходить ящики, грудами сваленные на тротуарах, людей, разглядывающих витрины, мешки с хламом, скейтбордистов, вереницы роллеров, растерянных туристов, которые ищут метро, людей, которые стоят за маленькими лотками и уговаривают прохожих купить за 40 долларов часы «Роллекс» (если проявите упорство, цену снизят до 25 долларов), и несчастного вида попрошаек, размахивающих бумажными стаканчиками для подаяния.
Но, гуляя по Бродвею, можно столкнуться и с иным ритмом жизни: каждая из главных пересекающих его улиц вносит свои коррективы. Чамберс-стрит, Кэнел-стрит, Хьюстон-стрит, Астор-плейс, Юнион-сквер, Мэдисон-сквер и 42-я улица — все они наполнены жизнью, но у каждой свой, отличный от других ритм и атмосфера, и это одна из главных особенностей, которые заставляют восхищаться Бродвеем. Возле Чамберс-стрит финансовый район даунтауна заканчивается. Севернее городского совета меньше высотных зданий. Галантерейные магазины занимают пяти- и шестиэтажные коммерческие здания XIX века, расположенные на Бродвее, между Уолкер-, Франклин- и Уайт-стрит. Эти здания принадлежат коммерческому прошлому города, той эпохе, когда производство одежды было сосредоточено в маленьких мастерских и фабриках на Бродвее и в Нижнем Ист-Сайде. В корзинах — рулоны тканей совсем не тех расцветок, которые увидишь в магазинах «Гэп» или «Дж. Крю». На пыльных витринах лежат ткани, ленты и кружева, и все выглядит так, словно их просто свалили друг на друга. Эти магазины привлекают внимание пешеходов, но не играют никакой роли в оптовой торговле текстильными товарами.
В том месте, где Кэнел-стрит пересекает Бродвей, о себе во весь голос заявляет Чайнатаун. Восточнее Бродвея, вдоль северной стороны Кэнел-стрит, расположены десятки ювелирных магазинов, которые являются одной из наиболее важных форм розничной торговли Чайнатауна. Традиционно считается, что «старый» Чайнатаун находился восточнее Бродвея и севернее Уорт-стрит, западнее Бауэри-стрит и южнее Кэнел-стрит. Присутствие в этнической мозаике Нью-Йорка других твердо закрепившихся и многочисленных общин определило территорию Чайнатауна. Его традиционными границами были Маленькая Италия (севернее Кэнел-стрит), Хестер-стрит и бывший еврейский, а теперь в основном латинский Нижний Ист-Сайд. Первые китайцы поселились в городе в 1850-х годах. Это были исключительно мужчины — моряки, повара, владельцы дешевых гостиниц. Когда после гражданской войны в Калифорнии усилились гонения на китайцев, их нью-йоркская диаспора выросла за счет прибывших с Западного побережья. Принятый в 1882 году закон об исключении китайцев помешал нью-йоркской общине развиваться так, как развивался любой другой иммигрантский анклав. Невозможность получить гражданство ограничивала политическое значение китайцев, а отсутствие достигших брачного возраста женщин неизбежно вело к тому, что вся общественная жизнь диаспоры строилась вокруг холостяков. Прачечные и рестораны составляли сферу деятельности китайских предпринимателей, которым почти не требовалось знание английского языка, а непосредственные контакты с местным населением были сведены к минимуму.
Другими словами, Чайнатаун развивался в изоляции и не имел ничего общего с тем, каким он казался. Китайская культура упорно сохранялась и существовала бок о бок с публичными обрядами христиан. В годы принятия законов об исключении мужчины-китайцы принимали американизированные варианты своих имен («бумажные имена»), что было способом скрыть китайское происхождение и избежать худших проявлений предубежденности (Чу Дип становился Джозефом Тэйпом, Цзы Мон Синь превращался в Дж. М. Синглтона). Американцы пытались искоренить практику «невест по описанию», которая заключалась в том, что женщин через доверенное лицо выдавали замуж за японцев, законно проживающих в США. Японцы, которым согласно подписанному в 1907 году договору Рута — Такахиры запрещалось эмигрировать, превращались в так называемых «бумажных сыновей» — иммигрантов с фальшивыми удостоверениями, которые утверждали, что являются родственниками легальных иммигрантов. На длившихся по нескольку дней рассмотрениях о выдаче разрешений на въезд предпринимались все усилия, направленные на то, чтобы сбить с толку соискателей и найти в их рассказах несоответствия:
Из чего сделан пол вашей гостиной?
Где стоят мешки с рисом?
Где в вашей деревне находится храм?
Пристрастие китайцев к азартным играм, опиумным «притонам» и торговле «белыми» рабами, а также сообщества-тань, тревожившие непосвященных, которым эти сообщества казались бандами, стали причиной возникновения за пределами диаспоры целого ряда устойчивых стереотипов и способствовали тому, что Чайнатаун пошел по более закрытому пути развития, чем любая другая этническая община города. Посторонним было трудно понять истинный смысл того, что происходило в Чайнатауне. За небольшую сумму туристы могли взглянуть на пользовавшиеся дурной славой опиумные притоны. Их приводили в тесное, плохо освещенное, задымленное пространство. На выставленных в ряды кроватях лежали тела одурманенных курильщиков опиума. Увы, большинство курильщиков получало почасовую оплату за разыгрывание спектакля перед туристами. Впрочем, были и настоящие опиумные притоны, но они не выставлялись на всеобщее обозрение. Уже в конце XIX столетия Чайнатаун играл важную роль в торговле наркотиками.
После того как в 1943 году был отменен закон об исключении (с целью отдать должное роли, которую сыграли китайцы в войне против Японии), открылась возможность возобновить прямую иммиграцию. Отмена в 1968 году старых квот привела к тому, что ежегодно в США стали въезжать 20 тыс. китайцев. Доступ был полностью открыт с 1982 по 1989 год. Тогда в Америку въехали 358 119 китайских иммигрантов, из которых 71 888 человек поселились в Нью-Йорке. В тот период лишь Доминиканская республика и Ямайка дали Нью-Йорку больше иммигрантов. Для Чайнатауна, численность жителей которого в середине 1960-х годов составляла 20 тыс. человек, это оказалось драматическим потрясением и изменило состав общины, в которой прежде преобладали холостяки и традиционные тайные братства. Новые китайские районы появились в Бруклине, Бронксе и Куинсе (где в 1990-е годы численность китайского населения выросла с 80 до 139 тыс. человек и теперь составляет более 17 процентов общей численности жителей). Нью-Йорк стал самой многочисленной китайской диаспорой Северной Америки и обладает самым высоким показателем роста (который в 1990-е годы достиг 40 процентов). Помимо этого, диаспора становится все более разнообразной в этническом отношении за счет иммигрантов из Вьетнама, Малайзии и Кореи, которые привозят капитал и обогащают диаспору свежей предпринимательской энергией. Серьезные инвестиции в Чайнатаун вкладывают и финансисты из Гонконга, так что теперь логичнее считать этот район азиатским, поскольку вновь прибывшие уже преобразили «старый» Чайнатаун, который еще два десятилетия тому назад был совсем другим.
Стремительный рост населения Чайнатауна привел к необходимости пересмотра его границ с Маленькой Италией, которая все более пустела из-за отсутствия в 1980-е годы притока иммигрантов и стремления итало-американцев переселяться в пригороды.
Миграция корейцев явилась для Нью-Йорка еще более драматическим потрясением. После того, как в 1960-е годы стала возможной массовая миграция, корейцы начали реализовывать свои умения и предпринимательские таланты в хиреющих районах по всему городу. На Западной 32-й улице возник «Кореятаун». Цифры производят впечатление: корейцы владеют 1400 овощными и 3500 бакалейны ми магазинами, 2000 химчисток, 800 магазинами морепродуктов и 1300 маникюрными кабинетами. Весьма близким к истине является широко распространенное мнение, что корейцы держат в своих руках все круглосуточные продовольственные магазины. Общая численность корейцев, вероятно, не превышает 250 тыс. человек, но в коммерческой жизни города они достигли вершин, сравнимых с теми, которых столетие назад достигли евреи. Осознание общих семейных ценностей, норм трудовой этики и тяга к образованию являются причиной того, что многие корейцы поступают в Гарвард. Согласно последним оценкам, американцы корейского происхождения составляют пять процентов студенчества Колумбийского, Йельского и Гарвардского университетов.
Живущего в Нью-Йорке корейца не всегда окружает атмосфера дружелюбия. В 1990-х годах имел место безобразный бойкот корейских продуктовых магазинов, устроенный афроамериканцами во Флэтбуше. Этот бойкот, яростный и готовый перерасти в насилие, быстро распространился по всему городу. Кроме того, корейцам приходилось вступать в жесткую конкурентную борьбу с давно обустроившимися этническими группами. В Швейном квартале2 имеется по меньшей мере 300 мастерских, владельцами которых являются корейцы (согласно некоторым оценкам — 460), и большинство из них не принимают на работу членов профсоюза и используют труд иммигрантов-латино. Там, где борьба за права трудящихся ведется в контексте ценностей этнической общины и привлекает к себе общественное мнение, стратегия диаспоры позволила Межнациональному профсоюзу дамских портных добиться некоторых успехов. Однако попытки организовать раздробленную рабочую силу корейских мастерских вызвали трудности. Как и всегда в подобных случаях, мастерские-подрядчики оказываются последним звеном в цепи, контролируемой крупными производителями с Седьмой авеню. Молодое поколение корейцев проявляет нетерпимость к тем способам, с помощью которых их родители избегали конфронтации с общественным мнением Нью-Йорка. У корейцев нет своих Элов Шарптонов3, что вызывает недоумение их детей, которые страстно желают обрести большую уверенность в себе (в Нью-Йорке каждый день получаешь столько уроков по обретению уверенности!).
Благодаря плотной заселенности, переполненным улицам, открытым лавкам и изобилию товаров, продаваемых прямо на тротуаре, Чайнатаун остается «улицей», передающей атмосферу старого Нью-Йорка, атмосферу, которой лишилась большая часть даунтауна. Но в значительной степени она была утрачена после событий 11 сентября. Чайнатаун (расположенный менее чем в полумиле от Всемирного торгового центра) отгорожен от остального города. Когда временно закрыли подземку и перестала работать телефонная связь, зависимая от массового притока туристов общинаобнаружила, что ее рестораны опустели. Обычно перегруженные работой продавцы популярных среди туристов магазинов сидели в ожидании покупателей, уныло барабаня пальцами по прилавку. Чайнатаун замер. На улицах стало тише, тротуары почти обезлюдели. Пострадали пищевая отрасль, сфера обслуживания и розничная торговля, а также такие традиционные отрасли, как торговля одеждой. Было потеряно шесть тысяч рабочих мест. Репортер «Нью-Йорк таймс» отмечал, насколько непривычно видеть официантов, которые казались «безупречно вежливыми, даже заботливыми».
1
Сецессия — выход южных рабовладельческих штатов из Союза. — Примеч. перев.
2
Швейный квартал — название района в центре Манхэттена, между 26-й и 42-й улицами вдоль Седьмой авеню, центр пошива модной женской одежды. Участок Седьмой авеню известен как «Авеню моды». — Примеч. перев.
3
Эл Шарптон — негритянский священник и известный общественный деятель, борец за права афроамериканцев. — Примеч. ред.
Сохо
Стоит пройти пару кварталов в северном направлении от Кэнел-стрит, и мы окажемся в Сохо — то есть южнее Хьюстон-стрит. В XIX веке здесь находилось несколько самых фешенебельных нью-йоркских магазинов. Когда в 1870-х годах они переехали в северную часть города, Сохо стал важным промышленным и коммерческим районом. (На самом деле название «Сохо» появилось после Второй мировой войны и было порождением рынка недвижимости; мы не можем игнорировать столь полезный для нас факт, когда беседуем об истории этой части города.) Сохранилось немного следов былого величия этого района в сфере розничной торговли. Среди них здание компании «Лорд и Тэйлор» на углу Бродвея и Гранд-стрит, а также чугунное здание Хотивоут-билдинг одним кварталом севернее, на пересечении с Брум-стрит. Фасад сохранившихся секций отеля «Сент-Николас» находится по адресу Бродвей, 521—523. С 1850-х по 1870-е годы это был крупнейший, самый роскошный и успешный в коммерческом отношении отель Нью-Йорка, и фасад напоминает о его былом величии. Изящное творение Эрнста Флэгга, возведенное в 1907 году здание «Маленький певец», также заслуживает внимания.
Раскинувшийся на пространстве, ограниченном Кэнел-стрит, Бродвеем, Говард- и Кросби-стрит, Восточной и Западной Хьюстон-стрит, а также Западным Бродвеем, исторический район Сохо в архитектурном отношении является самым однородным районом Нью-Йорка. Здесь находятся крупнейшие из сохранившихся в мире строения из чугуна (только на Грин-стрит их пятьдесят). Многие из чугунных строений собирались на близлежащей фабрике Джеймса Богарда, которая находилась южнее Кэнел-стрит. Применение чугунных компонентов в строительстве позволяло добиться максимального естественного освещения, а поскольку отливка чугунных деталей обходилась намного дешевле, чем резка каменных блоков, и требовала меньше квалифицированных специалистов, строители могли позволить себе разнообразить эти чисто утилитарные строения богатством декора (особой популярностью пользовались мотивы итальянского Ренессанса), который был виден как с Бродвея, так и с прилегающих к нему улиц.
Центр светской жизни переместился еще дальше на север, и в 1870-х годах Сохо перешел во владение промышленников, которые поняли, какие возможности дает этот район в период упадка торговли. В 1920-х годах, в связи с неблагоприятными экономическими условиями, маленькие фабрики Сохо несли существенные убытки. Производители одежды и меховых изделий хотели перенести демонстрационные залы в центр города, поближе к отелям, в которых жили заезжие покупатели. Затем производителей из Сохо стали привлекать построенные на заказ за чертой города фабрики, в которых было больше места и которые имели хорошие подъездные пути. Свободное место в чугунных строениях заполняли маленькие лавки, хозяевами которых были субподрядчики, а уцелевшие предприятия текстильной промышленности перешли на производство недорогой одежды. Затем последовал резкий спад, невиданный со времен «Сент-Николаса» и «Лорда и Тэйлора». Этот спад ясно ощущался в каждом уголке Сохо. Арендная плата стала низкой, многие квартиросъемщики были малоимущими. В 1950-х и 1960-х годах условия снова изменились, все эти маленькие мастерские либо разорялись, либо переезжали в другие места, что вело к дальнейшему снижению уровня заселенности.
В этот бесперспективный район прибыли художники, которым требовались чердаки и студии с низкой арендной платой, хорошей освещенностью и местоположением в центре. Когда число живших здесь художников возросло, район стал привлекать к себе дельцов от искусства и владельцев небольших галерей, а позднее и более крупных. («Гугген-хайм/Сохо» — Бродвей, 575; Новый музей современного искусства — Бродвей, 583; музей африканского искусства с галереями по проекту Майи Лин — Бродвей, 593). Появились бутики, кафе, магазины элегантной одежды и многое другое, что к 1970-м годам превратило Сохо в одно из самых популярных мест Нью-Йорка. Тут около двухсот картинных галерей, а фотогалерей больше, чем в любом другом районе города, а может быть, и мира. Некоторые из них являются временными галереями многообещающих авторов, другие, как «Пэйс энд Джагозиэн гэлериз», — крупные игроки на рынке произведений искусства. Альтернативные площадки являются особо важной чертой художественных площадок Сохо.
Здесь совершенно иная коммерческая атмосфера, и предпочтение отдается более элегантным товарам, прославленным торговым маркам и именам, что весьма напоминает Норт-Бич в Сан-Франциско. Магазины удовлетворяют прихоти молодых, изысканного вида покупателей, которыми в основном являются богатые студенты Нью-Йоркского университета.
Разделительная линия между Западной и Восточной Хьюстон-стрит и между Сохо и Нохо (NoHo, north of Houston — к северу от Хьюстон-стрит)1 проходит в том месте, где они пересекаются с Бродвеем. По левую сторону от Бродвея находятся чудовищное здание Нью-йоркского университета, Вашингтон-сквер и Гринич-Виллидж. По правую сторону проходит Бауэри-стрит и лежит Ист-Виллидж. Узкий клинообразный участок, расположенный между Бродвеем и Бауэри-стрит, севернее Бликер-стрит, когда-то был самым престижным и аристократическим районом города.
Начнем исследование этого патрицианского анклава с посещения Сибери-Тредуэл-хаус, воздвигнутого в 1830 году на Восточной 4-й улице между Лафайетт-стрит и Бауэри-стрит. Открытое для посещения публики, это чудом сохранившееся строение является одной из совсем немногих уцелевших частных резиденций эпохи, когда здесь находился центр светской жизни. Застройка Бонд-стрит началась в 1820-х годах, первыми обитателями этого района стали самые выдающиеся горожане.
В доме 5 по Бонд-стрит жил Альберт Галлатин, министр финансов и посланник во Франции и при английском дворе. Позднее дом Галлатина занял генерал-майор Уинфилд Скотт. На Бонд-стрит проживали и некоторые крупные купцы и импортеры. Шипчандлер Абрахам Шермерхорн жил в доме 36 по Бонд-стрит с 1839 года и вплоть до кончины в 1850 году. Юные годы его дочери Кэролайн (которую в кругу семьи звали Лайна) прошли в доме на Бонд-стрит, где она оставалась вплоть до 1853 года, когда, выйдя замуж за внука Джона Джейкоба Астора, Уильяма Астора, стала миссис Астор. Социальный тон Бонд-стрит задавал особняк, стоявший на северо-восточном углу Бродвея и Бонд-стрит, впоследствии — резиденция компании «Брукс бразерс». Построенное в 1831 году для Сэмюела Уорда, одного из компаньонов банковского дома «Прайм, Уорд и Кинг», это здание, по общему мнению, было самым элегантным частным домом в городе. В задней, расширенной колоннадой части этого дома размещалась первая в городе частная картинная галерея. Среди прочих картин коллекции Уорда были четыре холста из цикла Томаса Коула «Жизненный путь» (впрочем, художник так их и не закончил).

По богатству и социальной значимости своих жителей Лафайетт-плейс ничем не уступала Бонд-стрит. Группа домов под названием Колонэйд-роу (Лафайетт-плейс, 428— 434) была символом всего, чем стоило гордиться. В девяти особняках греческого стиля, возведенных в 1833 году и объединенных в единую группу 27 массивными коринфскими колоннами, жили некоторые из богатейших семейств Нью-Йорка. Жителями Колонэйд-роу были Джон Джейкоб Астор, множество его родственников и другие семейства, обладавшие не меньшей известностью (а некоторые — и не меньшим богатством), — например, семейство Делано. Асторы навечно связали себя с Лафайетт-плейс (на смену этому названию пришло название «Лафайетт-стрит», когда в 1880-х годах проложили улицу, связавшую Грейт-Джонс-стрит со зданием городского совета), когда в 1848 году, согласно завещанию Джона Джейкоба Астора, была осно вана библиотека. Его сын и наследник Уильям Б. Астор предоставил землю и оплатил строительные работы на Ла-файетт-плейс, где и разместилась новая библиотека (впоследствии она вошла в состав Нью-Йоркской публичной библиотеки). Строение из красного кирпича и бурого песчаника по адресу Лафайетт-стрит, 425 ныне служит центром нью-йоркского шекспировского фестиваля).
Бонд-стрит и Лафайетт-плейс считались аристократическим районом и из-за оперного театра, который открылся на Астор-плейс в ноябре 1847 года. Благодаря мощной поддержке со стороны богатейших семейств города, оперный театр на Астор-плейс стал полем боя между «верноподда-ными» поклонниками актера Эдвина Форреста и сторонниками английского трагика Макреди, пренебрежительные комментарии которого в адрес Форреста оскорбляли всех чистокровных американцев. В мае 1849 года в здании оперы имели место столкновения, целью которых было заставить Макреди покинуть сцену. Подтянулись солдаты, 22 бунтовщика были убиты, многие ранены, но еще большее число арестовали. Это был первый случай со времен войны за независимость, когда армию использовали для подавления гражданских беспорядков. После волнений 1849 года притягательность Лафайетт-плейс пошла на убыль, когда исчезла иллюзия того, что она сумеет остаться аристократическим анклавом. Толпа, бунтовавшая в оперном театре, была вполне реальной угрозой жизни и собственности. В условиях нарастающих беспорядков состоятельные люди почувствовали себя неуютно.
Все это привело к тому, что следующие три сезона оказались для оперного театра неудачными, и здание продали «Меркантайл лайбрэри ассошиэйшн». В 1859 году, когда Питер Купер через Куперовский союз подарил городу возможность давать секулярное совместное образование, в районе произошли явные перемены. С переездом богатых семейств на Пятую авеню и открытием Лафайетт-стрит, ставшей самой оживленной магистралью города, исчезли все надежды на то, что Бонд-стрит и Лафайетт-плейс останутся аристократическим районом.
Грейс-черч
В 1843 году приходское управление церкви Грейс-черч, которая с 1809 года занимала похожее на коробку строение на углу Бродвея и Ректор-стрит, фасадом выходя на более крупное здание второй церкви Троицы, решило, что эту церковь тоже нужно переместить на север. Здание продали за 65 тыс. долларов, после перестройки в нем разместились магазины розничной торговли и музей китайских древностей. Генри Бревурту сделали предложение продать участок земли на Бродвее, в районе пересечения с 10-й улицей. Семейство флегматичных голландцев Бревуртов согласилось принять 35 тыс. долларов за участок земли, который желало получить приходское управление. На углу Бродвея и Восточной 10-й улицы по проекту архитектора Джеймса Ренвика возвели готическое строение из известняка, увенчанное деревянным шпилем (перестроен в 1883 году в мраморе). Расположенное по адресу Бродвей, 800, оно было освящено в 1846 году.
Когда молодой Ренвик получил этот заказ, ему было всего 23 года, и говорят, что, перед тем как приступить к работе над этим первым в своей жизни заказом, он не видел ни одной церкви в готическом стиле. Ренвик смог создать проект лишь с помощью иллюстрированных пособий по архитектуре и благодаря зарисовкам своего отца, Джеймса Ренвика-старшего, инженера и профессора естественной философии Колумбийского колледжа, в 1815 году сопровождавшего Вашингтона Ирвинга во время его путешествия по Англии. Благодаря церкви Троицы, этому восхитительному творению архитектора Апджона, неоготический стиль стал традиционным для любой епископальной церкви Нью-Йорка, но Ренвик наотрез отказался от массивного бурого песчаника, использованного Апджоном. Благодаря белому мрамору и пропускающим достаточно света стеклянным окнам, церковь Грейс-черч выглядит легкой, воздушной и элегантной. Джордж Темплтон Стронг, который позднее венчался в строении Ренвика, сетовал на «приводящее в уныние злоупотребление архитектора скупым великолепием», но посетители церкви отмечали ее несомненное изящество. Вот что записал в своем дневнике за 1846 год язвительный Филип Хоун:
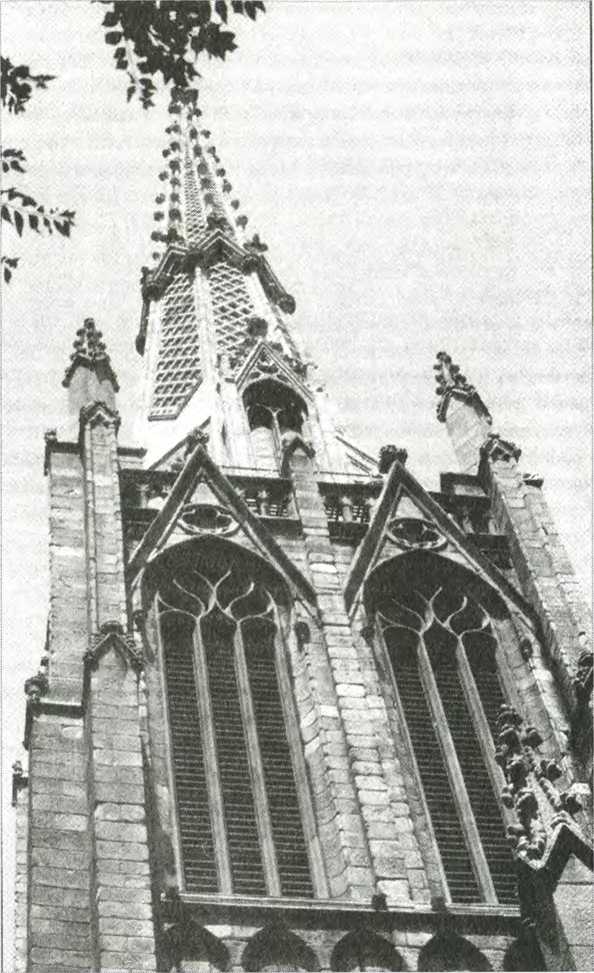
Приделы заполнены веселыми компаниями дам в шляпах с плюмажами и платьях mousseline-de-laine (шерстяного муслина), а также усатых щеголей в сапогах с высокими каблуками. Величественные арки отражают эхом мудрые критические высказывания прекрасных дам, обладающих возможностью путешествовать за границей, и ученые замечания относительно акустики, исходящие от пожилых миллионеров, которые слышат уже не так хорошо, как в прежние времена. Церковь построена из белого мрамора в чрезвычайно витиеватом готическом стиле, в форме креста. Она обладает прекрасным внешним видом и замечательным местоположением в самом начале изгиба Бродвея, благодаря чему ее видно издалека.
Первоначально церковь не обладала нынешними витражными окнами. Витражи преподнесли в дар храму состоятельные прихожане в 1880-х годах. Грейс-черч Ренвика была (согласно суждению Уильяма Г. Пирсона-младшего — ведущего исследователя творчества Ренвика) «выдающимся достижением ранней неоготики». Картина Фердинанда Иоахима Рихардта, на которой изображена церковь и элегантно одетые прихожане (запечатленные художником в те далекие дни, когда на Бродвее наблюдался лишь бледный намек на уличное движение), демонстрируется в служебных помещениях церкви, расположенных в прилегающем к ней здании. Одна из более поздних работ Ренвика — сохранившаяся поныне церковь Кэлвари-черч на пересечении Парк-авеню-саут и 21-й улицы. Строительство этой церкви завершилось в 1847 году. Шедевр Ренвика, собор Св. Патрика (пересечение 50-й улицы и Пятой авеню), — гораздо более сложное и масштабное строение, нежели Грейс-черч. Заказ на него архитектор получил в 1853 году. Завершенное в 1879 году строительство собора обошлось в громадную сумму (1,9 млн долларов). Несмотря на гражданскую войну, периодические конфликты с архиепископами, вводимые епархией жесткие финансовые ограничения и проблемы, связанные с местом, где велось строительство, этот собор сделал Ренвика ведущим представителем неоготической архитектуры Нью-Йорка.
После того как в 1968 году Генри Кодмэн Поттер был назначен пятым по счету ректором Грейс-черч, в этой церкви в полной мере проявилось характерное только для нее смешение светскости и приверженности «Социальному Евангелию»2. Поттер настойчиво пытался повернуть церковь лицом к иммигрантам, все большее число которых становилось жителями этого района. В 1887 году, уже как епископ Нью-Йорка, он начал строительство собора Св. Иоанна Богослова, положившего начало средневековой традиции в архитектуре Вест-Сайда. Преемник Поттера на посту ректора Уильям Рид Хантингтон сделал церковь ближе по духу к прогрессивным центрам оказания социальной помощи. Начатое в 1896 году строительство часовни в районе 14-й улицы и Первой авеню, возможно, явилось высшим проявлением той миссии, которую Грейс-черч выполняла в отношении иммигрантского Ист-Сайда. Церковь продолжает и просветительскую деятельность, в особенности начатую в 1968 году программу «Грейс опортьюнити проджект» — занятия в летней школе для детей с умственными или физическими недостатками. Когда в 1943 году часовню закрыли и продали, без лишних слов стало понятно, что и самим «даунтаунским» церквям грозит стремительный упадок.
Айзек Халл Браун, служивший в Грейс-черч с 1845 по 1880 год пономарь с «лицом церковного сторожа», человек необъятной комплекции, шутивший, что обычно он весит столько, сколько весит его масонская ложа (он был великим мастером Пуританской ложи № 399), — именно он оставил неизгладимый след в истории церкви. Для старинных семейств Нью-Йорка (Стайвесантов, Ван Ренселлеров и Ливингстонов) он был преданным слугой, образцом уважительного отношения и почтительности. На северной стене Грейс-черч установлена бронзовая доска со следующей надписью:
ПАМЯТИ АЙЗЕКА ХАЛЛА БРАУНА
Родился 4 декабря 1812 г., умер 21 августа 1880 г.
Тридцать пять лет был верным пономарем Грейс-черч.
Эта доска установлена членами паствы, которые с радостью вспоминают его преданность, его щедрость и безукоризненную честность.
Брауна назначили пономарем в год освящения церкви (1846). Паства состояла из семейств, обладавших огромными состояниями. Для Брауна церковь Грейс-черч символизировала «качество», богатство, старинные семейства, хорошее происхождение и традиции. Он безоговорочно все это принял, разделил предложенные ценности и социальные перспективы. Выскочки из низов и «пустозвоны» вызывали в нем чувство презрения и негодования. Высшее одобрение пономаря заслуживал человек, соединявший в себе набор признаков, характерных для такого общественного явления, как «чистота происхождения». После бала, который был дан то ли в «Голетс», то ли в «Джерриз», он сказал писательнице-романисту и автору книг по этикету миссис Шервуд: «Ах, мадам, это собрание аристократов; других здесь нет». Он гордился своей способностью помнить все семейные отношения и сложные родственные связи элиты города. Эдгар Фосетт помянул Брауна в свое сатире «Упрямый бык» (1884), изобличающей карьеризм:
Бедняга Браун (мир его праху!) изведал досконально
Все степени различий всех фамилий,
Прибытие карет которых он целых полстолетья объявлял
На свадьбах, балах и похоронах.
Прославленный в стихах и упомянутый в мемуарах, Браун был человеком известным. Герман Мелвилл написал сатирический очерк «Два храма», посвященный Брауну и Грейс-черч, и в 1854 году предложил рукопись изданию «Патнемс мэгазин». Редактор вежливо заметил Мелвиллу, что нападки на Грейс-черч неразумны, несмотря на их «изысканную утонченность» и «колкость», а затем подвел итог: «Мой редакторский опыт вынуждает меня быть весьма осмотрительным, дабы не оскорбить религиозных чувств публики, а «Два храма» обратили бы против нас всю мощь проповедников, не говоря о Брауне и пастве Грейс-черч».
Юнион-сквер
Расположенная в районе пересечения Бродвея и 14-й улицы, в том месте, где сходятся Бродвей и Бауэри-стрит, площадь Юнион-сквер была создана как место общественного отдыха в 1832 году. В 1840-х годах она стала жилым районом, а за десятилетие до начала гражданской войны превратилась в крупнейшее в Америке место сосредоточения театров, ночных клубов, ресторанов, модных отелей и фешенебельных магазинов. Построенная в 1854 году Академия музыки подтвердила, что 14-я улица является сердцем театрального района, каковым она и оставалась вплоть до начала нового века, когда пальма первенства перешла к Бродвею. «Дамская миля», включавшая в себя Пятую и Шестую авеню, а также Бродвей, стала настоящим домом для фешенебельного Нью-Йорка XIX столетия. В 1854 году привилегированный «Юнион клуб» занимал особняк на пересечении Пятой авеню и 21-й улицы. «Вокруг него стремительно поднимаются элегантные особняки, построенные со всем блеском последних удобств столичного города», — отмечал некий репортер. Именно здесь возвели Флэтай-рон-билдинг, в котором размещалась компания «Фуллер» (см. главу 1). Перед гражданской войной Р. Г. Мэйси открыл свое «галантерейное» заведение по адресу Шестая авеню, 204—206, неподалеку от 14-й улицы, а после войны, когда полным ходом шел процесс перемещения в северные районы города, магазины «Лорд энд Тэйлор» переехали на 20-ю улицу и на Бродвей (1867). Вслед за ними в 1870-х годах на север потянулись Хью О’Нил, Б. Олтман и Стернс. В 1880-х годах на пространстве «Дамской мили» открылись магазины «Брукс бразерс», «У. энд Дж. Слоун» и «Эрих бразерс эмпориум». Открытие в 1876 году ресторана «Дельмонико» на перекрестке Пятой авеню и 26-й улицы стало той «вишенкой», которая увенчала этот весьма аппетитный «торт».
С началом следующего века один за другим фешенебельные магазины («Мэйсиз», «Сакс», «Картье», «Тиффани», «Гимбелс», «Олтманз», «Бонуит Теллер») перебазировались севернее Мэдисон-сквер, вплоть до 52-й улицы, вдоль Бродвея и Пятой авеню. После переезда модных магазинов последовал резкий упадок «Дамской мили». Некогда фешенебельная Юнион-сквер стала «захудалым центром», средоточием первомайских шествий рабочих швейной промышленности, которые проводились городскими профсоюзами с 1890 года. Здесь же устраивали демонстрации против безработицы, жестокости полицейских и другие политические протесты. В 1930-х годах Юнион-сквер еще больше укрепила репутацию арены политических радикалов. В начале 1930-х годов на Юнион-сквер-уэст размещалась редакция издания «Новые массы», а редакция «Фрай-хайт» — выходившей на идише газеты коммунистической партии — и Кооперативный кафетерий снимали помещения на Юнион-сквер-ист. Полная реконструкция площади, проводившаяся с 1928 по 1936 год, сделала ее менее пригодной для массовых демонстраций. Уровень земли подняли на пять футов, что требовалось для строительства станции метро «Шестая авеню». Разрушение незримой связи площади с той жизнью, которая кипела на окружавших ее тротуарах, привело к тому, что дела в районе пошли еще хуже.
Важнейшим признаком перемен стало появление на Юнион-сквер империи Сэмюэла Клейна, который продавал по сниженным ценам женскую одежду. История Клейна напоминает сюжет романа Горацио Алджера, этого певца «американской мечты». Клейн был бедным портным, работал на одном из чердаков Юнион-сквер, и все же сумел открыть на Бликер-стрит маленький магазин. Он переехал на Юнион-сквер в 1912 году. Совершив целый ряд хитроумных операций на приходившем в упадок рынке недвижимости, Клейн приобрел здания, в которых размещались съехавшие или обанкротившиеся фирмы. К 1928 году он стал владельцем значительной части недвижимости на Юнион-сквер-ист, а его магазин одежды вдохнул в Юнион-сквер новую жизнь. Там во время Депрессии продавали одежду хорошего качества женщинам среднего класса, экономившим каждый цент. Всеобщее внимание притягивал флигель, расположенный в квартале от магазина: там был отдел уцененных товаров Клейна под названием «У Клейна на площади» («Klein’s on the square» можно перевести и как «У Клейна “по-честному”»). Здесь практически отсутствовал тот сервис, к которому привыкли нью-йоркские покупатели. Приходилось рыться в одежде, пытаясь найти товар нужного размера по приемлемой цене, и время от времени трясти головой при виде уцененных товаров изумительного качества. В романе Альберта Холпера «Юнион-сквер» (1933), в котором рассказывается о радикализме и классовой борьбе, есть описание подобной сцены:
Транспортный поток обтекал площадь. Задолго до того, как двери магазина одежды Клейна открылись, возле скопилась толпа женщин и девушек. Около девяти тридцати охранники в серой форме попытались добиться соблюдения порядка, потому что в это время все двери открывались и женщины мощным потоком устремлялись вперед, пытаясь сорвать платья, висевшие на плечиках, выискивая и хватая уцененные товары. Здесь, «на площади», оплата производилась наличными, и потому каждая женщина сжимала в кулачке деньги.
Художники, студии которых в 1930-х годах находились в районе Юнион-сквер (Кеннет Хейс Миллер, Реджинальд Марш, Рафаэль Сойер и Изабель Бишоп), считали клиентов Клейна и хаотические сцены в общих примерочных неотразимыми стимулами для творчества.
Упадок Юнион-сквер как района магазинов наступил в 1954 году. Об этом возвестил массовый переезд магазинов на 34-ю улицу и на Пятую авеню. Закрытие магазинов Клейна в 1975 году, когда экономика города падала по нисходящей спирали, казалось признаком близкой гибели даунтауна как центра торговли и скорого триумфа размещенных в пригородах торговых рядов. Спустя два десятилетия, подобно тому как Клейн нашел новое применение пустующим зданиям на Юнион-сквер, «Олд нейви», «Файлинс бейсмент», «Ти Джей Макс» и прочие общенациональные сети магазинов заняли уцелевшие коммерческие дворцы «Дамской мили».
Когда в 1970-х годах Юнион-сквер находилась в состоянии упадка и была заселена главным образом алкоголиками и наркоманами, строитель по имени Барри Бинип вбил себе в голову идею собрать фермеров долины Гудзона, посадить их в ларьки для продажи молочных продуктов, овощей и фруктов и разрешить четыре дня в неделю заниматься торговлей. Фермерам позволялось продавать только то, что они сами производят или выращивают. Благодаря этому ограничению Гринмаркет остается «настоящим» рынком и находится в руках производителей и покупателей. Гринмаркет, которым управляет совет по окружающей среде, является
творческим воплощением идеи обновления городов. Через 25 лет после своего открытия Гринмаркет на Юнион-сквер занял важное место в жизни этого района. Его весьма сдержанно называют лучшим фермерским рынком Соединенных Штатов, а среди выстраивающихся в очереди покупателей регулярно можно увидеть ведущих шеф-поваров страны. По субботам рынок посещают до 40 тыс. покупателей, что весьма выгодно и местным магазинам. Гринмаркет не мог не привлечь к себе внимания туристов, и в течение нескольких недель перед Рождеством многочисленная гильдия ремесленников вступает во владение местом, которое обычно занимают фермеры.
Управление парками и его самодержец Генри Стерн планируют осуществить в 2002 году реконструкцию юго-западной части Юнион-сквер. Перепланировка, которая обойдется в 6 млн долларов и включает в себя посадку новых деревьев, вызывает опасения, что некоторых фермеров вытеснят с территории рынка. Когда состояние района вокруг Юнион-сквер улучшилось, отношения между управлением парками и Гринмаркетом ухудшились. «Думаю, ни один фермер не пострадает», — заверил Стерн, но обещания градостроителей и членов комиссий подобны свежим овощам — у них угрожающе короткий срок хранения. Внушительная группа ведущих шеф-поваров написала открытое письмо в поддержку рынка, а организация «Друзья Гринмаркета» начала (это было неизбежно) мобилизовывать общественное мнение.
Мэдисон - сквер
Площадь Мэдисон-сквер (названа в честь президента Джеймса Мэдисона) занимает 6,8 акров земли, приобретенной городом в 1837 году, и была открыта в 1847 году. Окружающая территория стала фешенебельным жилым районом лишь в 1850-х годах. Тогда же пространство между Юнион-сквер и Мэдисон-сквер заполнили отели, важнейшим из которых стал отель «Пятая авеню» (вкупе с театром), построенный по проекту Эймоса Ино из белого мрамора на перекрестке Пятой авеню и Бродвея, возле 23-й улицы. «Эверетт-хаус», «Кларендон-хаус» и «Хоффман-хаус» (в котором бар украшали пухлые нимфы и сатиры и в который никогда не впускали женщин), отличавшиеся роскошью и комфортом, предлагали клиентам самые разнообразные уровни обслуживания и условия проживания. В течение долгого времени после заката Юнион-сквер как центра торговли Мэдисон-сквер преимущественно оставалась жилым районом, и только в XX веке здания страховых компаний «Метрополитен лайф иншуранс» (построено по проекту Наполеона Лебрюна) и «Нью-Йорк лайф» заставили рассматривать ее в первую очередь как средоточие больших офисных зданий. Среди них и здание Флэтайрон-билдинг (см. главу 1), фасад которого выходил на южную окраину парка. Шпиль здания компании «Метрополитен лайф» поднимался на 700 футов над Мэдисон-сквер. В 1909 году, когда его возвели, оно было самым высоким зданием в мире — и одним из самых нелепых, поскольку верхние этажи оказались слишком маленькими для того, чтобы сдавать их в аренду, и использовались главным образом как складские помещения. На протяжении четырех лет титул самого высокого здания удерживал взметнувшийся на 792 фута Вулворт-билдинг. Шпиль оставался легко узнаваемым коммерческим символом компании «Метрополитен лайф». В начале 1950-х годов, до того как вошло в полную силу движение за сохранение архитектурных памятников, все, кроме башни со шпилем, снесли и заменили более крупными и современными строениями из известняка. Тщательно продуманная мраморная облицовка, аркады, балконы и другие декоративные детали — все это демонтировали. В 1996 году реконструированное здание подверглось очистке. Некогда окружавшие Мэдисон-сквер частные дома были скуплены и снесены, а вместо них возвели коммерческие здания.
Признаком растущего значения Мэдисон-сквер стали преобразования, которым подверглись участки, прилегавшие к площади с севера и востока. Сегодня они принадлежат «Нью-Йорк лайф компани». В квартале к северу от 26-й улицы, между Мэдисон авеню и Четвертой авеню (ныне Парк-авеню) стоит здание «Юнион депо» — железнодорожное депо «Нью-йоркской и гарлемской железной дороги» командора Вандербильта. После того как командор решил перевести терминал на Парк-авеню и 42-ю улицу (вокзал Гранд-Сентрал), это депо использовалось по-разному: в нем проводились боксерские бои и размещался цирк Финеаса Т. Барнума. Благодаря весьма серьезной поддержке Дж. П. Моргана, эту недвижимость в 1887 году приобрела Конноспортивная ассоциация. Здесь возвели «Дворец развлечений», ставший местом проведения ежегодной ноябрьской выставки лошадей. Архитектурная фирма «Макким, Мид и Уайт» спроектировала главный амфитеатр, вмещавший 8000 зрителей во время выставок лошадей и 17 000 зрителей во время боксерских боев. На Мэдисон-авеню находился театр на 1200 сидячих мест, самый большой ресторан в городе и галерея магазинов. В проект сада на крыше был включен летний театр, а на той стороне 26-й улицы, которая отлично просматривалась со стороны Мэдисон-сквер, появилась статуя обнаженной богини Дианы работы Огюстена Сен-Годена — изумительный флюгер, вращавшийся под порывами ветра. Уайт признался, что, рабо-гая над проектом, в котором для внешних стен использовался желтый кирпич и терракота, черпал вдохновение в видах севильского собора Хиральда.
Все это производило впечатление, но, как и в случае с открывшимся на Бродвее в 1883 году зданием театра «Метрополитен-опера», дело закончилось финансовой катастрофой. В 1906 году ревнивый муж убил архитектора Стэнфорда Уайта (жена убийцы, Ивлин Несбит Toy, была любовницей Уайта и моделью для статуи Дианы). Это совершенное в саду на крыше убийство и вызванный медленной окупаемостью коммерческий крах привели к тому, что в 1925 году дворец был разрушен. Нынешний комплекс Мэдисон-сквер-гарден западнее Седьмой авеню, возле 31-й улицы, был построен в 1968 году.
42-я улица и Таймс-сквер
Период между 1883 годом, когда в районе Бродвея и 40-й улицы открылось здание театра «Метрополитен-опера», и 1970-ми годами, когда 120 секс-заведений и порнокинотеатров, а также бессчетное количество баров заполнили весь район (32 квартала на пространстве от 40-й до 53-й улицы и между Шестой и Восьмой авеню), настолько насыщен событиями, что можно написать целый роман о первом развлекательном районе города, его упадке и гибели. С 1960-х годов этот район все чаще старались обходить стороной женщины. Бродяги, пьяницы, сутенеры и уличные проститутки превратили его в один из наиболее изолированных в сексуальном отношении городских районов Америки.
Но с 1970-х годов все пошло по-другому. К 1996 году прежде громадное количество порномагазинов сократилось до 13, а оставшиеся гораздо меньше заметны. Преобразования, затронувшие 42-ю улицу, произошли отчасти благодаря продолжающейся со времен Питера Стайвесанта священной войне города против секса (или, по крайней мере, против бросающегося в глаза секса). Будь в 1990-е годы мэром не Руди Джулиани, а кто-то другой, натиск на порномагазины мог оказаться менее энергичным и не столь успешным. Но было бы заблуждением считать столь радикальную политику заслугой лишь воинственного экс-мэра. На самом деле это была стратегия, которую начали проводить в 1970-е и продолжили в 1980-е годы, и эта стратегия заставила город использовать правовые возможности и новые методы. Законы, направленные на снижение шума, применялись и для того, чтобы закрыть постоянно вызывавшие жалобы игорные заведения и притоны. Законодательные акты, направленные на защиту здоровья, использовались для того, чтобы прикрыть массажные салоны. Новые правила муниципального районирования, принятые в 1994 году, запретили проведение развлекательных мероприятий «для взрослых» в радиусе пятисот футов от жилых районов. В случае с Восьмой авеню, расположенной севернее автобусного терминала портового управления, соседство с Клинтоном (зеленым жилым районом, жители которого коллективными усилиями пресекли попытки осуществить высотную застройку Вест-Сайда) обеспечило правовой базис для ликвидации самых сомнительных заведений. Когда облик Восьмой авеню стал меняться, торговцы розничными товарами оказались готовы перебить те цены, которые предлагались нечистоплотными коммерсантами за новые, сдаваемые в долгосрочную аренду здания. Другими словами, рынок недвижимости, который в трудные 1970-е и 1980-е годы не имел ничего против владельцев порномагазинов, в 1990-х годах, когда арендная плата повысилась, с радостью сменил их на более благопристойных арендаторов. Доходы рынка недвижимости мидтауна были неотъемлемой частью успешного исхода преобразований, которым подверглась 42-я улица.
Прошло множество кампаний, направленных против питейных заведений, проституток, гомосексуалистов, подпольных акушеров, распутства, передающихся половым путем заболеваний, открытой коррупции, масонов, коммунистов и магазинов, где незаконно торгуют спиртными напитками, но все они сворачивались, как только правонарушители выпадали из поля зрения «общественного морального радара дальнего обнаружения» — или когда другая проблема казалась более насущной. Интерес к возвышенной борьбе с таким злом, как детский труд, нелегальные азартные игры, организованная преступность и прочее, редко поддерживался в течение долгого времени. Из любопытной и длительной истории проведенных в Нью-Йорке кампаний по борьбе за нравственность едва ли можно извлечь много полезных выводов, как, впрочем, и из столь же длительной истории проявлений неуемного стремления города к сексу, наркотикам, порнографии, алкоголю и азартным играм. Все эти кампании, клиенты и труженицы отрасли сексуальных услуг, полицейские, которые берут взятки от содержателей борделей, — все взаимосвязано и кружится в бесконечном социальном вальсе. Без лишнего риска скажем, что Нью-Йорк никогда не достигнет состояния общественного целомудрия, не станет городом счастливых семейств и корпорации Диснея. Но даже если вся недавняя история порноиндустрии мидтауна напрочь забудется, город не превратится в рассадник зла и порока. (По всей вероятности, это суждение так и останется непроверенным.) Лишь масштаб «зла», уровень его заметности и усиленное негодование реформаторов нравственности делают Нью-Йорк отличным от других больших городов со столь же ненасытными влечениями.
Одним из ключевых элементов возрождения 42-й улицы была строительная компания, принадлежавшая корпорации Уолта Диснея. С видеокамерой в руке вице-президент этой компании Дэвид Малмут отправился осматривать порномагазины, массажные салоны, магазины дешевых сувениров и столь оскорбительные для глаза заколоченные досками торговые ряды 42-й улицы. «Она мертва, — констатировал Малмут. — Это странная улица в центре города, где почти нет жизни». За пять лет старая 42-я улица исчезла. Небольшая сумма в размере 8 млн долларов, которые тогдашний председатель совета директоров корпорации «Дисней» Майкл Эйзнер вложил в «Театр Нового Амстердама», положила начало целому потоку инвестиций в строительство на 42-й улице. Вложения «Диснея» дали понять финансовому рынку и рынку недвижимости, что 42-ю улицу ждет иная судьба и что все, за исключением мэра, хотят принять в ней участие. «Нью-Йорк не может и не должен становиться Диснейлендом, — заметил мэр Эд Кох. — Это для Флориды. Нам же надо уяснить, что у нас здесь сельтерская вода, а не апельсиновый сок».
Прекрасно зная, чего стоит одно имя компании, «Дисней» получил от города и штата ссуды под низкие проценты на общую сумму более 30 млн долларов. И все же это была выгодная сделка для губернатора Куомо и мэра Динкинса. В конце 1993 года губернатор и мэр ушли в отставку, а наспех подписанная сделка с «Диснеем» стала основой для успешного возрождения 42-й улицы, которое принесло столько почестей мэру Джулиани. Только благодаря настойчивости «Диснея» еще до подписания соглашения с городом на 42-й улице закрыли платные пип-клубы.
Более пятнадцати лет, на протяжении которых 42-я улица погружалась в доселе невиданные глубины коммерческого разврата, градостроители разрабатывали схемы перепланировки территории. Начать восстановление планировалось с постройки на перекрестке 42-й улицы и Бродвея четырех высоких офисных зданий. Идея состояла в том, чтобы превратить Таймс-сквер в респектабельный район. Один за другим сошли со сцены все успешные «белые рыцари» недвижимости3, в том числе и некоторые из крупнейших фирм Северной Америки. В 1987 году последовал крах фондовой биржи, который казался логичным итогом бессилия муниципальных властей и экономического спада. В 1991 году проект застройки изменили, стремясь вновь подчеркнуть традиционные связи района с общедоступными развлечениями. От респектабельности отказались, во всяком случае, на время. Подписание соглашения о постройке четырех величественных башен отложили на десятилетие, и застройщики договорились вкладывать деньги в модернизацию театров и заполнять пространство, отведенное под розничную торговлю, привлекательными арендаторами. Возрождение стало возможным, отмечали Мэриан Хейскелл и Кора Кэхан (председатель совета директоров и президент компании «Нью 42 стрит инк.»), «потому что хорошо осведомленные чиновники штата и городские власти, причем как прежние, так и нынешние, разделяли впервые выдвинутое сторонниками сохранения памятников убеждение, что исторические театры и их приспособленное к современным условиям использование являются основой перерождения 42-й улицы. И хотя ожидалось, что именно офисные здания, постройка которых планировалась на четырех перекрестках, дадут импульс процессу вторичной застройки 42-й улицы, оказалось, что решающую роль в этом сыграли еще недавно покинутые всеми театры. Целый ряд построенных в начале века традиционных театров превратил 42-ю улицу в самый знаменитый на свете квартал. И снова театры освещают нам путь».
Мэр Джулиани не вполне подходит на роль героя этой истории, но проведенное в 1990-е годы обновление вокзала Гранд-Сентрал, а также косметический ремонт и реконструкция Брайант-парка положили начало процессу, который изгнал из района проституток, бандитов и пьяниц. Волны этого благотворного процесса распространились на восток и достигли Восьмой авеню. Когда стали заметны улучшения, вновь появился интерес к офисной недвижимости, расположенной вокруг Гранд-Сентрал, и к высотным зданиям вдоль северной стороны 42-й улицы, фасады которых выходят на Брайант-парк. Рост стоимости недвижимости и подъем уровня заселенности заставили домовладельцев озаботиться реставрацией зданий. С изменением облика улицы улучшились коммерческие перспективы арендаторов ресторанов и магазинов розничной торговли. Когда появились признаки того, что «Дисней» и «Уорнер бразерс» собираются разместить свои магазины на «новой» 42-й улице, вокруг Таймс-сквер развернулась суматошная активность, связанная с реконструкцией Ист-Сайда в районе Гранд-Сентрал. В 1990-е годы прежде захудалая 42-я улица преобразилась почти до неузнаваемости. Процесс затронул даже печально известный клуб «Миннесота-стрип», расположенный на Восьмой авеню, севернее автобусного терминала портового управления. Там приезжие молодые женщины, в том числе и из ставшей притчей во языцех Миннесоты (штата, который в глазах нью-йоркцев явно олицетворяет нечто неизвестно где расположенное), в качестве проституток знакомились с огнями большого города. По всему Нью-Йорку упал уровень преступности. Слышалось много разговоров о новой экономике и плотности заселения городских отелей, которая поднялась на головокружительную высоту.
1
В июне 1999 г. нью-йоркская комиссия по сохранению исторических мест города обозначила Нохо как новый исторический район, занимающий пространство между Бродвеем и Лафайетт -стрит от Хьюстон-стрит до Уонамейкер-плейс. Принятые положения фактически сделали невозможным снос зданий в этом районе, а все внешние изменения и строительные работы требовалось согласовывать с комиссией. Помимо прочего, в Нохо, по адресу Бликер-стрит, 69, находится Байярд-Кондикт-билдинг — единственное здание, построенное в Нью-Йорке архитектором Луисом Салливаном. — Примеч. автора.
2
«Социальное Евангелие» — либеральное общественное движение, провозглашавшее своей целью решение социальных проблем трудящихся на основе христианских евангельских заповедей. В 1908 г. под влиянием этого движения был образован Федеральный совет церквей, который ратовал за социальную и физическую защиту трудящихся, повышение заработной платы и запрещение детского труда. — Примеч. перев.
3
«Белый рыцарь» — дружественный инвестор, который делает новое, более выгодное, предложение о поглощении компании, уже являющейся объектом попытки враждебного поглощения со стороны «черного рыцаря». — Примеч. перев.
Свет и воздух
Традиционная для мидтауна индустрияразвлечений была связана с районом театров, а также с торговлей и транспортными перевозками в этом районе. Расположенные на 42-й улице станции метро компании межрайонной скоростной системы перевозок (ИРТ) и корпорации «Бруклин — Манхэттен» (БМТ) и так были узловыми, но стали еще более загруженными благодаря открытию в канун нового, 1905 года, штаб-квартиры корпорации и редакции газеты «Нью-Йорк таймс». По этому офисному зданию, расположенному в районе Западной 42-й улицы, там, где пересекаются Бродвей и Седьмая авеню, Таймс-сквер получила свое название и живую атмосферу. Высокий, треугольной формы небоскреб имел сходство с расположенным на Юнион-сквер зданием Флэтайрон-билдинг (см. главу 1). К 1960-м годам он опустился до состояния развалины, предлагаемой за низкую арендную плату, и вполне соответствовал окружавшей его ветхой недвижимости Таймс-сквер. В 1964 году здание приобрела компания «Элайд кемикл», и оно получило новое наружное покрытие. Согласно язвительной оценке архитектурного критика Эйды Луизы Хакстейбл, здание украсили «лишенной какого-либо стиля облицовкой из туалетного белого мрамора, который выглядит как разрезанный картон».
Это здание знавало лучшие времена. В 1928 году по четырем сторонам Таймс-тауэр установили огромное количество электрических ламп (14 900), которые создали первую движущуюся световую вывеску. Здесь находился самый центр «Великого белого пути» — иллюминированного Бродвея. Таймс-сквер освещали гигантские электрические лампы, которые словно подчеркивали, что эта часть города предназначена для получения удовольствий, для развлечений и потребления. Вехами на пути к эпохе, которую историк Говард Мамфорд Джонс называет «веком энергии», были первый универсальный магазин с полностью электрическим освещением (универмаг Джона Уонамейкера в Филадельфии, 1878 год), первые улицы, иллюминированные дуговыми лампами с угольными электродами (Кливленд, штат Огайо, 1879 год), внедрение электрических ламп накаливания (1880 год) и первая система общественного освещения (Нью-Йорк, 1882 год). Свет и иллюминация стали синонимами перемен, которые наступали в американском обществе. Большие, ярко освещенные окна универмагов представляли собой волнующие воображение витрины товаров со всего мира. Эффективно укреплялась роль Нью-Йорка как задающего тон всей стране лидера потребления. Использование стальных каркасов при строительстве небоскребов означало, что окна офисов могут быть больших размеров. Улучшение естественного освещения позволяло сотрудникам работать с большей производительностью и усердием. Теперь это действительно была «земля проворных». Полоска ламп на редакции «Таймс» знакомила город с новостями мира. Наступление Нового года сопровождалось световой феерией. Тем временем реформаторы пытались вскрыть опасные условия труда и нещадную эксплуатацию. Фотографы вносили лампы-вспышки в лишенные света и вентиляции «темные» комнаты печально известных многоквартирных домов. Снимки, которые они делали в пропитанных сыростью коридорах и заплесневелых комнатах, давали реформаторам яркую картину запущенности. Но освещенный современный мир вселял не только надежды. Для некоторых он нес угрозу, поскольку свет был поставлен на службу богатым и стал инструментом удовлетворения их потребностей. Во время своего визита в Нью-Йорк в 1906 году Максим Горький писал:
Страшно много огня в этом городе. Сначала это кажется красивым и, возбуждая, веселит. Огонь — свободная стихия, гордое дитя солнца. Когда он буйно расцветает — его цветы трепещут и живут прекрасней всех цветов земли. Он очищает жизнь, он может уничтожить все ветхое, умершее и грязное.
Но когда в этом городе смотришь на огонь, заключенный в прозрачные темницы из стекла, понимаешь, что здесь, как все, огонь — порабощен. Он служит Золоту, для Золота и враждебно далек от людей...1
В 1997 году мэр Джулиани предложил изменить правила районирования, чтобы позволить владельцам театров продавать «права на застройку» и «права на воздушное пространство», тем самым способствуя расширению застройки в других местах. В руки владельцев театров должны были попасть совершенно неожиданные, исчисляемые миллионами долларов доходы. В Нью-Йорке права на воздушное пространство применимы ко всему, за исключением исторических зданий. Лишенные возможности использовать собственное пространство по причине того, что их театры обладают статусом исторических зданий, владельцы могли продать права на застройку территорий в непосредственной близости — рядом с театром или на противоположной стороне улицы. Возможностью расширить территорию, права на воздушное пространство которой можно было продать, воспользовались приблизительно 25 театров, что позволило охватить застройкой район между 40-йи57-й улицами, протянувшийся от Шестой авеню до Восьмой авеню. Согласно оценкам, осуществление плана мэра принесло театрам 100 млн долларов за счет продажи прав на воздушное пространство. Планировались и другие послабления, направленные на поддержку театров. Застройщикам, работавшим в районе, где находился новый Бродвейский театр, во время строительства разрешили не включать площадь помещений, занятых этим театром, в свою общую разрешенную площадь. Владельцам, которые приняли предложение мэра и продали права на застройку, пришлось брать на себя обязательство поддерживать состояние театров на высоком уровне и использовать их исключительно в сфере сценической деятельности. Двадцать процентов денег, полученных от продажи прав на воздушное пространство, следовало выплатить «Бродвейской инициативе» — некоммерческой организации, предоставлявшей ссуды продюсерам драматических спектаклей и небольших мюзиклов, постановка которых была возможна даже в самых малодоходных театрах. Существовала масса возможностей того, что план мэра сорвется, ведь за спадом национальной экономики в 1991 году последовал почти полный крах индустрии туризма, вызванный событиями 11 сентября. Фактически все находившееся в самом разгаре строительство было заморожено. Еще можно вспомнить, каким был Бродвей в 1999 и 2000 году, с толпами туристов, новыми пьесами, новыми музыкальными театрами и массой недавно вступивших во владение и перспективных арендаторов, среди которых были компания «Берджин», открывшая здесь гигантский магазин (в 1995 году компания открыла в районе Бродвея и 45-й улицы магазин площадью 75 тыс. кв. футов), «Конде Нэст пабликейшн» и телекомпания Эй-би-си, владевшая студией в цокольном этаже дома 1500 на Бродвее, откуда транслировалась телепрограмма «С добрым утром, Америка». Но с удивительной быстротой это превращается в воспоминания о далеком золотом веке, когда все казалось возможным и когда здесь делали большие деньги.
Стремительное повышение арендной платы, достигшей 300 долларов за квадратный фут площади в стандартном цокольном этаже, привело к тому, что Таймс-сквер понесла большие потери. Рестораны и традиционные торговые точки — книжные магазины и магазины одежды — не могли позволить себе столь высокую аренду. Появление торгового центра «Гэп» на углу Бродвея и 42-й улицы сделало эту компанию первой крупной торговой сетью, открывшей свой универмаг в этом районе. «Гэп» платила по 100 долларов за квадратный фут площади в цокольном этаже. В таких условиях рестораны национальных кухонь, которые уже теряли прежнюю популярность, не могли долго протянуть. Еще до 2001 года появились гастролирующие театры и домовладельцы, которые отказывались заключать сделки, считая, что коммунальные налоги не достигли верхнего рубежа.
Нам неизбежно придется упомянуть о том, что мы потеряли с гибелью старой Таймс-сквер. Можно испытывать ностальгию по старым бродвейским именам, вспомнить о журналисте-бытописателе Дэймоне Раньоне, певице Этель Мерман и об ирландских барах, находившихся под покровительством гангстеров и боксеров-профессионалов, и тихо пожалеть о кончине театрального критика Джорджа Нейтана. Корпоративная Америка и разного рода акулы рынка недвижимости не могут дать нам того, что давал в 1916 году в Бруклине Натан Хэндверкер. Подстрекаемый двумя новичками в шоу-бизнесе, Эдди Кантором и Джимми Дюрантом, Хэндверкер открыл на Кони-Айленде заведение «Натанс феймас» на углу Серф-авеню и Стилуэлл-авеню.
Он продавал хот-доги за 5 центов, в то время как на Кони-Айленде их продавали за 10 центов. Чтобы привлечь публику, Хэндверкер нанимал нескольких местных безработных джентльменов (в 1916 году их называли бездельниками), одевал их в белые врачебные халаты, снабжал стетоскопами и таким образом убеждал потенциальных клиентов — если врачи едят в «Натане», значит, там все в порядке. Представители шоу-бизнеса, политики, приезжие знаменитости и бессчетное количество туристов — все ели хот-доги в «Натане». Со временем, когда была продана лицензия на использование торговой марки, «Натанс» появился и в пригородах. И все же «Натанс» не сумел дожить до новой Таймс-сквер: в 1996 году компания закрыла большие рестораны в районе Бродвея и 43-й улицы (на самом деле типичный «Натане» был не рестораном, а простой закусочной. Идея этого бизнеса заключалась в том, чтобы не засматриваться на клиентов, у которых другие запросы). Подобно массажным кабинетам и пип-клубам, «Натане» стал жертвой чистки района, которую инициировал «Дисней».
Таймс-сквер стала театральным центром города в 1890-е годы, когда Оскар Хаммерстейн построил на Бродвее, между 44-й и 45-й улицами, театр «Олимпия». Но лишь в 1900 году начались работы по строительству первой городской линии метро, проходившей под Бродвеем от городского совета до 145-й улицы. Мосты, соединявшие Манхэттен с Бруклином и Куинсом, а также туннели под Гудзоном открыли сообщение с Нью-Джерси. Массивные пассажирские терминалы, воздвигнутые Пенсильванской и Нью-Йоркской Центральной железнодорожными линиями, превратили центр Манхэттена в транспортный узел, подобного которому нет в США. Когда во время Первой мировой войны с улиц исчезли последние конки, уже имелась инфраструктура, обеспечившая невиданный всплеск театральной жизни города. В 1904 году, когда «Нью-Йорк тайме» возвела свою башню на южной окраине прежней Лонг-Эйка-сквер, это место приобрело свое современное название, Таймс-сквер, и стало свидетелем строительства до восьмидесяти театров на прилегающей территории. За этой застройкой стоял созданный в 1896 году Театральный синдикат, взявший под контроль от семи до восьми сотен театров по всей стране. За распадом синдиката в 1916 году последовало возвышение братьев Шуберт, ставших театральными антрепренерами. К 1920-м годам театральные постановки на Таймс-сквер превратились в большой бизнес, в городе сосредоточились ведущие продюсеры, посредники, агентства по продаже билетов и театральные периодические издания. Это был один из способов, с помощью которых Нью-Йорк оказывал культурное влияние на всю страну. В 1927— 1928 годах в Нью-Йорке были сыграны 257 театральных постановок. Но взлет киноиндустрии Лос-Анджелеса и чрезмерное расширение театральной индустрии Таймс-сквер привели к длительному сокращению активности, начало которому положил обвал на фондовом рынке в 1929 году. «Законные» театры и водевили переделывались в «дома движущихся картинок» или уничтожались. Когда в 1940-х годах, в послевоенный период подъема деловой активности, стоимость земли резко подскочила, театры стали сносить, чтобы освободить место для высотных офисных зданий. Некоторые театры использовались как телевизионные студии. Спад, который начался в 1929 году, достиг низшей точки в 1970-е годы. По иронии судьбы, именно вмешательство корпорации «Дисней» с ее созданной мультфильмами голливудской империей в критический момент спасло 42-ю улицу.
1
«Город желтого дьявола».
Глава седьмая. Гарлем
Присутствие итальянцев в Маленькой Италии — в значительной степени дело прошлого. Еврейские Нижний Ист-Сайд и Гран-Конкур в Бронксе стали теперь преимущественно испанскими. В Kleindeutschland нет немцев (а значит, нет и самой Kleindeutschland). Китайцы скоро могут стать меньшинством среди азиатских обитателей Чайнатауна, а некогда доминировавшие в Нью-Йорке пуэрториканцы теперь представляют собой лишь одну из нескольких испаноязычных общин. Аристократы живут не в особняках на Пятой авеню, а в квартирах на Парк-авеню и других местах Верхнего Ист-Сайда. Богема не может позволить себе снимать жилье в Гринич-Виллидж.
Это старая, давно знакомая история. Прибытие иммигрантов в город и постоянное перемещение отдельных общин внутри городских пределов находят свое отражение в постоянном процессе строительства и перестройки. По словам Филипа Хоуна, отметившего в своем дневнике 7 апреля 1845 года, что охватившее район энергичное уничтожение всех следов прошлого — не что иное, как определенная форма мании: «Низвергни, низвергни, низвергни! — вот принцип Нью-Йорка. Даже праху наших предков не дают спокойно полежать четверть века, и одно поколение людей, похоже, намеренно убирает оставшееся от тех, кто им предшествовал». Оказывается, общины (определяемые по расовым признакам, классовой и этнической принадлежности или по месту рождения иммигранта), которые придают определенным районам города столь богатый колорит, не отличаются постоянством и представляют собой «текучий» элемент. Из этого следует, что отобразить их на карте гораздо труднее, чем мы думали раньше. И Гарлем вот уже полтора столетия обладает стремительно меняющейся индивидуальностью.
Старый Гарлем
Местность, расположенная в северной части Манхэттена и простирающаяся на север от 110-й до 155-й улицы, эта местность, которая лежит между Морнингсайд-хайтс на западе и Ист-Ривер на востоке, когда-то была деревней Новый Харлем, заселенной голландскими фермерами в 1637 году. Нью-йоркские аристократы высоко оценили сельский покой Гарлема. По берегам Ист-Ривер, от Кипс-бэй (где расположена штаб-квартира ООН) и до северной оконечности Манхэттена, выстроилась вереница величественных особняков и элегантных поместий, принадлежавших старейшим и богатейшим нью-йоркским семействам. Именно в Хеллгейте у Астора остановился в 1835 году писатель Вашингтон Ирвинг, чтобы поработать с документами миллионера об Астории, представлявшими собой отчет об упадке торгового поселения Астора на берегах Орегона.
Жители старого Гарлема были белыми протестантами, а их предками были воздержанные голландцы и янки (то есть выходцы из Новой Англии). Инвесторы недвижимости видели будущее Гарлема в замене старых фермерских домов колониальной эпохи поместьями для богатых городских аристократов или, во всяком случае, для тех, кто стремился к утонченному стилю жизни. Когда население Манхэттена увеличилось, идея строительства сельских поместий была забыта, и застройщики сосредоточились на трехэтажных домах, по внешнему виду напоминавших особняки; эти дома входили в группу «Астор-роу», что появилась в 1890-х годах на Западной 130-й улице. Жителями Гарлема были босс Таммани-холла Ричард Крокер и Чоунси М. Депью — юрист, который специализировался на тяжбах, связанных с железной дорогой. Здесь имелись частные академии для дочерей гарлемской элиты, а местную начальную школу № 68 называли «школой для богатых», потому что многие ее ученики были из самых состоятельных семейств.
В конце XIX столетия в Гарлеме начался строительный бум. В 1897 году на углу Пятой авеню и 115-й улицы построили из известняка здание в стиле ренессанса, в котором размещался банк штата; теперь его занимает компания «Брюстер эпартментс». Богато украшенные синагоги и церкви, такие как евангелическая лютеранская церковь Св. Павла (1897—1898 годы, теперь большая центральная баптистская церковь на Западной 123-й улице, 147), и расположенное на Западной 118-й улице здание религиозного братства «Шаари Задок» (теперь там храм Сектантского направления Крестной церкви Христовой), являются особенно яркими примерами той избыточной самонадеянности, с которой в конце XIX века обитатели Гарлема смотрели на будущее своего района. Как показывают эти примеры, существует давняя традиция этнической преемственности в сфере использования столь крупных зданий. Возможно, самым интересным свидетельством тех преобразований, которые составляют «последовательные слои» жизни Гарлема, является Унитарная церковь Ленокс-авеню, построенная в 1889— 1891 годах на углу Ленокс-авеню и 121-й улицы. Когда унитаристы покинули Гарлем, строение использовалось как еврейская синагога, а сегодня в нем находится Молельный дом Эбенезера.
В 1881 году Гарлем наконец обеспечили транспортным сообщением с коммерческим центром города. Тогда от Второй и Третьей авеню до реки Гарлем проложили надземную железную дорогу. Проехать город насквозь все еще было затруднительно, но надземка позволила тем, кто работал в офисах и на фабриках центра, жить в гораздо более безопасных для здоровья северных районах. Поездка на надземке стала новой формой изучения социальной среды. Пассажиры смотрели прямо в окна расположенных на вторых и третьих этажах маленьких квартирок и ясно видели обитателей многоквартирных домов, этих жертв потогонной системы труда. То, о чем прежде писали в газетах, журналах и книгах — наподобие книги «Как живет другая половина» Якоба Рииса, — теперь можно было увидеть собственными глазами. Для таких людей, как Бэзил и Изабель Марч из романа Уильяма Дина Хоуэллса «В мире случайностей» (1890), которых весьма захватывали колоритные сцены из жизни города, надземка стала одним из самых увлекательных бесплатных зрелищ: «В районе Третьей авеню они садились на надземку, которая, как она призналась, была ее страстным увлечением», — читаем у Хоуэллса:
Она [Изабель] объявила это самым идеальным на свете способом распространять сплетни и не смутилась, когда он напомнил ей, как часто сама она говорила, что никакая сила не заставит ее ездить на этой штуке. Теперь же она утверждала, что поздно вечером ездить даже интереснее, чем днем, и что мимолетная близость, в которую вступаешь с людьми, живущими в квартирах на вторых и третьих этажах, в то время как внизу идет своим чередом обычная уличная жизнь, отличается внутренним напряжением, смешанным с абсолютным покоем, следствием пребывания в хорошем обществе со всей его надежностью и исключительностью. Он сказал, что это лучше, чем театр, о котором он вспоминает, когда видит через окна этих людей: какую-нибудь рабочую семью за поздним ужином, мужчин без пиджаков, женщину, которая что-то шьет у лампы, мать, укладывающую свое дитя в колыбель, мужчину, уронившего голову на стол, девушку и ее возлюбленного, прислонившихся к подоконнику. Какие намеки! Какая драма! Какой огромный интерес!
Стремление поскорее скупить землю вдоль линии надземки и построить особняки и многоквартирные дома было одной из важнейших составляющих строительного бума 1880-х годов. Однако, вопреки ожиданиям, переезжали сюда не богачи с Пятой авеню, а представители ирландской и германской иммигрантских общин. Ирландцы селились вдоль маршрута надземки, проходившего по Восьмой и Девятой авеню, а немцы колонизировали расположенный в Ист-Сайде район Йорквилл. В Гарлеме к ним сразу же во множестве присоединились евреи, путь проторили выходцы из хорошо ассимилированной и процветающей германской общины. Готовые к ассимиляции и чрезвычайно мобильные, евреи надеялись, что в Гарлеме они будут жить еще лучше. Все больше и больше российских евреев селилось в Восточном Гарлеме, южнее 110-й улицы и восточнее Пятой авеню. К 1910 году в этом микрорайоне проживали 50 тыс. евреев. Затем прибыли первые итальянцы, пытавшиеся сбежать из Маленькой Италии и Нижнего Ист-Сайда, которые отличались ужасными условиями проживания и высочайшей в мире плотностью населения.
Когда численность немцев и евреев, проживавших в Гарлеме, возросла, в районе стала развиваться свойственная только ему общественная жизнь. Люди все еще изредка и по серьезным поводам ездили в центр, но, после того как обожавший музыку Оскар Хаммерстейн-старший открыл на 125-й улице театр «Колумбус» и Гарлемский оперный театр (1889) с его раззолоченным фойе, жители Гарлема имели все основания объявить о рождении собственной культурной индивидуальности. Им принадлежал gemutlich (приятный) мирок удобных Weinstuben (винных погребков), изобилия общественных организаций, хоровых обществ, дискуссионных клубов и Тumvereine (гимнастических союзов). Там были хорошие немецкие и еврейские рестораны, масса Knackwurst (копченых сосисок) и кислой капусты, а также заполненные покупателями универмаги. Первый в городе богато украшенный кинотеатр был открыт в 1913 году именно в немецко-еврейском Гарлеме, на углу Седьмой авеню и 116-й улицы. Обанкротившийся театр оперетты «Риджент» закрыли и снесли, а на сцене нового здания установили электрическую иллюминацию в виде фонтана, сам же театр освещали розовые лампочки.
Гарлем давал возможность наслаждаться качеством жизни, — возможность, которой быстро лишались обитатели переполненного центра. Скоро этими преимуществами стали пользоваться не только «белые воротнички», и по мере того как численность населения увеличивалась, социальный состав жителей Восточного Гарлема менялся. Доля «белых воротничков» неуклонно уменьшалась, многие жители стали участниками процесса, который можно назвать бегством «белых воротничков» в менее многолюдные жилые районы. Именно в этот стремительно расширявшийся то ли район, то ли пригород направились чернокожие горожане, когда стало ясно, что их положение в Вест-Сайде ухудшилось. Гарлем — наглядная иллюстрация беспорядочного процесса перемен, упадка и возрождения, то есть подлинной истории города.
В направлении Сан-Хуан-Хилл
Чуть больше шести десятилетий, то есть средняя продолжительность человеческой жизни, отделяет 1799 год, когда штат Нью-Йорк принял поэтапный закон об отмене рабства, выполнение которого оказалось весьма растянутым во времени, от 1863 года, когда разразились печально известные бунты против призыва. Сторонники принятия этого закона надеялись, что понимание неизбежности освобождения рабов приведет к естественному упадку института рабства. В 1800 году численность рабов в штате Нью-Йорк составляла 2868 человек, а к 1820 году сократилась до 518. На протяжении следующих четырех десятилетий численность свободного чернокожего населения города оставалась достаточно стабильной и колебалась между 12 000 и 16 000 человек. В 1850-х годах чернокожих насчитывалось 12 574 человека, а спустя десять лет их стало фактически столько же, сколько было в 1820 году. В этот период численность белого населения резко возросла — с 54 133 человек в 1800 году до 801088 человек в 1860 году. Доля черной общины Нью-Йорка в общей численности населения уменьшалась. Хотя в городе имелось несколько крупнейших и влиятельнейших в Америке черных церквей, в Нью-Йорке было мало экономических возможностей, которые могли привлечь чернокожих из других регионов. Успешных черных предпринимателей можно было пересчитать по пальцам, самый известный из них — Томас Даунинг, устричный бар которого находился на Брод-стрит и был городской достопримечательностью. Чернокожие вынуждены были отступать под натиском вновь прибывших иммигрантов из Ирландии. Наряду с проявлениями глубоко укоренившейся расовой нетерпимости слабеющее экономическое положение черного Нью-Йорка все более и более затрудняло восхождение черных по лестнице общественного прогресса. Исследования Грэма Рассела Ходжеса показали, что в 1850-х годах черные в десять раз чаще попадали в тюрьму, чем белые. Среди испытаний, которые выпадали на долю чернокожих в Нью-Йорке, доминировали предубежденное отношение окружающих, нужда и свойственные беднякам болезни, особенно легочные (туберкулез, плеврит и пневмония), которые были главными причинами смерти.
Вытесненные из «респектабельной» торговли, черные находили возможности заработка в сфере проституции и азартных игр. Когда в 1842 году, во время памятного приезда в Нью-Йорк, Чарльз Диккенс посетил беднейшие кварталы города, он увидел фрагменты того мирка, который черный Нью-Йорк сотворил в салунах и танцевальных залах «пяти точек» — мерзких трущобах, расположенных в нескольких кварталах севернее городского совета. Хозяин и хозяйка «Элмакс» (самого модного дансинга в Лондоне) были чернокожими, как и музыканты оркестра и танцоры. «Элмакс» не имел ничего общего с миром бродвейских чернолицых менестрелей, где белые исполнители изображали черных в духе Джима Кроу, этого оголтелого расиста из скетча Томаса Райса, в гиперболизированной комической манере. Самые настоящие чернокожие разыгрывали яркое представление перед смешанной публикой:
Скользящее движение, двойное скользящее движение, остановка и еще один шаг, щелканье пальцами, вращение глаз, вставание на колени, вскидывание ног, оборот на носках и на пятках, сравнимый лишь с дробью пальцами по бубну. Он танцует так, словно у него две левые ноги, две правые ноги, две деревянные ноги, две проволочные ноги, две пружины вместо ног, словом, самые разнообразные ноги или полное отсутствие таковых. Что это с ним? И за какую же это работу и за какой же танец человек когда-либо получал столь энергичные аплодисменты, скорее похожие на раскаты грома, когда, закончив танец с партнершей, он сбивает ее с ног и сам падает рядом, и заканчивает все это великолепным прыжком на стойку бара, требуя у бармена что-нибудь выпить под хихиканье миллионов лицемерных джимов кроу, слившееся в один невиданный рев!
Опубликованное в номере «Нью-Йорк геральд» от 25 января 1861 года исследование положения чернокожих в Нью-Йорке объясняет, почему город оказался для них столь враждебным. Главной причиной были иммигранты. Ирландцы и немцы, которые прибывали в Нью-Йорк в течение двух десятилетий перед началом гражданской войны, вытеснили чернокожих из тех сфер занятости, где прежде они присутствовали — бытового обслуживания, стрижки и бритья, полировки обуви. Иммигранты, которые были ремесленниками и механиками, оттирали черных конкурентов. Ирландцы настойчиво добивались того, чтобы работа портового грузчика была доступна только белым. Работодатели с удовольствием использовали черных в качестве штрейкбрехеров, что усиливало межрасовую и межэтническую напряженность. Черным оставили наименее доходные рабочие места слуг и официантов. Перепись 1860 года показала, что среди работавших чернокожих имелось 1165 слуг, 666 посудомоек, 515 разнорабочих, 252 повара, 243 носильщика, 226 моряков, 137 прачек.
При этом было зарегистрировано всего 2 черных акушерки, 2 штукатура, 1 пастижер, 1 каменщик и 1 мыловар. Другой особенностью демографии черной общины была малая доля чернокожих нью-йоркцев, которые вступили в брак и создали семьи, а также гораздо меньшее по сравнению с белым населением число рождавшихся детей. Указывая на неизбежную убыль черного населения, «Геральд» делала предельно откровенные выводы из статистики: «В городе нет места неграм». Бунты против призыва стали подтверждением этого вывода.
Черная община Нью-Йорка медленно восстанавливалась после бедствий 1863 года, и, если взять соотношение роста населения, фактически имело место пусть небольшое, но весьма важное увеличение численности. В 1890 году количество чернокожих жителей Нью-Йорка составляло 23 601 человека. В то время как белая Америка встречала начало XX столетия фейерверками, заодно отмечая патриотической риторикой победу над Испанией в короткой войне 1898 года и расширение границ американской державы, черные американцы вздрагивали при мысли о жестоких расовых беспорядках и избиениях.
В 1899 году в южных штатах подверглись линчеванию 1665 негров. В августе 1900 года чернокожий гангстер убил полицейского, пытавшегося найти подозреваемых в одном многоквартирном доме в опасном квартале. Едва распространилось известие об этом убийстве, начались беспорядки, в ходе которых полицейские не только не пытались остановить правонарушителей, но и сами принимали участие в избиениях. Расовые беспорядки 1900 года охватили Восьмую авеню на участке между 27-й и 42-й улицами, то есть там, где проходила западная граница «злачного квартала». За беспорядками последовал митинг протеста возле Карнеги-холл, на котором была сформирована Лига защиты граждан. В данном случае требовалась защита от нью-йоркской полиции. Общественное мнение решительно поддержало этот протест, и за несколько недель количество членов Лиги возросло до 5000 человек. В конечном счете провели расследование, которое, как и следовало ожидать, носило предвзятый характер и полностью оправдало действия полиции, но расовые беспорядки 1900 года имели далеко идущие последствия для черного населения Нью-Йорка. Самое главное — они инициировали перемещение чернокожих на север, в Гарлем.
По меньшей мере с 1863 года, то есть со времени бунтов против призыва, взаимоотношения между жившими в Вест-Сайде ирландцами и черными были отмечены жестокостью и расовой нетерпимостью. Экономическое соперничество, решимость ирландских портовых грузчиков пресечь конкуренцию со стороны «дешевых негров» и требование сделать береговую линию «сплошь белой» (под этим ирландцы понимали также вытеснение немецких, итальянских и польских рабочих) лежали в основе глубокой вражды между ирландцами и черным населением Вест-Сайда. Но гораздо труднее понять природу патологического расизма ирландцев и просто убийственной жестокости, с которой они набрасывались на черных во время беспорядков 1863 года. Когда чернокожие ветераны вернулись с войны против Испании и поселились в лачугах традиционно ирландского района к западу от Амстердам-авеню, между 57-й и 64-й улицами, эта местность получила новое название Сан-Хуан-Хилл, а старый конфликт с ирландцами разгорелся с новой силой.
Тем не менее именно Сан-Хуан-Хилл стал тем местом, где на короткий период времени был создан прототип Гарлема. На Западной 53-й улице открылись черные варьете, рестораны, отели и салуны. В клубах западнее Амстердам-авеню слушали рэгтайм и начинали играть джаз. Был и другой черный Нью-Йорк, который искал своих лидеров на 53-й улице, где находились три важных церкви, основные религиозные братства, Ассоциация молодых христиан и важнейшие политические клубы чернокожих нью-йоркцев. Ведущую роль в жизни черной общины «злачного района» играли не только артисты, певцы и музыканты, но также пасторы, издатели и политические лидеры. Община, которой они стремились руководить, все в большей степени состояла из тех, кто родился в южных штатах и, оказавшись в Нью-Йорке, как правило, занимался тяжелым ручным трудом или был слугой, получая от 4 до 6 долларов в неделю.
К 1950—1960-м годам Сан-Хуан-Хилл превратился в угасающий район с барами для рабочих и дешевым жильем. Ветхие дома и низкая арендная плата сделали его привлекательным для иммигрантов, и в 1950-х годах здесь поселилось множество пуэрториканцев. Пристальное внимание прессы к преступности и расовой жестокости породило идею написания новой версии Ромео и Джульетть^с использованием языка и музыки современного Нью-Йорка. В 1957 году мюзикл «Вестсайдская история» (музыка Леонарда Бернстайна, либретто двадцатисемилетнего Стивена Сондхейма) был представлен на строгий суд музыкальных критиков.
Босс градостроителей Нью-Йорка Роберт Мозес выбрал участок между Колумбус- и Амстердам-авеню, протянувшийся от 62-й до 66-й улицы, с целью полной его перестройки. Город выселил более 1500 семей, в основном чернокожих и пуэрториканцев, чтобы освободить место для Линкольновского центра сценических искусств, который был построен в 1960-е годы. Другие постройки, например отделение университета Форд эм, завершили процесс социального преобразования Сан-Хуан-Хилл в один из ведущих культурных центров страны.
Миграция на север
Год 1876-й, отмеченный завершением послевоенной реконструкции, стал одной из тех памятных вех, которые оставили глубокий след в истории обустройства афроамериканцев в США. Многочисленное черное население сельских районов Юга оставили на милость белых, которые всего десять лет назад были их владельцами, надсмотрщиками и хозяевами. Под страхом получить пулю в лоб или петлю на шею черных вытесняли из общественной жизни. Были приняты законы, лишавшие черных права участвовать в выборах, а целый свод законов гарантировал черным место на нижней ступени гражданского общества. За соблюдением этих унижающих достоинство законов следила жестокая судебная система южных штатов, находившаяся в руках Ку-клукс-клана — организации, которая была вполне сравнима с ужасными «черными сотнями» царской России и пользовалась как тайным, так и открытым покровительством самых высокопоставленных кругов Юга. Поощряемая властями дискриминация была образом жизни. Возможно, некоторые белые сочувствовали находившимся в ужасном положении афроамериканцам, но в 1880-х годах ни один белый американец, быть может, за исключением бежавших из России евреев, не испытывал на себе систематической дискриминации, проводимой с изощренной жестокостью безжалостным и враждебным режимом. С окончанием реконструкции афроамериканцы продолжали оставаться в униженном и несвободном состоянии.
Разумеется, ни одна бесчеловечная система не может ежедневно проявлять свою бесчеловечность во всех ее обличьях. Были идеи, которые связывали белых южан и негров — от протестантского христианства до глубокого чувства привязанности к этой земле. Доброжелательность и милосердие отдельных людей оказали некоторое воздействие на общую социальную подавленность. Продолжалась и издавна представляемая в ложном свете история сексуальных связей между черными и белыми. На Юге расовая нетерпимость не была столь безликой, как на Севере. Но, пусть исполненная благих намерений, подобная доброжелательность мало что значила для черных. Внутри негритянской общины шли бурные дебаты относительно того, что же нужно делать и какого будущего следует добиваться. Хотя эта дискуссия велась далеко от Нью-Йорка, ее поразительные последствия наблюдались и в Нью-Йорке, особенно в Гарлеме.
В начале следующего века основатель Таскиджийского университета в Алабаме и автор книги «Путь из рабства» (1901) Букер Т. Вашингтон взял на себя уникальную роль национального лидера. Родившийся в семье рабов, которая вскоре распалась, Вашингтон получил свободу по закону об отмене рабства и рос в невежестве и нищете. Властные структуры Юга признавали его выразителем интересов его народа. Он вызывал симпатии черных масс сельских районов, которым нравилось, что Вашингтон сумел сам выбиться из низов, и которых воодушевляло его красноречие. В речи в Атланте в 1895 году он призывал усердно работать и заниматься самосовершенствованием. «Во всем, что имеет исключительно социальный характер, — утверждал Вашингтон, — мы можем быть разделенными, как пять пальцев руки, и в то же самое время быть едины, как гроздь винограда, для совместного движения вперед». Вашингтон призывал уйти от старых форм расового протеста, забыть об избирательных правах и гражданских свободах. Чтобы черные добились больших успехов в работе, им необходимо техническое образование и практические знания. Критики считали, что послание Вашингтона — «прежняя тактика приспособленчества и покорности». Более всего их возмущало, что программа Вашингтона признавала «предполагаемую неполноценность негритянских рас». Особое неприятие вызвали его сомнения в целесообразности получения черными «академического» высшего образования.
Для расширения кругозора афроамериканцев, преодоления расистских измышлений об их неполноценности и с целью побудить их занять достойное место в обществе У. Э. Б. Дюбуа — получивший образование в Гарварде профессор Университета Атланты — призвал к культурной революции, направленной против отсталости, нищеты и самоизолированности. Дюбуа был выходцем из Новой Англии, три поколения его предков жили в городе Грейт-Бэррингтон, штат Массачусетс. «Вступая в пору активной деятельности, — писал Джеймс Уэлдон Джонсон, — он обладал гораздо большим интеллектуальным запасом, чем любой другой американский негр». В сборнике очерков под названием «Души негритянского народа» (1903) Дюбуа призвал лидеров общины согласиться с необходимостью разрыва отношений с таким уважаемым человеком, как Вашингтон, и отказаться от позиции постоянного самоуничижения, которая, как он утверждал, есть естественное следствие программы Вашингтона.
Подавляющее большинство афроамериканцев, которых к моменту публикации книги Вашингтона «Путь из рабства» насчитывалось приблизительно 10 млн человек, вели нищенское существование в простиравшемся от Виргинии до Техаса «черном поясе» бывших рабовладельческих штатов. В течение жизни одного поколения произошла массовая миграция на Север. Между 1910 и 1920 годами полмиллиона афроамериканцев покинули Юг, чтобы поселиться на Среднем Западе и в городах северо-восточной части страны, из которых наиболее притягательным местом был Нью-Йорк. Между 1900 и 1940 годами белое население Большого Нью-Йорка, состоявшего из пяти крупных районов, созданных в 1898 году путем слияния более мелких, возросло с 2,1 млн до почти 4,9 млн человек. За те же самые четыре десятилетия черное население города выросло с 58 142 до 418 857 человек. А с 1940 по 1960 год оно почти удвоилось.
Прибывшие в Нью-Йорк чернокожие южане разделили с иммигрантами из Европы участь покинувших далекую родину изгнанников. Они приехали в Нью-Йорк, надеясь на лучшее, и, разумеется, не желали больше подчиняться расистским законам. Еврейские иммигранты с таким же негодованием относились к антисемитским «майским законам», принятым в царской России. В сущности, миграция на Север была отражением выбора, который пришлось сделать между взглядами Букера Т. Вашингтона, то есть позицией сохранившего преданность сельскохозяйственному Югу черного населения, и взглядами чернокожих Севера, которые активно призывали изменить старые порядки. У них был выбор, и в большинстве своем они решили стать горожанами.
С 1905 года чернокожие стали селиться в особняках и многоквартирных домах Гарлема, который находился в северной части Манхэттена и в середине XIX столетия считался «приличным» жилым районом. Прибытие черных в Гарлем меняло состав населения, совсем недавно сформировавшегося. Ирландцы и немцы, составлявшие в 1900 году половину жителей Гарлема, к 1910 году представляли менее одной пятой общей численности населения района. Спустя приблизительно десятилетие после 1910 года Гарлем был на треть еврейским, на треть итальянским и на треть негритянским. Сообразительные чернокожие спекулянты недвижимостью во главе с Филипом Пэйтоном, Джоном Нейлом и Генри Паркером сочли перспективными квартиры, расположенные севернее Центрального парка. Пэйтон и остальные скупили многоквартирные дома и, по словам Джеймса Уэлдона Джонсона, лишив белых арендаторов прав владения, заселили туда черных квартиросъемщиков. Черное епископальное братство купило группу из тринадцати домов на 135-й улице и сдало внаем черным арендаторам. Сто девять особняков по 139-й улице, между Седьмой и Восьмой авеню, возведенных в 1891 году по проекту Стэнфорда Уайта для гарлемской элиты, в 1919 году были проданы черным покупателям. Их привлекла поразительная одинаковость домов, входивших в эту группу, за которой закрепилось прозвище Страйверс-роу — то есть Улица стремящихся к успеху.
Можно себе представить, какова была реакция белых арендаторов, но и в более широком смысле прибытие чернокожих в Гарлем встретили враждебностью, страхом и открытым противодействием. Все формы выражения общественного беспокойства, от панического падения цен на недвижимость до опасений, связанных с изменением общей атмосферы района, сочетались с предубеждениями в отношении черных. Выезд из Гарлема принадлежавших к высшим классам евреев и прибытие туда большого количества евреев-рабочих были, так сказать, внутренним делом, касавшимся роли общественных классов в американо-еврейской культуре. Эмоции, вызванные прибытием чернокожих, стали фактором, объединившим белых жителей района, которые почти единодушно пришли к выводу, что, если они не смогут воспрепятствовать прибытию черных, им самим придется уехать. Последовало паническое «бегство белых».
В книге «Черный Манхэттен» (1930) Джонсон показал последовательность прибытия черных и бегства белых. «Присутствие в квартале одной-единственной цветной семьи, независимо от того, что ее членами могли быть хорошо воспитанные люди, у которых имелось достаточно средств, чтобы купить себе новое жилье, становилось сигналом для поспешного бегства. Из-за массового исхода перепуганных белых пустели дом за домом, квартал за кварталом. Затем упали цены — ниже всякого предела, и потому те цветные, которые могли извлечь из этого выгоду, покупали недвижимость». Дополнительное налогообложение на высокие доходы с недвижимости быстро привело к такому пороку старого Нью-Йорка, как сдача в субаренду, поэтому с самого начала своей истории Гарлем был чрезвычайно перенаселенным районом. Вновь прибывшие с Юга увеличили спрос на дешевую субаренду, что в 1920-х годах стало причиной постоянного расширения границ Гарлема.
За десять лет с 1911 года все основные церкви чернокожих, которые только были в городе, переместились в Гарлем. За ними последовали разного рода братства, политические клубы, черная Ассоциация молодых христиан, театры и ночные клубы. Ведущие газеты черных, еженедельник «Эйдж» и газета «Амстердам ньюс», перевели в Гарлем свои редакции и типографии. Журналисты, артисты эстрады, врачи, проповедники, юристы, словом, все представители класса влиятельных чернокожих Нью-Йорка, переехали на север, в Гарлем. Здесь появились новые возможности для афроамериканских предпринимателей, но «Эйдж» неоднократно обращал внимание на несоответствие между растущим черным населением и низкой долей принадлежавших черным фирм в основном районе заселения афроамериканцев, на 135-й улице и Ленокс-авеню. «Эйдж» поддерживал консервативное бизнес-сообщество черного Нью-Йорка и убеждал в ценности тех финансовых вложений и тех предпринимательских инициатив, которые были на пользу всей общине. В своих редакционных статьях «Эйдж» сокрушался по поводу молодежных банд, проституток и других признаков крушения общинных ценностей. В политике найма работников,которой придерживались универмаги, корпорации, большие отели, рестораны и театры Гарлема, имелись расовые ограничения, но по сравнению с условиями сельского Юга, погрязшего в сегрегации, нищете и отсталости, Гарлем был сущим раем.
Рост численности афроамериканцев в Гарлеме создал определенную критическую массу самосознания, что, в свою очередь, сделало возможной ту великую «культурную революцию», о которой давно говорили «модернизаторы» афроамериканской общины. Импульсом «Ренессанса» (или «Ренессансизма») стал рост уверенности в своих силах, наблюдавшийся среди представителей молодого и более образованного поколения черных. Именно они стремились осуществить план модернизации и создания среднего класса. Ораторы и лидеры общины — группа людей, которых Дюбуа называл «мыслящим классом американских негров», — поддерживали желание черных поступать в университеты, говорили о необходимости появления черных предпринимателей и с нетерпением ожидали того дня, когда черные профессионалы, политики и общественные деятели смогут представлять высокие идеалы черной общины.
Но в 1905 году афроамериканская культура в большей степени формировалась под влиянием суровой необходимости выжить в наполненном расовой нетерпимостью окружении, а не под влиянием древних народных традиций. Изучение, а затем и овладение культурой белого человека, несомненно, было привлекательной целью. Но по всей Америке традиции негритянского песнопения, с их расовыми стереотипами («Сэмбо», «дядюшка Том», «Топси»), маскарадными выступлениями, иронией, диалектом и бессмысленным однообразным трудом, подгонялись под стандарты популярной народной культуры белой Америки. Эти традиции едва ли можно было подогнать под стандарты «высокой культуры» белых европейских протестантов, находившей покровителей в Йеле и Гарварде. Ценности этой культуры, которая владела издательствами и газетами, как правило, не подвергались сомнению. «Иногда мне казалось, — писал Уильям Дин Хоуэллс о стихах афроамериканского поэта Пола Лоуренса Данбара, — что негры, наверное, и думают, как черные, и чувствуют, как черные, что в расовом отношении они полностью отличаются от нас, являясь совершенно чужими, и что между нами никогда не будет ничего общего в интеллектуальном и эмоциональном смысле...» Но именно стихи Данбара убедили Хоуэллса в том, что он ошибается. Это была маленькая победа культурной революции: культура преодолела расовые барьеры. Дэвид Ливеринг Льюис утверждал, что культура — «единственная сфера жизни Америки (с точки зрения афроамериканца), где нет жестокой дискриминации по цвету кожи».

Шествие в Гарлеме во время съезда «Всемирной организации по улучшению положения негров», 1920 г.
Население Гарлема не было настолько богато, чтобы покровительствовать собственной культуре. Из-за отсутствия в черной общине аристократической традиции noblesse oblige («положение обязывает») творцы высокой культуры (скульпторы, артисты балета, поэты) не имели возможности содержать себя и были не в состоянии найти в Гарлеме тех, кому могли показать свои работы. (Подобное, разумеется, случалось и с большинством белых скульпторов, артистов балета и поэтов, как в Нью-Йорке, так и в любом другом американском городе.) У таких движений черных националистов, как основанная Маркусом Гарви «Всемирная ассоциация по улучшению положения негров», которая в 1920-х годах пользовалась широкой поддержкой населения Гарлема, не было реальных возможностей создать и поддерживать автономную и оппозиционную культуру. (Критики, с Дюбуа во главе, считали Гарви опасным демагогом, методы убеждения которого были «высокопарными, никуда не годными, непоследовательными, неэффективными и почти незаконными».) Но непритязательные, консервативные и вполне практические устремления Букера Т. Вашингтона, которые, в сущности, полностью отрицали идею того, что афроамериканцы могут сформировать собственную культуру, казались упадническими более, чем когда-либо прежде. Крайне необходимы были новые лидеры в интеллектуальной сфере, в сфере искусства и в сфере политики. Гарлему требовалось найти нечто среднее между Гарви и Вашингтоном и выбрать новое направление развития черной общины.
Новый негр
В пространстве между пассивностью реакции Вашингтона на бедствия афроамериканцев сельского Юга и грандиозными планами Гарви, прямо на бурлящих оптимизмом улицах Гарлема родилось великое Возрождение 1920-х годов. Культурной и художественной основой этого движения стала появившаяся в 1925 году публикация Элайна Лока «Новый негр». Этот сборник творческих работ, эссе и произведений искусства вышел в свет как специальный выпуск издания «Сервей график» и, согласно замыслу инициаторов, представлял жизнь черных не как социальную проблему, а как энергичное опровержение старых стереотипов черной культуры и сельского Юга.
«Новый негр» распространялся Альбертом и Чарльзом Бони прямо из редакции на Макдагал-стрит в Гринич-Виллидж. Тогда не было «черного» издателя, способного выпустить такую книгу и продать ее белым американцам. Мало кто из нью-йоркских издателей интересовался Гарлемом и афроамериканской литературой, исключением являлись еврейские фирмы Альфреда Нопфа (опубликовавшего в 1926 году первую книгу Лэнгстона Хьюза «Утомленный блюз») и братьев Бони. Взаимоотношения между Гарлемом и остальным городом, как и взаимоотношения между черными и евреями, были важным аспектом Гарлемского возрождения, хотя его довольно часто неправильно толкуют. Роль белых в создании «Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения», организованной в 1909 году Мэри Уайт Овингтон, хорошо известна благодаря таким ее белым сторонникам, как профессор литературы Колумбийского университета Дж. Спингарн, и филантропам во главе с Джулиусом Розенвальдом. Восторженные отзывы об искусстве чернокожих и их культуре музыкального критика «Нью-Йорк таймс» Карла ван Век-тена во многом способствовали пробуждению интереса белой публики к Гарлему и его культурной жизни. Впрочем, опубликованный в 1926 году популярный роман ван Вектена «Рай для ниггера» остается лучшим в своем роде, он и в наши дни повсюду наделал бы много шума. Само название романа, подразумевающее недорогие места на балконе, забронированные для черных меценатов в театрах, где зрительный зал был разделен на две половины (для черных и белых), содержит намек на местоположение Гарлема в верхнем городе. Благодаря этой книге у ван Вектена появились поклонники и в Гарлеме, но она внесла глубокий раскол в ряды литературного сообщества, члены которого даже ссорились, обсуждая вымышленные образы ведущих деятелей «Возрождения». Родившийся на Ямайке писатель Клод Маккей, который эмигрировал в Нью-Йорк в 1914 году, встретил теплый прием у журнала радикалов Гринич-Виллидж «Массы» и его редактора Макса Истмана. Но даже для этого издававшегося в Гринич-Виллидж журнала, как и для его преемника «Ли-берейтор», читателями которых были либералы и радикалы, существовали ограничения: публикации о жизни чернокожих должны занимать столько-то места — не больше.
Гарлем извлекал пользу из интереса, который проявляли к нему белые, и пользовался их связями. Ночные клубы с радостью принимали белых посетителей, приезжавших по вечерам посмотреть на трущобы, но намерения писателей и художников «Возрождения» не всегда совпадали со стремлениями их белых союзников из центра города. Это не значит, что существование либерально настроенных белых, которые восхищались черными писателями и Гарлемом, было неуместным, ведь даже между самими черными шли серьезные споры о значении «Возрождения» и менялось их представление о собственном расовом своеобразии. Белые всегда были важной, порой главной составляющей проблем, с которыми сталкивались черные. Но расовая нетерпимость была отнюдь не единственной проблемой, над решением которой бились писатели и активисты Гарлемского возрождения.
Афроамериканцы, работы которых появились в сборнике Лока, стремились к глубоким изменениям в умах. Некоторые из них (возможно, радикальное, но влиятельное меньшинство) связывали свою заинтересованность в том, чтобы у черных были возможности получить работу, с организованной борьбой трудящихся против разрушающих профсоюзы американских капиталистов, а свои «национальные» стремления — с борьбой против колониализма, которая шла во всем мире. На самом деле понятие «новый негр» впервые появилось в ходе полемики, которую вели такие радикалы, как Э. Филип Рэндолф, на страницах издания «Месенджер», стремясь избавить черных от их консервативной преданности Югу. «Толпа стариков предписывает негру быть консервативным», — писал Рэндолф в одном из номеров «Месенджера» за 1919 год, обращаясь к признанным лидерам чернокожих в политике, религии и образовании. В действительности негру в Америке нечего было терять. «Ни его жизнь, ни его имущество не находятся под защитой государства, которое забирает его жизнь, чтобы сделать этот мир безопасным для демократии. Консерваторами во всех странах являются богатые и правящие классы. Негр пребывает в ужасающей нищете и не является частью правящего класса».
Фактически понятие «новый негр» представляло собой сложное и противоречивое мировоззрение. «Возрождение» предъявляло самые радикальные политические, экономические и социальные требования. Но были и другие голоса, пытавшиеся определить контуры черного расизма, который отвергал мир белых со всеми его ценностями и призывал вернуться к африканским расовым корням и традициям. Были также и те, кто стремился найти культурное самовыражение, а значит, и возможность вообще забыть о «расе». Такие люди испытывали искреннее желание влиться в русло основного направления американской культуры. Роль идеи, которая не давала образу «нового негра» рассыпаться, выполняли предвзятое отношение к черным и их невыгодное положение. Публикация «Нового негра» стала актом «культурного» самоопределения, но были и другие мнения, другие формы понимания того, что значит быть черным.
Гарлем был чрезвычайно космополитичным районом, где афроамериканцы Юга сталкивались с черными из северных штатов и с островов Вест-Индии. Из всего этого этнического многообразия, множества побудительных мотивов и различных уровней образования ничто отдельно взятое не могло определить черты культуры Гарлемского возрождения. Но те, чьи работы вошли в сборник «Новый негр», не были сельскохозяйственными рабочими или неотесанными мужланами из глуши. Культура, которую они предлагали миру, не являлась народной или «пролетарской». Среди ведущих авторов сборника были юрист, дипломат и профессор (Джеймс Уэлдон Джонсон), поэт, закончивший Нью-Йоркский университет и получивший в Гарварде степень магистра (Каунти Каллен), еще один поэт со степенью бакалавра Линкольнского университета (Лэнгстон Хьюз). Зора Нил Херстон изучал вместе с Францем Боасом фольклор и антропологию в Колумбийском университете и в 1927 году получил стипендию на научные исследования афроамериканского фольклора южных штатов. Редактор «Нового негра» Элайн Лок учился в Гарварде и в Берлине и был первым афроамериканским стипендиатом Родса1. Его сборник представлял творения афроамериканской культурно-интеллектуальной элиты. Они убеждали в ценности народного репертуара, который терял традиционно занимаемое в жизни чернокожих Юга место, что вызывало все больше опасений со стороны антропологов. Но сами авторы сборника уже не были частью той жизни, которую изучали, а иногда и прославляли. Гарлемское возрождение вскрыло тот факт, что черная община расколота по признаку классовой принадлежности; работы «негритянской элиты» не гарантированы от ошибок, которые, с точки зрения белых, они легкомысленно допускают. Размышляя об Африке, Дюбуа видел райский мир, который портит лишь контакт с «духовно обанкротившимися» империалистическими державами Европы:
Африка счастлива. Массы черного народа спокойны и довольны, кроме тех мест, где то, что называется «европейской цивилизацией», притронулось к ним и лишило корней. Их философия жизни логична и доступна пониманию. Их дети тщательно подготовлены к той жизни, которую им предстоит вести. Там нет проституток, там нет нищеты.
В собранных Локом рассказах, эссе и стихах можно обнаружить вызов градуализму. Как и всегда, «прогресс» в преодолении расовой дискриминации оказался двойственным. Привычная практика театральных представлений, при которой черные и белые актеры не могли играть на одной сцене, была нарушена ошеломляющей серией из 490 спектаклей, первым из которых была поставленная в 1920 году гарлемским «Лафайетт-театром» пьеса Юджина О’Нила «Император Джонс». За устаревшими взглядами главного героя пьесы угадывалась точка зрения автора, скрытая за внешним лоском цивилизованности, которой достигли черные. Весь этот старомодный быт, несомненно, воспроизводил отрицательные стереотипы. Построенный в 1912 году в районе 132-й улицы и Седьмой авеню, «Лафайетт-театр» находился в самом центре театрального квартала Гарлема и был первым театром, в котором отсутствовало разделение по расовому признаку. Актеры этого театра представляли собой выдающуюся черную труппу 1910-х годов. Чернокожие зрители шумно приветствовали триумф черных исполнителей, сыгравших пьесу О’Нила. Вполне возможно, им меньше понравилось то двойственное значение, которое имела эта пьеса для черных. Стереотипы оставались, словно маленькие раковые опухоли. Черных исполнителей и черных писателей неизбежно принуждали вступать в полемику с широко распространенным мнением белых, что все черные, как внушал Джеймс Уэлдон Джонсон, — «беспечные, поющие, ловкие, бренчащие на банджо», счастливые люди, образы которых издавна ассоциировались с хлопковыми полями и речными плотинами. Ожидалось, что черные авторы будут писать на диалекте, и когда Пол Лоуренс Данбар от этого отказался, он обнаружил, что стал безразличен и издателям, и читателям. «Я должен был писать стихи на диалекте — только так я мог заставить их слушать меня».
Для черного литератора Гарлем был тем местом, где можно было избавиться от необходимости писать традиционную диалектическую поэзию с ее бревенчатыми хижинами, опос-сумами и арбузами. Дюбуа и ежемесячный журнал «Кризис», редактором которого он являлся, активно высказывались в пользу откровенно «диалектную» искусства, которое отстаивало политические взгляды расы и оказывало помощь «делу черного народа». В те времена, когда черных писателей в Америке было совсем немного (все они вполне могли бы уместиться в какой-нибудь гарлемской квартире), «Кризис» и журнал Национальной городской лиги «Опортьюни-ти» выступили в роли повивальных бабок новой литературной эры. Государственный деятель старшего поколения Джеймс Уэлдон Джонсон написал предвыборную песню Теодора Рузвельта («У тебя все в порядке, Тедди») и в качестве награды получил должность консула США в Венесуэле и Никарагуа. Он был автором «Автобиографии бывшего цветного» (1912) и редактором весьма значительного сборника «Книга американской негритянской поэзии» (1922). Литературному редактору «Кризиса» Джесси Редмон Фосет, которая и сама была автором романов, пришлось бороться со вспышками мужского тщеславия ведущих деятелей Возрождения и одновременно поощрять таланты молодых черных писателей. Первый роман Фосет «Смятение» (1924) стал новой формой бегства — подальше от старой жизни на земле и еще дальше от новой жизни в трущобах. Пытаясь написать о новых «образованных и честолюбивых» классах черной общины, она, по словам Элайна Лока, достигла «высот респектабельности» и «вершин культуры», предложив альтернативу узким рамкам «расовой» беллетристики.
1
Стипендиат Родса — лицо, удостоенное престижной английской стипендии для учебы в Оксфордском университете, предназначенной для выдающихся молодых людей из США и стран Содружества — бывших английских колоний. — Примеч. перев.
Эпоха джаза
Америка влюбилась в Гарлем в 1920-х годах. Богатые белые, которые ездили посмотреть на трущобы верхнего города, слышали выступления черных джазовых оркестров в танцевальном зале «Савой». Их толпы собирались на таких бродвейских ревю, как выступления «Шаффл элонг». Этот оркестр, продюсером, дирижером и музыкантами которого были черные, играл для черной аудитории музыку, написанную черными авторами. Впервые он выступил в вашигтонском театре Говарда, потом играл в филадельфийском театре Данбара, а потом в нью-йоркском «Даунтауне», открывшемся в 1921 году неподалеку от Театра 63-й улицы. Звездой «Шаффл элонг», игравшего музыку Юби Блейка и Нобла Сисла, а также такие ставшие хитами мелодии, как «I'm Just Wild About Напу», была изюминка Гарлема Флоренс Миллс. В хоре выступала Джозефин Бейкер, которая позднее стала звездой парижского «Reveu Negre». Молодая гарлемская певица Аделаида Холл впервые начала выступать вместе с Миллс в «Шаффл элонг», а затем, в 1927 году, появилась в «Черных дроздах» Лью Лесли. Большой успех Блейка и Сисла, мелодии которых неоднократно копировали вплоть до конца десятилетия, спровоцировал яркую вспышку интереса к черному театру и черным исполнителям.
В 1920-х годах все старые предубеждения не исчезли как по волшебству, а трансформировались в новый стереотип неверующего, распущенного, не стесненного правилами, коверкающего слова, сексуально экспрессивного черного, который открыл Нью-Йорк эпохи джаза, этого нового оружия, применявшегося в культурной войне с провинциальными бэббитами1. Успех песни Эла Джолсона «Суони», музыку которой написал в 1919 году молодой Джордж Гершвин (он написал эту мелодию за десять минут, и она пользовалась огромным успехом: был продан миллион экземпляров отдельно изданных нот и слов этой песни и два миллиона ее граммофонных записей), наводит на мысль о длительной популярности старой традиции изображения негров белыми исполнителями. Но и любая другая сфера культуры черных вызывала гораздо более широкий, чем прежде, интерес. Белые авторы во главе с ван Вектеном писали о жизни черных, и порой их произведения становились весьма популярными, как это случилось с библейской фантазией Марка Коннели «Зеленые пастбища» (1930). В стилизованной опере Гертруды Стайн под названием «Четыре праведника в трех актах», премьера которой состоялась в 1934 году, все роли играли черные исполнители. Опера Гершвина «Порги и Бесс» (впервые поставлена в 1935 году на сцене театра Олвина с участием чечеточника Джона Баблса) озадачила некоторых критиков: Дюк Эллингтон сокрушался по поводу «черных, как сажа, негроизмов» Гершвина. Верджил Томпсон назвал ее «испорченным фольклором и полуоперой». Но эта фолк-опера привела публику в восторг и шла 124 вечера подряд, установив рекорд продолжительности непрерывных постановок оперы на американской сцене. Казалось, и опера, и роман, на основе которого она поставлена (роман Дюбоза Хэйвуда «Порги»), отражают новое для американцев отношение сочувствия к чернокожим. Критиков следующих поколений не устраивала стереотипизация персонажей, но сама музыка Гершвина сохранила высокое место в списке лучших произведений американской музыкальной классики.
География гарлемских мест развлечений охватывает Седьмую авеню (бульвар Адама Клейтона Пауэлла) на участке от 125-й до 144-й улицы. По Седьмой авеню прогуливались недавно прибывшие с Юга сельскохозяйственные рабочие и элегантно одетые черные профессионалы. Клод Маккей в книге «Домой в Гарлем» (1928) писал:
Широкие тротуары Седьмой авеню переливались всеми цветами кожи прогуливающихся. Коричневые малютки нежились в белых колясках, толкаемых их маленькими черными братьями в симпатичных матросских костюмчиках. Здесь собрано в одном месте все разнообразие пигментации, какая только встречается у представителей человеческой расы: темно-коричневая, светло-коричневая, ярко-коричневая, каштановая, медная, желтая, почти белая кожа. Маленькие, но своенравные подопечные горделивых желтых мамаш и темнолицых нянь тянут их то в одну сторону, то в другую...
И элегантные задаваки в безукоризненных гетрах; выходцы с островов Вест-Индии, несущие трости и одетые в брюки, фасон которых не соответствует фасону их пиджаков и жилетов, что вызывает резкие комментарии со стороны соперников — афро-янки... Мимо проходят девушки, одетые в яркие и цветастые одежды в полном соответствии с положением и профессией... Сумерки опускались на этот Конвейер, погружая его в тихую синечерную симфонию...
В 1920-х годах на каждом углу Седьмой авеню был салун, магазин или ночной клуб, где незаконно торговали спиртным. Сердце Гарлема и главный центр ночной жизни находились на пересечении Западной 135-й улицы и Седьмой авеню. Там удовлетворялись все вкусы (музыкальные, сексуальные и любые другие). На 140-й улице находились лучшие подпольные шоу трансвеститов, вполне откровенные секс-развлечения и «салоны», где курили марихуану.
Танцы с курением наркотиков проводились в гротообразном «Манхэттен казино» по адресу Западная 155-я улица, 280, а ревю с участием гомосексуалистов проходили на сцене «Голливудского кабаре», размещавшегося в доме 41 по Западной 124-й улице.
Там проходила и незримая, но известная каждому граница, отделявшая те ночные заведения Гарлема, которые были открыты для черных, от тех, которые были для них закрыты. Расположенный на Седьмой авеню, 2221, большой ночной клуб «Конниз-инн» (1921—1940 годы) был тем местом, где перед белыми зрителями выступали лучшие черные танцоры (Билл Робинсон и Такер по прозвищу «Снейк-хипс»). Джимми Дюрант называл его «шикарнейшим местом во всем Гарлеме». Впервые Луи Армстронг выступил в Нью-Йорке в 1924 году: он вместе с оркестром Флетчера Хендерсона играл в танцевальном зале «Роузленд». К концу 1920-х годов Армстронг был гвоздем программы в «Конниз-инн». Джазовые оркестры играли в театре «Аполлон» (где Элла Фицджеральд начала свою долгую блестящую карьеру с победы в любительском конкурсе) и в близлежащем танцевальном зале «Альгамбра» на углу Седьмой авеню и 125-й улицы. «Коттон-клуб» в доме 644 по Ленокс-аве-ню (ныне Малколм-Икс-бульвар) уже благодаря своему названию считался высококлассным заведением, поскольку был известен всей стране. Вникнув во все причуды Гарлема и понимая, какой ущерб сухой закон наносит ночным клубам города, американец валлийского происхождения, бутлегер Мэден по прозвищу «Оуни», в 1923 году открыл «Коттон-клуб» с целью сделать его рынком сбыта запрещенного спиртного. Выйдя из банды «Китчен гофер», орудовавшей в опасных районах Нью-Йорка, Мэден возглавил компанию, которая поставляла запрещенное законом пиво в клубы Вест-Сайда и Гарлема. В конце 1920-х годов Мэден стал заметной фигурой братства нью-йоркских бутлегеров, сравнимой по значению с Голландцем Шульцем, Уильямом В. Дуайером и другими крупными дельцами, каждый из которых посещал «Коттон-клуб». Мэден был «покровителем» актрисы Мэй Уэст и партнером карточного шулера Арнольда Ротстейна, который имел свою «долю» в очень многих ночных клубах Бродвея и Гарлема. Как и клубы «Конниз-инн» (возглавлявшийся братьями Иммерманами, которые тоже были шулерами), «Эксклюзив-клуб» (принадлежавший чернокожему шулеру Бэрону Уилкинсу), «Смолз Пэрадайз» и танцевальный зал «Савой», «Коттон-клуб» приглашал лучшие оркестры, самых сногсшибательных танцовщиц и притягивал значительную долю публики из центра города. Карточные шулеры и бутлегеры проложили путь к трансформации Гарлема в космополитический мир развлечений. Они угождали белым из центра и предлагали им смесь из музыки (джаза), выпивки (противозаконной), декораций (джунгли и обстановка плантаций Юга) и чувственности (в ночных клубах Гарлема получали работу только самые привлекательные черные женщины). К 1925 году, в значительной степени благодаря криминальным связям мэра Джимми Уолкера, местное правоприменение закона Волстеда [Закон Волстеда (по имени инициатора - конгрессмена э. Волстеда) был принят в октябре 1919 г. и требовал принудительного проведения в жизнь положений Восемнадцатой поправки о «сухом законе». - Примеч. перев.] почти прекратилось. Политическая машина Таммани-холла и местные криминальные круги взыскивали с ночных клубов Гарлема налоги в свою пользу.
Гарольд Арлен и Джимми Макхью входили в число ведущих бродвейских деятелей, ставивших ревю в «Коттон-клубе». Длительная, с 1928 года, связь Дюка Эллинг-тона с «Коттон-клубом» представляла такую коммерческую ценность, что этот музыкант сумел убедить руководство клуба впускать черных зрителей. Сегодня новый «Коттон-клуб», владельцами которого являются черные, находится на 125-й улице. Располагавшийся на углу Седьмой авеню и 135-й улицы «Смолс», по-видимому, имел самую пеструю в расовом отношении зрительскую аудиторию, а приезжавшие из центра завсегдатаи высоко ценили официантов, которые танцевали чарльстон, не выпуская из рук подносов с едой.
Билли Холидей, урожденная Элеонора Фаган, писала в своей автобиографической книге «Леди поет блюз», что «когда мама и папа вступили в брак, они были еще детьми. Ему было восемнадцать, ей шестнадцать, а мне три». В 1927 году, когда Билли было двенадцать лет, она переехала в Гарлем и поселилась в многоквартирном доме, который в сущности был борделем. К тому времени, когда ей исполнилось пятнадцать, она зарабатывала 18 долларов в неделю пением в маленьком подпольном баре «Под и Джерриз» в доме 168 по Западной 133-й улице. В возрасте двадцати лет она впервые выступила в театре «Аполлон». Известная как «Леди Дэй» («Леди День») и «Ангел Гарлема», Холидей мгновенно добилась успеха. Каждый ночной клуб и джазовый оркестр хотел заполучить Билли, чего желал и каждый карточный шулер, мошенник, торговец наркотиками, задира и приятный на вид пьяница. Она пела с Бенни Гудманом в 1933 году, работала с Каунтом Бэйси и Арти Шоу. После отмены сухого закона ночные клубы открылись на 52-й улице, и появление на этой «улице свинга» самой элегантной джазовой певицы, которую когда-либо видел город, притягивало сюда представителей светского общества, гангстеров и приезжих. Гарлемская традиция выступлений великих джазовых певиц, начало которой положили Бесси Смит, Ма Рейни и Этель Уотерс, достигла своего трагического апофеоза, когда здесь появилась Холидей с ее трудной жизнью и несравненным искусством.
Возрождение Гарлема
Начало длительного упадка Гарлема совпало с началом Великой депрессии. Резкое падение курса ценных бумаг на фондовой бирже сначала не слишком сильно затронуло Гарлем, где инвесторы с акциями составляли лишь незначительную долю населения. Ночная жизнь в театре «Аполлон» продолжала блистать такими яркими звездами, как начинавшие карьеру Элла Фицджеральд и Билли Холидей. Но последствия роста безработицы, перенаселенности и ухудшения экономического положения негритянских семей не могли обойти Гарлем стороной. Лишь церкви вступили в период процветания, пасторы сохранили общественное признание и влияние, которое в большей степени было свойственно жизни в городе XIX столетия, чем той, с которой сталкивалось духовенство в веке двадцатом. Упадок, начавшийся в 1930-е годы, неуклонно продолжался. К 1970-м годам два из каждых пяти магазинов 125-й улицы бездействовали, а многие из тех, что работали, принадлежали корейцам. В Гарлеме, как и во всем городе, физическое состояние многоквартирных домов ухудшилось. Многие из них достались страховщикам или были умышленно сожжены ради получения страховок. Преступность и всплеск наркомании сделали потенциальной жертвой каждого жителя Гарлема, а для белых туристов район стал опасной зоной. Спад замедлился лишь в 1980-х годах, когда город выбрался из глубокой ямы, в которую он угодил во время финансовой катастрофы 1970-х годов. Уровень среднего дохода жителей Гарлема стал расти: если в 1980 году он составлял 18 503 доллара в год, то в 1990 году равнялся 23 230 долларам. Число чернокожих выпускников колледжей увеличивалось по мере роста благосостояния черной общины.
Появлялись и другие признаки выздоровления Гарлема. В 1980-Х годах театр «Аполлон», которым руководила некоммерческая организация, подвергся весьма претенциозной реконструкции стоимостью 20 млн долларов. В конце 1990-х годов реконструировали красивые особняки, фасады которых выходили на Маунт-Моррис-парк. Повсюду в Гарлеме выросла арендная плата, а количество недвижимости для найма достигло небывало низкого уровня. На 125-й улице открылись магазины «Бен и Джерриз» и «Боди Шоп», которые стали символами возрождения этой улицы, столь же убедительными, как присутствие «Дисней» на 42-й улице. В Центре Шомберга по исследованиям негритянской культуры (Западная 125-я улица, 144), который входит в систему Нью-Йоркской публичной библиотеки, проводился целый ряд заметных исторических выставок, посвященных жизни чернокожих в Нью-Йорке. Латиноамериканское культурное наследие отражено в экспозиции «Эль Му-сео дель Баррио» (Пятая авеню, 1230, в районе 104-й улицы), а в гарлемском музее «Студио» (дом 144 по Западной 125-й улице) собраны произведения искусства и артефакты черной африканской диаспоры. Обрели новую жизнь и структуры более почтенного возраста, которые когда-то формировали облик гарлемской жизни, — например, абиссинская баптистская церковь (Западная 138-я улица, 132), которую в прошлом столетии возглавляли два поколения Пауэллов. Воскресным утром улицы заполняют хорошо одетые люди, прихожане 400 церквей Гарлема. В любой день недели на улицах полно автобусов, битком набитых туристами — белыми и черными.
1
Бэббит — главный герой одноименного романа С. Льюиса, добропорядочный торговец недвижимостью, бизнесмен и патриот; его имя — синоним обывателя и ханжи из маленького города американской глубинки. — Примеч. перев.
Биографии великих городов
Эрик Хомбергер
НЬЮ-ЙОРК
История города
Ответственный редактор Е. Г. Кривцова
Выпускающий редактор О. К. Юрьева
Художественные редакторы М. В. Демичева, А. Г. Сауков
Технический редактор Н. Н. Ремизова
Корректоры Е. А. Пережогина, И. А. Шабранская
ООО «Издательство «Мидгард».
198020, г. Санкт-Петербург, Нарвский пр., д. 18
URL: www.midqardr.ru. E-mail: info@midaardr.spb.ru
ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86, 956-39-21.
Home раде: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
Оптовая торговля книгами «Эксмо»:
ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru
Ло вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми покупателями обращаться в ООО «Дип покет» E-mail: foreignseller@eksmo-sale.ru
International Sales: *
International wholesale customers should contact «Deep Pocket» Pvt. Ltd. for their orders. foreignseller@eksmo-8ale.ru
По вопросам заказа книг корпоративным клиентам, в том числе в специальном оформлении,
обращаться в ООО «Форум»: тел. 411-73-58 доб. 2598.
E-mail: vipzakaz@eksmo.ru
Оптовая торговля бумажно-беловыми
и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:
Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2, Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).
e-mail: kanc@eksmo-sale.ru, сайт: www.kanc-eksmo.ru
Подписано в печать 15.11.2007. Формат 84x108
Печать офсетная. Бумага тип. Усл. печ. л. 21,84. Тираж 4100 экз. Заказ № 2393.
Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов в ОАО «Можайский полиграфический комбинат». 143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

Нью-Йорк показал всей Америке, что современность стоит того, чтобы принимать ее с распростертыми объятиями, что небоскребы могут быть красивыми, что современное искусство восхитительно и что именно джаз и чарльстон, а не вальсы XIX столетия покоряют сердца молодых Он распространил по всему миру ту совокупность различных ценностей, которые во многом разделяет нация: любовь к свободе, вера в свои возможности и в демократию.

Оглавление
- ОТ РЕДАКЦИИ
- Благодарности
- Предисловие
- Введение: изменившийся город, 11 сентября 2001 года
- «Граунд Зеро»
- Глава первая. Маннахатта
- Имена и названия
- Порт, гавань и море
- Следы прошлого
- Мелвилл, Купер и Рузвельт
- «Решетка»
- Флэтайрон - билдинг
- Глава вторая. На ступенях Национального мемориала Федерал-холл
- Дж. П. Морган
- Церковь Троицы
- Федерал-холл
- От здания городского совета до Федерал-холла
- Уолл-стрит и Нью-Йоркская фондовая биржа
- Глава третья. Город иммигрантов
- Идти вперед или умереть
- Статуя Свободы
- Остров Эллис
- Нижний Ист-Сайд
- Абрахам Каан и Исаак Башевис Зингер: выразители мнения иммигрантов
- Центры социальной помощи
- Многоквартирный дом
- Музей многоквартирного дома
- Глава четвертая. Гринич-Виллидж
- Символы и желтая лихорадка
- Вашингтон-сквер
- Новая деревня, 1912—1917 годы
- Деревня Кэролайн Уэр
- Сцены из жизни Гринич-Виллидж: «фолк», битники, хипстеры
- Уорхол и его «Фабрика»
- Глава пятая. Парки
- Урбанистическое пространство и романтические пейзажи
- Вудлонское кладбище
- Парки и город
- Бэттери
- Частная собственность и радикализм
- Олмстед и Центральный парк
- Окупаемость городских парков
- Глава шестая. Бродвей
- Рождение Бродвея
- Начиная с номера 1
- Церковь Св. Павла
- Здание городского совета
- Сити-холл-парк
- Модницы, денди, отели и магазины
- Чайнатаун
- Сохо
- Грейс-черч
- Юнион-сквер
- Мэдисон - сквер
- 42-я улица и Таймс-сквер
- Свет и воздух
- Глава седьмая. Гарлем
- Старый Гарлем
- В направлении Сан-Хуан-Хилл
- Миграция на север
- Новый негр
- Эпоха джаза
- Возрождение Гарлема
- Глава восьмая. За пределами Манхэттена
- Бруклин
- Рекомендуемая литература
Пометки
- Обложка
Unknown
Начало

Данная книга может оказаться полезным дополнением к «Нью-Йорку для семейных прогулок», путеводителю «Тайм-аут» или к другому путеводителю по Нью-Йорку. Вы не найдете здесь сведений о том, в какие часы остров Эллис открыт для осмотра или как добраться до Центрального парка. Зато из этой книги вы узнаете, почему пункт приема иммигрантов был создан именно на острове Эллис и о том, как здесь появился музей. Каждая глава начинается с описания местоположения того или иного района города: Бродвея, Гринвич-Виллидж, Гарлема. В каждой главе автор пытался оглянуться назад, чтобы осмыслить, как прошлое города повлияло на его сегодняшнее состояние.

БИОГРАФИИ ВЕЛИКИХ ГОРОДОВ

Эксмо
Москва
МИДГАРД
Санкт-Петербург 2008

УДК 94(7)
ББК 63.3(7-Нью-Йорк)
Х76
Eric Hornberger
NEW YORK CITY: A CULTURAL AND LITERARY COMPANION
© Eric Hornberger, 2002
Перевод с английского Ю. Яблокова
Оформление серии А. Саукова
Хомбергер Э. Нью-Йорк: история города/ Эрик Хомбергер; [пер, с англ. Ю. Яблокова]. — М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2008. — 416 с.: ил. — (Биографии великих городов).
ISBN 978-5-699-25413-2 (Эксмо)
ISBN 5-91016-023-5 (Мидгард)
Олицетворением американского духа и всего, что связано с США в представлении иностранцев, с полным основанием может считаться Нью-Йорк — город небоскребов и статуи Свободы, Бродвея и знаменитых «номерных» улиц и авеню, Гарлема, Уолл-стрит, Гринвич-Виллидж и Брайтон-Бич. Даже тот, кто никогда не бывал в Америке, с первого взгляда узнает Нью-Йорк на фотографиях и в фильмах — настолько облик этого города растиражирован голливудскими блокбастерами. Фрэнк Синатра пел: «Нью-Йорк, ты такой один, первый всегда и везде» — и действительно, другого такого города не найти.
Приятных прогулок по Большому Яблоку!
© Ю. Яблоков, перевод. 2008
© ООО «Издательство «Мидгард».
издание на русском языке. 2008
© ООО «Издательство «Эксмо», оформление. 2008
ОТ РЕДАКЦИИ
Большое Яблоко наш город называют,
В нем неприлично быть и бедным, и больным;
Здесь рядом нищие и принцы проживают.
Прослыло Яблоко великим и шальным.
В. Токарев
В каждой стране есть город или города, которые являются своего рода эмблемами нации, которые словно воплощают в себе дух конкретного народа, которые олицетворяют «английскость», «французскость», «итальянскость» и прочие «-ости». Для Италии таким городом является Неаполь — южный, солнечный, будто сошедший с открытки, бесшабашный и безалаберный; для Франции — безусловно Париж, утонченный, куртуазный, гурманский и авантюрный; для Великобритании — старинные провинциальные городки наподобие Иорка, Солсбери или Оксфорда, тихие, уютные, «домашние». Что же касается Соединенных Штатов Америки, олицетворением американского духа с полным основанием может считаться Нью-Йорк — город небоскребов и статуи Свободы, Бродвея и знаменитых «номерных» улиц и авеню, Гарлема, Уолл-стрит, Гринич-Виллидж и Брайтон-Бич.
Конечно, взгляд на тот или иной город «изнутри» страны и извне, из-за рубежа, может — и будет — существенно различаться (как пишет автор этой книги Эрик Хомбергер, сами американцы относятся к Нью-Йорку с подозрением и вовсе не считают его квинтэссенцией «американизма»), однако в восприятии иностранцев Нью-Йорк — лицо Америки, ее ворота и парадный фасад. Основанный еще голландцами как Новый Амстердам, Нью-Йорк — один из старейших городов Северной Америки, что, впрочем, нисколько не мешает ему оставаться «вечно молодым» и удачно сочетать в своем облике исторические памятники и небоскребы, «лишенные желания быть красивыми, тупые, тяжелые... в каждом чувствуется надменная кичливость своею высотой...» (М. Горький).
Даже тот, кто никогда не бывал в Америке, с первого взгляда узнает Нью-Йорк на фотографиях и в фильмах — настолько облик этого города растиражирован голливудскими блокбастерами. Знаменитая береговая линия, столь эффектно замерзающая и разрушающаяся в фильме «Послезавтра»; Центральный парк с его беговыми дорожками, прудами и густыми зарослями кустарника, где так любят прятаться маньяки и бандиты из детективных сериалов; Бродвей — яркие вывески всевозможных шоу, полицейские «мигалки, многоликая и разноязыкая толпа; многоквартирные дома, не прежние, эмигрантские, а нынешние, памятные прежде всего по эпизодам «Друзей»; наконец, «опознавательный знак», которого город недавно лишился и кадры с гибелью которого обошли весь мир — башни-близнецы Всемирного торгового центра... Благодаря кино и телевидению Большое Яблоко вошло в наши дома и сделалось частью мысленной картины мироздания, этаким архетипом Америки.
В замечательном мюзикле Мартина Скорсезе «Нью-Йорк, Нью-Йорк» впервые прозвучала одноименная песня в исполнении Фрэнка Синатры. В этой песне есть такие слова: «Нью-Йорк, ты такой один, первый всегда и везде». Что ж, с последним утверждением можно поспорить, а вот что Нью-Йорк «такой один» — никто отрицать не станет.
Приятных прогулок по Большому Яблоку!
Эрик Хомбергер
НЬЮ-ЙОРК: история города
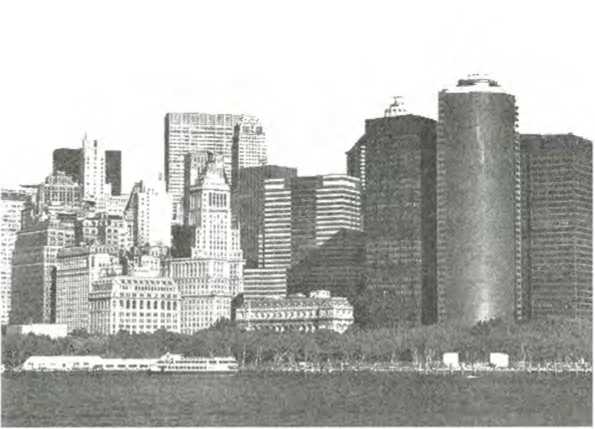
ПОСВЯЩАЕТСЯ МАРКУ КРУПНИКУ
Моему наставнику, философу и другу.
Александер Поуп. Опыт о человеке
Благодарности
Вот уже семь лет, как я вполне полагаюсь на сведения, изложенные в «Энциклопедии Нью-Йорка» (Издательство Йельского университета) и испытываю все большее чувство признательности к профессору Колумбийского университета Кеннету Т. Джексону, а в последнее время и к Нью-Йоркскому историческому обществу. Персонал Нью-Йоркской публичной библиотеки всегда давал исчерпывающие ответы на все вопросы и удовлетворял мои просьбы. Я хотел бы поблагодарить Билла Альберта за то, что он еще раз прочел мою работу.
Предисловие
Существуют десятки красочно иллюстрированных путеводителей по Нью-Йорку, с вложенными в них картами, красивыми цветными фотографиями и уймой сведений, как правило, изложенных чрезвычайно мелким шрифтом. Есть также изысканные и весьма занимательные очерки по истории города. Так, опубликованная в 1999 году Эдвином Дж. Берроузом и Майком Уэллесом и отмеченная наградами работа «Готам» излагает историю города вплоть до 1898 года. Второй том этой книги охватывает события, случившиеся в XX веке. Но это книга объемом в 1383 страницы, которую, скорее, стоит почитать в библиотеке. Что же касаетсямоего «Нью-Йорка», то я надеюсь, что это, возможно, именно та книга, которую можно засунуть в рюкзак или в карман и отправиться гулять по городу. Кроме того, мне кажется, что эта книга может дать кое-какое представление об окружающей обстановке и познакомить с некоторым количеством занимательных историй, то есть дополнить упущения даже самых лучших путеводителей.
Поэтому мне представляется, что данная, книга может оказаться полезным дополнением к «Нью-Йорку для семейных прогулок», путеводителю «Таймаут» или к любому другому путеводителю по Нью-Йорку. Вы не найдете здесь сведений о том, в какие часы остров Эллис открыт для осмотра, или как добраться до Центрального парка. Зато из этой книги читатели узнают, почему пункт приема иммигрантов был создан именно на острове Эллис, и о том, как здесь появился музей. В книге есть глава о городских парках, которая касается и тех сложных проблем, с какими сталкиваются те, кто оплачивает их содержание. Это тема, на которой путеводители стараются не останавливаться, но проблемы поддержания изумительных парков города в должном состоянии и их сохранения волнуют приезжих ничуть не меньше, чем самих нью-йоркцев. Каждая глава начинается с описания местоположения того или иного района города: Бродвея, Гринич-Виллидж, Гарлема. В каждой главе я пытался оглянуться назад, чтобы осмыслить, как прошлое города повлияло на его сегодняшнее состояние. Путеводители являются отчетами о настоящем, но очень многое можно обрести, размышляя о тех разнообразных изменениях, которые внесли различные обстоятельства во внешний облик тех мест, которыми может наслаждаться приезжий (например, сегодняшняя Сорок вторая улица). Влияние, которое оказала корпорация Диснея на возрождение этой знаменитой улицы, может служить примером самой тесной связи между «прошлым» и «настоящим». Нью-Йорк, который, по всеобщему мнению, живет исключительно настоящим, является городом, где следы прошлого, начиная с тяжких испытаний, выпавших на долю рабов в начале XIX века на какой-нибудь бруклинской ферме, и заканчивая демонстрациями рабочих-иммигрантов на Томпкинс-сквер, находят глубокие и весьма любопытные отголоски.
Атака на Всемирный торговый центр является отправной точкой вступительной части.
Эрик Хомбергер
Глава восьмая. За пределами Манхэттена
А как же остальной Нью-Йорк, «внешние районы», в которых живут еще семь миллионов нью-йоркцев? Перенос внимания на Манхэттен и непропорционально большое внимание, ему уделенное, главным образом отражают мое собственное восприятие города. Но необходимо подчеркнуть, что Нью-Йорк — гораздо больше, чем Манхэттен.
Сотая годовщина создания Большого Нью-Йорка была отмечена целой серией радостных и горестных событий, происходивших в течение всего 1998 года. Случившееся в 1898 году объединение пяти районов — Манхэттена, Стэйтен-Айленда, Бруклина, Куинса и Бронкса — в один город увеличило численность населения новоиспеченного урбанистического монстра до 3,4 млн человек. Таким образом, Нью-Йорк стал вторым по величине городом мира после Лондона.
Бруклин
Вопрос объединения вызвал споры, которые продолжались все 1890-е годы. Тогда, как и сейчас, Бруклин был наиболее своеобразным районом и вызывал наибольшие опасения в смысле целесообразности самой идеи объединения. Взгляните на построенное в новогреческом стиле впечатляющее здание Бруклинского районного управления и на выполненное в стиле «бо ар» здание Бруклинского музея искусств; вы обязательно почувствуете в них дух гражданской гордости жителей района и их уверенность в себе. Это район, для жителей которого характерны крепкие связи между соседями, глубоко укоренившаяся провинциальность и удивительные проявления горячей солидарности. «Бруклин — район изрядной болтовни, — отмечал Джо Флагерти. — В политике они будут голосовать за консерваторов, но в барах станут высказываться о политиках с той же безнравственностью, насмешливостью и вульгарностью, с какими это делал Свифт». Чувство обладания собственной независимой историей и желание поделиться ею с другими является одной из сильных сторон бруклинского патриотизма. До открытия в 1882 году построенного Роублингами моста Бруклин был большим автономным районом, который при жизни одного поколения перешел от сельскохозяйственной экономики маленьких ферм к мощной коммерческой и промышленной. К 1880-м годам Бруклин стал четвертым по величине промышленным городом страны.
Торговая, финансовая и промышленная элита всех пяти районов благосклонно относилась к объединению, но вокруг реализации идеи возникли серьезные проблемы. Расширение города должно было усилить его позицию относительно сельской политической базы республиканцев, которые, как правило, контролировали правительство штата в Олбани. Манхэттен, с его пороками и населением, значительную долю которого составляли евреи и иммигранты-католики, вызывал тревогу у бруклинского протестантского большинства. Политические боссы демократической партии видели в объединении сговор, направленный на то, чтобы лишить их большинства, которое они предполагали получить на выборах в Нью-Йорке. С другой стороны, после многих лет борьбы с навязанным штатом пределом долга для городов, идея объединенного города с почти безграничными возможностями занимать деньги открывала радужные перспективы. Единый город мог лучше финансировать рост экономики и необходимые преобразования. В качестве аргумента сторонники консолидации говорили о более низких налогах, улучшении кредитных рейтингов, более дешевом транспортном сообщении и полном искоренении нищеты, безработицы и вообще всех пороков. С различной степенью энтузиазма избиратели проголосовали на пяти проведенных в 1898 году референдумах «за». В Бруклине сторонники объединения выиграли с минимальным перевесом: менее 300 голосов.
Альтернативой было дальнейшее независимое существование, а значит, и конкуренция между районами. С точки зрения ведущих предпринимателей и влиятельной части городских реформаторов, объединенный город мог сделать возможным то, что одному Нью-Йорку редко удавалось: честно и эффективно управлять городом. История коррупции городских властей, достигшая своего пика после гражданской войны, во времена шайки Твида, была известна всей стране. Марк Твен предположил, что вместо того, чтобы в 1899 году отправлять американскую морскую пехоту на Филиппины с целью оккупации и умиротворения этих островов, лучше было бы направить ее в Нью-Йорк против коррумпированной тирании, управляемой из Таммани-холла. Социальные проблемы Манхэттена, где по оценкам за 1901 год 70 процентов населения проживали в многоквартирных домах, привели к тому, что решимость политической системы, ее гибкость и ресурсы города были почти исчерпаны. Манхэттену требовались доходы Бруклина и других районов от сбора налогов. Промышленники надеялись, что с усилением влияния умеренных деловых кругов и увеличением числа голосов, отданных за республиканцев, появится возможность более эффективно контролировать шумно протестующих бедняков и профсоюзы. Несмотря на широко распространенные опасения, для большинства объединение районов несомненно имело смысл.
Для старомодных патриотов и предававшихся романтическим воспоминаниям мемуаристов Бруклин превратился в Старую Тяжбу, проигранную из-за предательства скверных лидеров и загубленную экономической необходимостью. Они чувствовали, что жизнь в объединенном Нью-Йорке во многом разрушает самобытность «внешних районов». После Второй мировой войны одно почтенное учреждение за другим становилось банкротом. В 1955 году закрылся восхитительный журнал «Бруклин игл». В 1957 году Уолтер О’Малли передал в Лос-Анджелес бейсбольную лицензию «Бруклин доджерс». А в 1966 году была закрыта Бруклинская военно-морская верфь. Для прославленного нью-йоркского журналиста Пита Хэмилла быть бруклинцем значило расти с глубоко засевшим внутри чувством обиды:
Мы рано поняли, что значит терять, потому что были болельщиками «Доджерс».
В конце концов, мы лишились всего. В действительности мы можем показывать на вещи, как это делают европейцы, которые могут ткнуть в 1917 год и заявить, что после него мир изменился. Для нас такой вехой был отъезд «Доджерс», прекращение существования «Бруклин игл» и закрытие военно-морской верфи.
Были и другие аргументы в пользу того, что история несправедливо обошлась с Бруклином и другими районами. В целом же объединенный Нью-Йорк справился со своим ростом и с упадком после Второй мировой войны. А в 1980-х годах город снова стал развиваться и с тех пор сохранял удивительную стабильность. Несмотря на всю богатую специфику его жилых районов, явные классовые и расовые барьеры внутри города и ошеломляющий наплыв иммигрантов в каждый административный район (за исключением Стэйген-Айленда), в экономическом и социальном отношении Нью-Йорк является единым рынком. Процесс, который приобрел новое значение с открытием в 1883 году Бруклинского моста и получил мощный импульс, когда сеть надземной железной дороги вырвалась за пределы Манхэттена, стал необратимым благодаря линиям метро. К 1927 году, когда открылся туннель Холланд, связавший Нижний Манхэттен с Хобокеном Нью-Джерси, имелось уже тринадцать мостов, соединявших Манхэттен с Бруклином, Куинсом и Бронксом. Еще долго после того, как другие чудеса техники привлекли к себе внимание публики и оттянули часть той любви, которой когда-то пользовался Бруклинский мост, нью-йоркские мосты оставались ярким символом поступательного процесса объединения города в единое целое. Новый мост, туннель или линия метро между Манхэттеном и Бруклином или Куинсом влекли за собой строительство жилых домов, магазинов и школ там, где до этого был сельский пейзаж окраины одного из районов. В декабре 1902 года Пенсильванская железная дорога получила право соединить на территории Манхэттена свою западную линию с лонг-айлендской. Так появился ныне бесконечно оплакиваемый нами Пенсильванский вокзал, построенный по проекту Чарльза Ф. Маккима. Экономическая интеграция завершена, а система общественного транспорта, которая находится в ведении управления городского транспорта Нью-Йорка, по праву вызывает восхищение как одна из лучших в мире. Кажутся неубедительными утверждения, что этот процесс и те несомненные выгоды, которые он принес, были бы возможны без объединения пяти районов Нью-Йорка и без создания портового управления (а значит, с гораздо большим числом людей, сидящих за столом переговоров всякий раз, когда необходимо рассмотреть проект новой дороги или линии метро).
Осматривая районы города, туристы начинают с поиска тех специфических достопримечательностей, которые определяют своеобразие района (Кони-Айленд, стадион «Янкиз», Проспект-парк, Гринвудское кладбище), и находят множество других, которые требуют более основательного осмотра: церковь Плимут-черч, которая в конце XIX столетия, вероятно, была самой знаменитой протестантской церковью Америки; Пьерпонт-стрит с ее экстравагантными особняками; Фултон-Молл; Бруклинская музыкальная академия; Бруклинский ботанический сад; хасидский мир Краун-хайтс и арабские рестораны и магазины, выстроившиеся вдоль Атлантик-авеню; реконструированные дома Уиксвилла и «Ры-барню миссис Шталь» на Брайтон-Бич-авеню. В Лонг-Айленд-Сити культурный турист обнаружит музей Ногучи и Центр современного искусства «Пи Эс 1». В районе Астория находится Американский музей фотографии. В Бронксе туристы разыщут Международный парк защиты живой природы, который прежде был известен как зоопарк Бронкса на Фордэм-роуд и Бронкс-Ривер-паркуэй, Вудлонское кладбище, а также парк и дом-музей ван Кортланда. Вспомним также Нью-Йоркский ботанический сад с оранжереей по образцу Хрустального дворца в Лондоне и «Пальмовый дом» в Кью-Гарденз на Южном бульваре в Бронксе.
Маловероятно, что какой-либо из этих районов в будущем сможет всерьез оспорить роль Манхэттена как финансового и культурного центра или самого привлекательного для туристов места Нью-Йорка. Уж слишком тесно переплелась история города с Манхэттеном, чтобы допустить даже мысль о том, что его обгонит другой район. Но после 11 сентября история, вероятно, будет переполнена неожиданностями.
Рекомендуемая литература
Все книги были изданы в Нью-Йорке, если не указано иначе.
A Maritime History of New York. Doubleday, Doran, 1941.
A Secret Location on the Lower East Side: Adventures in Writing 1960—1980 / Eds. Clay Steven, Rodney Phillips. New York Public Library and Granary Books, 1998.
Abbott Berenice. Changing New York. Dutton, 1939.
Anderson Jervis. This Was Harlem. Farrar, Straus and Giroux, 1983.
Auchindoss Louis. J. P. Morgan: The Financier as Collector. Harry N. Abrams, Inc., 1990.
Auchindoss Louis. The Vanderbilt Era. Charles Scribner’s Sons, 1989.
Auletta Ken. The Streets Were Paved with Gold. Random House, 1979.
Beck Louis. New York’s Chinatown: An Historical Presentation of Its People and Places. 1898.
Bercovici Konrad. Around the World in New York. London: Jonathan Cape, 1924.
Black Mary. Old New York in Early Photographs 1853—1901. Dover, 1976.
Boyer M. Christine. Manhattan Manners: Architecture and Style 1850-1906. Rizzoli, 1985.
The New York Stock Exchange: The First 200 Years / Ed. Buck James E. Essex, CT: Greenwich Publishing Co., 1992.
Cahan Abraham. The Education of Abraham Cahan / Trans. Leon Stein, Abraham P. Conan, Lynn Davison, with an Introduction by Leon Stein. Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 1969.
Caro Robert A. The Power Broker: Robert Moses and the Fall of New York. Knopf, 1974.
Charyn Jerome. Metropolis: New York as Myth, Marketplace, and Magical Land. Putnam, 1986.
Cohn Nik. Heart of the World. Alfred A. Knopf, 1991.
Cornog Evan W. To Give Character to Our City: New York’s City Hall // New York History. October 1988. 69. P. 389—423.
Davis Allen F. Spearheads for Reform: The Social Settlements and the Progressive Movement 1890—1914. Oxford University Press, 1967.
Delaney Edmund T., Charles Lockwood, George Roos. Greenwich Village: A Photographic Guide. Dover, 1976.
Dickens Charles. American Notes for General Circulation. Harmondsworth: Penguin Books, 1972.
Fifth Avenue, 1911, From Start to Finish in Historic Block-by-Block Photographs / Ed. Gray Christopher. Dover, 1994.
Gilmartin Gregory. Shaping the City: New York and the Municipal Art Society. Clarkson Potter, 1995.
Glazer Nathan, Daniel Patrick Moynihan. Beyond the Melting Pot. Cambridge, MA: The MIT Press, 1970.
Goldberger Paul. The City Observed: New York. Vintage Books, 1979.
Grandma Never Lived in America: The New Journalism of Abraham Cahan / Ed. Rischin Moses. Bloomington: Indiana University Press, 1985.
Green Martin. New York 1913: The Armory Show and the Paterson Strike Pageant. Scribners, 1988.
Greenwich Village: Culture and Counter-Culture / Eds. Beard Rick, Leslie Cohen Berlowitz. New Brunswick: Rutgers University Press for The Museum of the City of New York, 1993.
Gutman Judith Mara. Lewis Nine and the American Social Conscience. Walker & Co., 1967. Hamlin Talbot. Greek Revival Architecture in America. Oxford University Press, 1944; reissued Dover, 1964.
Hapgood Hutchins. The Spirit of the Ghetto. Funk & Wagnalls, 1902.
Hartman Sadakichi. Critical Modernist: Collected Art Writings / Ed. Jane Calhoun Weaver. University of California Press, 1991.
Heckscher August. Alive in the City: Memoir of an ExCommissioner. Charles Scribners Sons, 1974.
Hodges Graham Russell. Root & Branch: African Americans in New York & East Jersey 1613—1863. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1999.
Homberger Eric. The Historical Atlas of New York City. Henry Holt, 1994.
Howe Irving. World of Our Fathers. Simon & Schuster, 1976.
Huxtable Ada Louise. Classic New York. Anchor, 1964.
Inventing Times Square: Commerce and Culture at the Crossroads of the World Taylor / Ed. William R. Johns Hopkins University Press, 1996.
James Henry. The American Scene. 1907.
Janvier Thomas. In Old New York. Harper & Brothers, 1894; reissued with an introduction by Edwin G. Burrows, St. Martins Press, 2000.
Johnson James Weldon. Black Manhattan. Atheneum 1972.
Kasinitz Philip. Caribbean New York: Black Immigrants and the Politics of Race. Ithaca: Cornell University Press, 1992.
Koolhaus Rem. Delirious New York. Oxford University Press, 1978.
Kouwenhoven John A. The Columbia Historical Portrait of New York. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1953.
Lazarus Emma. Poems by Emma Lazarus, with a Biographical Sketch by Josephine Lazarus. Boston: Houghton Mifflin, 1888.
Lin Jan. Reconstructing Chinatown: Ethnic Enclave, Global Change. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1998.
Lockwood Charles. Manhattan Moves Uptown: An Illustrated History. Boston: Houghton Mifflin, 1976.
Maffi Mario. Gateway to the Promised Land: Ethnic Cultures on New York’s Lower East Side. Atlanta: Rodopi, 1994.
Morris Lloyd. Incredible New York: High Life and Low Life of the Last Hundred Yars. Random House, 1951.
New York Panorama: A Companion to the WPA Guide to New York City. Pantheon, 1984.
Osojcky Gilbert. Harlem: The Making of Ghetto. Harper & Row, 1963.
Photographed by Christopher Little. Abbetffle Press, 1985.
Places. Bohemia Publishing Co, 1898.
Report of the Council of Hygiene and Public Health of the Citizens’ Association of New York upon the Sanitary Condition of the City. Appieton, 1865.
Rils Jacob. How the Other Half Lives. Scribner, 1889.
Sanders Ronald. The Lower East Side: A Guide to Its Jewish Past with 99 New Photographs I Photographs by Edmund V. Gillon Jr. Dover, 1979.
Silver Nathan. Lost New York. Boston: Houghton Mifflin, 1967.
Simon Kate. Fifth Avenue: A Very Social History. Harcourt Brace Jovanovich, 1978.
Smith Thomas E. V. The City of New York in the Year of Washington’s Inauguration 1789. Anson D. Riverside, CT: Chatham Press, 1972.
Spann Edward K. The New Metropolis: New York City 1840—1857. Columbia University Press, 1981.
Stern Robert А. М., Gregory Gilmartin, John Montague Massengale. New York 1900: Metropolitan Architecture and Urbanism 1890—1915. Rizzoli, 1983.
Stokes I. N. Phelps. The Iconography of Manhattan Island. Robert H. Dodd, 1915.
Tauranac John. Elegant New York The Builders and the Buildings 1885—1915. Abbeville Press, 1985.
Tax Meredith. Rivington Street. William Morrow, 1982.
The Crisis Reader. Stories, Poetry, and Essays from the N.A.A.C.P.’s Crisis Magazine / Ed. Sondra Kathryn. Random House, 1999.
The Encyclopedia of New York City / Ed. Jackson Kenneth T. Yale University Press, 1995.
The Old East Side / Ed. Hindus Milton. Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 1969.
Tomkins Calvin. Merchants and Masterpieces: The Story of the Metropolitan Museum. Henry Holt, 1989.
Trachtenberg Marvin. The Statue of Liberty. London: Allen Lane, 1974.
Van Rensselaer, Mariana Griswold. Accent as Well as Broad Effects: Writings on Architecture, Landscape and the Environment, 1876—1925. Berkeley. University of California Press, 1996.
Voices from the Harlem Renaissance / Ed. Huggins Nathan Irvin. Oxford University Press, 1976.
Ware Caroline E. Greenwich Village 1920—1930. A Comment on American Civilization in the Post-War Years. Boston: Houghton Mifflin, 1935.
Watson Steven. Strange Bedfellows: The First American Avant-Garde. Abbeville Press, 1991.
Watson Steven. The Harlem Renaissance: Hub of African-American Culture, 1920—1930. Pantheon, 1995.
Weisser Michael R. A Brotherhood of Memory: Jewish landsmannshaftn in the New World. Harper & Row, 1986.
Wharton Edith. A Backward Glance. Appleton Century, 1934.
Wharton Edith. Old New York. Scribners Sons, 1924.
Wharton Edith. The Age of Innocence. Scribners Sons, 1920.
White Norval, Willensky Elliot. AIA Guide to New York City.
Three Rivers Press, 2000.
Беллетристика, автобиографии и воспоминания о жизни эмигрантов в Нью-Йорке
Asch Scholom. East River. 1948.
Asch Scholom. Uncle Moses. 1922.
Bullard Arthur. Comrade Yetta. 1913.
Cahan Abraham. The Imported Bridegroom and other Stories of the New York Ghetto. 1898.
Cahan Abraham. The Rise of David Levinsky. 1917.
Cahan Abraham. Yekl. 1896.
Cohen Hyman, Cohen Lester. Aaron Traum. 1930.
Cohen Rose. Out of the Shadow. 1918.
Colon Jesus. A Puerto Rican in New York and Other Sketches. 1961.
Crane Stephen. Maggie: A Girl of the Streets. 1893.
Di Donato Pietro. Naked Author. 1970.
Fuchs Daniel. Homage to Blenholt. 1936.
Fuchs Daniel. Law Company. 1937.
Fuchs Daniel. Summer in Williamsburg. 1934.
Ganz Marie. Rebels: Into Anarchy — And Out Again. 1919.
Gazzo Michael. V. A Hatful of Rain. 1956.
Gold Michael. Jews Without Money. 1930.
Goldman Emma. Living My Life. 1931.
Gompers Samuel. Seventy Years of Life and Labor. 1925.
Hijuelos Oscar. The Mambo Kings Play Songs of Love. 1991.
Kohut Rebekah. My Portion: An Autobiography. 1925.
Lewisohn Ludwig. Mid-Channel An American Chronicle. 1929.
Lewisohn Ludwig. Upstream: An American Chronicle. 1922.
Mohr Nicholasa. In Nueva York. 1977.
Nichols Anne. Abbie’s Irish Rose. 1927.
Ornitz Samuel. Haunch, Paunch and Jowl. 1923.
Poole Ernest. The Voice of the Street. 1906.
ReznikoJJ Charles. Family Chronicle. 1929.
Riis Jacob. Making of an American. 1901.
Riis Jacob. Out of Mulberry Street. 1898.
Roskolenko Henry. The Time That Was Then: The Lower East Side 1900—1913 — An Intimate Cronicle. 1971.
Roth Henry. Call It Sleep. 1934.
Soto Pedro Juan. Spiks. 1956.
Suhl Yuri. One Foot in America. 1950.
Sullivan James. Tenement Tales of New York. 1895.
Techla Georg. Drei Jahre in New York. 1862.
Vetter Christoph. Zwei Jahre in New York. 1849.
Yezierska Anzia. Bread Givers. 1925.
Yezierska Anzia. Children of Loneliness. 1923.
Yezierska Anzia. Hungry Hearts. 1920.
Yezierska Anzia. Red Ribbon on a White Horse. 1950.
Yezierska Anzia. Salome of the Tenements. 1922.
Последние комментарии
1 день 13 часов назад
1 день 17 часов назад
1 день 19 часов назад
1 день 20 часов назад
1 день 21 часов назад
1 день 22 часов назад