ХОЛОДНЫЙ ПУТЬ К СТАРОСТИ
ПРЕДИСЛОВИЕ
У каждого найдется хотя бы одна история, которая, как птенчик внутри яйца, мечется в голове, стремясь разбить твердую скорлупу самоограничений и вырваться наружу. Видимо, поэтому старики, не дождавшись добровольного слушателя, рассказывают байки тому, кто попадется. Мучается их слушатель, а деваться некуда. Уважай старость. Хоть не стар я, есть и у меня история, связанная с жизнью маленького нефтяного города, возникшего на Крайнем Севере Сибири так быстро, как спешно слетается стая голодных птиц к туше, выброшенного на берег богатого мясом кита. История эта произошла в самый интересный период развития России, в самый уникальный ее период, единственный в истории цивилизации, когда у мизерной части общества появилась возможность быстро поделить и разворовать общественную собственность, созданную десятилетиями упорного труда миллионов людей, несколькими поколениями тружеников страны Советов. Такого никогда не было и вряд ли такое повторится.
Не хотелось бы, чтобы эта история умерла вместе с сиюминутными газетами, где была опубликована. Не хотелось бы, чтобы эта история осталась невысказанной, как истории многих людей, которые так долго тянули с рассказами, что замолчали навечно под неглубоким слоем земли. Сомнения, самоограничение, самопринижение гробят многие начинания. Сколько людей стало тенями вместе со своими сокровенными мечтами?! Люди невероятно уязвимы, непредсказуемо не вечны, но безнадежны в слепой вере в долгую жизнь, чуть ли не в бессмертие.
Что ж так зачастую и бывает: будущее не обрывается резко, и некоторые люди, знающие слишком много, растут в должности, получают хорошие зарплаты наперекор убеждению, что их вот-вот должны посадить в тюремные камеры или отправить в уголовные колонии. Но как бы не складывалась жизнь, крест получит каждый, поэтому скорее в путь по строчкам и делам, ибо, как сказал поэт маленького нефтяного города Женя Рифмоплетов:
Окончен год. Что в нем случилось,
Что волновало, как жилось?
Не много ярких получилось
Заметок. Время пронеслось,
По большей части ускользнуло
И кануло невесть куда,
Лишь только дни звездой сверкнули,
Недели стерлись без следа.
Из года получился месяц,
Ну, может, два, не в этом суть.
Все любят о грядущем грезить,
Но не спешат пуститься в путь.
Поэтому цени мгновенье
И каждый шанс «тряхнуть костьми».
Скучно костра скупое тленье,
Но манят жаркие огни.
Я с первого прочтения этого стихотворения Рифмоплетова сразу понял, что он имел в виду не год, а всю жизнь. Но обратимся к нашему герою, который уже родился и пожил в небольшом поселке на юге Сибири…
СТУК
«Часто причина конфликтов достойна только улыбки…»

Приятно холодными вечерами попивать горячий душистый чай вприкуску с рассыпчатым печеньем. Федор, худощавый мужчина лет сорока с едкими, как кислота, глазами, сидел за этим занятием на кухне и предавался бездумному, но приятному смотрению в темное окно, за которым осень в свете фонарей расправлялась с пожелтевшей листвой. Тишина нарушалась только порывистым дыханием ветра и аппетитным чмоканьем хозяев.
В углах губ Федора прилипли белесые крошки. На лбу блестела испарина. Он совершенно осоловел от норовистого кипятка и гипнотического вида высеченных рамами картин засыпающей природы. Его жена, вечно веселая и улыбчивая Маруся, тоже пребывала в весьма задумчивом настроении, как вдруг раздался стук в дверь, да такой, что хозяева вздрогнули.
В прихожей под тусклой грушевидной лампочкой, покрытой паутиной и пылью, стоял сосед, Мирон, к которому Федор не испытывал никаких чувств, просто знал, что живет таковой во второй половине кирпичного поселкового дома на двух хозяев, регулярно здоровался с ним и все. Чрезмерно выпуклые соседские глазки недоброжелательно поблескивали.
– Извиняюсь за поздний визит, но мы всегда ложимся спать в десять, нам и завтра рано вставать, а вы нам спать не даете. Прошу не стучать, – сказал незваный, нежданный гость.
– Я и не стучу, – удивленно ответил Федор и укоризненно усмехнулся.
– Ладно, сосед, брось отпираться. С твоей стороны стук идет. Что мастеришь-то?
– Серьезно говорю. Сидели, чай пили.
– Быть такого не может. Будто кто гвозди вгоняет…
– Заходи. Убедись…
Мужики прошли в комнату, смежную с соседской. Средь скудной обстановки и беленых стен ничего подозрительного. Более того: в кроватке лежал примерно двухлетний малыш, олицетворение мира и счастья, и весело на них поглядывал.
– Может, он стучит? – спросил Мирон.
– Перебор, сосед. Он спать лег, все игрушки из кроватки убрали. Может, домовой? – Федор попытался перевести разговор в юмористический жанр.
Мирон не верил в домовых. Он в крайне противоречивых чувствах вернулся домой, где попал под ураганное соло жены, имевшей истинно скандальный характер и жаждавшей отмщения и победы:
– Как не стучат?! А кто же долбится каждый вечер?! Может, они мебель собирают и продают налево!!! Ишь теневая экономика! Деньги заколачивают так, что эхо в голове летает! Ненасытные мошны…
На следующий день состоялась вторая встреча Федора с Мироном по поводу стуков, и через день… По прошествии недели Мирон вернулся от Федора немного побитый, а поскольку у него вся родня до десятого колена подрабатывала на стуках в разные организации и не терпела, когда ее перестукивали, он с порога жене заявил:
– Раз он так, то мы его эдак! Скоро в поселке новый дом сдают – пятиэтажный! Может, удастся квартирку выбить. Федор за каждый мой синяк два получит. Садись, мать, письмо сочинять будем.
Шарик авторучки заскользил по бумаге, оставляя следы:
«Помогите. Соседи – изверги совершенно. По вечерам что-то мастерят и втайне продают. Стучат так, что заснуть невозможно от представления, сколько денег они бездележно хапают. Нам обидно за государство, которое налогов лишают (в этом месте Мирон подмигнул супруге и сказал: «Надо ежа под зад чиновникам подложить, чтобы лучше старались»). Если правоохранительные органы не могут оградить нас от посягательств (в этом месте Мирон хохотнул и объяснил: «И стоимость нашей жалобы укажем для острастки, может, выгорит»), то просим новую квартиру взамен старой, потому как совсем извелись».
Письмо Мирон отнес в соответствующую инстанцию, зарегистрировал и для пущего эффекта стал регулярно туда названивать. А там дисциплина: коль есть настойчивое обращение, от которого не избавиться, значит, разбираться надо…
Федора с супругой принялись донимать комиссии: и уровень шума замерили, и кладовку обыскали в поисках инструмента, и сарай обшарили в поисках непроданного товара… И вот уже Федор с Марусей вечерами не горячий чай пили, а рюмку-другую самогонки, чтобы достойно пережить визиты соседа с сотрудниками милиции, приезжавшими регулярно по его звонку о стуках…
– Иди, открывай, опять в дверь барабанят, – сказала Маруся, затянув покрепче узелок узорчатого платка, который она зачем-то стала надевать по вечерам.
Федор пошел к двери, как провинившийся сын к отцу. Открыл. Никаких неожиданностей: служивые в форме и с оружием. Привычно заломили руки за спину и уткнули лицом в тряпку у порога, которую хозяева предусмотрительно стирали каждый день, готовясь к обыску. Марусю отодвинули в сторону. И вся серо-зеленая погонная братия, распространяя запах пропотевших заношенных одежд, деловито разбежалась по комнатам. Следом, сцепив руки за спиной, зашел Мирон. На его голове явно не хватало треуголки.
– Лучше, лучше ищите. Здесь стучит.
С улицы раздался визгливый женский голосок:
– Все переройте, но найдите, где эта нехристь мешки с деньгами прячет.
Командир склонился над Федором и спросил:
– Может, сам покажешь?
– Ничего у меня нет. Не стучу я. Осторожнее, прошу. Ребенка не напугайте, – попросил Федор.
– Дитятком прикрывается! – каркнул Мирон.
Милиционеры прошли в комнату. Малыш сидел на кровати и весело на них поглядывал. Олицетворение мира и счастья… и опять никаких предметов, которыми можно было стучать, ни пыли, ни опилок, ни готовой мебели, ни денег. Милиционеры, как обычно, направились к выходу. Мирон, потирая подбородок, выскочил из квартиры Федора один из первых, опасаясь остаться один на один. Командир, прощаясь с хозяевами, незаметно показал пальцем на Мирона и затем покрутил этим же пальцем у виска…
Доверие к звонкам о стуках постепенно убавлялось, а в инстанциях, вспоминая Мирона, стучали костяшками пальцев по деревяшке… Но как-то служивые в очередной раз зашли в квартиру Федора, по привычке крутя у висков за спиной Мирона, необычно осторожно открыли дверь, где благоденствовал малыш… и до них донесся тот самый стук. Глядь, а малыш стоит на четвереньках в кроватке и «бац!» в стену своей головой, будто боднул. Благо, что стены деревянные.
– Что же ты делаешь, золотко?! – дружно выдохнули все: и служивые, и Мирон, и Федор с Марусей.
Малыш присел, взглянул на вошедших завораживающими карими глазами и обезоруживающе заулыбался, как умеют улыбаться только дети…
***
Это и есть наш герой, не Федор, как могло показаться вначале, а малыш. Звали его Алик. Он играл, исследовал мир. «Что, глупенькие, обиделись? Я вам помог ощутить жизнь по-новому, а вам бы головы в песок и жить в своем песочном мире, пока сами песком не станете. Не буду больше стучать. Пейте свой чай с мягким сахарным печеньем, смотрите в окно, как в экран, ложитесь спать в десять, словно раз и навсегда заведенные автоматы…», – возможно, так думал малыш, а может, и ничего не думал.
ЖИВАЯ СТИХИЯ
«Случайности – это подсказки судьбы, по которым можно просчитать будущее»
Любопытство упрямо тянуло его затронуть опасный предмет, нажать не на ту кнопку. Еще в детстве под Новый год он пролез под елкой к розетке, чтобы проверить, отчего мигают гирлянды. Ударило током, но это его мало чему научило. Позднее при увлечении сборкой радиосхем, когда он блаженствовал от запаха плотных дымов канифоли и блеска расплавленного припоя, его било током и от ламповых телевизоров и приемников. Собака первый раз его укусила, когда он из отчаянной веселости встрял в игру между двумя домашними овчарками и вырвал мяч прямо из пасти. С той поры псы любых пород угрожающе смотрели на него, словно помнили. Деду, своему любимому деду, на приветствие «Здорово, внучок!» высказал как-то, из желания рассмешить, подслушанную в детском саду рифмованную фразу: «Здорово, корова!!!» Дед, к его удивлению, не восхитился его остроумием и не развеселился, а обиделся, но спустя час простил своего несмышленого внука после его обильных извинений.
Алик никому не желал зла, но зло, таящееся в душах самых добрейших людей, думало иначе. Дикая череда невероятных совпадений исконопатили его жизнь мелкими пятнышками дружеских обид, потому что, если кому-то и пришлось хлебнуть горя от его неистребимых огненных действий, так это ему самому и его близким.
Если в бездумном детстве в шутку кидались камнями, так хороший булыжник прилетал ему обязательно. Один раз камень так сильно рассек бровь, что ребята всем двором повели его к дворцу культуры, где в тени скрытных, густо поросших иголками елей из ниши в усыпанной мраморной крошкой стене торчал кусок трубы. Кровь омыли, приложили тополиный лист и отвели Алика домой.
Другой раз, когда спешно закидывали чем придется костер, разведенный в подвальном углублении рядом с домом, Алик спрыгнул вниз, чтобы затоптать пламя, и ему на голову упал целый кирпич, в панике скинутый вниз его другом. Опять кровь. Ну а если камень подкидывали вверх и кричали: «На кого бог пошлет!» – то и не надо было гадать, на кого он упадет.
Алик не оставался в долгу у случая: один раз так сильно расколотил голову своему однокласснику, что тот слег на больничную койку. И опять никакого злого намерения. Компания детей кидала крышку от кастрюли, уподобляясь метателям диска, а то и индейцам из племени Большого Бумеранга. Одноклассник упрямо сидел в вероятной зоне приземления крышки и, несмотря на уговоры, не желал двигаться с места. «В меня она не попадет», – говорил он, копаясь в куче песка. Его ожидания оправдывались, пока за крышку не взялся Алик. Нет, он не целился. Скорее наоборот. Большая стальная крышка взлетела, как летающая тарелка, на мгновенье зависла, почти исчезнув на фоне солнечного голубого неба, как бы размышляя, куда приземлиться, и упала точнехонько на голову одноклассника, причем не ребром, а так, как закрывают кастрюлю – плашмя, как в наказание за игры со случаем. Зло как будто охотилось за ним…
Он превратился бы в бедственного пессимиста, если бы не богатая фантазия: если бы она не просеивала окружающий мир, оставляя лишь лучшие его зерна для внутреннего зрения, не уводила прочь от реальности, прочь от повседневных проблем в спасительный рай иллюзий. «Ты не приспособлен к жизни», – говорили ему умудренные жизнью родственники, а ему было все равно: в его душе сэр Найджел радостно шел в последний бой с французскими рыцарями, а везучий бригадир Жерар быстро шевелил извилинами мозга, раздумывая, как улизнуть от поймавших его бандитов. Алик всем сердцем любил гениального фанатика Гарина и мечтал изобрести гиперболоид. Он искренне сочувствовал капитану Немо. Его увлекала судьба инженера Лося, улетевшего на Марс и нашедшего там свою возлюбленную, Аэлиту, и наш герой испытывал безумную тоску, когда Лось возвращался домой, расставшись с Аэлитой навсегда. Он со страхом заглядывал в пещеру Голубого Джона, грезил о кратере Циолковского, всем телом ощущал тяжесть свинцового дождя Второй мировой войны и чувствовал себя просто великолепно на таинственном острове, где царствовали крепкая дружба и приключения…
Но человек слишком многое забывает из прошлого своей жизни уже к окончанию школы.
***
Говорят: время бежит. Почему бежит? У него нет ног. Говорят: время течет. Почему течет, если не слышно журчания? Видимо, время настолько сложно, что его действиям нет определения в языке. Мы сравниваем его с известными объектами и придаем времени свойства этих объектов. А почему нельзя сказать просто: время – это чередование восходов и закатов, цветенья и увяданья, белого и черного. Так вот: много раз набухали почки, появлялась свежая зелень трав и листвы, много раз эта трава жухла, а листья желтели и опадали, прежде чем закончилось детство – и не на всей планете разом, где оно никогда не кончалось, а просто переходило, как эстафетная палочка, от одного поколения к другому, а в одном единственном сердце, которое и является центром нашего повествования, хотя порой будет казаться иначе.
…Горькая попытка заново посмотреть понравившуюся в детстве сказку – и, о горе (!), прозрение: «Детство ушло окончательно не только как возраст, но и как понимание и восприятие». Следом упали в копилку забвения летающие указки директора школы, которыми он лупил сорванцов наотмашь, тоскливо-завистливый, из-за неумения танцевать, школьный вальс выпускного вечера, широкие, как капустные листья, шницеля студенческой столовой, игры в кости с преподавателем на зачет, чайно-персиковый сочинский студенческий стройотряд…
Надо быть закостенелым занудой, чтобы угробить на зубрежку золотые учебные деньки и не превратить их в оазис жизни на листах сухой прозы судьбы. Сон, выпивка и любовь – три неофициальных, но самых любимых предмета, которые за время учебы надо изучить в совершенстве, так как потом может не быть такого занимательного общества, да и времени… а время как камень, безудержно катящийся по бесконечному нисходящему склону.
В магазинах раскупались продукты и завозились новые. Столы накрывались, остатки пищи выносились на мусорные контейнеры. Жизнь возникала в родильных палатах и исчезала в могильных ямах так быстро, что многие дети не успевали помириться с отцами, а внуки наговориться с дедами и после их всегда внезапной смерти несли невысказанные диалоги в своих опустошенных душах… Алик не любил смерть во всех ее обличьях, он не любил даже прощаться с любимыми людьми после их смерти. Он стремился к жизни…
БОЛЬНИЧНЫЙ
«Для поддержания интереса к жизни годятся все способы, кроме тех, которые портят жизнь другим».

В скучной неторопливой очереди к терапевту сидел и тихо страдал Алик, непонятного возраста спортивный мужчина, при обращении к которому даже люди моложе его всегда говорили: «Молодой человек…». Его тяготило крайне ущербное душевно-телесное состояние. Пот собирался под шапкой угольных волос, скользил по лбу, исчезал, как дождь в скошенной пшенице, в густых бровях, оттого все более жирно блестевших, в них он накапливался, как в губке, а затем катился дальше на переносицу. Как только это происходило, Алик доставал из бокового брючного кармана скомканный носовой платок в цветочек, который запасливо прихватил, и обреченно утирался.
Привело нашего героя к кабинету терапевта желание взять справку о нетрудоспособности, в простонародье «больничный лист», и отдохнуть от работы. У него иногда наступало состояние, когда он не мог без неприязни смотреть на лица сослуживцев и на свое рабочее место. Тогда он прибегал к старому, не дававшему осечки способу, о котором ему поведал хороший знакомый за рублевым комплексным обедом:
– … Жена недавно грипп подхватила и собралась к терапевту. Я говорю: «Постой. Вместе пойдем». Она: «Ты ж не болен». Я: «Не переживай». Взял два горчичника, замочил их и наклеил себе на стопы. Поверх горчичников натянул полиэтиленовые пакеты, следом – носки. И мы пошли. Это средство я давно проверил. Температура через полчаса минимум тридцать семь с половиной, но тут все зависит от качества горчичников и от того, на какой участок тела их положить. У меня хорошо стопы реагируют, у других бедра… – надо пробовать. Эффект такой, что и насморк, и давление… и представляешь: мне, здоровому, дали больничный, а больной жене – нет! Я долго смеялся…
Чтобы не обмишуриться, Алик постоянно ставил горчичники одновременно и на стопы, и на бедра. После такой процедуры с мест, где стояли горчичники, обычно слезала кожа, как от сильного ожога, но она казалась вполне разумной платой за выходные. Вот только имелась в этой процедуре одна маленькая проблемка, о которой его знакомый почему-то умолчал: горчичники издавали запах, невзирая на полиэтиленовую изоляцию. Алик всегда опасался, что когда-то попадется врач, знающий такие фокусы, и, учуяв горчичный дух, образно говоря, пнет его из кабинета, Тогда шматки обожженной кожи будут ох как обидны, как и внушение начальства за опоздание на работу.
Поэтому не телесный жар волновал Алика и даже не то, что нестерпимо жгло стопы и бедра и он вертелся на скрипящем сиденье буквально, как тонко нарезанный картофель в кипящем масле, – его волновало вероятное разоблачение. Он изредка нагибался к коленям и принюхивался, что со стороны вполне походило на корчи крепко больного человека, и опять сиденье под ним скрипело, отправляя по коридору скудную симфонию его трагедии.
Алик был здоров и потому изредка с опаской поглядывал на шмыгающих носами, чихающих и кашляющих старушек, старичков и других препонных пациентов, сидевших впереди него по очереди.
«Как назло привалили. Некстати, – размышлял Алик. – Ведь, не дай бог, заразу подхвачу и вместо недели, проведенной на лыжне, получу унылое прозябание в квартире». Чтобы отвлечься от боли, пожиравшей его бедра, он опускал на них ладони и легонько поглаживал, почесывал. Старушки сердобольно поглядывали на него, сочувственно покачивали головами и опасливо скользили по сиденьям подальше.
«Боятся! Думают, что у меня чесотка, – оценил Алик. – Эх, слышно шуршание полиэтилена. Что ж, не могут нормальные пакеты выпускать?…»
Благо, что в долгой очереди есть что посмотреть и послушать, и отвлечься от своих несчастий.
Лишь только из кабинета врача вышла задумчивая старушка с бумажкой в трясущейся руке, как к входу в кабинет, мигом набрав спринтерские скорости, устремились одновременно мужчина и вполне приятная женщина. Мужчина оказался быстрее и пронырливее. Приятная женщина, нервно подергивая веками, остановилась возле закрывшейся двери. В этот момент, весьма кстати для заскучавшего болеющего общества, из кабинета появилась медсестра.
– Это что такое?! Почему мужчина без очереди? Я тут с восьми утра, он позднее, а заскочил вперед, – резанула словом очередница, женщина вполне приятной наружности.
– Он по талону, – невозмутимо, как автоответчик, откликнулась медсестра.
– А женщина, что перед ним, тоже заходила к вам без очереди, – напомнила очередница.
– Не надо было пропускать, – упрекнула медсестра
– Так вы же сами ее вызвали… – начала повышать голос очередница.
Медсестра исчезла за дверью, а по коридору полетели разговоры:
– Еще и знакомых пропускают.
– Здесь пока достоишься, так грипп и сифилис подхватишь, а ведь мне только давление измерить.
– Я видел, как она занесла еще четыре карточки. Сейчас знакомые подойдут.
– Эх, лучше водки с перцем выпить, чем тут сидеть…
– Что-то долго.
– Она слушает. Долго слушает…
«Что ни бабка – то минут двадцать!» – мысленно добавил Алик, вытирая пот с лица.
Он уже бессознательно покачивался, все сильнее тер ноги, стараясь унять жар на бедрах, и чувствовал: еще немного, и он либо завоет, как собака, либо встанет и уйдет из поликлиники, совсем уйдет и будь что будет за прогул, либо отключится от реальности и упадет прямо на пол. Тут кто-то постучал по плечу. Алик повернулся. На него смотрела старушка, на сморщившемся от времени лице которой застыла печать болезненной грусти, но в глазах светилась жалость не к себе, а явно к нему, к Алику.
– Молодой человек, сердце разрывается, глядя на вас, – сказала она. – Заходите без очереди вперед меня. Да и остальные не звери, небось.
– Так столько еще… – начал было Алик, как его оборвала сочувственная разновозрастная разноголосица, полетевшая со всех сторон. Мол, заходите, мы подождем, раз вы так страдаете. Алик изнемогши поблагодарил всех, а в душе расхохотался: «Надо же до чего дело дошло. Больные здоровому очередь уступают. Даже неуступчивые старушки разжалобились. Видать, хорошие горчичники попались».
На такую наглость, как в этот раз, Алик решился впервые: он собирался получить больничный у терапевта не со своего участка. Из-за повального воздействия вируса его предпенсионная бесконечно добрая докторша, чьей сердечностью он неоднократно пользовался и даже привык к этому, сама заболела. Это выяснилось уже в регистратуре. Алик предполагал, что на выдачу больничных листов у врачей имеется норма, которую превышать нельзя, что к чужим больным они предельно строги, но не возвращаться же – постыдно.
«Зато, если получится, – вдохновлял он себя, – будет суперпобеда. Это как экзамен горчичному средству».
Дверь в кабинет открылась. Вышло нечто больное, чему Алик не уделил внимания. Он устремился к белым халатам, светлым, как лик ангела в черной космической бездне, и плюхнулся на стул. Терапевтом оказалась средних лет фигуристая женщина с насмешливыми глазами.
«Попался», – подумал Алик и замер с градусником под мышкой.
– На что жалуетесь? – спросила врач.
Симптомы простуды Алик знал наизусть, он рассказал их четко, как пионерскую клятву на линейке, но, когда врач приблизила к глазам стеклянную палочку градусника, занервничал.
– Тридцать семь и восемь, – сказала врач медсестре.
«Слава богу, сработали горчичники. Рубеж преодолен, – подумал Алик. – Никуда не денется – больничный даст».
– Откройте рот, – попросила врач и придавила язык Алика металлической ложечкой, придавила еще раз, что-то высматривая… В конце концов откинулась на спинку стула и скептически выдохнула:
– Ничего не понимаю: температура есть, а горло чистое, насморка нет…
Алик бы побледнел, если бы его ноги не грызли горчичники до легкого помутнения рассудка и непрошибаемого покраснения лица. В этот раз насморк действительно почему-то не появился. Тем временем врач измерила его давление…
– Ничего не пойму. Температура есть, давление повышенное, но никаких признаков простуды, – озадаченно произнесла служительница медицинской змеи…
Внезапно Алик почувствовал теплый резковатый запах горчицы, он горестно выдохнул, кашлянул, будто бы от болезни, надеясь отогнать невидимого предателя прочь, но горчичный запах, как назло усиливался. Врач беспокойно заводила носом, Алик закашлялся, склонил голову, якобы от усталости, но с намерением скрыть правду в своих глазах…
В кабинет вошла санитарка с ведром, полным воды, в одной руке и со шваброй – в другой.
– Отдохните, доктор, от больных передыху не будет, только стоны и болячки. Вон сколь грязи натаскали, как верблюды. Идите чайку попейте, а я вам уборочку сделаю, – сказала она.
– Что же с вами делать? – растерялась врач, принюхиваясь и не обращая внимания на санитарку. – И чем это пахнет?
Только въедливая заводила носом, как запах горчицы исчез. Резко пахнуло хлоркой.
«Из ведра», – понял Алик и первый раз в жизни перекрестился, мысленно.
Тем временем санитарка по-хозяйски запустила швабру под стол и принялась усердно тереть пол, задевая мокрой тряпкой ноги, как бы поторапливая.
– Ладно, выпишу вам больничный на три дня, а там посмотрим, – сказала въедливая, и Алик расслабился…
Он вышел из кабинета медленно, слегка пошатываясь, играя на милостивую публику, сдерживая внутри воздушные шары победного триумфа, но едва завернул за угол, как резко ускорил шаг и нырнул в приветливо открытый служебный туалет. Там, только шпингалет попал в паз, он снял брюки, сорвал с бедер полиэтиленовые пакеты и принялся ласково снимать почти приварившиеся к коже горчичники.
«Как хорошо! Разве это цена за свободу?!», – всей душой промычал он, когда раскрасневшиеся прямоугольники на ногах соприкоснулись с прохладным воздухом.
КЛЮЧ
«Жизнь – это ряд запертых дверей, которые надо научиться открывать»

Как быть на работе и в то же время не быть? К решению этой, почти гамлетовской проблемы Алик приступил, войдя в период повальной влюбленности, когда молодого мужчину неосознанно разом влечет ко всем молодым женщинам настолько сильно, что каждая вечерняя встреча кажется судьбой, пьянит и возбуждает, надолго остается в памяти, но с наступлением дня, следующего или последующего, в любом случае не такого отдаленного, остается еще одной картинкой в коллекции.
Больничные листы, не вызывая подозрений, удавалось брать не чаще, чем раз в квартал. Алику остро не хватало времени на свидания, а работа такая, что сделанного начальству не казалось много никогда. Научно-исследовательский институт, где Алик работал, грешил неудачными экспериментами, неэффективными научными направлениями, но держался на плаву благодаря деньгам, которые в пору социалистического хозяйствования на каждом предприятии целенаправленно выделялись на внедрение научных разработок.
Науку продвигать – не кирпичи класть. Это Алик понял быстро. Интеллектуальный труд в кубах не измеришь, поэтому возможность ничего не делать и прогуливать существовала. Вот только если стоишь напротив чертежной доски или какого-нибудь агрегата, глубокомысленно, хоть и безрезультатно нахмурив лоб, то никто слова не скажет, а если нет на рабочем месте…
Интеллектуальная публика порой очень ревнива к успехам ближайших коллег, в чем бы они ни выражались, поскольку чужие удачи указывают на собственное глубокое место в жизни. Даже глядя на счастливые лица, многие испытывают неприязнь, что говорить о прогулах сослуживцев? Если бы деньги давались просто так, как возможность дышать воздухом, то мало кто ходил бы на работу или службу. Всем хочется и получать, и отдыхать, но редко у кого это получается. А если кто-то… Тут каждый следит друг за другом и если не докладывает кому надо, то томится. Было чего опасаться, и все же возможность прогулять имелась: кабинетов и мест, где можно находиться в рабочее время, существовало достаточно, чтобы сказать: «Я был там-то…» Важно хоть раз в день появиться в отделе, помелькать, отметиться…
«Но как выйти во время рабочего дня через пропускной пункт за забор и обмануть кадровичку?» – спрашивал сам себя Алик. Задача нелегкая, но не жизнь для работы, а работа для жизни.
Проходная, оборудованная фотоэлементами и двумя выскакивающими из пазов заборчиками, как в метрополитене, напоминала зверя, готового в любой момент проснуться и сомкнуть челюсти. Каждое рабочее утро Алик заходил в промежуток между двумя заборчиками, вытаскивал личный пластиковый пропуск из номерного паза, набирал на кнопочной панели индивидуальный номер и безопасно проходил мимо второго заборчика и охранников в зеленых юбках. Потом он шел в отдел, укладывал пропуск в ящичек, открытый для обозрения похожей на толкательницу ядра кадровичке. На любого опоздавшего или уходящего раньше времени она бросала тяжелые взгляды, как кондуктор на безбилетников, и четко проговаривала:
– В журнале отметиться не забудь.
И говорила-то она это, как кондуктор:
– Кто еще не приобрел билет?
При такой системе охраны каждый работник на оборонном предприятии фактически был закрыт на территории до окончания рабочего времени, ну все равно как заключенный. И все из-за заработка-пайки. Но нашего героя унижала рабская философия любого рода, он, невзирая на последствия, более всего любил свободу и решение головоломок.
Еще будучи студентом, он научился так виртуозно удалять гибким, упругим, обоюдоострым лезвием от безопасной бритвы любой текст с любого документа, что у него отбоя не было от желающих подделать оценку, подпись, дату. Он долго тренировался сжимать лезвие в необходимую дугу, прикладывать под нужным углом и вести осторожно, чтобы срезать тончайший и узкий кусочек бумажки вместе со старыми чернилами. Очищенный участок затирал гладким концом пластмассовой авторучки и отдавал готовый документ заказчику, где на восстановленной девственной чистоте листа можно было выводить все что угодно, требовалось только подобрать подходящие по цвету и оттенку чернила. Конечно, если оценить исправленный лист на просвет, то подделка становилась очевидной, но ни учителям, ни работникам военкомата, ни кому-либо еще не приходило в голову смотреть на зачетку, справку, повестку, как на денежную купюру…
Задачу показательных краж дынь и арбузов Алик легко решил возле торговых мест, где суетливо толпились люди. Он обычно брал понравившуюся ягоду, делал вид, что рассматривает ее. Когда вниманием продавца завладевал другой покупатель, Алик осторожно удалялся, якобы под влиянием того, что его оттесняют, и, если продавец по-прежнему не обращал на него внимания, он клал ягоду в сумку и спокойно удалялся. Этот прием срабатывал безукоризненно, но использовал его Алик только для того, чтобы удивить очередную девушку, за которой он ухаживал в данный момент, или на спор…
Когда перед Аликом встала задача стащить из сейфа, который стоял у шефа в кабинете, один жизненно важный документ, он также не спасовал. Надо подделать ключи – это сомнений не вызывало. Благо – зима. Алик запасся пластилином и терпением. Караулил не меньше месяца. Шеф почти не выпускал ключи из рук, но как-то его срочно вызвали к телефону, и ключи остались на столе. Отпечатки на пластилине получились четкие. Алик спрятал их за окном, на морозе. Когда слепки затвердели, принялся за дело…
Шеф был не глуп и вычислил Алика по заинтересованности, но все же он был не настолько умен, чтобы не спросить у него:
– Алик, это не ты взял бумаги из сейфа?
– Да вы что? – изобразил удивленное возмущение Алик. – У меня и ключей-то нет.
Алик сказал это, а сам подумал: «Ну и дурак!!! На какой ответ он надеялся?»… Наш герой относился к жизни, как к эксперименту, а любой эксперимент требовал исходных данных. Он их всегда тщательно собирал. Задача с проходной имела следующие исходные данные:
1. Пропуска из ящичка кадровичка не вынимала, а прочно сидела на своем месте, как большая бройлерная курица на насесте, будто не в силах пошевелиться под тяжестью собственного веса, и занималась какими-то бумагами. Изредка она поглядывала за внешне сходными кончиками пропусков, торчавшими из ячеек, как острые клювы жаждущих пищи птенцов.
2. Неуемные сотрудники института частенько оставались надолго после работы, наращивая свои очки в отношении преданности делу, в том числе и Алик. Поэтому не было ничего необычного в том, что пропуска просили еды в своих ячейках с очень раннего утра, до прихода кадровички, и до позднего вечера, после ее ухода.
3. На проходной иной раз случались казусы, когда кто-либо нажимал с похмелья не на ту кнопку. Тогда заборчики резво выскакивали из своих пазов, звучно сталкивались, выла сигнализация. Но охранники в зеленых юбках с пистолетами на боках быстро усмиряли строптивую проходную и добродушно отпускали пойманного, предварительно проверив его пропуск.
«Был бы у меня второй пропуск! – мечтал Алик, загорая во время обеда на плоской крыше своей организации. – Оставил бы его в ящичке кадровички, а со своим пропуском спокойно ходил через проходную».
Идея возникла не сразу. Она ваялась из бесформенной глины образов и разрушалась, если выходила недостаточно хорошей, ваялась и разрушалась, пока не получилось…
«Разжиться дубликатом пропуска возможно двумя путями, – рассуждал Алик. – Первый – найти заготовку, они должны быть – для новеньких. Это долгий путь. Второй – украсть чужой пропуск прямо на проходной, из ячейки. Система охраны, конечно, отзовется, но эка невидаль для зеленых охранниц. Притворюсь, что ничего не понимаю. А пострадавший не обеднеет».
Он, распаренный, в хорошем настроении, через открытое окно полез с крыши в рабочий кабинет, и, как назло, шеф…
– Ты что, загораешь? – удивленно спросил шеф.
– Да, пока обед. Что время-то терять? Сами знаете, работа у нас такая, что едешь на работу, когда только заря заалела, а выходишь за забор, когда солнце село, – ответил Алик. – В субботу, воскресенье – домашние дела…
– Ладно, ладно, – сказал шеф и пошел дальше.
Следующим утром Алик ехал на работу пораньше, чтобы у проходной никого не было: лишние свидетели всегда не нужны. В автобусе, сдавленный со всех сторон сонными пассажирами, он мысленно отрабатывал детали махинации и до того себя этим утомил, что, зайдя между выпрыгивающих заборчиков, делал все автоматически.
Правая рука потянулась к собственному пропуску, левая – к первому попавшемуся. Оба пропуска выскользнули из ячеек одновременно. Нажимать на кнопки, набирая цифровой код, не пришлось. Мощно завыла сирена, словно призывая спуститься в бомбоубежища, и щелкнули пропускные заборчики. Алик не испугался: он знал. Чужой пропуск он мгновенно спрятал в кармане. Свой – оставил в руке, придал лицу испуганно-растерянное выражение и замер, боясь пошевелиться, как человек, сильно озадаченный происшедшим.
– Стойте на месте! – крикнула охранница в зеленой юбке из своей будки и отключила сигнализацию. – Что случилось?
– Не знаю, – играючи обманул Алик.
– Вставьте пропуск назад и заново пройдите через проходную!…
Последующие полгода протекли веселым журчанием весеннего ручья. Алик, когда хотел, уходил с работы, когда хотел, приходил, при этом был уважаем шефом и более высоким начальством за свою ненасытную страсть к работе, коей он формально посвящал всю свою жизнь, судя по клювику пропуска, постоянно торчавшему из ящичка кадровички. Сослуживцы косились и не могли понять, глядя на довольную физиономию Алика, как сумел он, работая больше любого из них, выглядеть, как после отпуска…
***
Роза была обворожительна. Высокая, добрые искрящиеся радостью глаза, загадочная улыбка, слегка вьющиеся волосы. Алик договорился о свидании возле чудесной пиццерии, где за уютными столиками можно было долго говорить или молчать, глядя в притягательную глубину глаз любимой. Там, на шумной улочке, где располагалась пиццерия, было много всяких кафе и ресторанчиков, манивших дорогой рекламой к довольно-таки дешевым по качеству меню, но пиццерия оставалась лучшей.
В пиццерии подавали пиццу, что само по себе не удивительно, но не ту, сухую, итальянскую, тонкую, как блин, будто ее вместе с колбасой и всеми томатно-пикантными составляющими раскатали асфальтовым катком, а полновесную русскую, если так можно выразиться. Она походила на большую ватрушку, в которой за тонким хлебным бордюрчиком располагался сочный мясной фарш, приправленный томатами, сыром, грибами и неопределенными вкусностями, обильно ублаженными пряностями. Можно было взять и закрытую пиццу, выглядевшую как пирожок, с начинкой из рыбы, от которой вслед за отхваченным зубами куском тянулись длинные сырные волокна. А какие в той пиццерии готовили блюда в горшочках! А чай, подававшийся не в затрапезной чашке, а в фарфоровом чайничке! Чай, словно дышавший летом – душистыми цветами на солнечной поляне…
Алик опаздывал на свидание. Надо было уйти с работы чуть раньше, а он безнадежно опаздывал, как всегда, как обычно и в своем репертуаре, и представлял, как она выискивает его лицо средь многих, мелькавших перед ней. Это происходило не первый раз, и ситуация, следуя канонам поведения влюбленных пар, складывалась щемящая сердце. «Боже, только бы она не ушла, только бы не обиделась», – тихо молился он. Пять минут, десять, пятнадцать… «Если уйдет, это будет худшее из того, что возможно», – размышлял он, представил на мгновенье, что это произошло, и чернота опустилась на сердце. Он глянул в окно, а там будто ночь. Алик отогнал дурные мысли прочь, и вновь стало светло и дыхание наполнилось свежим и жарким летним воздухом безнадежной влюбленности…
Он выскочил из двери автобуса и еще издалека увидел ее. Она уже уходила…
Алик шел по знакомому с детства оживленному проспекту. Высокие тенистые тополя шуршали тревожной листвой. Казалось, вокруг никого. Только она шла немного впереди. Алик не спешил подходить к Розе, не желая лишать себя удовольствия смотреть на свою любимую со стороны. Роза знала об этом. Какие-то живые искры, вспыхивавшие в ее глазах, когда она изредка оборачивалась, какие-то неуловимые оттенки ее движений почти сводили Алика с ума. Будто колдовство. Длилось это не более получаса, но тем не менее – целую вечность. Как Алик узнал потом, она специально иногда вскидывала голову и отбрасывала волосы назад и ступала так неторопливо, грациозно, словно плыла в неизвестность. Возле дворца культуры, возвышавшегося на площади, как нетающий айсберг, она остановилась, обернулась, вплотную приблизилась к Алику.
– Зачем идти врозь, если можно идти вместе? – спросила она. – Я полчаса назад распрощалась с мальчиком, имевшим дурные манеры вечно опаздывать. Ты, надеюсь, другой. Познакомимся?
Он принял игру. Они свернули с проспекта влево, в небольшой сквер, и стали говорить о всякой чепухе, как будто встретились впервые, хотя знали друг друга давно. Вечерело. Они углублялись в район, далекий от центра. Внезапно она предложила:
– Пойдем ко мне, это недалеко – за больничным столбом?
Этот ориентир знали все в районе – высоченный шпиль непонятного предназначения, похожий на иглу от шприца, стоял в районе поликлиники с незапамятных времен.
– Ничего страшного, телефон есть, – сказала она. – Захочешь уйти – вызовешь такси. Бабушка уехала и оставила ключ от квартиры мне…
И Алик поплыл к ней, но парк, густой тенистый парк напомнил о жизни среди звезд…
Алик сел на лавочку, а ее потянул за руку и посадил к себе на колени. Она обвила его шею руками и прижалась всем телом. Так можно было бы провести целую вечность, всю жизнь. Больше ничего. Он ощущал каждое биение ее сердца. Нереальность, опьянение, сумасшествие. Алику казалось, что они сидели не на самой обычной лавочке, а витали где-то среди облаков. Она наклонила голову к его губам и поцеловала. Стихи родились потом:
Над летним парком небо гасло, плыл закат,
Сгущались сумерки, рождался звездный сад.
Цвела сирень, в ее тени
И в сладких грезах пребывали мы одни.
Там нежность чувств, буйство огня
В груди зажгли ночь ярче дня…
С тех встреч волнующих минуло много лет.
На наших лавочках другие «тет-а-тет».
И грусть приходит иногда
От мысли, что мы не вернемся вновь туда,
Где нежность чувств, буйство огня
В груди зажгли ночь ярче дня…
Средь пышной зелени спокойных тополей
В местах укромных, старых парковых аллей
Хранятся тайны или сны
О том, как были мы безумно влюблены:
Как мы пьянели от слияния сердец
И бриллиантами сиял ночной венец…
В тот парк заходим иногда,
Но не вернемся мы в то лето никогда.
Какое короткое время отпущено на то, чтобы почувствовать себя молодым! Кто-то полностью и с жадность выпивает сей безумный напиток и отдается его власти насколько это возможно, кто-то угнетаем комплексами, стеснительностью, подозрительностью, но вне зависимости от поведения конкретного, пока еще молодого человека, время, отпущенное, чтобы почувствовать себя молодым, истекает, улетучивается или заканчивается –как хотите. Некоторые так никогда и не бывают молодыми. Алик успел. Роза стала его женой, что хоть и разом перечеркнуло романтику прошлых встреч и произошло отчасти благодаря внешне черному и грязному делу, краже чужого пропуска из ячейки пропускного пункта, но наметило и определило дальнейший путь…
***

Желание большего часто приводит к потере имеющегося. За ветреными увлечениями позабыл Алик поговорку наставника: «Лучшее – враг хорошего». Случилось фиаско после того, как Алик потерял чувство меры и решил оставить пропуск в ящичке кадровички на выходные. Рассуждал он вроде бы верно: «На ночь оставляю, никто не замечает, почему на выходные не оставить? Какая разница? В понедельник приеду пораньше. Где наша не пропадала?…»
Не все просчитывается заранее. Ошибки, они как занозы: не видно, но как заденешь, болят и воспаляются. Алик не учел неизвестный ему момент – периодическую проверку пропусков, находившихся в ячейках. Проходила эта проверка как раз по выходным…
Интуиция существует. Она проявляется во внезапных переменах настроения, необычных желаниях, снах, иных подсказках судьбы. Гасишь в себе внезапно возникший порыв азартно сыграть на валютном рынке, на картежном столе, на недвижимости, рискнуть всем ради выигрыша, на который ясно указывает сердце, и оказывается – напрасно. Можно было выиграть. Кто не сталкивался с такими проявлениями нерешительности? Кто следовал? Редкие люди. Иначе все были бы счастливыми. Сердце вернее разума. Будто благожелающая сила, неподвластная разуму, но доступная не имеющим доверия человеческим ощущениям, использует имеющиеся в ином разумном измерении возможности предотвратить, наставить, уберечь. Подсказки даются всегда – надо только слышать и следовать. Если набраться смелости, уверенности и энергии, и следовать, то жизнь станет ровной дорогой. Но как такое возможно в нашем рациональном мире, где все сызмальства штампуются прессом логической системы воспитания и убеждения?
Еще в воскресенье вечером на Алика накатила безотчетная грусть. Он представил, что больше не сможет уходить с работы, и под влиянием необъяснимо гадостного настроения вывел несколько строчек в своем дневнике:
Понедельник, завтра понедельник…
В этот вечер я уже не свой.
Всю неделю буду как отшельник,
И лишь поздно вечером – домой.
Пять рабочих дней, как пять шакалов,
Жадно зрят из завтра на меня.
Им всей жизни будет очень мало.
Их бессчетно, жизнь моя – одна.
Утро – это бледные огни.
Утром вспоминаю я субботу.
Утро. Сколько там их впереди –
Утренних хождений на работу?…
Когда утром понедельника Алик вытащил из своей ячейки украденный пропуск и набрал код на кнопочном пульте проходной, то по обе стороны от него звонко стукнули заборчики и завыла сирена. Ему бы перепрыгнуть внезапно возникшие барьеры, пока не появились охранницы, которые, словно предоставляя шанс, впервые за многие годы отсутствовали на посту, но он потерял секунды и дождался. В непроглядной дымке замутненного нервным потрясением сознания Алик шел, как парализованное страхом или дрессировкой животное, за суровой зеленой юбкой…
На собрании трудового коллектива его ругали все. Алик стоял, как положено, чтобы не дразнить собак, а значит – понурив голову. Изредка, когда менялся оратор, он позволял себе бросить раскаивающийся взгляд на агрессивную волнующуюся публику. Больше всех возмущался фанатичный жилистый трудолюбец, посеревший и подвявший в тени формальных Аликовских переработок.
–… Да он, может, вообще на работе не появлялся. Вот гад. Бездельник. Подойти бы да в рожу…
«Закон не за работу спрашивает, а за верность трудовому распорядку дня. При чем тут время, если все, что мне говорят, я выполняю», – мысленно оправдывался Алик перед озлобленным коллективом, но, когда ему предоставили ответное слово, он благоразумно выбрал золото молчания.
Затем Алика прощупал комитет государственной безопасности. Строгий дядечка в гражданской одежде и ласково просил его сознаться в том, что он западный агент, затем грозил жестко отлупить и запереть за тюремной решеткой, но Алик выбрал легенду и от нее не отступал:
– Нашел пропуск рядом с проходной. Смотрю – валяется. Поднял и пошел дальше. Глупая мысль использовать его возникла сама собой. Каюсь…
Строгий выговор и лишение премии, и на душе посветлело. Тяготило, что незнакомца, у которого он украл пропуск, наказали. «Совершенно ни за что, – размышлял Алик. – Бедный мужик. Нашли козла отпущения. А то, что наказали охранницу, не моя вина, ей самой надо быть внимательнее, за то она и деньги получает, чтобы таких, как я, ловила. Я тоже рисковал…»
***
Чтобы у читателя не сложилось превратного мнения об Алике, как о человеке, который стремится исключительно улизнуть от работы, мы сразу пресечем эту возможность. Работать он любил и умел, просто книга о другом – о самом интересном, а, как часто бывает, самое интересное было для Алика далеко от шума сварочных автоматов и обжигающего глаза яркого света электрических дуг… В институте, где трудился, он всегда был лучшим по идеям и их реализации среди сверстников. Он засиживался вечерами не за деньги, а за интерес, но, имея внутри массу нерастраченного природного любопытства, он не мог управлять им и сознательно отдавать во власть начальства. Скорее любопытство управляло им. И это самое любопытство, видя, что как ни работай, а всем примерно поровну, говорило: ищи. И он искал везде.
НАМЕК
«Люди – это главные подсказки судьбы»

Газеты Алик никогда не читал и считал, что нет более блестящей возможности потратить время впустую, чем предаваться этому занятию, но к людям творческим, умным он всегда испытывал великую симпатию и неукротимую тягу. Забегая намного далее, можно сразу сказать, что Алик не полюбил газеты и после того, как стал журналистом. Он ненавидел этот отредактированный, отрежиссированный кусок бумаги, на котором иные сволочи и мерзавцы могли появиться на фотографии по-доброму улыбчивыми под заголовками: «С мыслью о хорошем». Можно задаться вполне справедливым вопросом: что повлияло на человека, не любившего газеты, так, что он стал газетчиком. А повлияла случайная встреча, только одна, совершенно необычная встреча с абсолютно удивительным человеком, которого можно с полным основанием назвать великим по отношению к судьбе Алика.
О баня, шикарная баня миллионного сибирского города, где в парилку подавался сырой пар от работавшей по соседству прачечной! На входной двери ее висел душевный плакатик со стишком:
Немного пива для забвенья
И жар парной для расслабленья –
Лекарство, чтоб найти покой
И примириться с суетой.
А в круговерти бань и пива,
Работы, дома, кухни, чтива…
Еще достаточно мгновений
Для сохраненья здравых рвений:
Для многих радостей и счастья,
Для наслажденья мысли властью,
Для восхищенья ясным днем
И трепета перед огнем…
О парная, питавшаяся облаком сырого пара, вырабатываемого неусыпной жаркой советской котельной! – неистовая благодать, после которой Алик так и не смог привыкнуть к сухому пару финских парилок, распространившихся, как жухлые пеньки, оставшиеся от роскошных берез на популярной вырубке. Он заходил в советскую баню еженедельно, отсиживал в спокойных предвкушающих очередях, входил в общество раздетых мужчин, не стеснявшихся и не боявшихся по советским временам в полный голос поговорить о политике, обсудить, поругать. Но разговоры потом – вначале в парилку.
В парилке витал запах распаренных березовых веников. Они метались по ярко белым телам, раздавались задиристые шлепки. Алик пробегал наверх, без брезгливости и опаски садился на низкую потемневшую скользкую от пота деревянную лавку, прятал нос в ладони, чтобы горячий воздух не обжигал ноздри, и замирал, ожидая, когда появятся первые капли пота, но в первую очередь на коже появлялись капли чужого пота, летевшего во все стороны от веников. А там какой-нибудь ненасытный любитель парилки подходил к коричневой от ржавчины трубе, поворачивал вентиль, и вылетала шумная струя пара, быстро скрывавшего парильщиков словно бы небесным облаком. Слабые выбегали, Алик крепился. Потом следовал отдых на удобных стареньких скамеечках, где можно услышать много интересных идей, любопытных споров, ведь без одежды профессора не отличишь от самого простого рабочего…
***
Чиновники эту шикарную баню закрыли, хотя она была единственной прибыльной баней во всем миллионном городе, но чужие доходы мало кого интересуют. Кто-то сделал свои деньги на строительстве убыточного банного дворца с финскими парилками, а старая баня с сырым паром отвлекала клиентов и не давала возможности отчитаться в успешном одобрении народом введенного объекта. Вот ее взяли и закрыли. После этого она стояла много лет, темнея стеклянными плитками умерших окон, пока в ней не открылись магазины, недостатка в которых город совершенно не испытывал. Воспоминания часто ярче действительности не только оттого, что человек стареет, но и оттого, что появляется возможность сравнить…
***
Александр был высоким кудрявым брюнетом, слегка полноватым, но подвижным и живым по-настоящему. Острые углы глаз намекали на хороший ум, а пухлые губы – на страстность и нормальные человеческие желания. Он ходил по бане энергично, весело и так, будто гулял по собственной квартире, то есть смотрел на окружающий народ, как на привычные предметы домашней обстановки, с которыми надо быть аккуратным и заботливым.
Народу в выходные дни в той бане было по человеку, а то и по два, на одежный шкафчик, плюс к тому часовая очередь, ожидающая выходящих. Хорошо было. Человек входил в парное отделение с чувством, с каким идут на большое и даже великое дело. Люди сновали в пару, как микробы в окуляре микроскопа. Жестяных никелированных тазиков хватало на всех. Вода шумно текла из толстенных труб, снабженных мощными чугунными запорами. Мраморные скамьи стояли ровными рядами, словно кости домино. Это на втором этаже, а на первом ждала ароматная чайная и два удобных номера с бассейном, креслами, лежаками, вентилятором, холодильником и всеми остальными удобствами, взглянув на которые язык бы не высказал, что в советские времена было плохо, но вот чего действительно не доставало, так веника.
В то советское время, о котором идет речь, многие обычные вещи публично не продавались. Разве что по знакомству. Банный веник был дефицитом, не продававшимся даже в подвалах магазинов, где вершились многие покупки для родных и близких работников магазина.
Народ заготавливал веники самостоятельно, не скупился делиться ими с соседями по банной скамье и не брезговал пользоваться чужим. Можно было запросто попросить веник у любого, чтобы попариться. Все происходило полюбовно, по пониманию. Алик любил эту добрую народную традицию. Он брал веник взаймы, скрупулезно ошпаривал кипятком, парился и возвращал хозяину, которого больше не видел. Так происходило всегда, пока Алик не позаимствовал веник у Александра, а потом слово за слово…
Алик никогда не отказывался от новых знакомств. Он ценил находки, хватал, а уже потом разбирался: оставить себе или выбросить. Этому качеству способствовало то, что сам по натуре он был не особо общительным и не больно инициативным в приобретении новых друзей. Разговор начал Александр, а потом слова зазвучали так, что порой казалось, будто собеседники не слушают друг друга и им просто хочется выговориться, то ли от одиночества, то ли от понимания бесценной находки в виде интересного человека, ведь что может быть интереснее, чем умный человек?
– Ты хорошо выглядишь, – сказал он. – Крепко сложен. Спортом занимаешься?
– Бегаю, почти каждый день, до десяти километров, в любую погоду, – ответил Алик. – Штангой немного увлекаюсь.
– Такие подвиги не по мне, но ты молодец, что живешь, – ответил Александр. – Большинство людей кончает жизнь недеятельным самоубийством, теряет интерес к жизни, загоняет себя в тупик, из которого не видит выхода.
– Ты прав. Многие не знают, куда себя девать, убивают свое собственное время…
– Человек смертен, но, как ни удивительно, страстная песня жизни звучит ежедневно. Она старается заглушить мысль о смерти, проигрывает смерти без надежды на победу, но не ослабевает. В этом парадокс человечества, живущего на высокой пронзительной ноте. Любовь, дружба – не ослабевающие понятия.
– Мне кажется, что случай сделать свою жизнь лучше, выпадает каждому, просто не каждый им пользуется. Так и хочется сказать неудачникам: «Если удача стучится в двери, открой быстрее, она может больше не постучаться».
– Надо обращать внимание на знаки, быть активнее, чаще путешествовать. Призраки, которые окружают нас, не успевают перемещаться вослед, и это дает возможность почувствовать жизнь по-новому.
– Ну, кажется, пора, – напомнил Алик, и они с Александром прошли в парилку.
Пар, свистя, вылетал из трубы плотным дымным облаком, примерно таким же, как теплое дыхание на крепком морозе, только куда гуще, и зависал в парилке, почти ощутимый физически. Кран закрывали. Мужики, покрикивая, хлестались вениками. Жизнь! Что еще надо? Гонимый вениками горячий воздух обжигал лицо и в особенности ноздри, иногда казалось, что дышать уже нечем, а тут заходили еще люди и кричали:
– Что-то холодно, надо бы поддать!!
Опять раздавался свистящий гул, народ натягивал шерстяные шапочки на уши, некоторые выбегали, но самые стойкие опять брались за веники. Раскрасневшийся Алик выскочил из парилки, вслед за ним вышел Александр и быстрее – к тазику – и полный холодной воды – на горячее тело. Алик отскочил в сторону, когда брызги попали на него.
– Ну ты даешь!? – воскликнул он.
– Попробуй сам, отлично, – пригласил Александр.
– Нет уж, уволь, – откликнулся Алик и исчез в комнате отдыха.
Пар, тазики, увлекательные разговоры… все когда-то кончается. Была возможность завершить и эту часть нашей истории без продолжения, этого Алик и ожидал, но в конце банной процедуры Александр предложил:
– Пойдем ко мне в гости, чайку выпьем, поговорим. Я тут рядом живу…
Такое предложение от человека, которого он видел в первый раз, для Алика стало полной неожиданностью. Часов десять вечера. Требовалось прыгнуть через пропасть предрассудков.
Жил Александр неподалеку с баней в бесовской квартире номер тринадцать, один – в однокомнатной. Дорога к его дому проходила через безлюдный и имевший дурную славу в ночное время рынок. Звуки шагов летели вдоль прилавков. Тополиные листья двигались, подчиняясь силе ветерка, и оставляли на асфальте подозрительные тени, гонимые светом фонарей. Завораживающее таинство – вот точное определение складывавшейся картине.
– Где работаешь? – спросил Алик.
– В «вечорке», – ответил Александр.
Он внезапно громозвучно рассмеялся, так, что лиственные тени разбежались от него в стороны, и оперным басом закрепил свое признание:
– В «вечерке», мой друг!!!
– Так ты журналист? – восхищенно спросил Алик.
– Да! – ответил он. – Люди, что может быть интереснее людей? Что может быть интереснее изучения жизни? Ты же понимаешь примерно, о чем я говорю? Ты же в институте работаешь.
– Несколько изобретений у меня есть, но это железо, – ответил Алик. – С людьми туго.
– Интересуйся людьми, полюби их, и люди к тебе потянутся, – ответил Александр.
Ни телевизора, ни люстры в квартире Александра не было. Свет исходил от одинокой настольной лампы. Алик с Александром сидели и разговаривали на самые разные темы, и скучно не было. Александр легко шутил на темы любви. Рассказал историю о хорошем семьянине с двумя детьми, променявшем налаженную семейную жизнь на женщину, с которой переспали все, кто хотел… Удивлял, удивлял и удивлял, показывая сувениры, купленные им в командировках: ракушки, морские звезды… и редкие в то время голографические картинки. Иной раз Алику казалось, что перед ним фокусник.
– Хочешь, покажу завтрашнюю газету? – интригующе предложил Александр.
– Покажи, – заинтересовался Алик.
Александр вынес из кладовки «вечерку», датированную завтрашним числом…
Встречи случались частенько, но Александр никогда не упускал возможность подчеркнуть свою значимость и иногда был весьма капризен.
– Я хорош дозированно, – самокритично говорил он о себе, но в хорошем настроении был неукротим: рассказывал о круизе по странам Средиземноморья, вызывая в душе Алика стремление побывать во всех этих странах, что позднее чудесно осуществилось, оставив в душе уверенность, что может исполниться любая сильная мечта. Он рассказывал о своих любовных приключениях в общежитии и самолете. Они запоем играли в покер. Александр был радушный хозяин, умевший вкусно накормить. Он был Учитель, умевший дать хороший совет и точно оценить ситуацию.
– Не знаю почему, но подружки моей знакомой, Розы, о которой я тебе рассказывал, меня ненавидят, – например, жаловался на жизнь Алик.
– Все это зависть, мой друг, зависть, – ответил Александр. – Они завидуют тому, что ты выбрал ее, а не их, или тому завидуют, что у нее все удачно складывается, а у них нет. Чувств не так много…
И это было так интересно, что Алик боялся неосторожным словом обидеть своего нового необычного друга. Он давал Александру возможность шутить над собой, как разрешают коты играть с собой доброму и полезному хозяину, никогда не обижался, и не пытался ответить уколом на укол: его хорошо кормили занимательными речами и мыслями.
Из этой тринадцатой квартиры Алик вынес стремление к умным книгам, обострившееся умение извлекать радость из самых обычных жизненных ситуаций, счастье настоящего дружеского общения, чувство невероятно пронзительной свежести мировосприятия и точности мышления, изредка возникавших в ходе обычного общения. Александр называл это состояние просветлением в унисон своему литературному любимцу Герману Гессе.
Иногда они ссорились, и как-то их взаимоотношения едва не прекратились. Александр произнес по этому поводу длинную прощальную тираду:
– В жизни всегда есть место суете. А порой суета и есть жизнь. Пожалуй, это самое трудное и важное для человека, живущего не только инстинктами, – избежать, уйти от обыденного, от потока мелочных дел и пустых эмоций. Не надо парить в облаках (это еще одна крайность), но не надо ходить по замкнутому кругу, по колее, где все всем уже известно. Мудр тот, кто умеет дорожить каждым прожитым днем и в буднях находит нечто, сохраняя интерес к людям, природе и тем ценностям, которые имеют вес во все времена. Вся эта философия, мой друг, к тому, что никогда не следует спешно хлопать дверью, строить клетки и выносить приговоры – ни себе, ни ближним. Жизнь многогранна, а тот, кто замечает лишь одну ее грань, обычно мелочен и суетлив и помимо своей воли обделяет, в первую очередь, себя.
Алик после встреч с Александром написал в дневнике:
Небо тучами идет, жизнь – шагами.
Дождь покапает. Пройдет? Нет, он с нами.
Остается до конца грусть в оконце.
Все слабее свет венца Бога – Солнца.
Закрывает по лучу Облаками.
Я по-прежнему шучу вместе с вами.
Посидим и разойдемся к Порогу,
Освещая друг для друга Дорогу.
Что не сказано, а может, забыто,
Будет Будущим для каждого свито.
***
Ощущение загадочного, полного неожиданностей мира журналистики возникло в душе Алика, а дружба с Александром крепла, и его советы не раз помогали в будущем найти правильное решение.
ПРИЧИНА
«Глуп тот, кто надеется прожить жизнь в спокойствии. Наоборот, надо искать волнений, чтобы они не застали врасплох»

Родители! Почему понимаешь, отчего они такие, какие есть, только когда достигнешь их возраста и обзаведешься детьми?! Почему так поздно!? Ребенок растет, как молодое деревце, его взращивает мать-земля, влечет и хранит отец-небо, но ребенок этого не осмысливает – он растет и живет отвлеченно. Он пробивается сквозь все преграды, разрушает все на своем пути, а первое, что является преградой, родители. На них ребенок тренирует свои инстинкты выживания, он пробивает землю и борется с небом. Как правильно и как жаль…
Небольшая полуразвалившаяся усадьба из рассохшегося от времени дерева на высосанной в пыль многолетними огородными урожаями земле приютила Алика с его женой Розой, ожидавшей ребенка. Такова была воля родителей, живших в удобной трехкомнатной квартире и желавших отгородиться от беспокойного сына расстоянием и удобной отговоркой, что молодым нужна полная независимость. Их тревогу понять просто, если знать, что наслушались они разговоров о хитрых деревенских девках, приезжающих в город, чтобы не столько выйти замуж по любви, сколько, пожив недолго замужней жизнью, развестись и отхватить часть благоустроенного жилья, так тяжело доставшегося родителям. О тяжкое бремя подозрительности! Излишне подозрительное сердце влачится на жилах вслед за телом и, терзаясь на ухабах, безвременно истираясь, болит и тиранит.
Молодость взрослых проблем не замечает. Алик любил необычную обстановку. Когда тащил многолитровую алюминиевую флягу с водой на кое-где поржавевшей стальной тачке от ближайшей колонки к усадьбе, где ждала его молодая жена Роза, он радовался и размышлял о дальних дорогах, глядя на проезжавшие мимо, стучащие по рельсам, ребристые красно-белые трамваи.
– Она сильнее тебя. Это плохо. Она будет править в твоей семье, – говорил ему отец накануне свадьбы. – Она тебя подавит.
– Выдумываешь ты все, отец, – ответил Алик. – Все у нас нормально.
– Я жизнь прожил и знаю, – предупреждал отец. – Таких девок на твоем пути будет достаточно.
– Зря ты так, – сказал Алик. – Найти подходящего для жизни человека не просто. У нас с Розой пока получается. Если не получится в дальнейшем – путь всегда открыт. Можно разойтись.
– В нашей семье так не принято, – ответил отец.
– Роза – единственная женщина, которой я предложил выйти замуж. Остальных я не представлял в роли жены, – ответил Алик. – Назовем это экспериментом…
Родители Алика сделали все, что могли, чтобы свадьба не состоялась, дата переносилась несколько раз, приглашенные выбрасывали в мусорные ящики припасенные для ритуала розы, а потом, наперекор желанию Алика, родители изрядно потратились на проведение свадьбы.
– Отец, сколько мы проживем вместе, не знаю, – уговаривал Алик. – Не траться сильно. Небольшой столик, посидим узким кругом.
– Нет, – отвечал отец. – Всю жизнь мечтал женить сына, пригласить на свадьбу своих друзей, чтобы все было красиво.
– Мне этих денег жалко, – говорил Алик. – Зачем тратиться, если результат не известен? Возможно, ничего не получится.
– Нет, будет, как я хочу, – ответил отец.
Алик плохо понимал отца, а кто из сыновей своих отцов понимает? Их редкие душевные разговоры всегда напоминали диалоги, предшествующие драке. Отец, крупный сильный мужчина, прошедший суровую жизненную школу, оставшийся без родителей в раннем детстве, воспитанный дедом с бабкой, служивший в морском флоте, самостоятельно пробившийся до руководящих должностей в миллионном сибирском городе, имел патриархальные виды на воспитание мальчиков. Он опекал, подавлял и не понимал, как, несмотря на это, сын увлекался такой дуристикой, как научная работа, которая, по его мнению, привлекала только бездельников и тунеядцев. Невнимание Алика к карьерному и партийному росту ранила его душу, а тут еще и женитьба на женщине, которую он считал недостойной своего сына…
В будущем Алик будет горько раскаиваться за свое невнимание к отцу и напишет ему письмо, которое никогда не будет отправлено:
«Милый мой, Невидимка! Твое обеспечивающее, обороняющее присутствие я всегда воспринимал как данность природы, как то, что должно быть, словно звезды и солнце, как крыша над головой и подарки ко дню рождения. Обо всех «почему?» и «откуда?» я даже не задумывался, просто рос, радовался жизни и боялся твоего гнева. Ты исполнял свою роль порой безропотно, порой непонятная мне буря огорчения вырывалась из твоей души, но в целом тебя вроде бы не смущала роль Невидимки, хотя теперь я точно знаю, что она глубоко ранила твое сердце, просто ты молчал и ждал, когда я пойму сам. Почему только так, а не иначе? Где знание сердца? Почему только осознание возможной потери тебя или потери реальной заставляет осознать ценность того, чем беспрепятственно, всецело и безоглядно обладал когда-то.
С возрастом я все острее осознаю твою боль, я даже стал отчетливее видеть тебя. Я не подозревал, что зрение памяти намного сильнее зрения в ежедневных встречах с тобой. Куски прошлого, сливаясь воедино и вытесняя неприглядные детали, все более приближаются к завидной идиллии, но весь парадокс и вся трагедия заключены в том, что эта идиллия могла бы существовать, если бы, если бы, если бы… Возможно, каждый из живущих был бы рад очутиться в лемовском мире, вырастающем из волшебных облаков желаний. Как хочется порой найти этот живой пластилин и слепить нечто навек и не уходить из этого маленького мирка, пусть даже иллюзорного, никогда, ведь никто никогда не докажет, что вся жизнь наша не иллюзия, наполненная радостью, оптимизмом, грустью, страданием и смертью. Так хочется сделать слепок с единственного участка жизни и жить им вечно и видеть вокруг любовь. Жаль, что ты действовал, где-то за рамками моей жизни…»
Тачка с двадцатью литрами воды в дюралевой фляге легко катилась по утоптанной множеством ног снежной тропинке. Вот показался и знакомый забор с покосившимися высокими воротами из почерневшей от времени древесины. Алик завел тачку во двор, обошел Кузины мины, так он называл последствия собачьего туалета их маленькой сторожевой дворняги, которая любила справлять свою нужду почему-то прямо у входа в дом.
Огород копил светлый блестящий снег. После жизни в благоустроенной квартире романтическая жизнь на природе, на земле радовала. По крайней мере Алика. Несмотря на истощенную почву, летом ему удалось вырастить и помидоры, и огурцы, и кабачки. Роза сделала соления, и сейчас они стояли в погребе. Алик искренне радовался редиске и луку, зеленевшими яркими побегами на фоне серой земли. На дворе в жаркую погоду освежала купальня в большой бочке. Благодаря тому, что усадьба находилась на окраине города, можно было пешком ходить в лес и собирать грибы. И вот зима, и все под снегом, который он любил после работы покидать лопатой, размяться на свежем воздухе под светом звезд и фонарей. А перед началом зимы давно легло в тетрадку и было несколько раз прочитано внезапное вдохновение:
Когда Земля шуршит, меняясь,
Тропинкой ржавой вьется вдаль,
Я, с тишиною обнимаясь,
Кричу в немую магистраль.
Кричу с надрывом в слове «поздно»,
Но затерялся эха след.
Все стынет в воздухе морозном,
И гаснет выхода просвет.
А звезды гонят в поднебесье:
«Лети сюда, в наш дивный сад,
Ведь ты на зыбком куралесье,
А там кругом зарытый клад».
К нему копаюсь я украдкой,
Сдвигаю осень со стола
В такую тонкую тетрадку,
Что затихает шум двора.
Ложатся буквы желтых листьев,
Мир кружится веретеном,
А в каждой новой пряди жизни
Проходит узелками дом.
Родился ветер, пыль смешавший
В передвижную чехарду,
Вдали, впотьмах меня узнавши,
Затеял тихое: «Приду».
Теребит листья он нарочно,
Качает блики фонарей,
Сдувает сон, влетая ночью,
И шепчет вечное: «Скорей!».
Хорошо, когда уголь завезен заранее, дрова нарублены и заготовлены, а печка жарка и быстра. Труд немалый, но есть что-то основательное в простом жизненном укладе, когда не зависишь от центрального отопления и дворников. Усадьба дышала и жила по вечерам, когда в комнатах становилось жарко, как в самые истомные летние дни. Вода шумно текла по трубам, а на газовых конфорках Роза готовила что-нибудь вкусненькое.
– Алик, интересно, кто у нас родится? – спрашивала она, поглаживая очень даже заметный арбузный живот.
– Кто бы ни родился, наш будет, – отвечал Алик.
– Ой, хлеба-то забыла купить! – восклицала Роза.
– Ладно, сиди, сейчас сбегаю, – говорил Алик…
По вечерам они баловались, рассматривая живот, где таилась новая жизнь. Алик прикладывал ухо, вслушиваясь, но понятное дело – ничего. Потом по животу стали пробегать бугорки: кто-то изнутри упирался то ли ручкой, то ли ножкой и все настойчивее и очевиднее напоминал о себе. А еще спустя короткое время, когда молодые супруги собирались заснуть в своей избушке, Роза внезапно забеспокоилась и испуганно сказала:
– Кажется, у меня началось.
Ближайший телефон находился примерно в полукилометре, в какой-то организации, каковых много по городу, суть и назначение которых не ясны, но люди получали деньги и тем довольствовались. Там постоянно присутствовал сторож, и Алик уже давно договорился с ним, что тот пустит его позвонить. Машина скорой помощи приехала быстро. Алик поехал вместе с Розой и очень хорошо, потому что в больнице выяснилось, что его жену не могут принять – нет обменной карты. Что это за бумага Алик не знал, но помнил, что ее забрала его мать, чтобы помочь с хорошей клиникой.
«Помогли», – мысленно руганулся Алик и кинулся бегом по ночным улицам и дворам к родительскому дому, благо – бегал он неплохо, а подгоняло его беспокойство за жену и неродившегося ребенка. Когда человек кого-либо не любит в глубине души, даже безотчетно, он будет причинять неприятности и проблемы своему недругу вне зависимости от своих поверхностных желаний. Такой вывод Алик сделал давно. Когда он прибежал домой к родителям посреди ночи и забрал нужные бумаги, то не сказал добрых слов…
Чья привязанность крепче: ребенка к родителям, или родителей к ребенку. Алик, когда рассуждал на эту тему, приходил к выводу, что ребенок сильнее привязан к матери и отцу, чем они к собственному произведению. Их голоса – первые звуки, которые ребенок слышит, находясь еще в утробе матери. Их доброта, их любовь – первые прекрасные чувства к себе, которые ребенок встречает на земле. Он волей-неволей, инстинктивно любит родителей, и даже если пытается с ними порвать всяческие отношения, то больше всего и прежде всего он травмирует и обделяет себя. В этом Алик не сомневался, продолжая мысленные диалоги после каждого конфликта с родными. Родители же любят ребенка как труд и будущее, и, чем больше в него вложено и чем ближе память об этом труде, тем ребенок дороже. Но ребенок в любом случае – не первая любовь. Родителям становится тем сложнее удержать в сердце любовь, чем старше становится их ребенок, чем больше рассудительности он обретает и самостоятельности, чем чаще проявляет неподчинение. Возникают обиды, упреки. Чернота копится. Может ли она закрыть свет? Может. Почему нет? И слова: «От вас на старости корки хлеба не дождешься» – рвут сердце.
Отношения с родителями давили, все более портились, как ветшает, ломается крепкий ранее дом, если его не ремонтировать, а – наоборот – расшатывать и вбивать в трещины крепкие стальные клинья. Ссора разрасталась по традиционным правилам: слово, напоминание, укор, а там недолго до обиды, скандала, заявлений о праве на имущество и квартиру, раздела денежных затрат и питания. Таких историй хоть отбавляй.
После рождения сына Алик с Розой снимали квартиру, потом пожили с родителями Алика и наконец…
– На Севере у меня родственник работает. Он обещал квартиру и хорошую зарплату. Либо ты едешь со мной, либо я – одна, – сказал как-то Роза таким тоном, что Алику сразу стало понятно, что она так и поступит.
Жизнь полна компромиссов. Она сама компромисс, иначе бы на земле царствовали бесконечная ночь или день, хищники бы съели всех травоядных, море затопило сушу, или, наоборот, суша вытеснила бы всю воду в один глубокий колодец. Так и человеческая жизнь. Нельзя постоянно саблей махать, иначе можно порубить в шинкованную капусту самое дорогое. Но иногда душу поражает неодолимый гнев. Так все-таки что важнее: поиск путей сближения или поиск сил для продолжения конфликта? Алик сам был полон воинственности в текущее книжное время, он лишь с течением времени осознал великую силу компромисса и сближения с недругами. «Когда нечем заменить то, что имеешь, зачем рвать или выбрасывать?» – спросил он себя впоследствии. Но молодости нужна победа.
Почти всегда житейские проблемы упираются не в дилемму «быть или не быть» в смысле – «жить или не жить», а в самый обыкновенный подсчет элементов выигрыша и потерь. А как узнать, если не попробовать? Тем более на Севере светила квартира! А тут еще родственник проездом…
ДОРОГА НА СЕВЕР
«Жизнь должна изменяться, иначе не заметишь ее»

На Север по заснеженной февральской трассе неслась компактная белая автомашина «Нива». На заднем сиденье в окружении сумок сидел Алик. Жизнь побросала его, теперь дорога укачивала на заботливых ладонях колдобин, она успокаивала его, словно заботливая мамаша свое беспокойное мало-маленькое дитя. Алик смотрел вокруг и пытался разглядеть красоту загородной природы, но в глаза лезла гипнотическая накатанная лента спрессованного снега и льда, мелькавшая меж двух силуэтов, сидевших на передних сидениях: водителя и родственника.
– Поехали, посмотришь, как живут на Севере, – предложил родственник.
И вот едва различимая правая сторона обледенелой дороги неслась под колеса. По сторонам равнодушно мелькал заснеженный лес, чьи верхушки отплясывали безумный танец, как график сердечных ритмов на ленте кардиограммы. В салоне успокаивающе играла музыка, напоминая о молодости в песнях «Бони М». Мысли устремлялись прочь, в какие-то иные леса и ситуации:
Зима! Ах, модница какая!
Свои уборы поправляя,
Своим величьем удивляя,
Идет спокойно, вся блистая!
Была шалуньей озорной,
А стала белою княжной!
Она легка, нетороплива
И даже, кажется, счастлива,
Что рядом шествует ВЕСНА.
А с нею, близкой подругой,
Зима прекрасна и мила
И перед долгою разлукой.
Пока водитель гнал машину в спокойном темпе, душа Алика покоилась на незримых успокаивающих подушках безмятежного легкомыслия. Эта была первая его поездка на автомобиле на столь дальнее расстояние, исчисляемое не только сотнями, но и тысячами километров, и трепетание чувств возникало. Пассажир над дорожными обстоятельствами не властен. Бывало, что их машина после обгона едва успевала вернуться на свою по¬лосу, как мимо с шумом пролетало встреч¬ное чудовище.
«Пронесло», – восклицал кто-то в го¬лове Алика, но поскольку «проносило» регулярно, он успокоился, несмотря на тревожную статистику дорожных катастроф, которая теперь перешла в разряд нереальных россказней. Что с того, что в автокатастрофах людей погибает больше, чем при крушении поездов и самолетов, если эта единственная машина едет так уверенно? С ней, наверняка, ничего не случится: гибнут дураки…
Где-то в районе населенного пункта с иноземным названием Пыть-Ях во сне Алик почувствовал, как машина резко вильнула, взревел мотор. Алик открыл глаза. Ничего. Только темнота, нереальные, вырезанные светом фар силуэты деревьев меж двумя головами впереди.
– Что случилось? – спросил он, сладко зевнув так, что нижняя челюсть чуть не вылетела из височных суставов, как уже случалось.
– Да ничего, спи. Прицеп за «Камазом» на гололеде начал сворачиваться, вылетел на нашу полосу и чуть не перекрыл дорогу, еле объехали, обочину немного зацепили, – тревожно ответил водитель.
Алик не знал, что проехать на скорости по обочине на северных дорогах равносильно самоубийству, потому что летом обочина сплошь песчаная. Колеса, попавшие в песок, пробуксовывали, колеса оставшиеся на дороге гнали вперед. Из-за разницы скоростей колес машину разворачивало на дороге, и она неизбежно переворачивалась, а там как повезет. Их спасло то, что песок обочины обильно впитал осенние небесные воды, а зимняя сибирская стужа заморозила эту смесь до состояния железо-бетонной плиты, но нет ничего успокоительнее незнания.
Второе приключение было опаснее. Они обогнали автобус, но только вернулись на свою полосу, как гололед напомнил о себе ощущением легкого холодка в животе, возникающего обычно в свободном полете. «Нива» неуправляемо заскользила по трассе это мгновенно сообразил даже Алик, никогда не попадавший в такие ситуации. Сон исчез, словно кто-то нажал на кнопку отключения. Как на экране телевизора – щелк – и нет картинки. Алик резко подался вперед и в напряжении застыл. Состояние полета длилось секунды, доли секунды и исчезло так же внезапно, как появилось. Водитель откинулся на спинку сиденья, явно облегченно, и сбросил скорость. В ответ на это автобус обогнал «Ниву» с оскорбительно продолжительным сигналом, пронзительным, как вой пожарной или милицейской сирены, но только обогнал и заскакал впереди на перекошенных дорожных плитах, как сам сбросил скорость. В кабине «Нивы» раздались нехорошие слова, которые не принято говорить при детях и женщинах. Алик опять встрепенулся и увидел, как мощный зад автобуса угрожающе быстро приближался к ним, сияя кровью габаритных огней. Водитель инстинктивно нажал на тормоза, автобус стал удаляться, но «Ниву» развернуло бочком, и она неуправляемо заскользила…
Алик вцепился в переднее сиденье. Навстречу спешила колонна мощных грузовиков, их фары слепили глаза, как солнце. «Все, конец», – подумал он, однако «Нива», скользя бочком по трассе, чудесно про¬скочила мимо колонны тяжелых автомашин, лишь потом ее развернуло полностью поперек дороги. Алик еще успел удивиться, что колеса и поперек движения скользят не хуже, чем напрямик, как «Нива» наткнулась на обочину. Удар о наст был шумный. Трах – бах! Машина закувыркалась и примерно через три переворота замера на боку, оставив в душе Алика угнетающее, внезапно возникшее чувство покорности судьбе.
«Как животное на бойне, со всех сторон зажат, и не вырваться, – оценил Алик. – Только орать как-то стыдно. Вот так люди и погибают, не успев осознать».
– Ты убрал бы ноги с моей головы, а то вылезать надо, – попросил родственник, толкая Алика…
Они вылезли через пассажирскую дверь, как через люк танка и увидели, как к ним спешат люди, пассажиры злополучного автобуса, проваливаясь по колено в снег.
– Что случилось?
– Как вы?
– Все в порядке?
Участливые вопросы вернули в реальность.
– Все нормально, мужики, – сказал водитель, испытывая к ним поистине теплые чувства.
Шутники могли уехать, но остались. «Ниву» вытащили на трассу на руках. Поставили. Проверили, заводится ли. Машина оказалась целой и работоспособной. Поехали дальше…
– Почему на Севере дорога буграми идет? – спрашивал Алик.
– Дорогу лихие люди строили. Не понравится мастер или начальник, жизни лишали, а тело укладывали под полотно. Мертвецы гниют, образуются пустоты, вот плиты и проваливаются, – отшутился родственник, сохранив серьезные интонации.
– В этих местах, наверное, зверья много, – предположил Алик.
– Есть такие двуногие, – согласился водитель, думая о своем.
– Нет, я говорю о том, что в лесах водится, – уточнил Алик.
– До прихода человека леса шуршали от обилия дичи, – сказал водитель. – Но все постреляли, природу нефтью залили. В лес пойдешь, осторожнее будь.
– А что такое? – спросил Алик.
– Зверье от нефти мутировало, – ответил водитель и незаметно для Алика подмигнул родственнику. – Охотники в лесах вокруг маленького нефтяного города уже давно привыкли к виду черных медведей, зайцев, уток, гусей и куропаток. Это зверье шастает зимой и летом одного цвета не в силу генетических особенностей организмов, а в силу порывов нефтепроводов, фонтанирования скважин и разливов ямо-амбаров, куда нефтяники сливают всю грязь, образующуюся при бурении скважин. Черные почитаются на Севере, как юродивые на Руси, как коровы в Индии, и стрелять их, обиженных жизнью, считается большим грехом. Их при встрече обходят стороной и милиция, и простой народ, а громадные черные зайцы-переростки со слипшейся, замазученной шерстью идут мимо, оставляя зимой на снегу, летом на мхах устрашающе черные следы. И жрут они, падлы, одну нефть, и самих их есть нельзя. Замирают охотники в кустах с трепетом в сердце, опасаясь, как бы черный заяц их не заметил, потому как ходят слухи, что и убить их нельзя, а укус их смертелен. Чтобы не навлечь гнев Черного, требуется смирение…
– Перестань, а то запугаешь человека, – весело смеясь, прервал водителя родственник. – У нас только одних черных как грязи – с южного запределья российского – азеров, казахов и прочих. Что их сюда, в морозы, тянет, ясно. К нам они за деньгами едут, на российской земле жиреют, а русских на своей земле притесняют и гонят с обжитых мест. Вот правда жизни, точнее, горе.
– А на Севере вода горячая есть, чтобы помыться с дороги? – продолжил расспросы Алик.
– Конечно. Выходишь на улицу, снегу нагребешь в ведро, топишь его на плите и умывайся, а хочешь – ванну набирай, – продолжил игруводитель. – Кстати, осталось семьдесят километров. К Карамовке подъезжаем…
Пост ГАИ отозвался радостью в сердце. После безлюдной трассы с редкими автозаправочными станциями, такими редкими, что проехать на Север было невозможно без полной канистры в багажнике, признаки цивили¬зации радовали: кафетерий со ска¬зочным названием «У трех дорог», надеж¬ное здание поста, направляющие оградки, бронетранспортер, вооруженные автомата¬ми милиционеры…
– Осталось сорок пять километров, – сказал водитель. – Смотри направо.
Побледневший от времени журавль заглядывал в колодец и что-то высматривал. Скорее всего есть ли там вода. Когда-то он вытаскивал клювом ведра с водой для романтичных и основательных первопроходцев Крайнего Севера. Но этот период прошел, нахлынула вторая волна переселенцев, готовая использовать обжитые места, и в глубине колодца упокоилась тина и брошенные беззлобными отдыхающими пустые бутылки, и не было отклика на интерес птицы. Рядом догнивали два покосившихся от одиночества навеса и покоился громадный первозданный камень с надписью, по¬священной первопроходцам.
– Симпатично, – вынужденно похвалил Алик, чтобы не обидеть.
– Осталось тридцать пять, – возвестил шофер, когда «Нива» взлетела на огражденный мосток. – Пяку-Пур.
О происшедших на дороге авариях напоминало редкое кладбище, устроенное вдоль обочины. От нечего делать Алик посчитал: на отдельных участках дороги количество надгробий до¬ходило до трех на один километр. Каждые триста тридцать метров – человек, а то и семья, свободнее, чем на кладбище, но жутко. Некоторые могилы ухожены: красивый памятник, ря¬дом скамеечка, вокруг ограда, возле па¬мятника цветы. Мысль о смерти ви¬тала над этой дорогой. Лихой народ.
– Почему так много? – спросил он.
– Наш нефтяной городок как аппендицит, – ответил водитель. – Ближайшая железнодорожная станция и более-менее цивилизованный центр – в ста двадцати километрах по асфальтированной дороге или в во¬сьмидесяти километрах, если напрямик по лесам и болотам. Пассажирские самолеты и вертолеты к нам не летают, поез¬да не ходят. Трасса – единственная связь с миром. Движение насыщенное, народ разухабистый. Строительство в этих местах началось всего десять лет назад…
«Дорога собирает дань за существование маленького нефтяного города, в который я еду. И за жизнь она берет плату жизнью, – понял Алик. – Платой за любое ускорение жизни общества, за любой прогресс в жизни общества, за любое территориальное распространение жизни общества есть смерти людей, которые могли бы жить. Пропорция должна быть уравновешена».
***

Когда после безлюдья дальней трассы, где машина может сломаться, разбиться, где ее могут остановить бандиты, после леса, непрерывного леса, надоедливого леса, постепенно превращающегося в сообщество худосочных деревьев, растущих на землях, свободных от унылых болот, превращающихся зимой в заснеженные пустынные пространства, где ветер разгоняется так, что машина едва не слетает с трассы, возникают дома долгожданного города, маленького нефтяного города, пусть не красивого, но желанного и жилого, где можно отдохнуть, хочется целовать всех подряд за такой подарок. Сиюминутно, проходяще, но хочется. Вопроса, как возник город, в этот момент не возникает, как у большинства не возникает вопроса, как родилось солнце – греет, каждый день восходит – и слава Богу. Хотя и Бога, пожалуй, редкий человек благодарит. Да что солнце!? Город в тайге воспринимается в первый момент более восторженно, чем солнце, потому как можно не увидеть и не доехать. Дома, магазины, светофоры, машины, люди, и в квартирах есть вода, и холодная, и горячая там, где говорили, что лишь медведи по улицам ходят.
Родственник поселил Алика у себя. Квартира была трехкомнатная и по стандартным меркам вполне хорошая, если не считать недостатком сумрак, который в ней стоял в любое время дня. Причем солнце редко и слабо гостевало в этой квартире не столько из-за северного ее расположения, сколько из-за того, что стекла покрывались толстым слоем льда, а как раз зима и бесилась за окнами.
Подъезд напоминал хорьковую нору по признаку, по которому определяют человека, как хорька. Много подъездов – много хорьковых нор. Но в целом приятно, что не древесные избушки, и не шкурные чумы, и снег не надо собирать в кастрюлю, чтобы натопить горячей воды, и хорошо, что и кухня, и плита, и еда, и все по-домашнему. И выпить по этому поводу не грех…
Алик полагал, что за те деньги, которые люди зарабатывают на Севере, они трудятся, не покладая рук. Он часто вспоминал рабочих возле гудящих, устрашающе сильных токарных станков, через чей цех он проходил каждое утро от проходной в родном сибирском городе, куда как южном по отношению к Крайнему Северу. Сверкающая, сияющая синеватой окалиной пружиноподобная стружка собиралась возле станков в темные змеиные кучи, а рабочие стояли целый день у станков и точили какие-то болванки. Они их точили изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Из болванок получались какие-то блестящие свежерезаной сталью детали. Утром их было мало, а то и вовсе не было, вечером они выстраивались строем новобранцев. Ничего ужаснее жизни, которую вели эти рабочие, Алик не мог себе вообразить. Восемь часов на ногах, бездумная механическая работа, в которой каждое действие заучено наизусть, вечерняя усталость, домашний диван и телевизор, и опять по кругу. Он думал, что северные рабочие, судя по зарплате, стоят возле станка не с утра до вечера, а с утра и до утра, что они и не знают диван и телевизор. Однако, первый рабочий, замеченный им на промышленной зоне, когда они проезжали по маленькому нефтяному городу на «Ниве», беспечно шел, почти прогуливался по заснеженной территории своего предприятия, лениво попинывая ледяные катышки, попадавшиеся ему на пути. Никто не кричал ему вслед: «Давай быстрее!» Никто не ругал матерно. Рабочий шел, никуда не спеша, и похоже без дела. «Вот это Север!!!» – мысленно восхитился Алик и запомнил эту картинку на всю оставшуюся жизнь. Север был щедро намазан сладким, но не деньги или посулы предопределили выбор Аликом своей будущей работы – выбор предопределило прошлое.
ВЕСЫ
«Продавая себя, надо тщательно взвешивать и подсчитывать, потому что такой товар у каждого единственный»
Вначале выбор судьбы делают родители. Алик, как и большинство его сверстников, не осознавая и не слишком долго раздумывая, внял совету отца и пошел, как говорится, по его стопам в технический институт.
Лишь спустя много лет, когда он получил образование и несколько лет отработал по полученной специальности, он понял, что сварка металлов – не его призвание. Важно в данном случае было то, что в отличие от многих он успел данный факт осознать не в том возрасте, когда тело и мозг становятся уже не способными на изменчивость, а во вполне работоспособном возрасте до тридцати лет. И помогло ему в выборе то, что он очутился вдали от всех подсказчиков и помощников на далеком от родины Крайнем Севере, в квартире у родственника, которому до него, по большому счету, дела не было, а когда окажешься в воде на глубине, где привычную землю ноги не достают даже вытянутыми вниз пальцами, то либо научишься плавать, либо утонешь…
Алик всегда был человеком странным, он жил словно в другом мире, настолько далеком от видимого большинством, что сверстники в нем не ощущали конкурента по реальности и даже не били. Он был разный, настолько, что постороннему могло показаться полное отсутствие в нем каких-либо цельных убеждений. В нем легко уживались математический склад ума и художественные пристрастия. В отношениях с людьми он мог быть всепрощающим и жестким. В решениях дальновидным и несмелым. Что делать с собой, когда тебе тридцать, все дороги перед тобой, а та профессия, которой обучился и следовал, не интересна?
Алик выбрал время, когда северный родственник и его семейные, которых мы не будем касаться в данном повествовании из-за полного отсутствия их влияния на нить повествования, ушли на работу, сел на диван в зале, полутемном в мартовский день, потому что окна застекленного балкона были сплошь покрыты изморозью и льдом и едва пропускали солнечный свет, взял чистый лист бумаги, провел по нему линию, разделив поле листа на две примерно равные части. На одной сверху написал: «Мои крупнейшие успехи». На другой стороне – «Способности, которые помогли мне этого добиться». Второй лист бумаги поделен на три части, и надписи были другие: «Мои крупнейшие неудачи», «Способности, которых недоставало, чтобы миновать неудачу», «Как я вышел из ситуации».
Такой подход к собственным проблемам не был случайным, потому что Алика больше всего в жизни интересовал он сам. На тему изучения самого себя он прочитал массу книг и провел достаточно бесед с умными людьми. Граф было много, но мы не будем их перечислять.
Перед тем как съесть подпорченное яблоко, а именно такова была жизнь у Алика в этот момент, желательно вырезать его подгнившие участки, тогда оставшееся вполне годно и даже вкусно. Получалось так, что то яблоко, которое Алик мог есть в течение всей жизни, должно быть начинено до предела интеллектуальной начинкой, позволявшей удовлетворить любопытство, стремление к новизне и писательско-аналитическому труду. Но где найти такую работу в маленьком нефтяном городе, где почти все население приехало, чтобы либо крутить рулевое колесо автомашин, разъезжая по промыслам, либо строить дома и прокладывать инженерные коммуникации, либо добывать нефть? Конечно, если быть точным, народ приехал в этот неприветливый край для того, чтобы больше заработать с помощью тех способностей, о которых мы упомянули в предыдущем предложении.
Алик ходил по заснеженным оледеневшим тропам маленького нефтяного города, натоптанным ногами жителей поверх тротуаров, заглядывал в магазины, расположенные в квартирах домов, размышлял о предложениях родственника, сводящихся к тому, чтобы стать руководителем производства, понимая, что это ошибочный путь и только в крайнем случае при нужде…, как вдруг в один действительно великолепный момент он в очередной раз купил неприглядную местную газету, которую все называли «программкой», глянул на нее и понял…
ПЕРВЫЙ ШАГ
«Дети, как поршень, выталкивают взрослых из жизни»
Первым человеком, встретившимся Алику в редакции городской газеты маленького нефтяного города, стала толстушка Светлана Петровна (для своих просто Петровна), сидевшая в редакции на дежурстве, милая улыбчивая женщина, в поверхностную часть души которой можно влюбиться с первого взгляда и навсегда. Она магнетически притягивала, с ней хотелось общаться и общаться, исповедоваться и ждать. Чего ждать? – непонятно. Но таково было свойство натуры Петровны – притягивать людей.
Ее покрытые нежным пушком щечки, пухлые губы, короткие кудряшки волос напоминали о море нерастраченной любви, присущей Ильфо-Петровской мадам Грицацуевой. Они и были бы полностью схожи, если бы не полное внешнее отсутствие жажды обладания вещами и мужчинами у Петровны и непонятно откуда взявшаяся в маленьком нефтяном городе интеллигентность и даже светскость.
Ее проникновенный голос завораживал, ее слова светились, как нежданно красивые цветы средь загаженной природы.
– Я хотел бы устроиться в газету, – сказал Алик, – но не знаю, возможно ли. У меня нет образования в этой области.
– У нас все, кроме редактора, не имеют образования. Важно, чтобы ты писать умел, – так Петровна, не понимая того, очертила принцип жизни северного города, потому как деньги, получаемые людьми на Севере, редко соответствовали их профессионализму и больше напоминали легкие и большие деньги, срубаемые на халтурках, на вредных производствах.

…Точнее не писать, а творить и сочинять, – добавила Петровна.
Омонимическая стыдливость к слову «писать» почему-то прочно приклеилась ко многим работникам газетного производства, и она украсила розовым оттенком пухлые щечки Петровны.
– Составлять тексты я умею, – понятливо ответил Алик. – Работал в институте. Сам изобретал, составлял заявки на изобретения. Пишу стихи, дневник.
– Ну что ж. По-моему, ставка корреспондента у нас есть. Когда редактор появится, я с ним переговорю. Заходите…
– А когда он появится?
– Он живет в другом городе, раз в неделю заезжает. Заходите, – еще раз вежливо напомнила Петровна.
Встреча с редактором Бредятиным, носившим очень и очень творческую шевелюру и бородку, излучавшим вокруг себя устойчивую заумную ауру, была не очень приятна.
– Мы можем принять тебя, но только фотокорреспондентом. Это очень небольшие деньги, самые маленькие, скажу честно, но других ставок нет, – сообщил он.
– Хорошо, – согласился Алик, хотя и разглядел в уклончивых глазах Бредятина неприятную хитринку. – Годится, если не надо отсиживать в редакции рабочее время.
– С этим не будет проблем, – заверил Бредятин…
Проблемы возникли, когда редактор захотел в отпуск. Кто любит бесплатный производственный энтузиазм, кроме начальства? Бредятин хотел отдохнуть и искал подмену.
– Мы же с вами обговаривали, что я нахожусь в свободном полете, – напомнил Алик редактору.
Бредятин не привык к отказам, по крайней мере от подчиненных, и последующие события напоминали сход снежной лавины, вызванной громким восхищенным возгласом средь спокойных нетревоженных гор, копивших снег столетиями. На столкновении интересов Алик лишился любви и заботы редактора. Затем его невзлюбила ведьмообразная жена редактора, имевшая пышные черные прямые волосы, казавшиеся неукротимыми, крайне неприветливое лицо и работавшая в газете, естественно, заместителем. Невзлюбила Алика даже лохматая песчано-белая колли Бредятина, которую тот изредка брал на работу. Она покусывала, точнее пощипывала зубами, под столом ноги Алика, когда они всем коллективом в перерывах между работой и обычными разговорами, которые порой и заполняли все рабочее время, пили чай в прокуренной кухне двухкомнатной квартиры, служившей в то время редакцией. Алик время от времени попинывал сволочную собаку, а к мнению руководства всегда был равнодушен. Он строчил газетные тексты на ударной пишущей машинке, купленной по случаю, потом резал отпечатанные листы, стыковал по новому полученные куски, что-то выбрасывал, что-то клеил, допечатывал, получал самую низкую в редакции зарплату, и более его ничего в редакции не интересовало.
Даже самая беззащитная тварь земная, если ее зажать и мучить, может укусить. Нашего героя беззащитным назвать сложно. Интуиция погнала его в администрацию маленького нефтяного города, к чиновникам, учредившим газету. Оказалось, что Бредятина, бывавшего в этом маленьком нефтяном городе наездами, давно хотели снять за то, что он северную городскую нефтяную газету превратил в трибуну чайки по имени Джонатан и милого ему Рериха. Люди в доме, из которого велось правление маленьким нефтяным городом, хотели читать побольше хорошего о себе и о своих добрых знакомых, а получали философские тексты, которые не понимали, и скучали. Кто такой Рерих по сравнению с Главой далекого от Гималаев маленького нефтяного города? – дождливое облако над вязкими болотами. Что образ мысли Рериха по сравнению с образом мыслей жаждущих денег людей, уже давно пожертвовавшими для этой цели красотами мира? – шифровка…
Прервала размышления Алика жена Бредятина. Она подошла, гася свет чернотой своих волос и заглядывая никак не менее, чем в желудок Алика злыми недовольными глазами. Слов не прозвучало. Она впервые бросила Алику исчерканные листы его работы.
«Почерк сучки, – узнал Алик. – Мстит за отказ подменить их в отпуске или прослышала, что я был в администрации». Как понял Алик впоследствии, это была любимая месть руководства газеты своим подчиненным – исказить текст правкой до неузнаваемости. Любой человек безотчетно неравнодушен к любому своему творению, пусть даже и некрасивому. И нет болезненнее удара, чем едко упрекнуть…
Майский снегопад, возникший в последний день месяца, добавил безысходной грусти. «Оплаканное и не началось. Немного жарких дней ему пришлось», – написал Алик тут же про северное лето. Руководство редакции также пребывало в унынии. Казалось, что сама жизнь угасала, когда Бредятин сидел за печатной машинкой и нервно печатал депеши в администрацию, которая всегда рада лишний раз продемонстрировать пренебрежение служкам из собственной газеты. Бредятин посылал все новые требовательно-доказательные бумаги и получал все более неутешительные ответы. Алик смотрел на это и думал:
«Абсолютная уверенность в своей правоте – это всегда плохо. Бескомпромиссность власти понятна – это сытая уверенность хозяина положения. Безоглядное упрямство творческих людей – это нонсенс, заставляющий думать об ограниченности мозговых способностей у данного вида газетного гомо сапиенс. Наша сторона может взять только хитростью и ловкостью, а также четким соблюдением установленного порядка. Хозяева не понимают игры по правилам, придуманным игроками…»
Однако не так глуп был Бредятин, как считал Алик. Расчет Бредятина в силовом столкновении с администрацией города строился на авторстве на название газеты. Он считал, что Глава не решится его уволить, и поэтому в чиновничьих кабинетах позволял себе кричать:
– Заберу раскрученное название газеты, и тогда живите, как сможете, никто вас читать не будет…
И слух о подобном по маленькому нефтяному городу ходил…
СЛУХ О ХРЮНЕ
«Иной раз несколько знаков на дешевом листе бумаги обеспечивают жизнь лучше, чем упорный ежедневный труд»
В маленьком нефтяном городе наркоманов было хоть отбавляй. И судить некого, поскольку милиция сама подрабатывала на привозе. Ловили одного из двадцати – случайных. Хрюндиков, для своих Хрюн, – молодой парень, сын бухгалтерши из Комитета финансов городской администрации, имел отличительные воровские глазки, среднее телосложение и привычку периодически вводить в вену дурманящие растворы. В наркотическом бреду он летал по всему миру, потому второе, что он страстно любил, всемирную компьютерную сеть.
Офонаревшая от свободы страна продавала все, что могла и как могла. И кому это в голову пришло, сказать сложно, но где-то в кулуарах Правительства решили добыть деньги, продав названия городов. Прикинули, что название ничего не стоит, а деньги взять можно для повышения, например, пенсий. Разместили торговые прилавки на авось, в компьютерной сети, может, кто купит. У Хрюна хоть и мутные были глазки после очередной дозы, но рассмотрел он потенциальную силу в покупке названия своего маленького нефтяного города и был у прилавка первым.
Вначале – ничего. Спокойно. Хрюн изредка перечитывал название маленького нефтяного города, переставлял в нем буквы, стараясь составить еще какое-нибудь слово, чтобы хоть видимость, что за одну цену – два, но вскоре это ему надоело и он забыл о своей покупке. Так прошел год-два.
– Хрюн, пора тебе на работу устраиваться, – сказала как-то мать.
– Сам, ма, не против, – ответил Хрюн, – но никто не берет. Я ж зарегистрирован.
– Я в администрации похлопочу, ты ж в компьютерах петришь, – успокоила мать. – Сейчас как раз такие специалисты, как ты, очень нужны. Хоть на зелье заработаешь. Устала тянуть.

Хрюн стал специалистом компьютерного отдела администрации маленького нефтяного города – мыслящим прибором в руках чиновников. Работал, правда, не упахиваясь: в чате общался, виртуальных монстров стрелял, голых баб рассматривал, благо такого добра в компьютерной сети на каждой странице хватало. Деньги получал. Кололся. Кайф ловил. Все вроде имел Хрюн, но несчастлив, кто успокоился. Хрюн пошел дальше. Нашло на него исступление, и он в один вечер, когда все ушли по домам отдыхать, остался вроде как повечерять, а сам продал на сторону все оборудование компьютерного отдела и кинулся в загул. Скупил весь героин в маленьком нефтяном городе и устроил такой кутеж, что объявился на работе только через две недели.
Скандал произошел великий. Его мама, возвращая украденное сыном оборудование, израсходовала все многолетние накопления. Глава маленького нефтяного города вызвал Хрюна, еще не протрезвевшего, и гневно безаппеляционно сказал:
– Пиши заявление на увольнение.
– Хорошо, – согласился Хрюн, – но вы чего-то недопонимаете.
– Что!? – повысил голос Глава.
– Поутихни, дядя, а то неровен час обделаешься, – спокойно ответил Хрюн. – Вы знаете, что название города мое?
– Ты что – сдурел? – спросил Глава.
Его лицо, словно рубленное топором, но от сытой жизни обретшее плавные очертания, нервно подернулось.
– Может, и сдурел, но это к нашим делам отношения не имеет, – ответил Хрюн. – У меня есть официальный договор на покупку названия вашего города. Если вы меня увольняете, то ищите новое.
– Покажи договор, – потребовал Глава.
– Нет проблем, – ответил Хрюн, встал и бросил на стол Главы лист бумаги с синевшей внизу солидной печатью, судя по количеству в ней текста и наличию государственного герба.
Глава пробежал глазами по листу, нахмурился, а Хрюн выдернул из его рук договор на покупку города, весело глянул и направился к выходу, сказав предварительно:
– Думай, дядя, на то ты и Глава, чтобы голову-то иметь…
Чиновники забегали, выискивая возможности забрать название города у Хрюна, но его покупка оказалась законной, и самое плохое, что изменить название города было невозможно: прижилось. Если Хрюн запрещал его использовать, то город терял адрес полностью. На конвертах можно было написать автономный округ, улица, дом, квартира, а город без согласия Хрюна нельзя. Напротив расписания автобусных перевозок вместо названия города в случае усугубления конфликта с Хрюном могла остаться пустота…
– Похоже, Хрюн, что в прошлый раз я с тобой погорячился, – сказал Глава при следующей встрече. – Работай, как работал. Можешь на работу не приходить, деньги тебе домой занесут. Что еще надо? Говори. Если скажешь, так и наркотики можем прямо в квартиру…
– Спасибо за заботу, – поблагодарил Хрюн. – Я верил, что мы сработаемся.
– Если что, ты только позвони…
Началась у Хрюна великолепная жизнь. Буквально вскоре после этого туристы Крайнего Севера встретили его на острове Бали, где царило вечное яркоцветное лето, в окружении тамошних красавиц. Хрюн угощал и рассказывал:
– А я ему говорю: ты у меня в кулаке. Хочешь, чтобы город остался с прежним названием, – плати. Не хочу жить на Крайнем Севере, хочу жить на заграничном юге, в самом райском местечке. Деньги шли на мой банковский счет на Бали не позднее пятого числа каждого месяца, и не дай бог заставишь меня волноваться и звонить…
***
Бредятин поверил слуху о Хрюне и надеялся, провернув аналогичный шантаж, получить крупный выигрыш, но чиновники решили, что название небольшого издания маленького нефтяного города, пусть даже единственного издания, – это не название города и им можно пренебречь.
Все, кроме руководства редакции, остались при работе. Изменилось название газеты. Алик с корреспонденткой по фамилии Мерзлая стали претендентами на должность редактора.
Мерзлая носила мощные очки, создававшие иллюзию огромных глаз, имела крупную некрасивую родинку на правой щеке, тело, возросшее на излишнем питании и недостатке движения, являвшее собой не символ средневековой гармонии, а распущенность, сластолюбие и чревоугодие, но, как многие женщины, считала себя безумно привлекательной. И вот стояли они, Алик и Мерзлая, на пронзительном, леденящем и, казалось, летящим со всех сторон света попеременно июньском ветре возле отделения двухэтажной коробушки, цвета некрашеного строительства, где находился банк маленького нефтяного города, и делили должности.
– Я не хочу быть редактором, – схитрил Алик. – Давай я буду твоим заместителем, а ты руководи. Все ж у тебя мать была редактором.
Определять направление своих поступков надо из невозможности поступить иначе. Алик не хотел ограничивать свою свободу без убедительного повода. Он не любил революции даже тогда, когда на них шел. Революции отнимали много сил и не давали равноценного выигрыша. Зачем нужны лишние обязанности, если не страдаешь карьеризмом? К начальству надо быть близко, чтобы иметь деньги, но все же не настолько близко, чтобы обжечь крылья. Алик не желал встречаться с Главой города, он строил буфер и любил жизнь.
– Но я одна не справлюсь, – испуганно призналась Мерзлая. – Сам знаешь, мама живет далеко, в Янауле, телефон денег стоит. Мне нужен помощник здесь.
– Буду помогать, чем смогу, – чистосердечно заверил Алик.
– По нашему штатному расписанию у редактора есть два заместителя: ответственный секретарь и выпускающий редактор, – сказала Мерзлая.
– Секретарь – это не по мне, – ответил Алик, исходя из общепринятых знаний о секретарской должности. – Буду выпускающим редактором.
– Договорились, – согласилась Мерзлая и тем самым отодвинула Алика от себя как возможного претендента в будущем на ее кресло, причем отодвинула при его добровольном согласии, поскольку прямым заместителем редактора был ответственный секретарь, а выпускающий редактор была скорее техническая должность, чем творческая.
Незнание тоже сила, только сила конкурента или противника. Так Мерзлая стала редактором, а Алик даже не понимал, что уже проиграл карьеру ближайших лет, но, к слову, если бы он об этом и узнал, то более всего огорчился бы от молчаливой хитрости Мерзлой.
День рождения новой газеты отмечали с шиком. На столе появились и быстро исчезли малоградусная водка «Стопка» с дынным привкусом, шампанское, ликерчик из магазинчика в соседнем подъезде, вареная картошка крупными кусками с сосисками из консервной банки, запеченная в духовке картошка, нарезанная на манер лапок с кусочками чеснока между пальчиками, соленые грибочки из местных таежных лесов, свежие помидорчики… Магнитофон пел Киркоровым. Гадали на кофейной гуще. Алик был единственным мужчиной среди женщин. Многие потом завидовали, говорили: «Малина!!!» Но с другой стороны всем женщинам надо было во избежание ненужных обид уделить равное внимание и никого не выделить. Алик старался, и ему удавалось балансировать меж притягательными и пропастными объятиями. Вначале бабоньки сидели скованно, потом разошлись-расплясались. Набежали их мужья, и стало еще интереснее. Но не все супруги понятливые. Некоторые ревновали и не посещали такие собрания и впоследствии. Так сразу после дня рождения газеты новоиспеченную редакторшу дома отлупил муж, и на следующий день Мерзлая пришла в редакцию в очках с очень затемненными стеклами, под которыми угадывались выдающиеся синяки.
Впрочем, в этот момент Алика волновали не столько женщины, сколько блестяще представившаяся возможность громко заявить миру о своем существовании, пусть не всему миру, пусть маленькому его кусочку, мыслящему зернышку, перепачканному нефтью. Алик всегда безрассудно, неосознанно стремился к бессмертию. Он хотел, чтобы его мысли были услышаны, имели отклик в умах, но не любил публичные речи, даже за праздничным столом он молчал, потому как не умел генерировать гармонию в шуме. Он вел дневник, писал стихи, плохие или хорошие – другой вопрос. Он их создавал, читал друзьям и стремился быть напечатанным, но опять же не предпринимал никаких действий, чтобы это его желание осуществилось. Все решилось само собой.
«В публикации присутствует стриптиз души. Очень хорошо, если читатель обнаружит, что твое обнажение прекрасно. А если нет? Если мысли, стихи, проза окажутся похожи на уродливого карлика или Квазимоду? Грозит всеобщий смех. Это риск. С другой стороны, Квазимода рискнул претендовать на любовь. А, пусть смеются или плачут. Я тоже хочу жить», – так рассудил он и стал отдавать стихи в газету, тем более что постоянные поездки в далекую типографию за добрую сотню километров хоть и сильно утомляли, но просветляли: голова становилась тяжелой от тряски по неровной дороге, но, как ни удивительно, пронзительно мечтательной.
Денег стало больше. Городская администрация решила побаловать коллектив вновь созданной газеты повышением жалованья. Радость новых ботинок мелка, но Алик неоднократно подмечал, что к значительным переменам в жизни иной раз приводят непримечательные пустяки, случайные, но точные слова. Они попадают на почву души. И появляется дерево. Идешь по жизни, переезжаешь, приобретаешь, теряешь, меняешь, а причина, порой, всего одна – давно забытая фраза. Ее можно раскопать в архивах памяти. По этому поводу он, подскакивая на ухабах северной трассы, сочинил не всем понятный стишок:
В тетрадях, тайниках, конвертах…
Простых предметах бытия
Хранятся ключики к вселенной,
Упрятанной в глубинах «Я».
Один лишь образ их…, иль запах,
А может, строчка… В мир чудес,
Как заяц на пушистых лапах,
Ускачет память в древний лес.
Этот стишок вышел в газете маленького нефтяного города под псевдонимом Женя Рифмоплетов – публично и безлично, а значит, безопасно. Почему память ускачет в древний лес воспоминаний именно на «пушистых лапах», Алик не мог объяснить даже сам себе, но все получилось вполне пристойно, в рифму и истинно, как он считал. Алик собрал достаточно предметов, напоминавших ему о прекрасных временах прошлого. Часы на стене квартиры, которую помог получить родственник бесплатно на грани распада общественной собственности, были из далекой Киргизии, нашивка от стройотрядовской куртки из Адлера, авторучка подарена партнершей по бальным танцам, надувная рыба полностью расписана пожеланиями одноклассников…
Запах мандаринов всегда чудился ему под Новый год как воспоминание о детстве, стальной запах трансформаторного железа напоминал о годах радиолюбительства, а дымок канифоли волновал сродни запаху шашлыка…
А строчки…
Несколько исписанных дневников лежало у него в ящике стола, где на каждой странице, словно гербарии, были сохранены чувства, и он иногда перечитывал их. Все это составляло его бесценное богатство, которое он боялся потерять, поскольку свято верил, что в них хранятся ключики к его счастью, его лучшие воспоминания, которые, к сожалению, делаются с возрастом все менее реальными.
***
Как разные виды рыб водятся в своих водных пластах, на определенных глубинах, так и люди в меру своего социального и общественного статуса обитают в определенных кругах знакомых. Как рыбы, так и люди почти ничего не ведают о том, что происходит рядом за в общем-то прозрачной гранью. Алик жил, как обычный человек, в своем полуреальном мире и даже не задумывался о людях, придумывавших правила жизни, правивших этим миром на разных уровнях власти, людях, использовавших других людей, нижестоящих в социальном смысле, в своих далеко не великих целях. Отчасти это происходило, как и в рыбо-животном мире, из чувства самосохранения…
Пришла пора приступить к рассказу о втором, в некотором смысле многоголовом герое нашего повествования. В этом же маленьком нефтяном городе примерно в это же время…
ЧЕРНЫЙ ПОДПОЛКОВНИК
«Если не учить молодежь, она никогда не постареет»

В полуподвальной камере предварительного заключения сидел Толя Воровань, по отчеству Семеныч, – начальник налоговой полиции небольшого нефтяного городка. Без уютной крыши погон клапаны его сердца беспокойно чавкали. Его лицо напоминало отечную морщинистую тучу, готовую разразиться сухими молниями ругательств. Он нервно постукивал ногтями, похожими на черные серпы, по деревяшке нар.
Семеныча взяли в три часа ночи прямо из теплой постели и посадили в самую холодную одиночку, где было зябко, несмотря на то что сентябрь еще только начался и был необыкновенно ласков для Крайнего Севера. В одной из соседних камер кто-то громко надрывно кашлял. На серой стене камеры скорее всего кариозным клыком, который валялся на цементном полу привязанным к черной суровой нити, был выцарапан стишок:
Я тоже рвал свои стихи
На мелкие клочки.
Они летели вниз, к земле,
Совсем как хлопья снега.
Вот только кто же создает
И рвет их наверху?
Наверное, и в жизни той
Не все бывает ладно.
Несколько раз перечел Семеныч кривые строки неизвестного сокамерника, взгрустнул, вспомнил о кукурузных хлопьях в молоке, которыми его в детстве потчевала мамаша, и сплюнул на пол. От долгого сидения ягодицы все более каменели и немели, тоскливые мысли обретали бессонную четкость, и на рассвете воспоминания по блистательному недавнему прошлому сами собой зашуршали, как страницы раскрытого романа, оставленного на волю ветерка.
***
Почти год прошел с того момента, как Кошельков, низенький и головастый начальник нефтегазодобывающего управления, вызвал к себе в кабинет Семеныча, тогда еще заместителя по коммерции, вместе с Нинкой Золотухой, снабженкой, и не простой, а начальницей отдела рабочего снабжения. Кошельков матершинник был несусветный, а тут обошелся без бранных слов:
– Дельце для вас есть. Толя, собирайся в командировку, в Москву. Там найдешь Штейтинга. У этих немцев фамилии как механизмы. По мне так одно, что Штейтинг, что Штангенциркуль, но ты не перепутай. Он руководитель фирмы «БЕС». Твоя задача забрать у него договор на поставку продуктов. Стоимость – два миллиона…
– Рублей? – пренебрежительно пропела Нинка.
– Долларов, голуба, долларов, – увесисто пробасил Кошельков. – Наш генеральный директор, наш любимый Генерал, Станислав Тихомирович Бороздилов, расщедрился, выделил на новогодние подарки труженикам нашего предприятия солидную сумму. Решил в последний раз шикануть. После Нового года акционируемся и таких возможностей может не быть. Частными станем. Останется только вспоминать о дешевых машинах, строительстве заводов по производству утюгов с поставкой оборудования на Крайний Север из тропической Индии и прочих угробительных для предприятия программах. Скоро богатые возможности будут иметь единицы, а остальные облизываться…
Перед этим разговором Кошельков немало думал, выискивая хоть каких-нибудь подходящих для планируемой операции иностранцев, владевших мощными продуктовыми фирмами. Он сильно потел, в голове стреляли боли скачущего кровяного давления от мысли о двух миллионах долларов, которые могли сгореть в желудках населения без какой-либо пользы для его кармана. Десять процентов с суммы проходивших через его управление сделок он умел отсеивать в свой домашний бюджет, но до этого случая имел дела со своими, российскими бизнесменами, которые знали Порядок. Договора заключались только с теми, кто в оговариваемую сумму вводил гонорар Кошелькова и Генерала, от которых зависело заключение сделки. Конечно, цена таких контрактов возрастала, товары и услуги становились странно дорогими, но кто возмутится? Тем более что все легко объяснялось непомерно высокими транспортными издержками по доставке, например, железобетонных плит в такой далекий край, как Крайний Север. Деньги Кошельков обычно получал наличными: человек сам приходил и отдавал. Иногда заключались дополнительные пустые контракты на подставных лиц. А тут требовалось провернуть сделку с иностранцем, который неизвестно как отреагирует на предложение российских правил коммерческой игры, и со Штейтингом просто повезло. Он оказался своим – советским немцем, переселенцем и даже более того, о чем мы расскажем далее…
–… Главное, запомните: государственное предприятие на излете, последние дни доживает, – продолжал напутствовать подчиненных Кошельков. – Если все пройдет тип-топ, то каждый из вас получит хорошую премию.
Воровань с Золотухой вышли, а Кошельков тут же перезвонил Генералу:
– Я своих настроил на исполнение задачи. Съездят в Германию в командировку, посмотрят на жизнь заграничную, и хватит с них. Многие и о том только мечтают. Наша доля от контракта с немцами обговорена. Ни вы, ни я в этом участвовать не будем, а если что-то не срастется, то козлы отпущения уже есть.
– Молодец, – похвалил Генерал, – но успокаиваться рано, дело завалишь, будешь искать работу…
Всего, что Кошельков делал и думал, Семеныч не знал, но догадывался, а посему летел в московскую командировку к господину Штейтингу в немного расстроенных чувствах. Он не любил бесплатное использование своих способностей. Хотя Кошельков и обещал премию, но Семеныч понимал, что наверху поделят гораздо больше. В Москве он встретился со Штейтингом. Тот составил договор, подписал его, Семеныч забрал бумагу, прочитал и обратил внимание, что в контракт внесены сыры и колбасы с укороченным сроком хранения. Чтобы успеть довезти их из Германии на Крайний Север в съедобном состоянии, надо приложить немалые усилия, но Семеныч промолчал, поскольку помнил напутственные слова шефа:
– Твоя задача простая: забираешь подписанную бумагу, не вникая и не создавая проблем. Все обговорено…
***
Кошельков, как только получил подписанный Штейтингом контракт, с предпраздничной дрожью в душе поспешил к Генералу:
– Станислав Тихомирович, все сделано. Цены приемлемые. Остаток за вами: надо подписать.
– Иди ты на хрен! – внезапно зарычал Генерал. – Хочешь, чтобы меня обвинили в мошенничестве и самоуправстве? Умник, мать твою…
– Нет, что вы?! Нет умысла…
– Думать надо! Без поддержки ничего. Совещание соберу. Мои замы не решатся возразить. Согласятся с контрактом. Лапы повскидывают в одобрение. Тогда сам подпишу. Зато, если дело худо пойдет, никто не скажет, что Генерал лично два миллиона пульнул. Все понемножку запачканы и даже вынуждены будут меня оправдывать, спасая свою репутацию. Да и тебе не рекомендую светиться.
– Вы голова, Станислав Тихомирович. Я всегда восхищался вашим умом, – привычно полицемерил Кошельков. – Как вы не доктор наук?
– С этим еще успеется, – подхватил идею Генерал и вскоре купил звание академика у хохлов за нефть, деньги за которую так и не были перечислены предприятию. Так пошла новая мода среди северных чиновников…
Контракт был подписан под общее одобрение замов, да и как могло быть иначе, когда сам Генерал убеждал, а он убеждать умел.
– На Севере живем, рабочие пышут воодушевлением, давая стране стратегическое сырье, но не нефтью единой жив человек, а от нефти. Кто кроме нас позаботится о простых людях, о наших людях? Если ты, ты, ты…, – Генерал показывал на каждого заместителя пальцем, и словно копьем прибивал трепещущие начальственные сердца прямо к спинке стульев, – …если ты им не поможешь, то зачем ты здесь работаешь? Разве место тебе в нашем нефтедобывающем предприятии, в нашем «Сибирьнефтегазе», в нашем «СНГ»? Нет, не место. И этот контракт на поставку продуктов питания – то, что ждет каждый из наших рабочих, желающих накормить свою семью. Прошу высказывать мнения…
Дураков среди замов не было. Все хотели работать, точнее получать свои достаточно пухлые зарплаты, посему в своих ответных речах они стремились не только одобрить предложение Генерала, но и существенно его улучшить. Заговорили наперебой, то об увеличении суммы контракта, то о вполне приемлемых ценах на продукты, то о необходимости скорейшей оплаты контракта, чтобы многострадальные рабочие быстрее получили продукты. Последнее предложение Генерал похвалил и приказал быстрее перечислить деньги, а с выплатой зарплаты рабочим немного подождать… в считанные дни деньги ушли в Германию.
***
Командировочные на Семеныча свалились, как первая брачная ночь. Он рассматривал редкостные в советской стране доллары и пьянел от счастья. Он рассматривал их на работе и дома, на столе и на просвет, нежно гладил их пальцами, смакуя неровности бумаги, горделиво показывал их родным, друзьям, знакомым, упиваясь завистливым удивлением на их лицах. Доллары были в диковинку, как ананасы и туалетная бумага.
Американские президенты смотрели на Семеныча с серо-зеленых бумажек ободряюще и возбуждающе. На ночь он клал их под подушку на сон грядущий, чтобы последним разумным актом перед входом в царство Морфея стало осязательное ощущение богатства. Единственное, что слегка тревожило Семеныча, это то, что Кошельков приказал ехать одному, не брать с собой товароведов:
– …, Толя, кто лучше всех определит качество продукта? Да тот, кто привык есть от пуза. Ты все разберешь не хуже специалиста. Я в тебя верю. Лишние люди – лишние затраты, лишние глаза…
– А при чем тут глаза, Борис Владимирович? Совет бы не помешал…
– Ох, Толя, ты, видать, за границей рассекаешь в своем воображении. Да не глаза, а газы, – выкрутился Кошельков. – В одном номере бы жили…
Красочная зона беспошлинной торговли в Шереметьево поразила Семенычево худосочное постсоветское воображение размахом торговли спиртными напитками, каких он никогда не пивал: баночное пиво и газводы, виски, джин, ром, «Мартини». Хорошо, что в самолете закусить дали, иначе в немецком аэропорту он вряд ли бы распознал табличку «СНГ» – аббревиатуру своего предприятия «Сибирьнефтегаз». А так, увидев три знакомые буквы, он уверенно запетлял к ним…
Штейтинг был тоже советским, и натуральная его фамилия – Безроднов. Он очень ее стеснялся и старался не вспоминать.
ФАМИЛИЯ
«Людей-то на самом деле получается гораздо меньше, чем рождается».
Родился Канабек Безроднов в Талды-Кургане – самом обычном казахскомгородке, построенном как обычно не казахами, а казаками да русскими. Родился у самых простых родителей и в этом, как он считал, крылся исток его неудач. Мать – казашка, отец – русский. Оба с утра до вечера работали на аккумуляторном заводе, вечером – в своем огороде, скотина, припасы, картошка, пастила из яблок, а толку… Сам Канабек приторговывал на рынке картошкой и прочими овощами и фруктами с родительского сада.
«У других ловко получается. И делать-то ничего не надо. За тебя родители отработали. Знай только родись, но не где случится, а у того, кто постом и званием обеспечен, тут тебе и диплом престижный найдется, и квартирка не хоть какая-нибудь, а там глядишь и имущества подкинут, да и о работе не придется беспокоиться: теплое местечко обеспечено, и такое, где трудиться особо не придется и деньги хорошие», – такие зрелые невеселые мысли одолевали Канабека до того момента, пока он не встретил Эльзу, дочку Штейтинга, известного в его городке официального миллионера, состоявшего в советское время на учете в горисполкоме.
Эльза была ничего себе девчонка. Но таких, которые «ничего себе», немало, а любовь штука очень даже управляемая, когда имеешь твердо определенные цели. Бесцельным же Канабека Безроднова назвать было нельзя. Он хотел исправить ошибку своего рождения и влиться в семью, где есть все, о чем мечтал, приобрести, так сказать, лик элиты. А тут жизненная удача на его пути подвернулась такая, что другую такую в его городе сыскать сложно. Все-таки не у всех миллионеров, каковых в его городке водилось ровно семь, имелись дочки и тем более на выданье, поэтому встреча с Эльзой очень даже вдохновила Канабека на любовные свершения…
Он даже инстинктивно читал стихотворные сборники, выискивал стихи, которые мог выдать за свои, и читал на вечерней зорьке своей перспективной подруге:
Когда о Вас я вспоминаю:
Лицо, глаза, изгиб бровей,
Смешную речь скороговоркой,
То мне становится теплей.
Ведь Вы действительно прекрасны,
Красивы, веселы, умны.
Искать сравнения? Напрасно.
Любых сравнений выше Вы.
Как говорить о той, что любишь?
Таким, как Вы – к ногам цветы.
Вы по-мальчишески задорны,
По-детски мыслями чисты.
Ваши черты, как Вам ни странно,
Узнаю среди многих лиц,
Как героиня из романа,
Сошли с его седых страниц.
Поверить в Вас – поверить в чудо,
А верить можно лишь любя.
Я Вас не знаю. Кто? Откуда?
Но в Ваше чудо верю я.

Свадебка разразилась пышная. Лысоватый Андрей Штейтинг, чистокровный русский немец, имевший богатых родственников на землях предков, не пожалел деньжат на радость гостям, дочке и своему зятю. Канабек Безроднов переполнялся радостью и эмоционально напоминал раздувшийся сверх меры воздушный шарик. Он еле сдерживался, чтобы не захохотать во всеуслышанье средь высоких гостей от достижения желанной жизненной цели. Он ощущал себя, как фанатичный альпинист на вершине Эльбруса, вдыхал свежий горный воздух, невесть как возникший в душной городской квартире, и пьянел, не опрокинув рюмки. Благо, что в отличие от воздушного шара, который бы в подобной ситуации просто громко лопнул, Канабек переживал свой триумф в душе, обитавшее где-то…
***
Где обитала душа Канабека? – на сей счет можно рассуждать. Душа человека любвеобильного и чувственного, скорее всего, водится в сердце, которое быстрее вздыхает при каждом удобном случае. Душа труса водится в пятках, так утверждает народная мудрость, но это спорно. У труса сердце трепещет не хуже, чем у чувственного человека, поэтому обитель его души опять-таки сердце. А в пятках, стопах, ногах водится душа заядлого бегуна, который живет ощущением работы икроножных и бедренных мышц. Душа хорошего повара – во рту и в желудке. Душа инженера обитает не иначе как в голове. Душа Канабека застряла на переходе от сердца к уму, и в результате Канабек не мог искренне любить и верно мыслить, а мог лишь глотать и думать о том, как сглотнуть больше.
***
Проглоченный кусок в виде дочки Штейтинга был сладок. Канабек мысленно хохотал, хохотал и хохотал, переживая свои старые тревожные мысли, мысли сына простых родителей, у которого интеллектуальный и имущественный потолок был на уровне какого-нибудь рабочего или инженера среднего уровня, но молчал, потому что соображал, что перечеркнуть карьеру можно всего одним неосторожным взмахом языка. Он осознавал многообещающие перспективы и восьмым животным сверхчувством угадывал, что мог надеяться на успешную безбедную жизнь, особенно если с ребеночком проблем не будет. Старики для своего первенца-внука сделают все, богатые – тем более.
«О боже, как повезло!» – мысленно повторял он, вглядываясь в лица гостей, приглашенных на свадьбу, средь которых узнавал городских начальников. Одно созерцание свадебных подарков так вдохновило его, что, даже будучи трезвым, он полез целоваться со всеми, благо воспоминания о целующемся взасос генеральном секретаре правящей партии были еще свежи…
После свадьбы, встречаясь со старыми друзьями, он не торопился протягивать им руку. Прежде чем поздороваться, задумывался, как отреагирует его тесть. Заходя в магазин, он с насмешкой смотрел на спешивших занять очередь за дешевыми суповыми наборами женщин, похожих на его мать…
Семейная жизнь – штучка ненадежная вроде лампочки, к которой подходят два провода под напряжением. Трагический скачок напряжения, и свет гаснет. Так и в семье: скачок влево, скачок вправо караются разводом, особенно – влево. Сегодня в семье, завтра за воротами. Канабек – не вольфрамовая нить, он понимал и действовал. Он выждал приличествующую паузу и принял фамилию жены. Канабек Безроднов стал Канабеком Штейтингом. Рассуждал просто. Известная фамилия те же деньги. Уж дворником-то никто не поставит. С фамилией Штейтинга можно даже в Германию.
Родители Канабека обижались, особенно отец, надеявшийся, что сынок понесет фамилию Безродновых через века как продолжатель рода. «На обиженных воду возят, – рассудил Канабек. – Старики живут по запыленным понятиям».
Некоторое время новая фамилия казалась Канабеку волшебно возникшим над ним ореолом божественного пламени, привлекающим мотыльки человеческих взглядов. Он испытывал почти физическое наслаждение, когда прохожие в их городке вглядывались в его лицо и переговаривались:
– Смотри, зять Штейтинга идет.
От ниспосланного ему внимания Канабек ходил по улицам как хмельной. Он словно парил над тротуарами и людьми, даже если те бывали ростом выше. Он теперь на всех старался смотреть сверху вниз. Крепенький, среднего роста, с восточными чертами лица и немецкой фамилией городского миллионера, Канабек Штейтинг чувствовал себя железной птицей люфтваффе начала второй мировой, парящей над головами покоренных народов. «Теперь я не какой-то не известно кто, а заметная фигура, – думал он, укоризненно поглядывая на прохожих. – Крутиться надо в жизни, а не семечки у калитки лузгать». Но даже вымоченная в лимоне и жареная на углях форель, поданная под красное неразбавленное вино, и та приедается. На Канабека с запахом нового одеколона, подаренного тещей, снизошло новое увлечение.
Канабек повадился захаживать в организации, где необходимо произнести фамилию для ведения дел, и наблюдал, как изменяются лица собеседников.
Например, надо справочку выписать о составе семьи. Приходит он жилищную контору. Его спрашивают: «Ваш адрес жительства и фамилия». Он отвечает легко, вроде как ерунду: «Адрес такой-то, Штейтинг». И все поразительно меняется. На него начинают внимательно смотреть. Служащие бегут и доставляют своему начальнику весть о том, что их контору посетил Штейтинг. И вот уже Канабек, бывший ранее плевым Безродновым, восседает в кабинете у начальника, болтающего ему всякую скукотищу про какую-то спецодежду и краску в надежде, что зять Штейтинга передаст сии слова Самому. И невдомек тому начальнику, что Канабеку на то наплевать. Он просто получает удовольствие от значимого с собой обращения.
Пошла житуха. Сбылись мечты. Тут и ребеночек подоспел. Как мечтал – сын. Многие мужи ждут продолжателя рода, но Канабек, по себе зная, что сын может сменить фамилию, возлагал на первенца другие надежды. Он догадывался, что состоятельному тестю будет приятно, если сына они назовут именем его, вот и нарек Канабек первенца Андреем. Не прогадал…
А потом был переезд в Германию, в лагерь для переселенцев, где на первой же перекличке Канабека чуть не отправили обратно на родину. Он вышел из строя, когда Старший выкрикнул фамилию Штейтинг.
– Это ты Штейтинг? – обескуражено переспросил Старший, глядя на раскосые казахские глаза Канабека. – Да у тебя морда не немецкая. Как ты сюда попал?
– Женат на немке, господин, – ответил Канабек и заискивающе наклонился, как поступал, когда торговал картошкой на рынке далекого теперь Талды-Кургана…
***
Штейтинг был советским, организовал в Германии торговую фирму «БЕС» и работал, как жизнь научила. Он давно посчитал, сколько денег положат себе в карманы его начальственные российские партнеры, и решил тайно увеличить свою долю: сыры и колбасы скупил по дешевке на распродажах, в глухих подвалах магазинов, где хранились безнадежные товары, но продал все как свежее. Семеныч по достоинству оценил этот трюк, когда был приглашен на осмотр товара. Он открыл было рот, чтобы сказать что-нибудь едкое, но почувствовал, как карман пиджака потяжелел. Натренированные подушечки пальцев сразу распознали доллары. Рядом стоял Штейтинг и успокаивающе улыбался.
– Подарок, дорогой друг. Подарок. Вам товар везти. Чтоб телега не скрипела, ее смазывать надо, – Канабек похлопал Семеныча по плечу. – Не подмажешь – не поедешь. Мы ж свои люди. Не немчура какая-то. Это они буквоеды, формалисты. В формалин бы их всех. Есть у меня история на сей счет, послушай.
Канабек начал повествование, а Семеныч, заискивающе улыбаясь и заинтересованно кивая, подбадривал рассказчика, подчеркнуто внимательно слушал, но не слышал, поскольку кончиками пальцев отгибал уголки американских купюр и дотошно вслепую их пересчитывал.
ШКУРА
«Нет ничего дороже собственной шкуры»
Решил один мужик скатать в гости к давнему другу, переехавшему жить в цивилизованную Германию. Как тут без подарка? В качестве символического российского сувенира он задумал преподнести широкий презент – шкуру крупного бурого медведя. Мужик был егерем, имел лицензию, знал повадки зверя и все окрестные берлоги, поэтому без особого труда выследил необходимого размера особь и отстрелил ее, почти не испортив наружность. Содрал шубу с почившего царя леса, свернул ее, плотно утрамбовал в рюкзак, позвонил и поехал.
Под пересчет вагонными колесами стыков рельс спокойно миновал мужик границу России и Польши, а поздним вечером перед границей с Германией на вокзале его встретил тот самый давний друг, решивший предвосхитить события и ввезти мужика на земли своей новой родины на собственном автомобиле. Не стерпелось… Немецкие таможенники, одетые безукоризненно, как игрушечные солдатики, особо не придирались, проверили документы, но, когда взревел мотор машины, один из офицеров, будто что-то вспомнив, попросил еще раз открыть багажник и указал пальцем на потертый рюкзак.
– Вас ист дас? – спросил он, как прокаркал.
– Я по-немецки не понимайт, – ответил мужик. – Ихь давно его учил, да и то на тройку. Драй по-вашему. Гитлер капут да дружба-фройндшафт – больше ничего не помню.
– Он спрашивает, что в рюкзаке? – объяснил друг.
– Ничего особенного, медвежья шкура, – ответил мужик под немедленный перевод своего друга, он достал ее из рюкзака, еще не обработанную, дурно пахнущую и лоснящуюся от жира.
– Ах, ах… – заволновались немцы и что-то залопотали.
Тем временем мужик развернул шкуру во весь исполинский рост и необъятную ширь и расстелил на намытом, начищенном полу комнатки немецкой таможни.
– О, о, о… – заокали немцы, покачивая головами.
Мужик растопырил пальцы, оскалил зубы и зарычал на подавшихся назад немцев.
– Медведь! Царь наших лесов. Не боись немчура, дохлый он, – объяснил.
Офицер что-то сердито проговорил.
– А документы на провоз есть? – перевел друг.
– Какие документы? Имею право на отстрел. Вот лицензия, – мужик протянул бумагу с печатью.
Немцы посмотрели документ и вернули назад, сделав крайне недовольные физиономии. И опять загоготали, ну ровно римские гуси, почуяв варваров.
– Они просят предъявить разрешение на ввоз в Германию медвежьей шкуры. Без документов провозить нельзя, – растолковал друг.
– Такой бумаги нет. Зачем? Это просто шкура… – развел руками мужик и от дубиноударного огорчения вдруг начал понимать по-немецки.
– Ганс, скорее узнай, какие документы нужны для провоза шкуры…
– Хорошо, Фриц, сейчас позвоню в центр…
Немцы принялись названивать во все инстанции с присущей этой нации пунктуальностью. Они не упустили ни одного телефонного номера, по которому могли услышать точный ответ, привлекли к делу даже специалистов из Берлина и Бонна. Все поднялись, как по тревоге, и, вместо того чтобы спать, листали большие и малые томики законов и подзаконных актов в поисках одного единственного положения о том, какой документ необходим на провоз шкуры медведя через границу Германии…
В России бы давно сказали, мол, плати штраф и свободен, потом поделили полученные деньги и купили что-нибудь в подарок родным, да и себе. А немцы принялись скрупулезничать. А время-то уже далеко за полночь…
Российский мужик, егерь, не привыкший к тупому следованию долга, и сам изредка за весьма скромную плату позволявший браконьерам отстреливать зверье, подошел к таможенникам и давай им выговаривать с обидой. Причем его жесто-слова приобрели поразительную доходчивость.
– Бог с ней, этой шкурой, заберите ее себе, своим фрау и киндерам (он махнул рукой куда-то ввысь, в потолок, после сделал умиленное лицо и повел ладонью по воздуху так, словно погладил детские головки). На фиг она мне нужна, коли столько проблем? – вопросил он, свернул кукиш и выразительно на него плюнул. – Дарю, презент, майны фройнды (величественно развел руки в стороны и поклонился).
– Нихт… – загоготали таможенники и замахали руками, формируя ими вполне понятные кресты. – Не можем принять, сейчас все выясним (постучали костяшками пальцев по столу)…
Время шло. Друг заволновался, за руку мужика потянул и зашептал:
– Ехать еще прилично. Опоздаю, у меня неприятности будут. Бросай шкуру.
Мужик опять к немцам:
– Цигель, цигель! (показал пальцем на круглое стеклышко часов) Считайте, не было проблемы. Нихт проблем (провел ребром ладони по гортани). Я ее в машину положу (изобразил, что хватает шкуру и тащит к машине), отъеду назад (кулак с выставленным вверх большим пальцем бросил к плечу и двигателеподобно заурчал: «бр-р-р»), в реке утоплю или выброшу на обочину (пнул по воздуху и будто бы посмотрел вдаль, приставив ладонь ко лбу). Давайте сюда…
– Номер не пройдет, – загоготали таможенники, поглаживая ребром ладони локтевой сгиб. – Как вернешься, должен показать документ, что шкура сдана туда, где получил…
– Да где ж я того медведя искать буду (покрутил указательным пальцем у виска)? Не живой он, – мужик схватил себя за горло и вывалил язык. – Да неграмотный был, какая ж с него подпись? (хлестко ударил внешней стороной ладони о внутреннюю)
– Должна быть бумага, а кто тебе ее напишет, (офицер махнул рукой, как рубанул, мимо застегнутой ширинки) медведь или президент, для нас значения не имеет.
Накалились международные отношения до предела, запахло третьей мировой войной… Мужик нервно, но приветливо скакал вокруг, показывая, как охотился на медведя, и покрикивал на непонимающих таможенников, которые нелепо улыбались, как бы извиняясь, что не понимают по-русски:
– Шкуры, шкуры…
Вдруг раздался звонок…
Оказалось, что в ближайшей истории Германии не было прецедентов с провозом медвежьей шкуры. Видимо, медведи в тамошних лесах перевелись.
В России, хоть и закон на твоей стороне, но коли пришлось служивым повозиться, то они к чему-то другому придрались бы, чтобы штраф выбить. А на немецких таможенников вроде как просветление нашло.
– Раз не запрещено провозить в Германию шкуры, то можете забирать трофей и ехать дальше (они дружно развели руки в стороны, сделав сконфуженные физиономии, и махнули правыми руками, гоня ветер вперед)…
***
Семеныч дослушал Штейтинга на той ступени вежливости, когда хочется перестать вежливо улыбаться и дать в глаз назойливому рассказчику. Единственное, что его удержало от грубости, – это приятные на ощупь доллары.
«Предприятие акционируется, возможно, мою должность сократят. Полечу, как выкуренный бычок с балкона, благо запасной балкон заготовлен. Есть вариант, что возглавлю налоговую полицию маленького нефтяного городка. Она вот-вот сформируется. Дружок мой, Закоулкин, с которым мы в отделе по борьбе с хищением социалистической собственности, ОБХСС, не один пуд соли украли, наверх, во власть, пробрался и обещал. Есть и другая сторона. Как только госпредприятие станет частным, я не попаду под уголовную статью, касающуюся этих продуктов. «Субъектами должностных преступлений не могут рассматриваться лица, занимающие должности, связанные с выполнением работ в негосударственных предпринимательских структурах» (эти строчки из Кодекса Семеныч выучил наизусть). Пусть грузят, что хотят», – такие мысли быстро промелькнули в голове Анатолия Семеновича Ворованя, и он родил заключение:
– Грузите. На Севере не то едали, а тут голимый импорт. Престижно. Порченое, непорченое – все разгребут с прилавков, где одни соленые огурцы рядами, да тощие одеревеневшие курицы. Что вы хотите? Глухомань! Кто знает, как немецкая колбаса с сыром пахнут?
Семеныч надеялся, что ягельно-рогатая тишина маленького нефтяного городка спишет все. Он кинулся по блестящим немецким магазинам в поисках подарков для родственников, а потом – домой…
***

Штейтинг отправлял германский сыр с колбасой машинами срочно, пока в потрясаемой перестройкой советской стране не передумали насчет контракта.
Новость озвучил Кошельков на планерке:
– Машины пошли. Вам, Воровань и Золотуха, выпала большая честь – встретить товар…
Семеныч как услышал, так обмер. Ему до смены работы оставался еще минимум месяц, а до перевода государственного нефтегазодобывающего предприятия в частное – и того больше. Если продуктовый скандал возникнет до акционирования, то у Семеныча могли возникнуть неприятности, но от приказа не спрячешься.
На волне лозунгового порыва Семеныч с Нинкой вылетели в Москву. Нинка уснула уже на взлете, широко разложив пухлые, словно подушечки для иголок, ладони по подлокотникам. Ей снился инопланетянин, читавший стихи:
Под синей гранью неба,
Вдали скоплений звезд
Растут колосья хлеба
И жизнь несет свой пост.
На круглой, малой крохе -
Земле – сестре миров,
Колдуют люди-боги
И нет других богов.
– Вселенная похожа на огромный многогранный алмаз, и ваша планета образует лишь одну микроскопическую грань… И мы, стоя в центре алмаза, видим, чем вы занимаетесь, все видим… – говорил он Нинке, укоризненно покачивая глазками на длинных тоненьких усиках. Нинка чувствовала, как голова от этих слов у нее разбухает, и она изредка шумно, но безрезультатно пыталась сглотнуть….
Семенычу не спалось, он спешно обдумывал детали новогодней операции с продуктами. Протухшие местами сыры и колбасы могли разнюхать уже на московской таможне, и тогда заваленное дело, как неаккуратно срубленное дерево, могло придавить самого Ворованя. Надо тянуть с растаможкой, растаможивать продукты надо на Крайнем Севере. Это ясно. Семеныч решил свалить немецкие колбасы с сырами на складах своего московского знакомого по фамилии Пофигенко и поручить ему постепенную неторопливую их переотправку. Под Пофигенко действовала многообещающая фирма «Успех», своим названием внушавшая уверенность, что за хорошие деньги все будет оформлено как надо. Деньги есть, чего бояться?
Семеныч растолкал Нинку:
– Слышь, какого беса тратить время в столице на ерунду. Я все продумал. У меня в Москве дружок. У него склады. Он сделает за нас всю работу. Запросто. Заплатим ему, сообщим своим, что следим за погрузкой-разгрузкой, а сами хоть в рестораны заглянем, посидим, как люди, по Москве походим, по магазинам.
На загул Нинку не пришлось уговаривать. После скучной жизни в маленьком нефтяном городке, после его серых пятиэтажек и покосившихся деревянных строений, пустынных улиц без деревьев и травы, песчаной летучей почвы, непролазных сугробов возле подъездов и загоняющих в безотрадные квартиры гнуса и морозов она готова была на любое безумство, чтобы утолить женское желание ежедневного праздника, и они погуляли…
***
Звук, словно от удара мелкой разменной монеты о металлическую тарелку, извлек Семеныча из нежной пелены воспоминаний. Он сглотнул слюну, наполненную самовнушенным вкусом «Столичной». Темные фантомные силуэты официантов, раскрасневшейся улыбчивой Нинки, веселого пьяного люда постепенно померкли. Опять возникли неприветливые пустые стены камеры. Со стороны камерной двери раздался осторожный стук, схожий со звоном милостивой монеты…
– Кто там? – начальственным басом прохрипел Воровань.
Окошко камеры открылось и явило худощавое личико.
– Анатолий Степанович, это я, Сашко, охранник, – ответствовало худощавое личико.
– Что надо?
– Вам харчей принесли от преподавателя водительской школы.
– Давай сюда.
Сумка оказалась увесистой. Семеныч приоткрыл ее и чуть не перекрестился: словно в ответ на его воспоминания, кухня московского ресторана перенеслась в сию тюремную обитель. Блистал полный комплект недурственного вечернего угощения, истребив который полагалось танцевать под заводную лезгинку не иначе как на «бис». По камере понесся запах жареного мяса и буженины, корейского салата и соленых огурчиков. Алела двухлитровая банка красной икры. Но рука Семеныча в первую очередь ухватилась за горлышко бутылки.
– Садись, выпьем, – предложил он Сашко.
– Да что вы?! Я ж при исполнении.
– Тогда Вовку Косого позови.
Пришел Косой, который впоследствии нашел более теплое место в чиновничьих кабинетах. Он и тогда понимал, какое выражение лица надобно в конкретной ситуации и какие слова.
– Чем прислужить? – спросил Косой, слегка склонив мощную спину несостоявшегося грузчика, вытянув навстречу скуластое, как у кочевника, лицо и призывно помаргивая крупными коровьими глазами.
– Это у вас случаем не Золотуха надрывно кашляет?
– Она самая. Дурку валяет. Под туберкулезницу косит, чтобы ее из КПЗ выпустили под подписку о невыезде. Ты с ней Семеныч переговорил бы, а то в карцер глупую бабу посадим за симуляцию.
– Конечно, поговорю. Наше землячество крепко, сам знаешь. Мы хохлы везде, где сала больше. Мы нация без границ. Хохол хохла всегда поддержит, а москаля даже на московской земле зажмет. Водки хочешь?
– Печеночка пошаливает, а то с удовольствием, – отбрехался Косой.
– Эх, болячка, иди, только Золотуху приведи, не пить же мне одному, и не обижай бабу, не самая последняя…
Семеныч выпил первую рюмку и потянул ко рту столовую ложку полную красной икры, когда Нинка вошла в камеру.
– Садись, угощайся. Хоть ты на допросах меня выставляешь главным мошенником в этой операции с продуктами, я без претензий. Люблю тебя, Золотуха, потому ничего для тебя не жалко… – правдоподобно слицемерил он, потому как не жалко ему было только вещей, достававшихся без труда, как эта сумка с продуктами.
В мрачной полутьме камеры предварительного заключения Воровань с Золотухой выпили, закусили. Еще выпили, закусили… Стало светлее, радостнее и просторнее. Семенычу показалось, что мимо пролетел белый голубь, носитель святого божественного света, а вслед два маленьких ангелочка в поповских рясах, бывшие инженеры и с рогатками. Махнул рукой, отгоняя хулиганчиков, но те лопнули, как мыльные пузыри. Глянул на Нинку Золотуху, обомлел: Дева Мария. Так и значилось на деревянной табличке, застывшей на ее груди, в левом нижнем углу которой было нацарапано: «государственная типография «Российский крест» тираж десять тысяч экземпляров». Потянулся к табличке, та исчезла, а на Нинке возникла монашеская одежда. «Исповедь, требую исповедь», – сказала она. Семеныч забормотал:
– Не был бы женат, Нинка, тебя бы взял. На мою первую ты сильно похожа. Она занимала одну из ведущих должностей в прокуратуре Киева и уму-разуму меня учила. Какое удивительное было время, социализм, все вокруг колхозное – все вокруг мое! Чиновники и рядовые труженики были как два отдельных отряда двуногих. Одни служили для создания богатств и горели энтузиазмом, другие знали, как использовать их энтузиазм, скромность, честность и другие достойные качества. Сейчас все меньше энтузиазма, скромности и честности. Но здесь, на Севере, словно замерзло все. Этот нефтяной городок, как овчарня для овец. Волки примирились и сдружились, чтобы безопаснее набивать утробу, пока овцы продолжают жить своими глупыми идеалами. В общем, первая жена открыла перспективы другой жизни. Вся беда, что на старых должностях мне не удалось войти в стаю волков, все в шакалах побирался. Только в налоговой полиции подфартило…
Речь Семеныча становилась все менее понятной. Как неустойчивый груженый картошкой мешок, он тяжело упал на нары и еще в падении уснул. Сладкие, как сахарные петушки на палочках, одолели его грезы о милиции маленького нефтяного города, где он несколько лет назад служил заместителем по оперативной работе. Состав был чисто хохлацким. Мужики творили что хотели, водочкой так упивались, что начальник милиции, Коненко, лез ко всем целоваться. И вот во сне Семеныч вместе с этим Коненко отплясывал гопака. Они размахивали табельными пистолетами, постреливали в потолок, и вскоре от опадающей известки стали похожи на раздобревших псов породы далматинцев…
Семеныч весело заскулил и судорожно задергал правой ногой. Золотуха замерла с ароматным куском буженины в руке. Она не видела снов Ворованя, но подумала: «Вот собака». И было почему.
***
Как только запах пропавших сыров и колбас не смог бы отнести к особенностям заграничного производства даже едок с самым испорченным обонянием, Семеныч уволился с должности заместителя начальника нефтегазодобывающего управления и перешел на должность начальника налоговой полиции маленького нефтяного города. Ветра перестройки дули с запада на восток все сильнее, пролетая через всю Россию в Китай, прихватывая и унося за кордон все, что плохо лежит, неся с собой и дух испорченных западных продуктов. Вскоре Золотуха почуяла неладное, хотя маленький нефтяной городок отделяли от Москвы тысячи километров…
Нинка перезвонила Ворованю в налоговую полицию:
– Анатолий Семенович, проинструктируйте по старой памяти. Мои звонят и говорят, что на складах «Успеха» не сыр, а дерьмо.
– Ты только не волнуйся. Сыр взят по образцам. Он такой, какой должен быть. Ты слышала про сыр с плесенью?
– Нет…
– Это один из лучших сортов. Продукт – лучше не придумаешь. Бери и отправляй, – отбрехался Семеныч…
Мало того, что западный ветер был несвеж, к Золотухе заструились по телефонным проводам жалобы от грузчиков, носивших продуктовые упаковки в вагоны.
– Нина Батьковна, мы к запахам привычны, но ваша колбаса пышет убойно. Респираторы не спасают, в противогазах грузим…
Золотуха опять звонила Ворованю, но тот отвечал все более кратко и грозно:
– Принимать, мать вашу, и отправлять, мать вашу! Все обговорено и договорено, осталось закончить. Твои грузчики и экспедиторы пусть не суют свой чувствительный нос в чужое дело…
Экспедиторы, сопровождавшие сыры и колбасы до Крайнего Севера Сибири, прикрывали носы платочками и тряпочками, смоченными в остатках недопитого тройного одеколона, потому что вагоны по духу, их сопровождающему, сильно напоминали заброшенные африканские помойки. Вагоны привлекали устрашающе темные тучи мух. В пути крылатые насекомые цеплялись за обшивку поезда, прятались в щелях и межвагонных пространствах, а как только состав останавливался, взмывали в воздух и жужжали так, что заглушали крики охранников и железнодорожников, отбивавшихся дубинками, свернутыми из центральных газет. На станциях порой спрашивали:
– Что за дерьмо везете?
– Не хай. Сильно дефицитные продукты. Заграница! – отвечал командир поезда.
– Вы ж всех российских мух приманили.
– В вагонах, мужики, лучшее, что за границей есть. Товар на доллары покупали. Муха не дура. Уж если от своего любимого навоза отказалась ради нашего груза, так почитай настоящий деликатес везем…
***
В это время Семеныч сидел в своем кабинете, кабинете начальника налоговой полиции, и обмозговывал продуктовую операцию руководства «СНГ». Для него стало открытием, что можно оттяпать у государства большие деньжищи совершенно законно и без больших неприятностей. Главное действовать спокойно, нагло и давить подчиненных, чтобы и пикнуть не смели. Семеныч понимал: если возбудят дело о мошенничестве, то он и Золотуха окажутся обвиняемыми, но надеялся, что его не тронут и нынешнее кресло защитит. Это разумела и Золотуха. Она боялась превращения в единственную козлищу отпущения, а ведь из козлиного следа продуктовой сделки она даже глотка не отхлебнула. Ей было горько и обидно, поэтому она и паниковала в камере: от отчаяния косила под туберкулезницу, когда за общее дело посадили ее одну, а произошло это очень скоро после прибытия состава с немецкими продуктами на таможню Крайнего Севера…
***
Открывали вагоны ранним июньским утром и замерзшие мухи падали с содрогавшихся дверей на землю, как мелкие комочки грязи. Таможенник зашел в вагон, проверил коробки с продуктами и в крайне расстроенных чувствах вышел. Взяток не предвиделось, взять нечего: колбаса и сыр заскорузли до того, что напомнили таможеннику синтетический каучук. И всего этой пропастины приехало около двухсот тонн…
ТАМОЖНЯ
«Знание не только сила, но и деньги»

Таможенника звали Веня Куробабкин. Неудовлетворенный зарплатой и северными надбавками, он внимательно следил за законодательством, чрезвычайно изменчивым в период российской перестройки. Взбалмошная верховная власть ничем не отличалась от других организаций и имела свои показатели работы – количество инициированных законов. Каждый депутат стремился лидировать, вот и старались так, что уследить невозможно.
Образование стоит денег, и Веня Куробабкин взял на себя неофициальную учительскую миссию по отношению к юридически необразованной клиентуре. По вечерам он засиживался за чтением, выискивая тонкости отправки грузов, и это принесло ему немало дивидендов, особенно после заключения таможенного союза между бывшими союзными республиками: Россией и Белоруссией. «Чего же боле? Если таможенный союз, значит, можно без затруднений переместить свой скарб из одного государства в другое», – посчитал народ, но на таможне стоял Куробабкин, знавший все.
На Крайнем Севере Сибири обосновывались люди со всех уголков почившего Советского Союза, вмещавшего в себя пятнадцать союзных республик и уймищу разных народов и народностей. Переселенцы, вполне естественно, стремились перевезти вещи. На Север ехали контейнеры с пожитками и мебелью, стоившей в Белоруссии дешевле, чем в России. Хозяева контейнеров, получив уведомления, собирали друзей, заказывали машину и ехали на грузовые вокзалы. Настроение прекрасное, и осмотр вещей вместе с инспектором таможенного поста Куробабкиным казался формальностью.
Беспечная веселость исчезала с лиц владельцев контейнеров и сменялась напряженной тревожностью, когда Куробабкин с непонятной им скрупулезностью вчитывался в этикетки на каждой табуретке, диване, мягком уголке…, внимательно осматривал каждый предмет домашней обстановки. Искал он мебель, произведенную не в Белоруссии, а также мебель без этикеток: это был его хлеб. Тогда Куробабкин вставал величаво, как оперный певец, и сурово произносил заученную и отрепетированную тираду: «По постановлению таможенного комитета…»
Народ галдел, чего-то объяснял, а Куробабкин спокойно ждал, когда кто-либо отзовет его в сторону и скажет:
– Слышь, друг, кому нужны эти доски, кроме нас? Вот сто долларов. Больше не могу. Мы быстро погрузимся и уедем и ни слуху ни духу.
Куробабкин никогда не соглашался сразу:
– Как вы можете? Я ж при исполнении. Это взятка…
Такое отступление давало возможность нарастить предлагаемую сумму.
– Вот двести долларов. Больше нет, – говорили ему.
Возникал пустой кошелек, Куробабкин успокаивался и тихой скороговоркой тарахтел:
– Перегружайте вещи, и через полчаса чтоб вас здесь не было…
Случалось, ничего не предлагали и даже ругались. Тогда Куробабкин поступал безжалостно: контейнеры у бестолковых хозяев арестовывал. «Дураков надо учить», – так рассуждал он и весь согласованный коллектив таможни. Учили людей, неграмотных в области особенностей российской коммуникабельности, шустро и весело.
Дураки опять заказывали грузовую машину, выкраивали время, чтобы встретиться со своим ин¬спектором, бывавшим на таможенной станции всего два дня в неделю. Они надеялись, что скоро… но если дураки опять ничего не предлагали, то их вещи из контейнера направлялись в склады на платное хранение за такие деньги, что через пару недель стоимость хранения превышала стоимость самого груза.
Люди метались, как мыши в мышеловке, пытались отказаться от собственного имущества.
– Гори оно огнем! – кричали. – Подавитесь! Не буду забирать!
– Не пер¬вый такой умный. Засудим и заштрафуем, – театрально ершился Куробабкин. – Многих разыскиваем. Побросали контейнеры.
Некоторые платили.
– Будем жаловаться в Москву, – обещали упорные дураки.
– Зачем прыгать через голову? Обратитесь к нашему начальнику Мокрицкому, – смягчался Куробабкин, побаивавшийся иногороднего начальства. – Он здесь.
Упорные дураки забегали в кабинет Мокрицкого, а там готов прием.
– Ну, что вы так шумите? Зачем? Разве это проблема? Решим, – вежливо обещал улыбчивый Мокрицкий. – Покумекаем, как вам помочь. Но сегодня – дела. Приезжайте в приемный день – в пятницу.
Начинался второй этап обучения.
Пятница оказывалась волчьей ямой. Мокрицкий был неуловим. Его подчиненные посо-ветовали заглянуть на следующей неделе. Через месяц клиент, утомившийся от поездок на грузовую станцию, звонил по телефону:
– Мне бы Мокрицкого.
– Он в спорткомплексе на занятиях. Завтра, в принципе, должен быть на работе. Приходите. С полдевятого до полчетвертого. Без обеда.
Клиент приезжал, приезжал внезапно.
– Мокрицкий уехал, будет ли – неизвестно, – отвечали ему.
Бывало, Мокрицкий попадался в коридоре и тогда вежливо, очень вежливо, говорил:
– У нас тут внезапное «мероприятие». День рождения. Сами понимаете. Я всецело, но, пожалуйста, в следующий раз…
Часы на складе временного хранения исправно тикали, отсчитывая деньги. Большинство клиентов, матерно ругаясь, упла¬чивало таможенникам все штрафы и пени или взятки, большие, чем требовалось изначально, в связи с увеличением числа рук, вовлеченных в дело. Меньшинство продолжало скандалить, но нрав таможенников не изменился…
***
Две хари сидели за столиком, рядом с мангалом возле входа в магазин. Одна толстощекая с усиками, выпуклыми глазами. Другая – худосочная, в очках. Первая принадлежала Мокрицкому. Вторая – Куробабкину. Обе были недурственно пьяны. На столе стояла полупустая бутылка водки и тарелки с остатками шашлыка стоимостью по бутылке водки за сто грамм. Рядом суетился услужливый шашлычник. Обе хари беседовали о политике.
– Запугали у нас народ, боится слово против власти сказать, – начал, шевеля усиками, Мокрицкий.
– И не говори, бабки сложно стало косить. Хоть бы кто-то вступился за нас, – поддержал толстосумого Мокрицкого, во владении которого находился этот магазин с мангалом, шакаливший подле него Куробабкин. – Те же газеты и телевизор. Гадости про таможню – это они могут, а помочь… Нас налогами давят, а они ничего.
– Ведь были же раньше люди, кричали. Предали они нас, купили их с потрохами, – продолжил Мокрицкий. – Сегодня напрягают нас, а за что? За то, что мы народ кормим да лелеем?
Клиент за соседним столиком оставил недопитую бутылку на столе, что-то сказал товарищам и скрылся в подъезде соседнего дома.
– А все-таки хорошее пиво мы продаем, смотри, гонит, – удивился Мокрицкий, провожая глазами одного из своих клиентов.
– Ох, не хотел бы там жить, там же душок, – рассмеялся Куробабкин, показывая на подъезд, где клиенты кафе привычно справляли малую нужду.
– Ничего страшного, потерпят, а то забыли запах родины, – патриотично заметил Мокрицкий.
– Может, вам шашлычку добавить? – спросил шашлычник.
Мокрицкий оглядел сваленные в кучку шашлыки с застывшим на них жиром. Густо усыпанные пеплом, они не вызывали особого аппетита. Кроме того, Мокрицкий знал, что эти мясные кусочки на железных палочках уже несколько дней провели в холодильнике и шашлычник ежедневно выносил их на улицу, выдавая за свежие.
– Ты со мной не шути, – сказал он строго. – Свежий поджарь.
Мимо прошел мужик с бутылкой пива, позади которого на брюках зеленела полоса краски.
– Друг, на трубах сидел? – крикнул Куробабкин и, не дожидаясь ответа, спросил у Мокрицкого. – Что с упрямцами делать? Некоторые не платят и не забирают контейнеры.
– Брось голову тупить, Бабкин, – плюнул Мокрицкий. – Нам и так хватает, но узнаю, что прикарманиваешь и не делишься, пойдешь работу искать.
– Как вы могли подумать? Такое!? Да никогда, – развел руки в стороны Куробабкин.
– Верю, – согласился Мокрицкий. – Наш человеческий союз крепче государственных, потому что если не ты мне, то я тебя и оба при деньгах.
ЗАКОН ЖИЗНИ
«Живешь, пока удовлетворяешь высший интерес и не препятствуешь высшим целям»

Когда гиря в виде двухсот тонн испорченных колбас и сыров упала на весы правосудия, даже очень покладистого правосудия маленького нефтяного городка, где каждый начальник если не друг другого начальника, так хороший товарищ непременно, то тут, хочешь – не хочешь, пришлось заводить уголовное дело…
Только сквозь время увидишь,
(А сквозь окно не дано)
То – чем кого-то обидишь,
То – что куда-то ушло.
Только бы сердце не ныло
И не тревожил обман.
Не изменить то, что было,
А что могло быть – туман,
– громко проговорил китайский наручный будильник, нацепленный на запястье у кого-то из охранников. Слова, поддержанные казематным эхом, запрыгали от стены к стене. Семеныч, подернув бровями, расклеил слипшиеся ото сна веки. В их просвете в помещении вызывавшей отвращение и озноб тюремной камеры он увидел хмуро глядевшую на него Золотуху, жевавшую к тому же его провиант. «Утроба ненасытная, все ж съест, дай волю», – подумал Семеныч и без промедления спросил, как будто только об этом думал, пока спал:
– Нинка, на кой … ты наговорила этому следователю, Хмырю, что я лично отбирал продукты в Германии для отправки в Россию? Мы же договаривались: я ездил за холодильником для подсобного свинячьего хозяйства? На кой… ты меня подставила?
– Ты, Толечка, мальчика из себя не рисуй, – разом ощетинилась Золотуха. – Спасибо за угощение, но сидеть за всех не намерена. Могу простить, Генерала и Кошелькова, они высоко летают, таких птиц сложно подстрелить. Тут лучше молчать, а то хуже будет, молчание оценят – работу дадут. А от тебя мне ничего не надо, ты-то драпанул… Надеялся, что тебя, начальника налоговой полиции, не тронут?
– Падла ты, Нинка! – вскрикнул Семеныч, приподнялся с нар и отер ладонью вспотевший лоб. – Буду стоять на своем: афера ваша, я не знал. Мое слово против твоего блеяния. Не докажешь.
– Дурак ты. Все знают: Штейтинг тебе хорошую сумму положил, а ты не поделился. Дадут срок с конфискацией, будешь знать…
– Да я тебе морду набью…
Шум в коридоре остановил руку Семеныча. Мощные, словно колокольные, удары отдавались звоном в ушах. Было понятно, что кто-то по-молодецки ломился в тюремную дверь. «Может, наши из налоговой полиции штурмуют ментовку, вызволяют», – мелькнула радостная мысль у Семеныча. Вскоре грохот возвестил, что дверь сдалась и упала. Раздался топот ног, крики и нецензурная брань.
– Застрелю, только двинься, – истерично завопил Вовка Косой.
В камеру Семеныча заглянул Сашко:
– Заканчивать завтрак надо, Анатолий Семенович, сейчас начальство нагрянет.
– Что случилось? – спросил Семеныч.
– Ваш сотрудник, капитан Братовняк, доигрался.Пьяный за рулем постоянно. Знакомые автоинспекторы миловали. А тут напился и аварию устроил. Приехал патруль, вашему бы головку-то склонить и покаяться, а он набросился и давай избивать. Силы-то, как в нефтяном фонтане. Кричит: «Я друг Ворованя и его зама Тыренко! Плюйте зубы наземь сами, или как вшей перещелкаю!» Наши вызвали помощь. Сообща скрутили. Привезли сюда, но не помогло. То ли черти ему примерещились, то ли обиделся, начал он со всей дурной мочи бросаться на дверь в камеру. Бился и телом с разбегу, ногами долбил. Выбил! Убежал бы, если бы стволы не наставили. Ну вас и кадры…
– Во-первых, Тыренко – опер. Мало денег – много форсу. Любит покрасоваться. Во-вторых, ты моих птенцов языком не черни. Мои ребята – пионеры базарных непаханых территорий, где во множестве скрываются утаители налогов. Братовняк – человек неплохой, – сказал Семеныч, а сам подумал: «Работник никудышный, никчемушный. Единственное, за что держу: на базаре с ним никаких проблем. Для нас, нормальных налоговиков, с такой физической защитой, как Братовняк, коммунизм уже наступил».
***
На базар Воровань ходил обычно вместе с женой и Братовняком. Набирал все, что нравилось, доставал служебное удостоверение и спрашивал:
– Вы что? С начальника налоговой полиции, как со всех, деньги брать будете? Цены-то сбросьте, а то попадете к нам, раскрутим по полной программе.
Позади Семеныча, улыбаясь и постукивая огромным кулаком правой руки в раскрытую лопатовидную ладонь левой, стоял бывший бурильщик нефтяных скважин Братовняк. Испуган¬ные предприниматели сбрасывали цены до смехотворных и возмещали свои потери, обвешивая простых покупателей. А уж в сети магазинов самого богатого предпринимателя маленького нефтяного города, взявшего хороший старт с должности начальника отдела рабочего снабжения нефтяного предприятия, Сергея Хапалы, он брал все и бесплатно. Там действовала договоренность: товар – и никаких проверок. В общем, работа спорилась и приносила первые плоды…
***
Сашко незаметно ушел из камеры Семеныча и увел с собой Золотуху, вежливо поддерживая ее под руку. Он ступал осторожно, словно сын, помогающий ослабевшей матери добраться до постели, но, как вы понимаете, это вынужденная деликатность. Заключенными Сашка в этот раз стали не простые уголовники, а влиятельные чиновники с погонами, званиями и деньгами и поддержкой тех самых высокопоставленных переселенцев, которые учуяли теплые места на Севере и, как стервятники, кинулись рвать добычу. Таких людей Сашко не мог подгонять пинками. Они могли помочь в будущем, а чужое воровство воспринималось нормально и даже с завистью. Многие крали на своем рабочем месте. Кто – гвозди, кто – бумагу, кто – плоскогубцы, кто – продукты, некоторые – деньги. Крали по должностным возможностям, крали, как могли. Что ж пальцем друг в друга тыкать? Так формировалась элита.
Воровань прилег, вперил взгляд в потолок камеры и вдруг вспомнил школу милиции, в которой он учился. «Курсанты выпивали, обмывали звания капитанов, и никто бы не узнал, если б не я, если бы не докладывал начальству, – размышлял он. – А по-другому как продвинуться? В жизни каждый сам за себя. Кто раньше понимает, тот быстрее растет. Надо быть скользким угрем и поменьше морали…»
Когда налоговая полиция в маленьком нефтяном городе только образовывалась, попасть в нее было проще простого. Проштрафившиеся милиционеры, бывшие рэкетиры и работники нефтяного предприятия, которым надоело мерзнуть на нефтяных месторождениях Крайнего Севера, устремились на новые должности. Семеныч принимал их на службу, поскольку понимал, что те, у кого есть пятно на репутации, полностью управляемы и зависимы. Это он знал по себе…
***
Просидел Воровань в камере меньше трех недель. Его и Золотуху выпустил на свободу прокурор города Коптилкин. Нет, вину с Семеныча за испорченные сыры и колбасы, за пропавшие миллионы долларов не сняли. Не получилось. Вначале Семеныча амнистировали. Затем уголовное дело прекратили в связи с изменением обстановки на нефтяном предприятии, превратившемся из государственного в частное. Семеныч остался не реаби¬литирован, так сказать, с тонким пушком в соответствующих местах, но на эти места старались не обращать внимания, тем более что обладатель этого пушка возвратился с тюремных нар в уютное кресло начальника налоговой полиции и оттого приобрел грозные очертания.
Как Воровань смог выйти из тюрьмы и вернуться на должность начальника налоговой полиции? Тут помогли связи. Бывшего руководителя и друга Семеныча по ОБХСС, Закоулкина, поставили начальником Управления налоговой полиции округа, а их связывало богатое прошлое. В прошлом они сообща уже опустошали карманы, кошельки и денежные пояса продавцов и спекулянтов на широких просторах советских толкучек, покрытых людьми, как голодными муравьями. Как не сдружиться, если после рейдов на толкучку они собирались в своем кабинете в здании исполкома и делили конфискованные импортные джинсы, куртки и другие престижные и нужные в хозяйстве вещи? Закоулкин, как принято, подбирал в свою структуру близких людей. В маленьком нефтяном городе у Закоулкина не было никого, кроме Ворованя. Вот и весь секрет.
НА ПУТИ К ВЕРШИНЕ
«Крепкое словечко порой толкает, как реактивный выхлоп»
Примерно в это же время в трехкомнатной квартире в окружении жены, пятерых детей, собаки и кошки корпел Семен Петрович Хамовский, или попросту Сеня Хамовский для некоторых Хам, генеральный директор ООО «Нефть на ягель», хотя генеральный – слишком громко для его небольшой бедняцкой конторы. Он вынужденно много трудился, выискивая деньги для прокорма многочисленного семейства и, надо сказать, еле сводил концы с концами. До Генерала ему было, как тайгу – из конца в конец. За квартиру платил так редко, что не покидал список злостных должников. Сидел на крепком крючке у налоговой полиции и с ностальгией вспоминал то время, когда занимал должность главного инженера нефтегазодобывающего управления.
Выперли его из нефтяной структуры по дикой случайности: за приверженность одному распространенному средь начальства хобби: более всего любил Хамовский наорать на подчиненного и нахамить. У него настроение и потенция улучшались, когда кто-либо после его нецензурной брани в больницу попадал с сердечком или повышенным давлением или серел и бледнел на глазах и уходил, понурив голову, мелкой быстрой рысью, как испуганное животное, причем уходил, втянув зад так, будто сзади влачится поджатый хвост. Как только дверь в кабинет закрывалась за очередным посетителем, опущенным в болото дурных громкоголосых выражений, Хамовский доставал перочинный ножик из ящика стола и делал маленькую зарубку на внутренней стороне столешницы, той, что ближе к полу. Потом он с любовью проводил указательным пальцем по всем зарубкам, белевшим, как выбоины на асфальте, прикрывал глаза и внимательно прислушивался всею осязательной способностью своего пальца к его вибрации на изрезанной поверхности. Эта странная любовь, которая многими подчиненными воспринималась обыденной жесткой системой руководства, вполне нормально адаптировалась и среди рядовых жителей маленького нефтяного города. Никто не осуждал, наоборот, ставили в пример, но только до случая.
На прием пришла женщина, не отрекомендовалась, кто такая, и давай настойчиво просить его перенести отпуск. Хамовский неприязненно смотрел на нее минуту-другую и думал. На таких, он знал, есть одна управа: хорошенько наорать, желательно с грубыми выражениями, что Хамовский и сделал. Обычно нежданные просители убегали с глаз долой и больше не показывались, а эта нервная попалась, еще и беременная. У нее открылось кровотечение, и она чуть не родила у Хамовского в кабинете. Пришлось вертолет санитарной авиации вызывать и срочно отправлять ее в роддом соседнего района, поскольку в маленьком нефтяном городе хирургов сложно было застать трезвыми. Но самым неприятным оказалось то, что женщина эта являлась женой секретаря профкома. Шуму было. Пришлось уйти с должности по собственному желанию, хотя желания не было никакого.
С того времени Хамовский цеплялся за жизнь, как мог, им овладела яркая, как румянец мстительного человечишки, ненависть к существующему строю, вознесшая его вначале в кресло депутата невысокого уровня, затем к руководству созданным им самим же дискуссионным клубом, затем – в кресло депутата рангом повыше и, наконец, – в кресло, о котором мы расскажем позднее.
***
Примерно в это же время Генерал, Станислав Тихомирович Бороздилов изобретательно и артистично боролся за власть, за место генерального директора на бывшем государственном Сибирском нефтегазодобывающем предприятии (СНГ), загнанном им самим же в весьма сложные условия, чрезвычайно похожие на банкротство. И винить Генерала в бесхозяйственности сложно: пока предприятие имело государственный и общенародный статус, оно пребывало ничейным, а к ничейному и отношение соответствующее. Но наступили времена, на которые надеялся Семеныч, когда заключал контракт на подарки, – наступило акционирование, списывающее кражи государственного имущества, и открывающее путь к настоящей власти и обладанию.
Путь к власти над «СНГ» пролегал через собирательство акций, частью розданных народу, частью оставленных у государства. «Играть с государством в азартные игры опасно», – эту фразу Генерал хорошо заучил и никогда не покупал лотерейные билеты, поэтому он полностью сосредоточился на народе.
Очереди темными траурными лентами волновались у главной нефтяной конторы края, словно возле ленинского мавзолея в советскую эпоху. Генерал проезжал мимо на своем редком в те времена джипе, темно-синем «Мицубиси», и радостно посматривал на усталых, безрадостных людей. Он отменно позавтракал, пребывал в добром расположении духа, смотрел на голодные очереди продавцов акций и беседовал.
– Хороший ажиотаж, – сказал он водителю, бывшему в курсе всех его дел и входившему в семейный круг.
– Люди сутками стоят, Станислав Тихомирович. Записываются – кто за кем. Ставят номера на ладонях. Многие не уверены, что получат деньги за акции, – откликнулся водитель.
– Пусть не боятся. Все купим. Надо предприятие взять в свои, рабочие руки, – произнес Генерал и потер ладони. – А что ты думаешь? Я тоже вкалывал. Знаю рабочих. Зачем им акция? Будут думать, как ее применить. Деньги проще: на них водку сразу дают. Пусть продают ак¬ции, на кой они им. Того и гляди не в те руки отдадут. А это наша власть. Моя власть. Да и куда им деваться? Будут продавать. Будут мне продавать: жить на что-то надо…
– Говорят, без еды человек живет не больше месяца, – откликнулся водитель. – Зарплаты уже несколько месяцев не выплачивают. Врет наука.
– Сложная обстановка. Запустили предприятие до предела, – безадресно обвинил Генерал, потому как на самом деле задержка зарплат была его идеей.
– Плюс к тому открылся сезон отпусков, а северяне в смысле отдыха все равно что гуси: они инстинктивно разлетаются, разъезжаются по южным направлениям, – продолжил рассуждения водитель. – Мало кто желает отдыхать средь сосновых лесов и гнуса, средь болот и обедненного кислородом воздуха, но чтобы выехать с Севера, опять же нужны деньги.
– Правильно рассуждаешь, – живо согласился Генерал. – Но что я могу? Надо мной тоже начальство. Они кашу заварили – нам расхлебывать. Вот уволили тысячи рабочих, трудившихся в нашем «СНГ» наездами – вахтами. Вахтовики, оставшись без работы, собрали рюкзачки и отправились по своим далеким домам. Ты думаешь, мне это приятно?
Генерал внимательно посмотрел на водителя, чтобы определить меру воздействия театрально разыгранной краткой тирады. Вахтовиков он сократил всех лично, но не хотел, чтобы на него показывали пальцем.
– Какое приятно!? Что вы, Станислав Тихомирович?! – слегка испугался водитель. – Я просто о том, что продавцов акций теперь, как пчел на пасеке.
– Это верно, – смягчился Генерал. – Хорошо, когда события происходят сами собой, но так как выгодно нам …
Основным конкурентом Генерала по скупке акций «СНГ» являлась московская компания. Борьба с Москвой и стала популярным куплетом Станислава Тихомировича Бороздилова на собраниях акционеров.
***

Народ на собрания свозили автобусами, примерно по той схеме, как собираются в лесной тиши грибочки в корзину: никто не спрашивал согласия, а элементарно снимали с мест. Перед речью Генерала выступили местные артисты с собственными стихами и песнями о маленьком нефтяном городе и безумной любви к нему, несколько надуманной, поскольку никто из переселенцев в хантыйской тайге не родился, но стихи на местные темы настраивали кворум на патриотический лад. Генерал их с удовольствием использовал. Выступали и дети, и как-то со стихотворением Жени Рифмоплетова:
Я вновь приближаюсь к суровым краям,
Где многие годы прошли,
Туда, где живут дорогие друзья,
Где родину вновь мы нашли.
Уже показался и дома фасад.
Как радостно, что говорить:
Раз в год уезжать, возвращаясь назад,
Знакомую дверь отворить.
Родимые стены обняли меня.
Душа от разлук отойдет.
Осталось недолго: всего лишь три дня –
И жизнь снова в русло войдет.
Туманы, работа, седые болота,
Тайга, трассы словно стекло.
Прекрасны зарницы и счастья крупицы,
Раздольных снегов серебро…
Затем Генерал энергично поднимался на сцену под общие рукоплескания и травил прозаические агитационные басни:
– Доверьте мне ваши акции и не волнуйтесь за будущее. Что зарплата? – копейки. Регулярные дивиденды позволят вам есть не только макароны, но и… (в этом месте возникла пауза. Генерал думал, что же будут кушать эти люди. Он глянул в зал, и головы, кругленькие и мелкие с трибуны, напомнили…) гороховую кашу… Шучу! Ну, конечно, нет (исправился Генерал), вы сможете каждый день есть лобстеров, таких жирных морских раков, каждый год бывать на курортах, это такие места, где можно не мыть посуду и плевать на пол, в ваши квартиры придет чудо-ремонт… Нефть в трубу – людям рагу. Вот наш девиз. Амбиции Москвы растут, столица ненасытна. Если столичные чиновники станут во главе сибирского нефтяного предприятия, то сюда не вернется ни копейки. Вы сейчас не получаете зарплаты и не будете получать, вы сейчас не видите лобстеров и не увидите, если…
Как показало будущее, слова Генерала оказались пророческими.
***
В это же время верхушка городской администрации маленького нефтяного города тратила деньги роскошно. Чиновники нефтегазодобывающей провинции России ездили в Южную Африку для обучения управлению городами Крайнего Севера Западной Сибири, строили и распределяли между собой квартиры в Подмосковье, дома в Краснодарском крае, растаскивали беспроцентные кредиты, воровали бюджетные деньги через специально созданные предприятия. Даже самые рьяные профсоюзные борцы не чурались на время забыть о социальной справедливости ради собственной выгоды. И обо всем этом Алик почти ничего не знал, его интересовали другие моменты жизни. И счастье незнания было велико. Он имел интересную работу и экспериментировал.
ПСЕВДОНИМ
«Когда нет лица, и ударить не во что»
Псевдоним как уютная мышиная норка, куда автор, стащив скандальный кусок сыра с чужого стола, может спрятаться и безбоязненно наблюдать за реакцией на его выходку. Ни один человек, даже самый обиженный, в чьей тарелке побывал этот автор, не будет знать, на ком выместить злость, если, конечно, ему кто-нибудь не расскажет. Псевдоним как вполне реальная шапка-невидимка, надев которую автор может безбоязненно здороваться за руку с тем, кого критиковал, и даже по-дружески разговаривать, почти не ощущая в глубине души или где-то за пазухой тяжесть хорошего кирпича. Сравнений можно придумать много, но все они будут сводиться к тому, что псевдоним делает автора неизвестным.

Выбор псевдонима – штука тонкая. Это тайное имя на долгие годы. Замужние женщины иногда берут в качестве псевдонима девическую фамилию. Распространены в качестве псевдонима названия города и поселка, в которых автор родился, или названия водоема или реки, в водах которых автор любил полоскать юное тело. Бывает, что в качестве псевдонима применяют фамилии дальних родственников, любовь к которым не иссякла за давностью лет. Бывают и изощренные псевдонимы, составленные из первых букв имени, отчества и фамилии. Бывают изящные абстракции или броские слова. Бывают и простые – фамилии знаменитых людей. По последнему пути и пошел Алик, взяв себе в качестве псевдонима фамилию последнего Российского императора – Романов. «Как назовешься, так и отзовешься», – так посчитал он, надеясь на высокий титул, а не расстрел.
***
До работы в газете Алик уже пользовался псевдонимами, сам того не понимая. Как-то он возвращался с работы домой по хорошо протоптанной в снегу тропинке и изумился ровной нетронутой ни людьми, ни животными, ни птицами поверхности искрящегося в свете фонарей наста, простиравшегося по обе стороны. По тропинке, он знал, ходило много людей, и ни один из них не отступил в сторону от промятой многими ногами колеи. «А если отступить?!» Алика внезапно посетила дикая чертовская радость от предчувствия того, что он сейчас сделает. Он огляделся по сторонам. Никого.
Возбужденный остротой легкого риска, он залез в неглубокий снег и вытоптал всем известное ругательное слово, состоящее ровно из трех букв. Вернулся на тропинку. Никого. Слово гляделось весьма хорошо. Темные провалы букв вызывающе контрастировали с искрящейся белизной. «Все прочитают. Интересно: останутся равнодушными или сойдут с тропинки», – озадачился Алик и ушел домой. На следующий день на том месте, где темнело слово, выделялась вытоптанная полянка. «Людей надо раздражать, чтобы они сошли с проторенного пути», – так оценил полученный результат Алик.
***
Первая критическая заметка Алика «Шутки на крови», про некачественные анализы в городской поликлинике, стянула над его головой нервные тучи. Хоть Алик и подписался псевдонимом, но мужским, а он являлся единственным мужчиной в коллективе редакции газеты маленького нефтяного города. Что гадать? В редакцию пришел рассерженный и пьяный муж медсестры, о которой без упоминания фамилии и было написано. Муж прямо-таки горел яростным желанием встретиться с Романовым, и он с ним встретился.
Скандальные цели визита обозначались вполне понятно на лице внезапного посетителя, и Алик их распознал сразу, но он не выказал беспокойства, а, наоборот, спокойно и подчеркнуто доброжелательно спросил:
– Вы кого-то ищете?
– Мне бы Романова повидать. Он в газете про анализы написал.
– Какого Романова? – Алик изобразил деланное недоумение по поводу своего собственного псевдонима…
***
Забегая на несколько лет вперед, можно сказать, что Алик к подобному приему прибегал не раз и самый увлекательный случай произошел в кабинете мэра города. Тогда после многомесячной задержки заработной платы Алик изобразил в газете едкую заметку «Еще раз про любовь» про генерального директора местного нефтяного предприятия, Генерала. Заметка наделала шуму. Последовала встреча с Хамовским, овладевшим к тому времени властью над маленьким нефтяным городом.
Человек сам определяет себе идола, перед которым поклоняется: будь то он сам, или звезда эстрады, или бредящий властью чиновник… Алик всегда понимал, что любой человек – это всего лишь единство внутренних органов, внешней оболочки и очень спорной способности мыслить, поэтому никому не поклонялся, а на заносчивых знаменитостей или чиновников смотрел как на умалишенных, собственно, так оно и есть на самом-то деле. Хотя, как понял Алик впоследствии, заносчивость людей, добившихся сравнительно высокого положения, имеет еще одно объяснение: это плотина, барьер между простыми людьми с приземленными чувствами и низким уровнем развития и людьми с высоким уровнем, который ставится, чтобы, так сказать, не запачкаться и не падать. Но опять-таки, как понял Алик позднее, этот барьер не столько обедняет простых людей, сколько самих знаменитостей, которые именно в простых людях черпают свой талант, власть, славу. В общем, перед мэром маленького нефтяного города Алик не испытывал ни дрожи, ни тяги к поклонению. Нельзя сказать, что он видел этого чиновника насквозь, как не видел насквозь и всех остальных, но понимал, что над чиновником властны самые обычные человеческие чувства и стремления.
– Генерал визжит от твоего фельетона. Звонит мне каждый день. Придется тебе бутылку коньяка поставить, – произнес мэр с видимым удовольствием на лице. – Это же твоя работа, Алик?
– Какого фельетона? – переспросил Алик, понимая, что руководители всегда смогут договорить и выставить его козлом отпущения, а бутылка коньяка за козлиное существование не цена. – Ничего не знаю.
– Твой фельетон был, – напомнил мэр, и на его лице появилось выражение крайнего удивления.
– Нет, – твердо ответил Алик.
– Как нет? – удивился мэр и обратился к редакторше, Мерзлой, сидевшей тут же – Ты ж говорила, что это его работа.
Алик на мгновенье потерял душевное спокойствие: его подставила Мерзлая. «В кулуарах власти друзей нет», – понял он.
– Это же ты написал, это же твой псевдоним – Романов, – сказала Мерзлая, обращаясь к Алику. – Фельетон назывался «Еще раз про любовь».
– Помню. Читал. Действительно, смешной такой фельетон. И псевдоним под ним мой. Я так обычно подписываюсь, – ответил Алик.
– Ну, так ты написал это?! – начинал терять терпение мэр. – Ну, говори. Брось валять. Признавайся. Чье это? Ты же сказала, что он…
Пока Хамовский говорил, то нервозно моргая, то энергично потирая ладони, то слегка похлопывая ими, Алик успел оценить обстановку. За столом, кроме него, сидело три человека: Хамовский, Мерзлая, молчаливый, когда требуется, заместитель мэра. Три мощных свидетеля. Публичное признание могло обойтись дорого.
– Не я автор. Человек принес заметку, и мне показалось, что она точно походит под мой псевдоним. Человек не отказался. Вот и вышла «Любовь» под Романовым, – на ходу сочинил Алик, а сам подумал: «Вот сука. Она не имеет права раскрывать псевдоним. Видать, Генералу хочется точно знать, кто по нему прошелся».
– Алик, сознайся. Ты же? Сейчас бутылку коньяка принесу. Как ты его продернул! – подчеркнуто дружелюбно похвалил мэр, протягивая ладонь для пожатия.
– Да что сознаваться? Рад коньяку выпить, да не я написал эту заметку, – ответил Алик, которому уже не нравился тот напор, с которым его заставляли сознаться в авторстве.
– Ну, мать, вашу мать, – слегка ругнулся мэр, поняв, что разговор зашел в тупик, но тут же исправился. – Правильно. Тут только через суд можно определить. Не говорите, не надо. Я же не буду нарушать. Ох, фельетон… Но ладно – речь не об этом…
Настроение присутствующих испортилось, и разговор перешел на другую тему. Но вернемся назад…
***
– Вашего Романова, укусившего лабораторию, хочу видеть. Поговорю с ним с глазу на глаз в коридорчике. Там как раз света нет, – настаивал посетитель. – Он, видимо, в нашем нефтяном городе человек новый, недопонимает…
– Я понял, кого вы ищете. Романов работает внештатным корреспондентом и сейчас отсутствует, – нашел победоносную беспроблемную стратегию Алик.
– Но мне надо обязательно переговорить с ним.
– Хорошо, приходите завтра. Мы его предупредим, чтобы ждал.
На следующий день этот настойчивый посетитель пришел еще более пьяный, но Алик знал, как его встретить:
– Вчера, после вашего ухода, Романов принес последний материал. Мы его просили встретиться с вами. Понимая щекотливость ситуации, он отказался. Работников, которые не отвечают за свои слова, мы не держим и от сотрудничества с ним отказались. Уволили. Ваши претензии рассмотрим и, если вы будете настаивать, опубликуем опровержение.
Посетитель, хотя был пьян и зол, оказался все ж не без сердечности:
– Зачем так? Я не желал поганца оставить без куска хлеба. Хотел по-мужски…
– Не вините себя. У нас такие правила. Мы не терпим проходимцев.
И посетитель ушел с новым чувством вины, подталкиваемый к двери веселым взглядом Алика…
КОНФЛИКТ
«Любовь, как и цветок, легко убить одним движением»
Алик указательными пальцами мял темные мешковатые пятна под глазами и горестно думал о семейной жизни в тонах агрессивных и человеконенавистнических. Он привык отдаваться любимому полностью, будь это работа или человек. Он влюбился в журналистику и работал, не считаясь со временем и деньгами. Идеи посещали его и днем и ночью и волновали, как послегрозовой, насыщенный озоном воздух, как шум вечернего морского прибоя, как ветерок дальних странствий…
Возникавшие мысли он записывал, переписывал. Все меньше времени оставалось для семьи, кроме того, для любимой работы он купил печатную машинку, вырвал деньги из семейного бюджета и удивлялся, почему его любимая Роза иногда обвиняющее, иногда обиженно, иногда раздраженно на него поглядывает.
Как-то поздно вечером он пришел домой, привычно, не оглядываясь по сторонам, пробежал мимо ванны, где громкие плески воды явственно указывали на большую стирку, затеянную Розой, сел за кухонный стол, разложил на столе бумаги и продолжил работу. Он был так увлечен, что не заметил, как сзади появилась жена.
– Милый, чаю не хочешь? – спросила Роза с какой-то странной иронией.
– Спасибо, что зашла, Роза. У меня статья выходит. Блеск! Налей, если не сложно, – не поворачивая головы, попросил Алик.
– Конечно, дорогой, для тебя ничего не сложно, – ответила Роза и наклонила старый эмалированный чайник над столом.
Из удлиненного носика чайника незамедлительно показалась струя воды. Она под действием гравитации с ускорением устремилась к бумагам, разложенным на кухонном столе. В стороны полетели брызги. Бумаги темнели, пропитываясь водой, и темнели все больше. Алик замер. У него на глазах любимый человек уничтожал любимый труд. Чаши весов заметались в его душе.
«Как она может такое делать!? – вопила часть души, влюбленная в журналистику. – Прояви себя, как мужчина! Поддай ей хорошенько!»
«Бить женщину плохо, – успокаивала воспитанная часть души. – Будь терпелив к чужим недостаткам. Раз это произошло, ищи причину в себе».
«Если ты сейчас же не поставишь ее на место, то потом пожалеешь! – злобно кричала часть души, влюбленная в журналистику. – Ты должен! Ты должен! Задай ей!»
«Ради Бога, если ты решишься применить силу, будь осторожен, – отступала воспитанная часть души.
Часть души, любившая Розу, пребывала в панике и растерянности и молчала.
Лицо Алика посерело. Он поднялся со стула, схватил Розу за руку, вырвал чайник, затем скрутил виновную руку так, что Роза повернулась к нему спиной и согнулась. Так в полусогнутом положении Алик вывел Розу из кухни и с силой толкнул в комнату. Роза отступила на несколько шагов, остановилась и с кулаками бросилась к Алику. Он опять схватил ее за кисть, резко вывернул и толкнул Розу на диван. Роза упала вниз лицом, перевернулась, злобно глянула на Алика. В уголках глаз, на щеках каплями росы блестели слезы.
– Зачем ты это сделала? – спросил Алик, почувствовавший смутную вину от этих слез.
– Ты ничего, кроме работы, не видишь! – крикнула Роза.
– Но ты же знаешь, сколько времени я трачу на тексты! Это большой труд! – Алик попытался воззвать к чувствам.
– Мне плевать. Я все твои бумаги в следующий раз порву, – крикнула Роза. – Другие мужики женам помогают: и стирают, и гладят. Ты же сам по себе. Что мне от твоей работы? Денег больше не стало.
Дополнительная работа действительно приносила не столько деньги, сколько затраты, как времени и сил, так собственно и самих денег. Этот аргумент крыть Алику было нечем, но именно то, что Роза указала на безденежное обстоятельство, его обидело еще больше, поскольку она знала, что для Алика работа стала равносильна жизни.
– Ты меня не любишь, – заключил он. – А насчет денег – каждая строчка приносит гонорар.
– Это ты меня не любишь, – ответила Роза. – И не смеши своими копеечными гонорарами.
Алик понял, что говорить больше не о чем. Он не хотел видеть лица Розы, он не хотел даже ощущать рядом ее присутствие. Он молча прошел в коридор, оделся и ушел из дома. На улице уже стемнело, вечерняя прохлада смягчила гневные мысли и вернула логику.
«А куда я пойду? – подумал Алик. – Все спят, либо ко сну готовятся. Не по городу же шляться всю ночь».
Он засунул руки в теплые карманы куртки и в одном из них нащупал ключ. Оказалось – от редакции. Туда он и направился, на ходу размышляя, как он составит в один ряд несколько стульев, положит под голову подшивку газет и вполне прилично поспит, как спал, когда работал сторожем в студенческие годы.
Алик ушел, но совершенно точно понимал, что вернуться придется. Можно развестись, но зачем, если не думаешь жить один в дальнейшем? С другой женщиной, наверняка, возникнут те же проблемы. К тому же у них с Розой рос сын, и он притягивал к себе, как хорошая, перспективная статья, требующая работы и любви. Другое дело, как житьдальше с той женщиной, которую любил, и вдруг заметил, что она не такая, какой была или какой казалась?
После родов Роза сильно располнела, но Алик не замечал этого обстоятельства до нынешней ссоры. Теперь же он шел к редакции и мысленно выискивал в своей бывшей возлюбленной жене все мельчайшие недостатки и, словно хворост, подкидывал их в пламень адской топки, горевший у него в груди. Он так в этом преуспел, что по пришествии в редакцию, вместо того чтобы лечь спать, взял чистый лист бумаги и взялся писать:
«Роза, если ты когда-нибудь прочтешь этот текст, то знай, что теперь я думаю о тебе только плохо. Есть тоска по неудавшейся задумке жить с любимой женщиной, хорошо относясь друг к другу, до самой старости. Ты сегодня все разрушила. Где та улыбка, с которой ты смотрела на меня? Все нежное, что нас связывало, исчезло. Где ты? Поищи сама. Ощущение твоей невинности, беззащитности и мягкости, исходящие от тебя, обманчивы. Ты корыстна, думаешь только себе и своем благополучии. У нас с тобой исчезли интересные темы для общения, потому что ты не умеешь слушать никого, кроме себя…»
В этом тайном письме, никогда, кстати, никем не прочитанном, поскольку Алик на следующий день порвал его, было написано еще много разных обвинений. Он излил на бумагу все огорчение от окончательной потери иллюзий, в некоторых обвинениях жены, как говорится, перегнул палку, но составление письма его успокоило, как успокаивает японца избиение чучела своего начальника. Проза письма незаметно для Алика перешла в рифмованное почтистишие (так Алик называл свои стихи):
Две судьбы в одну сплелись?…
Не сплелись, а лишь касаясь,
Оттолкнулись, понеслись,
В тайны сердца не вдаваясь.
Быт устроен, пища есть -
В этом нет большой проблемы.
Может, и не надо лезть
В душу близкую на темы
Дележа домашних дел,
Верности и вероломства,
Кто в зарплате преуспел,
С кем жил до … и есть кто после …?
Что возможно отыскать?
Пару темных коридоров;
Страсть, которой не понять;
Злость, заученных укоров;
Грусть о прошлом и деньгах;
Вздох несбыточных мечтаний;
Страх болезней; о годах
Проходящих мрак терзаний…
Да на что они сдались?
Грустно жить, досрочно старясь.
Две судьбы в одну сплелись,
В тайны сердца не вдаваясь.
На этом нефтяной фонтан черных душевных откровений Алика иссяк, веки стали все чаще смыкаться, он лег на стулья и так крепко уснул, что казалось пациент выздоровел окончательно без последствий. Но последствия остались. С этого момента супружеский долг он отрабатывал автоматически, а любовь искал исключительно на стороне.
СТРАТЕГИЯ ХОЖДЕНИЯ НАЛЕВО
«Главное – любить, а остальное приложится»
От женщин, трудившихся в редакции газеты маленького нефтяного города, для мужской натуры Алика не было ровным счетом никакого проку, из-за веры и неукоснительного следования канонам народной мудрости, вещавшей примерно следующее: «не люби, где живешь, и не живи, где любишь». От тоски спасало одно – сердечные романы на стороне. Они стали его тайным убежищем, о котором мало кто знал…
С Мариной, стройной белокурой особой, весом не более, чем рост минус сто десять, он познакомился в одном из мрачных частных магазинов, быстро размножавшихся в то время, а потому наспех сделанных из того материала, что попался под руку. Эта симпатичная птичка, кем-то уже окольцованная, сразу ему понравилась. «Ничего мордашка», – подумал Алик и, словно многоопытный пират, пошел на абордаж изящной каравеллы, в капитанской каюте которой билось страстное, трепещущее женское сердечко, что бывает со всеми женскими сердечками в определенном судьбой возрасте. Собственно, много ли надо для того, чтобы вспыхнул огонек романического желания между двумя молодыми людьми на бедной впечатлениями таежной вырубке, хоть и застроенной вполне жилыми домами.
– Дайте, пожалуйста, пачку «Марлборо», – сказал он продавщице, окатив ее горячими солнечными лучами игривого взора. По крайней мере такой эффект своему взгляду старался придать сам Алик.
Девушка положила сигареты на прилавок, но не успела отдернуть руку, как Алик положил на ее ладонь свою и легонечко погладил. У Марины слегка дернулись брови, и внутри стало быстро распространяться нежданное тепло. Она притворилась, будто не заметила нежного прикосновения, но внимательно посмотрела на приставучего покупателя и поразилась его сходству со своим братом. Она подала сигареты. Алик их взял, покрутил пачку и артистично замахал руками:
– Извините, пожалуй, я их не буду покупать. Временная слабость. Я бросил курить, причем с самого рождения.
– Ничего страшного, это со многими случается. Еще наверстаете, – ответила Марина и улыбнулась.
Алик положил сигареты на прилавок, но не успел убрать от них руку, как Марина накрыла его ладонь своей и легонечко постучала указательным пальчиком по суставчику, примерно так, как разведчики передают сигнал морзянки. Конечно, никакой шифровки в стуке Марины не содержалось, но понять смысл сигнала не сложно…
Мужское сердце встрепенулось, а в мыслях возникла пьяная легкость. Клюнула, да еще как! Они взглянули друга на друга, глаза в глаза. Алик мгновенно оценил ее мысли: «Она, несомненно, размышляет примерно так: «А может затеять тайный романчик, а то все эти субботние стирки, готовки уже поперек горла стоят…»
– Давайте встретимся вечерком, после работы, – предложил Алик.
– Вечерком не получится, я замужем, – ответила Марина.
– Ну и что, я тоже женат.
– Мне после работы надо сразу домой.
– Тогда я просто провожу до дома, – сказал Алик и пошел к выходу, оставив Марину в раздумьях, впрочем, не в мрачных.
Вечером, перед закрытием магазина, Алик дежурил у его выхода в лучшей одежде, каковая нашлась в его гардеробе, поскольку всегда следовал поговорке: «Хочешь любить раз в неделю – женись, хочешь любить раз в три дня – купи новый костюм, хочешь любить каждый день – купи машину». На машину денег не имелось.
Тайные свидания нахлынули на Марину, как сказочно обретшие реальное существование воспоминания о годах свободного девичества, когда в любви была не только постель, но и свидания, и цветы, и новизна.
Изменения привычного графика присутствия порождало подозрения в семьях.
– Ты что-то рано на работу, – корил Марину муж.
– К портнихе надо забежать, – почти без лукавства отвечала Марина, у которой с новой силой вспыхнула любовь к обновкам.
– Что-то ты сегодня поздно, – замечала Алику жена.
– Начальство работу подкинуло. Устал сверх меры, – отвечал Алик и тоже почти не лгал, поскольку если под начальством понимать Бога, а под работой легкий флирт, то все сходилось.

Поверхности супружеских постелей к неудовольствию «рогатых» половин перестали ритмично волноваться под тяжестью исполнения долгов, но все легко списывалось на недомогания и усталость. Изменились и особенности поведения героев тайного романа: поведение их стало порой абсурдным и необъяснимо революционным. Марина принялась подтрунивать над мужем, Алик – преподносить жене подарки.
***
Неожиданности, как кометы, вторгаются вспышкой охотничьего сигнала в исполненные обыденного спокойствия дни так быстро, что сложно успеть не только загадать заветное желание, ведь его надо еще и вспомнить, но даже заметить вторжение.
В поздний провальный вечер, примерно в одиннадцатом часу, Алик наркоманским стуком в дверь, то есть тремя неторопливыми ударами суставами пальцев и тремя очередями из перестуков их подушечек, попросился в квартиру Марины и был немедленно принят. Муж Марины уехал в командировку на неделю. Дочь Марины, как обычно в указанное время, ловила крепкие непробиваемые скрипом дивана сновидения. Из кухни пахло необычайно вкусно.
Алик, надо отметить, любил хорошо покушать и никогда не отказывался от случая «ударить по пирогам противника» – эту фразу он подцепил в американской комедии, которая называлась «Горячие головы», и при удачном случае всегда применял.
Штампованные фразы слышны дома, на улице, в троллейбусах и трамваях… Без них каждый живущий изобретал бы украшения к своей речи самостоятельно. У литераторов отношение к ним неприязненное, но в то же время штампы понятны и остроумны, вызывают у собеседника быстрое понимание и даже взлет настроения. Вся жизнь состоит из штампов. Они как кирпичики или железо-бетонные блоки, из которых строится дом, но заметьте, кирпичики или блоки могут быть одинаковыми, знакомыми и примитивными, а дома могут быть разными. Поэтому Алик никогда не пренебрегал штампами, если ничего лучшего придумать не мог. В конце концов, если доводить борьбу со штампами до абсурда, то надо и буквы менять каждый раз, их звуковую гамму. Буква – общепринятый изначальный штамп. Итак, напомню читателю, что это отступление от темы было посвящено любимой фразе Алика: «Ударить по пирогам противника».
Она, фраза, как масло легла на хлеб тещиного наставления: «На хлеб, зятек, не обижаются». Поэтому Алик прошел на кухню, а там его взор обрадовали и свежеиспеченный кексик, и зимний, его любимый, салатик, и отбивные с картофельным пюре. «Ее мужик видно ничего не может или не ценит. Вот она и старается, чтобы меня не упустить. Любовь. А как жрать-то хочется. Главное не торопиться. Надо дать ей понять, что ценю ее больше, чем еду», – подумал Алик и сказал:
– Я без ума от тебя. Но зачем ты столько наготовила? Устала, наверное?
– Ты ж с работы. Садись, покушай. Сегодня спешить некуда, – ответила Марина, думая: «Везде одно и то же, что в семейной жизни, что в любовной. Вот только муж поест и быстрее завалится спать, а любовнику ужин отработать придется, да так, чтобы я довольна была».
– Давай быстренько перекусим, а то мне скоро домой бежать. Я сейчас вроде как на конференции, но если она закончится заполночь, то подозрений не избежать, – сообщил Алик между жевками, быстро хватая вилкой с тарелок.
Он не любил засиживаться на территории самца, неосознанно враждебного ему: боялся нечаянной встречи. Такие встречи, судя по опыту друзей, не приносили ничего хорошего. Один его знакомый, самбист и бандит в одном лице, в такой момент выпрыгнул из окна, избегая удара топором, а Марина жила высоковато…
– Не тороп…, – начала было Марина, но обеспокоено взлетела с табуретки, словно голубь с усеянной семечками поляны при появлении кошки, и устремилась к входной двери.
Мягко ступая, Алик побежал за ней.
– Что случилось? – еле внятно спросил он и принялся проворно дожевывать.
– В подъезде дверь хлопнула, – ответила Марина. – Молчи. Я его по шагам различаю.
Предсказатели будущего рождаются в критических ситуациях: в кого-то попадает молния, кто-то попадает в автокатастрофу… Прогнозировавший возможную встречу с Марининым мужем, Алик знал, что она будет связана с хлопком двери, и этот мысленно режиссированный фрагмент включил мозговую долю, отвечающую за панический страх. Это было как удар молнией или машиной, но происходило исключительно в голове. Влияние психических сил оказалось настолько сильно, что Алик подсознательно постиг, что Марина спустя мгновенье скажет: «Он!!! Быстрее хватай одежду и беги по лестнице наверх!»…
– Он!!! – шепотом взвизгнула Марина. – Быстрее хватай одежду и беги по лестнице наверх.
Алик сорвал с крючка куртку, словно лист с дерева, схватил ботинки, в носках выскочил в тихо распахнутую Мариной дверь и на цыпочках запрыгал по лестнице наверх. За его спиной в глубокой подъездной тишине предательски щелкнул механизм автоматического замка, с сухим треском сломавшейся под ногой разведчика ветки. Пробежав два лестничных пролета, Алик начал быстро одеваться, представляя себе, как глупо он будет выглядеть, если тот, кто идет по подъезду, не муж, а жилец последнего этажа… Звонок раздался ниже и послышался радостный Маринин голос:
– Ой, милый! Ты уже из командировки?
– Привет. Пораньше закончи…
Дверь захлопнулась. Алик бесшумно помчался вниз, чувствуя, как сердцебешено барабанит по внутренней части макушки и предупреждает: «Еще одно такое приключение, я разорвусь на две части, а может и больше». Дверь подъезда распахнулась, и душевная мука почти исчезла, как если одну порцию соли, растворенную в стакане, вылили в кастрюлю и добавили воды. Необъятный объем пространства под открытым небом за дверью подъезда был несопоставим с масштабами Марининой комнаты и даже подъезда. Горечь растворилась в мире. Алик почувствовал себя очищенным и спасенным. Легкий морозец бодрил, и, перебирая в голове нюансы происшедшего, Алик вдруг сочинил стишок:
Через года, а может, сразу
(Ведь срок зависит от причин,
Над коими совсем не властны
Сердца обеих половин)
Своих любимых начинаем
Мы узнавать и по шагам.
По интонациям гадаем,
Когда их ждем по вечерам
С работы или от знакомых
В беззвучной, скучной пустоте
Жилья без жизни и без новых
Известий, а что есть – не те.
Чужие ходят мимо двери,
Не так печатая шаги.
И нет тому разумной меры:
Желанью видеть дорогих,
Своих людей навек, до смерти…
Вот вновь заговорил подъезд.
Я до последнего не верю,
Что не она. Как надоест
Это засилье посторонних,
В которых лишь издалека
Как будто узнаешь…Но звонят
В квартиру ниже. Не легка
Судьба у тех, кто ожидает
Свою отъемлемую часть.
Покоя нет, хоть понимаем:
Она приедет, ей не пропасть.
Алик проговаривал последнюю фразу, когда, словно жирная точка в конце предложения, в дверном проеме появилось такое же черное от гнева лицо его супруги:
– Где шляешься?
– Все нормально, Розочка. Сама знаешь, работа дурная.
– Хочешь есть – вчерашний рассольник в холодильнике. Разогревай сам. Я сплю.
Сравнив предложенный распроклятый суп с тем, что он недоел у Марины, Алик уклонился от домашнего ужина:
– Милая, у меня от усталости никакого аппетита. Пожалуй, тоже лягу спать.
Алик разделся, бревнышком упал на диван, отвертелся от рыскавших по его телу рук жены, отбрехался от ее привычных упреков и заснул сном ищущего забвения семейного пленника…
***
Обворожительная и соблазнительная татарочка Роза, на которой Алик женился десять лет назад, казавшихся теперь вечностью, утеряла все прелестные качества. Изящная, словно кошка, желанная и соблазнительная – как давно это было. Алик вспоминал прогулки с нею по темным улицам, освещенным радостно волшебно редкими фонарями. Собственно все в тех встречах было чарующе и пронизано любовью, даже машины, злобно сигналившие им, когда они почти незряче от взаимных чувств и притяжения взоров переходили дорогу. Алик вспоминал, как они бросались друг к другу в лифте, целовались и целовались, пытаясь удовлетворить жажду обладания, жажду, становившуюся только сильнее от продолжительных прогулок, ну совсем как аппетит. Правая рука Алика ползла под Розину кофточку, находила мягкую возбуждающую грудь…
***
Теперь руки Алика любили совсем другую грудь. Следующим вечером Марина с Аликом между пьянящими поцелуями на мягком диванчике в опустевшей после рабочего дня редакции газеты маленького нефтяного города обсуждали внезапное возвращение рогатого мужа.
– Ты бы видел его глаза, когда он зашел на кухню! Они вздулись до размеров бильярдных шаров, и чуть не повылазили из луз, – говорила Марина. – За таким прекрасным столом, какой я тебе приготовила, он давно не сиживал. Хорошо, что ты не из тарелки ел, а то б сразу ревновать начал. Он и так меня пытал: «Кого это ты ждала?»…
– Я тоже буду тебя пытать, – сказал Алик и ласково потеребил свою подружку за волосы.
– Подожди, сейчас доскажу. Я – ему: «Никого не ждала, решила себе устроить небольшой праздник. Ты не представляешь, как грустно без тебя. Я так рада, что ты приехал раньше». А у самой внутри – прямо извержение вулкана. В общем, докушали мы твой салатик, отбивные, кексик и легли спать. И мне, милый, пришлось проявить в постели чудеса изобретательности, чтобы муж остался доволен.
– Ах, ты изменница! – театрально воскликнул Алик и весело набросился на Марину. – Сейчас ты за это заплатишь…
А еще через день лицо стоявшей за прилавком Марины украшали два аккуратных синяка – по одному под каждым глазом.
– Марина, что с тобой?! – обеспокоился Алик и был увлечен в подсобку.
– Не знаю, что делать. Развестись с ним, что ли? Вчера, гад, такое учудил! Это я ему не прощу, – со слезами заговорила Марина. – Он, когда я за тобой дверь закрывала, узнал знакомый щелчок замка и понял, что кто-то у нас был. «Другие двери, – говорит, – не хлопали – значит, не соседи к нам заходили. Вниз никто не спустился. Значит, кто-то поднялся выше». Представляешь, какой мерзавец. Связал щелчок замка с необычно хорошим столом и сподличал…
Марина рассказала все, что произошло.
ПРОВОКАЦИЯ
«Не хитрый, только глупый»

Дождавшись подозрительно мечтательную Марину после ее свидания с Аликом в редакции газеты, муж завел провокационный разговор.
– Так кого ты ждала вчера вечером? – сурово спросил он.
– Прекрати, дорогой, это уже не смешно, – ответила Марина и, обдав мужа холодком, промелькнувшим в глазах, скользнула в комнату.
– Хватит врать. Я на время командировки установил в комнате видеокамеру и сейчас, пока тебя не было, просмотрел, что она наснимала. Как тебе не стыдно водить сюда, на диван, где мы любили друг друга, своих ухажеров? – повел игру ва-банк муж, похлопывая по собственному бедру небольшой видеокассетой от любительских камер.
Видеокамеры, конечно, никакой не было. Но Марина об этом не знала. Она мигом припомнила, что ее муж хорошо разбирался в технике, видеомагнитофон был, видеокамеру он мог взять у друзей. Нежданное коварство всегда тихого супруга поразило ее в самое сердце. Паника рвала разум на мелкие части. «Да как он посмел вторгнуться в небольшой райский уголок, так чудесно возникший в моей жизни!» – взбешенно кричали мысли, и она вне себя от негодования выплеснула:
– Как ты посмел?!!
– Это ты как посмела? – развивал горячую тему муж, почувствовавший, что попал в точку.
– Да ты сам, сам!!! Вечно в разъездах! Там по бабам ходишь. Что, не так? Тебе можно, а мне нельзя?
– Это твои домыслы, поганка, – ответил супруг, ясно почувствовавший, что его голову украшают шикарные рога.
– Нет, как ты додумался все здесь снимать? – не унималась растерявшаяся Марина. – Где установлена видеокамера?
Марина забегала по комнате в поисках… и примерно через час выскочила из квартиры с недурственными кровоподтеками под глазами. Она направилась к брату, жившему совместно с ее мамой. Жажда мести ножом резала сердце.
«Сам кобелит направо-налево и еще лапы на меня поднимает, – размышляла она. – Ничего, родственник ему задаст»…
Родственник шел к мужу многоюродной сестры, находясь в весьма противоречивых чувствах. С одной стороны, пострадала близкая кровинушка. С другой стороны, несколько лет назад с ним случилась похожая история. Жена изменила с молодым и энергичным кавказцем. Узнал случайно. Хотел развестись, но посмотрел на детей и передумал. Притерпелся. Конечно, синяки под глазами его сестры – это слишком, но, если судить по справедливости, она заслужила. Он нажал на кнопку звонка, не зная, что сказать.
Дверь открылась, за ней появился на первый взгляд ничуть не расстроенный муж, пахнуло жареной картошкой с курицей.
– Проходи, гостем будешь, – пригласил.
Оба мужика прошли на кухню, молча выпили водочки, покушали. Начался разговор.
– Не горячись, не торопись разводиться, – советовал родственник. – Я понимаю тебя прекрасно, сам через это прошел. Все забывается. Сегодня мы с женой живем, будто ничего не было…
Он рассказал по кавказское увлечение подруги жизни и почувствовал на себе удивленный взгляд.
– Чему удивляешься? – спросил родственник. – Женщины одинаковы, желают мужчин и хотят изменить. Не у всех получается. Это высокообразованным да интеллигентным долго искать ухажера по своим высоким претензиям и запросам, а нашим женам, вышедшим из простого народа, лишь бы кобель был хороший. Истину говорю, долго на эту тему думал. Свято место пусто не бывает. Ты мало внимания уделял жене, вот она и нашла себе другого…
***
– Представляешь, какие козлы?! – возмущенно проговорила Марина. – Даже родные! Спились и сдружились. Прихожу, сидят на диване, обсуждают последний футбол. Хоть бы ты заступился. Боюсь, теперь мы не сможем встречаться. Следить будет …
– За тебя, Маринка, на все…что скажешь, – произнес Алик. – Есть у меня одна мыслишка, как твоего супружника укротить. Скоро Новый год, он точно в ресторан пойдет. Ты с ним ступай и меня пригласи. Там, когда все выпьют, сам черт не разберет, кто с кем. И посмотрим…
***
В единственном ресторане маленького нефтяного города с ностальгирующим названием «Юность комсомола» посетителям, желающим произнести тост, приходилось обходить столы и кричать в уши гостей пожелания, поскольку музыка громыхала так, что самые громкие разговоры глохли на расстоянии вытянутой руки. Зал весело бесновался. Елка ритмично мигала китайскими огнями. Официанты, одетые в бело-черное, абсолютно незаметные средь праздно отдыхающей публики, ловко расставляли блюда, прихватывая на обратном пути со столом вполне годные бутылки со спиртным и нетронутые кушанья, поставленные для тех, кто не пришел. В фойе из плотной мглы табачного дыма, словно из небытия, быстро вылетали дамские сумочки по крутой траектории, обусловленной длиной ручек, и тощие кулачки. Это три пьяненькие женщины дрались из-за какого-то лысенького коротышки, гордо стоявшего рядом и наблюдавшего…
Когда веселье достигло той стадии, что стало не важно, кто за каким столом сидит, лишь бы рюмку запрокидывать, Алик, отдыхавший в том ресторане за другим столиком, направился к мужу Марины, отмечавшему Новый год совместно с коллективом своей геофизической конторы. Вокруг нефтяного производства водилось много разных организаций. Геофизика была одной из…
Алик пожал кисти мужикам и представился всем, как новый водитель начальника – человек полуреальный, поскольку таковых в организациях порой и не видят. Возят они кого или не возят – это неизвестно. Известно, что зарплату получают и начальник доволен. И все. Далее выпили, закусили, выпили, закусили… Алик заметил, что движения рук приобрели отчаянную самостоятельность, а дамы стали отчаянно улыбчивыми. У всех раскраснелись щеки, в том числе и у Марины, одаривавшей его излишне откровенными взглядами. Алик понял, что пора, и подсел к ее мужу.
– Сидим за одним столом и все не познакомимся, – начал Алик, поднеся свой рот как можно ближе к ушной раковине Марининого мужа, которую, если бы не полумрак ресторанного зала, можно было принять за фигурную, наполненную черной пылью сгоревшего табака пепельницу. – Меня зовут Алик.
До Алика донеслось:
– Павел. Выпьем…
Они говорили о работе, политике, продажных чиновниках, глупых законах… Чем дольше общались, тем большей симпатией проникался Алик к своему до этого момента не более чем шутливому персонажу. «И чего этим бабам надо? – подумал он. – Нормальный мужик».
Марина танцевала, ожидая, когда произойдет возмездие. Ей мерещился муж, ползающий за ней на коленях по мозаичному ресторанному полу и вымаливающий прощение. И непременно с синяками. Ей снисходили видения, как Алик заходит в их квартиру, а муж, как профессиональный швейцар, снимает с него куртку и аккуратно располагает на деревянных лакированных плечиках. Шапку отряхивает от снега. На кухне прислуживает, а они ужинают при таинственном желтоватом танце огоньков на фитилях свечей, а потом муж встает поблизости с постелью и обмахивает их вспотевшие тела веером. И непременно с фонарями под обоими глазами…
Тем временем Алик с Павлом нашли общее русло для бурного потока беседы, и Алик рассказывал:
– Наткнулся я на поляну, полную зайцев. Косые скакали, как кузнечики. Достал ружье и из обоих стволов залпом дробью. Зайцы попадали, словно карандаши, выпавшие из пенала, а их вожак схватил тушки за уши и потащил к машине. Вот это охота.
– Это разве охота? Помню, небо потемнело от перелетных гусей. Я палил, не переставая, и они падали, словно космические метеоры, и не поверишь – точно в открытый багажник моей машины.
– Ты, Пашка, мой друг навек.
– Алик, взаимно.
– Выпьем…
«Стать другом мужа любовницы – лучшее, о чем можно мечтать. Золотая жила судьбы. Истина действительно в вине», – мысленно восхищался Алик такому исходу диалога…
– А вот и моя жена, – весело сказал Павел. – Познакомься…
– Очень приятно, – ответила Марина.
– Он тоже охотник, как и я, – продолжил Павел. – В ближайшие выходные мы направимся в лес, на глухариную поляну…
С этого времени Марина перестала прислушиваться к шагам мужа на лестнице, а муж появление Алика в своей квартире воспринимал очень даже восторженно. И все были довольны. Кроме жены Алика, конечно.
***
Роза подозревала неладное давно, но томилась в догадках, пока ее муж вдруг не подарил ей совершенно сумасшедшую по ее понятиям шубу, светло-коричневую, мутоновую, за совершенно сумасшедшие деньги – всю свою зарплату, над которой, к слову сказать, средний нефтяник плакал бы у кассы, а потом спорил с бухгалтерами, доказывая, что не так насчитали.
«Грехи замаливает, сволочь!» – уразумела Роза, но не пересилила восторгов и повисла на мужниной шее. Ее интерес к Алику разыгрался с новой силой, и она стала чаще заглядывать к нему на работу, причем не предупреждая. Слепая рыбалка дала результат, когда она, резко открыв дверь в кабинет мужа после окончания рабочего дня, застала прямо на столе живой и подвижный бутерброд из Марины и Алика.
В снежки Роза не играла давно, поэтому тяжелый металлический дырокол пролетел выше парочки и угодил точно в экран монитора. Тот взорвался с хлопком, похожим на выстрел стартового пистолета, и любовники моментально сорвались с места. Пока они метались и одевались, Роза, как бульдозер, прокатилась по кабинету и снесла на пол все, что не прочно лежало на полках и столе…
Скандал пронесся, как краткий кошмарный сон, потом еще один, и еще. Чтобы отвратить Алика от любовницы, Роза обратилась к бабке-знахарке.
– Есть стародавний рецепт. Он мне достался в наследство от моей бабки, – рассказывала знахарка. – Надо взять кал черной собаки и им понемногу подкармливать мужа, добавляя в пищу. Средство верное, проверенное.
Подходящего пса Роза искала долго, выспрашивала у знакомых и нашла. Алик после беспокойных ночей, проведенных не на диване рядом с супругой, а на полу, ел, почти не ощущая вкуса, и действительно стал чаще и дольше бывать дома. Происходило это по причине расстройства пищеварения и пронзительной диареи, но Роза не замечала данного унитазного обстоятельства. Тогда забеспокоилась Марина. Причем так сильно, что стала по факсу слать на работу Розе любовные письма ее мужа, адресованные естественно, ей – Марине:
Ты лишь взглянула, вмиг потерян
Был опыт, разум и покой.
Мир снова нотами измерен,
Затянут лирикой и мглой.
Вся жизнь во взгляде и ладонях,
Сердечным манящих теплом,
А ты смеялась, уводила
В свой, в общем-то, безумный дом.
А я, как маленький мальчишка,
Упал на дно рассудка и
Стал странным, сумасшедшим слишком,
Как будто мне не тридцать три.
Любовь – болезнь, подобна ране.
Случилось что-то в голове.
Ну, а теперь я у дивана
И размышляю о вине…
Роза нервничала и все больше кала черной собаки добавляла в супы и котлеты, которые скармливала Алику. Тот уже и на работу не хотел ходить, чтобы не оказаться хоть на минуту вдали от туалета, но Роза расценивала это обстоятельство как то, что он хотел побыть с ней, со своею женой. По ночам в квартире Алика и Розы гремели внезапные дверные звонки. Роза думала, что звонит Марина, и потому не открывала и не подходила к двери. Алик не подходил к двери, потому что думал: с работы ищут, чтобы задание дать, вроде ночного рейда с милицией. Но дело было в другом…
НА БЕЗРЫБЬЕ
«Сфинкса и народ объединяют безмолвие и используемость»

Инстинкт гнал Сфинкса домой. Следом за Сфинксом, заботливо привязанный собутыльником к поводку, тащился пьяный до беспамятства Колюн, молодой такой мужичушка. Его походка напоминала заплетающийся бег финиширующего марафонца. Его запах перебивал Сфинксу все запахи следов, поэтому пес наугад заходил в подъезды и тащил спотыкающегося хозяина то вверх, то вниз по ступеням, а тот инстинктивно тыкал во все попадавшиеся под указательный перст кнопки… Было заполночь.
Колюн в беспамятстве продолжал выпивать с дружком, каждое подергивание поводка принимал за предложение пропустить очередную стопку и беспрестанно неразборчиво бормотал:
– Ну ешо по пятьдесят за здоровье. Будет здоровье, а все остальное приложится.
По пути он прикладывался об углы и косяки, рисковал, что ему приложат хозяева… но сердечность российская к пьяницам спасала. Хотя и сам Колюн был не из черствых. Когда он постучал в один из вечно открытых почтовых ящиков и понял, что это не его квартира, то громко прокричал:
– Что же вы, дурни, дверь на ночь не запираете?
Дверь в свою квартиру, расположенную справа на лестничной площадке, Колюн находил регулярно и каждый раз по одному и тому же признаку. Его било током из углубления раскуроченного звонка. Тогда видение дружка с рюмкой пропадало, и он, как подводник через расстроенный фокус перископа, наблюдал реалии мира: железную дверь, крашенную в черное, с облупившимися местами, напоминавшими оттиски кулака, нестираемые отпечатки подошв, следы собачьих когтей.
За этой дверью, вспомнил Колюн, находилась его не приученная к семейной жизни супружница. Сфинкс по обыкновению прижался к стене.
Первые удары Колюну показались вполне вежливыми и тихими. Он нанес их ребром ладони в разработанную на двери вмятину. И так три раза подряд – на счастье. Витавшая в чистых девственных снах, имеющая высшее образование, почти красавица жена, Фекла, упала с кровати, пытаясь увернуться от невесть откуда взявшегося в ее сне молота. Она проснулась и присела ошарашенная…
Колюн, не слыша торопливых шагов за дверью, занервничал: «Надо же дура, опять спит. Никакого толку от ее высшего образования. Видать, от него глупеют. Нет чтобы, как порядочная, ждать мужа и открывать по первому стуку. Обязательно повторить требуется». Он размахнулся и бросился с кулаками на железную дверь. В удары он вложил всю инерцию пьяного тела, потащившего за собой Сфинкса. Сфинкс упирался, как мог, и в конце концов ему удалось вернуть хозяина на прежнее место. Тогда Колюн опять бросился на дверь. И опять Сфинкс, натужно визжа и скребя когтями по коричневым, залепленным жевательной резинкой плиткам, оттаскивал его назад. Эта привычная для Сфинкса операция всегда травмировала его собачью душу, но была частью службы.
«Колюн пришел. Пьяный в стельку. Собака…» – поняла Фекла. Инстинкт защипал сердце, посылая ее к двери открыть мужу. Но Фекла традиционно повременила. Она устала от пьяных выходок Колюна, когда тот то ползал на четвереньках, подражая Сфинксу, но не лаял, а посылал кого-то невидимого на три буквы с безумной улыбкой на лице, то хватал топор и рубил табуретки на дрова, то, спасаясь от незримых преследователей, бегал по квартире, порывался прыгнуть с балкона…
Каждый раз, слыша мужнины удары, она мечтала о разводе и плодила в своей голове мстительные мысли: «Побейся, побейся, дорогой. Может, поумнеешь. Фиг тебе мягкая постель. Сегодня точно останешься в подъезде на ковричке». Фекла улеглась на кровать, подрагивая от ударов, и, чтобы успокоиться, начала их считать, как баранов, надеясь заснуть, но при мысли о баранах в ее голове неизменно возникал раздражающий образ Колюна.
Тем временем система Колюн – Сфинкс достигла своей максимальной амплитуды, такой, что с полочки для шляп стали слетать Колюновы вязанки, к собирательству которых он имел тайную склонность, каждый раз возвращаясь в новой. Эта необъяснимая тяга в данный момент сыграла добрую роль, поскольку рухнувшая со стены полка приземлилась мягко, почти неслышно для Феклы, которой куда громче показался еле внятный крик из-за двери:
– Открывай, негодная баба! Сейчас косяки вышибу!
Но Фекла знала мастеров, установивших дверь, и знала, что они сработали на совесть, а в это время Колюн, который по дому никогда ничего не делал, видя, что из-под косяков сыплется известка, в бессилии своего невежества обрел новую надежду и силу.
«Третий раз женюсь и все долотом по граниту. Дверь-то вот-вот рухнет. Что за баба? Как прорвусь, поддам, воспитаю. Хорошие, как я, мужики теперь редкость. А таких, как она, – как водки. Ничего не соображает», – так подумал Колюн и начал резво переминаться с ноги на ногу. Сфинкс, поняв намерение хозяина, тут же спустился на одну ступеньку вниз, чтобы максимально ослабить поводок и не мешать. Колюн коротко разбежался и, резко выставив подошву вперед, врезался в дверь. В его душе приятно потеплело от сходства с мастерами боевых искусств. Сталь чуть отпружинила. Колюна понесло назад, и он бы упал, если бы не поводок. Сфинкс напрягся и удержал хозяина, который тут же опять ринулся на приступ своего жилья, сопровождаемый внимательным понимающим взглядом собаки…
Фекла ощутила усиление приступов Колюна. «Ногами обрабатывает», – осмыслила она и перестала считать удары.
– И-и-и-я!!! – раздавалось за дверью.
«Пора прекращать. Утром на развод. Что за козел?! Говорила подружка, пожившая с ним в гражданском браке да изгнавшая, что намучаюсь. Права оказалась. Что ему надо? Родители мои квартиру сделали, деньги я зарабатываю, не сижу на шее. Неблагодарная свинья…» Вдруг удары стихли.
Колюн тускло смотрел на дверь. «Бес с тобой. Пусть тебе стыдно будет. На плитках закимарю», – поразмыслил он и свернулся на коврике в позе зародыша. Сфинкс, поняв, что пришла его очередь, спустился с лестницы, приблизился к черной двери и принялся царапать ее когтями. Скрежет отозвался в душе Феклы грустью: «Если с ним развестись, то что дальше делать? Беда в этих нефтяных городах: все приличные парни уезжают, заканчивают институты, университеты и находят работу на земле, а девчонки чаще возвращаются к родителям. Вот и получается, что каждый более-менее смазливый пьяница чувствует себя здесь принцем на выданье, розой средь ромашек. Разведусь с ним, а где гарантия, что другой будет лучше? Все они одинаковы. Пока ухаживают, ласковые и милые, а как получат, что надо, так…»
Тут Сфинкс завыл и, как добрый друг, привалился к Колюну. Колюн занервничал, ему пригрезилось, что из машины с сиреной выскочили какие-то коты, забрались в квартиру, вылакали всю водку, как валерьянку, и давай тереться об него, Колюна, приговаривая: «Что, мышь серая, добегался?»
На Феклу от воя нахлынула совсем уж унылая тоска: «Опять уснул на плитках. Как бы не простудился. Сфинкс знак подает. Пойду открою». Черная дверь открылась с мурашкопорождающим скрежетом… Колюн резко подскочил, вперился взглядом в Феклу и, потрясая отбитыми кулаками, крикнул:
– Я вам, кошки, сейчас покажу, на что способны Микки-Маусы!
Фекла осознала, что опять придется остаток ночи увертываться от мужниных нападок, но закрыть дверь не успела, Сфинкс рванул поводок и увлек Колюна в квартиру…
***
Любовные приключения ярки, но не они занимают большую часть времени, отпущенного на жизнь. Сон и работа – вот главные вынужденные занятия. Типография находилась в соседнем городе, в ста двадцати километрах. Автобусы разные, но ухабы на дороге одни и те же. Трясло до головной боли. И так три раза в неделю, благо что в соседнем городе хоть продукты можно было купить, например: маринованные импортные огурчики или грейпфрутовый сок, а иной раз – мороженое! В общем, царила скукотища, разрезаемая, как молниями, редкими забавными событиями.
Как-то попался аварийный автобус. Он громоподобно палил выхлопной трубой и затягивал собственные газы в салон через разрывы в кузове. Они залетали сизыми тучами, неся с собой отвратительный запах. Глаза щипало так, что приходилось, несмотря на крепкий мороз, приоткрывать отдушину на крыше. Закрывали ее, только чтобы согреться. Не то, чтобы веселое событие, но запоминающееся, а вот еще одно.
Водители нанимаемых редакцией автобусов в полупустой салон по привычке пускали попутных пассажиров. Не по доброте душевной. Каждый попутчик вкладывал в водительскую ладонь денежку по тарифу.
– Как-то не по-человечески получается, – возмутился как-то Алик.
– Что не по-человечески? – переспросил водитель.
– Ты с пассажиров деньги берешь, а с нами не делишься.
– С какой стати?
– А с той стати, что автобус арендован редакцией, – ответил Алик и тут же предложил. – Давай пятьдесят на пятьдесят?
Водитель отдал половину выручки, и так повелось…
После собачьих лекарств от любви работа опять заполнила всю жизнь Алика без остатка, как было до того, когда его рабочие бумаги попали под воду из чайника, но Роза теперь не возмущалась. Она радовалась тому, что муж не встречается с Мариной, по крайней мере именно так ей казалось. В какое бы время Роза не заглядывала в редакцию, Алик всегда был при делах и, если в окружении женщин, которых с ним работало слишком много (неизбежное зло, от которого Роза не могла избавиться), то без всяких романтических отношений.
Даже самый великий праздник, еще остававшийся праздником, День Великой октябрьской революции, Алик отмечал, фальцуя газету.
Слово «фальцовка» ничего не говорит читателю газеты, который привык раскрывать многостраничную газету, не вдаваясь в размышления по поводу того, как газетные листы оказываются в газете в порядке страниц. В солидных типографиях эту операцию делает печатный станок или специальная машина. В редакции газеты маленького нефтяного города, где помещения должны, по логике, с трудом вмещать все имеющееся оборудование из-за кажущегося переизбытка нефтяных денег, складку листов выполняли вручную. Вначале листы перегибали, как свертывается пополам денежная купюра, потом вбрасывали друг в друга.
Куда уходили нефтяные деньги? – этим вопросом время от времени задавался каждый житель маленького нефтяного города. Ответов было много, но главных – два. Первый – в бездонный амбар государственной казны с центром в Москве, куда если попало, то никому не достанется. Второй – в безразмерные карманы главных лиц «Сибирьнефтегаза», т.е. «СНГ». Жителям маленького нефтяного города денег перепадало относительно немного. Конечно, побольше, чем в теплых обжитых краях, но не равноценно потерянному на Крайнем Севере здоровью и долголетию. В общем, зарплата была такова, что Алик не чурался подрабатывать за самую маленькую доплату, какую давали за фальцовку.
Фальцовка – работа дурная. Через несколько часов Алик чувствовал себя опустошенным и отупевшим. Только пиво или водка помогали завершить тираж, иногда – Роза, приходившая проверить, чем занимается муж. К финалу фальцовки Алик обычно покачивался от усталости и опьянения, размышляя, что все беды от забывчивости: оттого, что забываются детские мечты. Это понимание позволило передать под авторство Жени Рифмоплетова следующий стих:
Не думайте, что склонность странно мыслить
Не изменяется в течение всей жизни.
Она зависима от очень тонкой меры
Между работой элементов тела
И высших составляющих эфира,
Цена которым – половина мира.
Как сохранить пропорцию стабильной
И силам разрушенья непосильной?
На то дана свобода нам как средство,
И чудеса…и ощущенья детства.
Колдобистая дорога, фальцовка до умопомрачения, как неприятные на вкус удобрения на плодоносящие поля, падали на душу Алика, и из этой души что-то произрастало в присутствии общественной необходимости данного интеллектуально-растительного продукта. Кто-то в добавочном к «интеллектуально» слове «растительного» увидит намек на недеятельное «растение» или, того хуже, «овощ» как повод для соотнесения состояния Алика с состоянием душевнобольных людей, и в чем-то будет прав. Но не в том смысле, что Алик стал недееспособен и принялся ходить под себя, а в том смысле, что он стал игнорировать многие суетные радости бытия, как, например, посещение увеселительных мероприятий или ежедневный покер. Он даже отказывался от желудочно-телесных, имущественно-денежных радостей в пользу увлекательной работы над текстами, будь то стихотворение, журналистская статья или художественная проза.

Мало того, что он много работал, он был явно талантливым человеком, умел видеть в обычном – необычное, в привычном – особенное. Очень быстро он стал известным журналистом в маленьком нефтяном городе, фамилию которого читатели искали в свежей газете в первую очередь и, если не находили, то со вздохом разочарования отправляли газету в помойное ведро. Хотя что такое известность среди нескольких тысяч человек, даже среди нескольких десятков тысяч, в мире, где живут миллионы, миллиарды? Ничто! Но когда Алик задумывался над этим, то неизменно приходил к одному и тому же выводу: данная известность, пожалуй, ничуть не меньше, чем известность Шекспира в шекспировское время. Поэтому надо благодарить судьбу, что тебя хоть кто-то любит и, что самое главное, читает. Поэтому свои маленькие триумфы в маленьком нефтяном городе Алик воспринимал восторженно. Хотя не обходилось без казусов.
В маленьком нефтяном городе в честь десятилетия был объявлен конкурс на лучшее стихотворение, посвященное городу. Алик, как мы знаем, пописывал стихи и осмелился попытать счастья. Он стоял на одном из немногих незастекленном балконе своей квартиры в мощном овчинном тулупе и рыжей собачьей шапке и смотрел на ночные дома, горящие прямоугольники окон. И тут ему пришли на ум строки:
Вот и вырос северный город
Среди сосен, ветров и болот,
Как мальчишка, он весел и молод,
По мужицки работой живет.
Нефть выходит незримой рекою
Из промерзшего тела земли,
И чудесно горят над тайгою
Не огни факелов…, а зари!
Первозданная радость рожденья
Не угаснет в крови тех, кто смел.
Стройка здесь – это адское зелье:
Тяжкий труд и стихии удел.
Через пот, через грязь, через маты,
Ненадежную почву болот
Пролегают дорожки до кладов
Крайних северных – крепких широт!
Это была смесь эмоций, знаний и того состояния, когда говорят: понесло. Многие поэты утверждают, что им кто-то нашептывает слова. Алик ничего подобного не испытывал. Он сочинял, как изобретал, с желанием сказать точно и ново… Он выиграл конкурс, но волею судьбы, словно в отместку от проигравших поэтов маленького нефтяного города, в особенности от тех, кто слышит слова, получил в подарок голубой женский зонтик. Алик слегка обиделся, поменял зонтик на часы и забыл. Все ж основным его призванием была журналистика, расследования…
БУЛОЧНИК
«Святое – хлеб, но не булочник»
«…У граждан города увеличивается количество огнестрельного оружия и боеприпасов. Вооружаются все. Появился ряд частных охранных предприятий. Многие руководители города, игнорируя возможности служб ГОВД, прибегают к услугам частных охранных формирований. Всем в городе известно, что в настоящее время следственным отделением расследуется уголовное дело по обвинению лиц в совершении ряда преступлений так называемой группы «спортсмены». Арестованы руководители группы Богомолов, Кистеров, Коркешко, Шустов и другие. Приходится только удивляться, как успевал Кистеров П. В. справляться со своими обязанностями, работая одновременно инспектором службы безопасности НГДУ, инспектором службы безопасности «Альфа», маляром-строителем 3 разряда. Имеют место недоработки со стороны муниципальной милиции – все эти лица имели разрешения на огнестрельное оружие.
Сколько в городе совершается должностных преступлений, непорядок в документации, злоупотребления, халатность, – а кого за это наказывают? Единицы. Я считаю, что прокуратура нашего города не осуществляет влияния на предприятия, организации города. Нарушают законодательство руководители. Видя, что все им сходит с рук, не преминет рискнуть и простой рабочий. Происходит разложение морали…»
Алик обедал и читал газету маленького нефтяного города, которую он называл своей, но едва отложил ее в сторону, как заметил, что от откушенного им хлеба тянутся белесые волокна, похожие на нити паутины.
«Заплесневел, – подумал. – Не страшно. Из плесени пенициллин мастрячат – лечебно».
Он взял хлебный мякиш, раскатал и удивился тому, что тот податлив, как пластилин, а волокна тянутся и липнут. Тогда он схватил буханку и принялся ее внимательно разглядывать.
– Точно хлеб – всему голова! – ругнулся. – Только такой серый, непропеченный, порченый хлеб и может служить головой тому, что происходит вокруг…
На хлебозаводе Алика удивительно тепло встретил главный пекарь Коновалов, сравнительно высокий лысоватый человечек в белом халате. «Словно врач», – подумал Алик и показал подозрительную буханку. Коновалов не побледнел, а радушно предложил чаю со свежими булочками, аппетитно золотившимися за стеклянными дверцами шкафа. За чаем он разговорился о хлебе, легко, как о пустяковине, не стоящей крошек, рассыпанных по обеденному столу:
– Произошел случай заболевания хлеба картофельной болезнью. У пораженного хлеба запах мякиша гнилостный или пресновато-сладкий. Хлеб начинает портиться с сердцевины. Его нельзя хранить более суток, он не подлежит переработке, а только утилизации и желательно вместе с пакетом, в котором находился. Приобретать его впрок не надо, берите ровно столько, сколько съедите за день. Если хлеб остался, то его лучше выбросить. При употреблении хлеба, зараженного картофельной болезнью, могут появиться признаки пищевого отравления. Умереть, конечно, никто не умрет. Но это проблема не только нашего города, но и всего региона. Болезнь приходит вместе с мукой…
Алик вышел на улицу, пребывая в замешательстве. Убогие деревянные двухэтажки незнающе скрипели на другой стороне переметенной снегом дороги. Они как будто спрашивали Алика: «Что там? Что там?» Алик задумчиво пошел в редакционную квартиру, пробиваясь сквозь плотные сугробы.
Людей травили молчком, массово и равнодушно. Алик ощутил себя зрителем, заглянувшим не вовремя за занавес. До этого случая он и не догадывался, по какому сценарию ставится пьеса жизни. Оказывается, и сценария-то нет, и артисты играют целиком для себя. Он изучил переписку Коновалова с начальником санэпидемслужбы, Главой администрации маленького нефтяного городка, начальниками нефтяных предприятий, начальником отдела рабочего снабжения, директором нефтяного торгового предприятия… Все бумаги любезно предоставил Коновалов. Газеты тогда не боялись, срабатывала инерция времени непуганых и исполнительных чиновников.
Получалось, что о хлебной болезни оповестили всех высших руководителей маленького нефтяного города, а о рядовых жителях города забыли…
Хлебная статья получалась любопытной, а тут еще и подоспела помощь свыше: понос прохватил сотрудницу городской администрации, после того как она откушала больного хлебца. Алик в это время был в санитарной службе города. Нелестные отзывы пострадавшей чиновницы разлетались из телефонной трубки далеко по коридору и оставили у санитаров глубокое впечатление. Быстро возникли мероприятия по предупреждению картофельной болезни хлеба. Через семь лет работы хлебозавода всего за полтора дня был найден и установлен термостат, куплена стиральная машина для стирки рабочей одежды, началась работа над проектом приточно-вытяжной вентиляции, так как резкое охлаждение горячего хлеба – это очень важный прием борьбы с картофельной болезнью.
«К сожалению, эти мероприятия запоздали. Руководство хлебозавода идет на компромисс с болезнью. Здоровая мука смешивается с остатками больной и используется в производстве. Хлеб после выпечки еще не достаточно охлаждается. Об обработке цепи складов, где хранилась зараженная мука, остается только мечтать», – писал Алик в статье.
Вызвало еще большее удивление то, что все понимали опасность и каждый участник этой истории, из чиновников, мог дать массу полезных советов и пояснений. Санитарный врач Нашаров, убежденный жизнелюб маленького нефтяного города, взволнованно вещал:
– Болеет картофельной болезнью только белый хлеб. Продавцы, чтобы вчерашний хлеб не потерял внешнюю свежесть, заворачивают его в полиэтиленовые пакеты и создают таким образом удобную для картофельной палочки среду…
Но то, что санитарный врач об этом говорил, не значило, что в магазинах не продавали вчерашний хлеб именно в полиэтиленовых пакетах. Его продавали, совершенно не таясь!
– Такой муки получено двадцать тонн, восемь тонн пошло в производство. Осталось более десяти тонн зараженной муки, – объяснял Нашаров, – но мы не знаем, где он…
«И то верно: куда делась зараженная картофельной палочкой мука? – размышлял Алик. – Санитарный врач разводил в стороны руками. Кто должен отвечать за качество продуктов? Он (!), а он языком воздух гоняет. Дела нужны, а дел нет. Вот он террорист – картофельная палочка. Бери и вяжи ее, пока шевелится. Так нет, чиновники бумагами прикрылись, и на все есть ответ. Дел только нет».
Рассерженный такой ситуацией Алик обратился в контору снабженцев маленького нефтяного городка. Она занимала первый этаж пятиэтажного дома, но, внешне серая, имела внутри увешанных золотыми украшениями женщин из числа управленцев. На месте оказалась заместитель начальника госпожа Рубинская, внешне похожая на бройлерную курицу. Алик изложил вопрос без предначальственных реверансов. Рубинская изобразила непонимание. Алик положил на стол копию приказа «О мерах по предупреждению массовых заболеваний среди населения города, связанных с хлебом», ею же самой и подписанный.
– Ох, забыла, – выдохнула Рубинская. – Принесите документы на две партии зараженной муки.
– Как она сюда попала? – спросил Алик, не дожидаясь, когда принесут бумаги.
– Она частый гость в нашем городе, – обрадовала, – потому что ее доставка обходится дешевле, чем из других районов.
Появились документы на всю муку, завезенную в маленький нефтяной город. Алик с первого взгляда увидел отличие между документами на здоровую муку и больную: на первых стояла особая отметка об отсутствии картофельной болезни при проверке в течение суток, а на вторых таких отметок не было.
– Вы что специально ее завезли? – полез на рожон Алик.
Рубинская молчала и краснела.
– Вы ж профессионалы, как выглядит качественное удостоверение на муку, обязаны знать, – усиливал напор Алик. – Где больная мука?
– На складе, – ответила Рубинская.
На старом УАЗе Алик с Рубинской проехали на территорию базы, и он увидел то, что показали. А что еще может увидеть журналист, если не будет смотреть по сторонам? Алик увидел склад и единственное, что в нем лежало, – сваленные в кучу мешки с зараженной мукой. Все восемь тонн.
– Эту муку мы сейчас пытаемся отправить поставщику, – объяснила Рубинская.
Вот такая история приключилась в маленьком нефтяном городе. Коновалов и заведующая лабораторией хлебозавода отделались легким испугом и несерьезными штрафами. Остальные никакой ответственности не понесли, хотя недоброкачественный хлеб – это как раз тот продукт, которым в короткое время можно отравить весь город.

Алик закончил статью, сел почитать, о чем пишут коллеги из соседнего города. Его поразило интересное заявление: «…некоторые партии муки, которую использует городской хлебозавод для выпечки хлеба, поражены картофельной болезнью, которая, впрочем, неопасна для здоровья человека. Хлеб, испеченный из такой муки, подлежит возврату в магазин и замене на качественную продукцию…»
«Занимательное сочетание: заменить неопасный хлеб на качественную продукцию, – размышлял он. – Все-таки сучья у нас профессия. Коллеги вместо того, чтобы разобраться в проблеме и помочь людям, просто гонят строки, и не важно о чем – лишь бы спокойнее чувствовать себя и деньги исправно получать. Видимо, кто-то пытается через газету представить происшедшее ерундой. В такой постановке вопроса напрямую заинтересованы снабженцы и хлебозавод. Но раз такое заявление прозвучало публично, то, значит, картофельная болезнь поселилась здесь на¬долго. Чиновники схожи с болотом, любая идея, пусть даже самая хорошая, кинутая им, теряется безвозвратно. И только устрашающее насилие или тонко взвешенная дипломатичность, или деньги дают возможность пройти по этой территории, причем в любую сторону, хоть в плохую, хоть в хорошую. Тогда болото безопасно и безмолвно, и только неприглядные пузыри одобрения будут лопаться на его поверхности».
***
Мир изменить не удалось. На статью не поступило ни одного отклика. У трепетного артистапосле концерта без единого хлопка возникла бы длительная мигрень. Касательно явно важной для города статьи создавалось ощущение, что никого из жителей маленького нефтяного города не волновало, что их травили больным хлебом. Впору рвать волосы: получалось, что вся статья – выстрел вхолостую по несуществующему врагу. Но наш герой был оптимистом. Читательское, да и вообще людское безмолвие поначалу не угнетало Алика. Он думал, что это временное явление. Он радовался, что на хлебную статью и ругани не было, и пьяные не прибегали. Он радовался мелочам, позволявшим лучше познать мир, и написал по этому поводу:
Жизнь скучна без пустяков:
Без простуд от сквозняков,
Без размолвок и разлук,
Без пустых душевных мук,
Без покупок и утрат,
Без авансов и зарплат.
Без встреч с магом – пустяком
Мир не стал бы нам знаком,
Ведь зачаты все пока
В результате пустяка.
Статья о хлебе быстро забылась, буквально на следующую неделю, когда в газете появилось маленькое объявление: «Более ста миллионов рублей ущерба – таков результат кражи меховых изделий со склада». По городу, словно гонимые ветром обрывки бумажных упаковок, зашелестели слухи, что это дело рук охранников из охранного предприятия «Лидер» и самого начальника конторы снабженцев, но в тюрьму опять никого не посадили.
РЖАВАЯ, НО ВКУСНАЯ
«Двуличие и сговор – вот на чем держится мир чиновников»
Путь к сердцу журналистики для Алика лежал через желудок и другие насущные житейские проблемы. Очередным вдохновляющим предметом стала банка консервированной салаки в томатном соусе. Почему ему захотелось именно этой рыбки, не будем допытываться, видимо, так задумало провидение.
Придя в пустой полуденный дом, Алик отварил картошечки и пристроил консервный ключ к похожей на хоккейную шайбу банке с салакой. Его слегка насторожило осторожное «пшик», вылетевшее из дырки, проделанной в банке, но он счел звук игрой голодного воображения. Уплетая картошку с салакой в томатном соусе, он мысленно благодарил создателя консервов за предоставленную человечеству возможность спокойно жить в неурожайные годы.
Трапеза завершалась, желудок наполнялся сытым теплом, показалось дно банки, и тут Алик разглядел под тонким слоем томатного соуса пятна окисления. Мысли заметались. Ему вспомнились родительские предостережения относительно опасности ржавых консервов и смертельные случаи отравлений. Ждать, что будет дальше, Алик не стал. Он налил в стакан воды, насыпал ложку соды и с этой взрывоопасной смесью пошел в туалет…
***
Усталый и посеревший после выпивона с главным медицинским врачом маленького нефтяного города, санитарный врач Нашаров посерел еще больше, увидев банку, ощетинившуюся порванными ножом краями.
– Они должны снять ее с продажи, основываясь на обычной товароведческой экспертизе, – раздраженно объяснил он, недовольно морщась. – Мы не нужны, если банка ржавая, если повреждена, либо внутреннее давление…
– Давило и еще как, брызги вылетели, – поддакнул Алик. – А ржавчина как напугала! Вот падлы, что продают.
Нашаров протянул банку Алику, показывая, что разговор закончен.
– А как же салака? – недоумевающе спросил Алик.
– Я сказал, наши сотрудники здесь не нужны…
– Но как снять с продажи эти консервы? – агрессивно спросил Алик. – Кто меня послушает? Дайте мне кого-нибудь в помощь…
На следующий день пухленькая помощница санитарного врача вместе с Аликом посетила магазин. Салака лежала на месте. Открыли банку наугад. Пятна окисления темнели трупными пятнами. Партию салаки в томатном соусе убрали с прилавка, несколько банок пухленькая санитарка положила в сумочку.
– На исследования, – доложила она…
Через десять дней протоколы исследований возвестили, что консервы в полном порядке. Резюме было следующим: «Жестяная банка со вздутием (хлопуша). На внутренней поверхности крышки и дна наличие темных пятен (коррозии). Вкус приятный… Запах – приятный… Консистенция мяса – сочная…»
Ржавая салака в томатном соусе снова возникла на прилавке.
«…здец, нажрались консервов, запили водкой и привет», – заключил Алик, написал, опубликовал, ничего не изменилось. Непонимание ситуации возросло многократно, когда он прочитал полученное по тайным каналам, имеющимся у каждого настоящего журналиста, служебное письмо Нашарова Главе маленького нефтяного города. В нем сообщалось, что из-за отсутствия оборудования, а главное средств на его приобретение в городе не проводится экспертиза продовольственного сырья и продуктов питания, не проводятся исследования атмосферного воздуха, шума, вибрации, не в полном объеме проводится исследование воды.
Алик почувствовал вакуум общения. Организм требовал лексической разгрузки с примочками чувственного понимания, а он нигде не мог этого получить. На работе требовали статей, Роза жаждала обладания им и денег, знакомые могли предложить распить бутылочку. А понимание!? И тут, несмотря на лекарственные народные средства от черного пса, он вспомнил о Марине. Позвонил, встретились под прикрытием фальцовки. Марина! Как бы он без нее жил. Любящая женщина исцеляет уже своими ушами, в которые вливается ненасытная мужская гордыня…
– Как они провели исследования, если у них нет оборудования? – вопрошал Алик. – Как пропастина оказалась на прилавке, если главный санитарный врач утверждал…
– Ты же сам все понимаешь. Что дураком притворяешься? Не кипятись, – ответила приятная и, как оказалось, мудрая женщина. – Знаешь, зачем идут на санитарные факультеты? Чтобы честно работать за зарплату? Нет, конечно. Туда идут, чтобы сытыми быть. Подношения всякие, взяточки за разрешение на торговлю. На это рассчитывают уже при поступлении в институт. Какие исследования!? Взяли и съели твои консервы, да договорились с директором. Вот и все.
– Как не кипятиться, Марина? Скоро в этой стране ничего не съешь без опасности. Раковых больных станет, как поганок на дурной поляне, а мне и тебе здесь жить…
С этого момента Марина стала не просто любимой Алика, а самой любимой, его исповедницей и советчицей, помощницей в борьбе со злом, по крайней мере, с тем злом, которое Алик считал таковым.
АКЦЕПТОР
«Север – это то место, где принято искать доверчивых простаков».
Анастасия ехала на Север зарабатывать на доверчивости простаков, и это не казалось чрезмерной задачей, поскольку среди ягеля и оленей в далеком от Москвы таежном городе, по ее мнению, должны были проживать анекдотичные глупенькие чукчи только с глазами на европейский манер. «Тьма тараканья, – размышляла она, трясясь в вагоне поезда, а затем на сиденье автобуса. – Уж в этих местах-то я поживлюсь, все ж не зря поработала в науке, в северной столице».
Волчьи ямы налоговой инспекции маленького нефтяного городка она обошла быстро, дала, сколько надо и как надо, чтобы дело не стопорилось. Финансовые девчонки для нее были везде одинаковы, хоть напыщенные глупышки, но до денег, как куры до зерна. Человека дающего чувствовали интуитивно, а как наклевывались, не замечали…
Вид у северной гостьи был самый пройдошливый. Окончила она факультет психологии университета и спекулировала на желании познать тайное. Как квалифицированный специалист в области человеческого общения, имела знания, чтобы разложить любого по косточкам, как по внешнему виду и поведению, так и по серии тестов – вопросов. Однако Анастасия везла с собой прибор…
– Я приехала к вам от имени и по поручению международной академии наук и международного объединения «Акцептор». Вы видите в моих руках прибор. Он служит для определения активации полушарий головного мозга и позволяет определить склонности и способности человека. Каждому ребенку полезно тестироваться, – говорила Анастасия на собраниях и, видя в глазах слушателей тлеющий уголек сомнений, добавляла. – В его создании принимал участие лауреат Нобелевской премии Цигарелли Юрий Александрович…
Никакой Цигарелли это прибор не придумывал, но Анастасия не боялась разоблачения. Она знала, что в любой аудитории вряд ли найдется человек, который выставит себя непросвещенным публично, задав ненужные вопросы. В маленьких городах народ пыжится, нагоняя на себя важность, поэтому большинство сочтет необходимым показать, что оно знает этого Цигарелли, а сомневающееся меньшинство, сочтет необходимым промолчать, чтобы не ударить лицом в грязь.
Прибор-зверь внешне являл следующее: два стрелочных прибора, шесть кнопок, две пары подпружиненных металлических пластин. Все предельно просто. Аппарат собрал хороший знакомый Анастасии, бывший радиолюбитель, из двух приборов для измерения обычных резисторов.
Анастасия ринулась на нефтегазовый Север в глухие поселки и небольшие города с ограниченным информационным полем и кучей денег. Обследование мозгов оказалось хлебосольным и денежным.
Технология внедрения была проста. Анастасия приходила на прием к начальнику Управления образованием, бесплатно замеряла умственный потенциал, давая при этом такую оценку, что начальница за голову хваталась, рдела и приговаривала:
– Да что вы! Да что вы! Такого быть не может.
– Прибор не ошибается. Технология точная. Вам с вашими умственными способностями надо не в захолустном городке подошвы снашивать, а в столичных кабинетах…
– Не говорите так… но вообще-то я всегда чувствовала, чувствовала…
– Каждый ощущает сокрытые под лобной костью способности, но гасим мы в себе, гасим, а там наверху одни обалдуи, были бы вы…
– Ах, только ах. Куда уже. Так что у вас?
– Хочу помочь детям. Сами видите, надо раньше распознавать…
– Конечно, конечно. Приходите на совещание…

На совещаниях в Управлении образованием собирался весь цвет школьного администрирования: директора, управленцы и приближенные к длани начальника Управления учителя.
– Эта чудесная женщина приехала к нам из северной столицы. Знакомьтесь. Анастасия. Она одержима миссией открытого диагностирования умственных способностей наших учеников. Это поможет им при выборе профессии. Правильно я говорю?…
– Все правильно, – соглашалась Анастасия. – Я вижу в этом зале столько заинтересованных лиц, столько умных глаз, что мне не терпится приступить к работе. Прибор просто супер…
В сложившихся условиях взаимодействий ступеней служебной лестницы происшедшее собрание послужило сигналом к действию. Информация пошла к учителям, к детям и родителям. Возле Анастасии в школьных коридорах стали выстраиваться очереди.
Следить за доходами граждан, организаций и предприятий – дело налоговых служб. С налоговой инспекцией, где никого не интересовали интеллектуальные способности, Анастасия договорилась денежно, а начальника налоговой полиции маленького нефтяного городка Анатолия Семеновича Ворованя тестировала на удивительном приборе. Он получил такие наилестнейшие оценки ума, что чуть таковым не тронулся. Анастасия протянула ему документы, тот мельком просмотрел, его внимание привлек паспорт, привязывавший прибор к такой высокой науке, как космонавтика.
– Вот это блин! Вы и летчиков тестируете? – восхищенно воскликнул он.
– Не я, – скромно отвела глаза Анастасия. – Прибор. Дуралеев за облака нельзя. Натворить могут.
– Верно. Я бы проверил им своих подчиненных, а то как бы не принять личностей…
– Пожалуйста, в любое время…
– Ну что ж, документы у вас в порядке…
Алик встретился с Анастасией в школе, где она тестировала детей. Он встал рядом и стал смотреть за ее действиями. Ребенок садился, опускал руки на клеммы, Анастасия записывала показания прибора на бумажке: одну-две цифры неряшливым почерком.
– Следующий! – покрикивала она, пока не заметила Алика. – Молодой человек, а вам что надо?
– Здравствуйте, я из газеты. Хочу подробнее узнать о вашей работе…
– Я занята.
– Готов в любое время…
Договорились встретиться в двухэтажной гостинице «Озерки», где Анастасия остановилась. Алик ушел, а дома достал измеритель сопротивления, взялся за клеммы…
Вечером он взбежал по мраморной лестнице на второй этаж гостиницы. Анастасия открыла, и Алик принялся играть роль преклоняющегося перед столичными гостями провинциала. Документы он просмотрел, показательно ахнул, но понял, что подделать таковые не многого стоит. Синие чернильные печати не произвели впечатления…
***
Примерно год назад Алик имел дело с печатями. После смены редактора газеты маленького нефтяного города Бредятина на Мерзлую Алику пришлось ехать в Екатеринбург, чтобы зарегистрировать новую газету и изготовить штамп. Дело в том, что Бредятин, слетев с кресла редактора, отомстил администрации маленького нефтяного города по-детски: не разрешил использовать старое название газеты, словно под столом ущипнул.
Командировка. Суточные. Алик остановился в Екатеринбурге у знакомых. На досуге нашел гостиницу дороже и, как обычно немного приплатив администратору, попросил выписать счет на проживание – для отчета по командировке. Администратор не отказала, тогда еще не было компьютеризированной системы учета жильцов, счет выписывался от руки на самой обычной молчаливой бумаге. Таких счетов можно было выписать сколько угодно. Получилась хорошая сумма, которую он прокутил. Но как часто бывает, только приехав на место, он узнал, что для официального изготовления штампа редакции ему не хватало некоторых документов, которые можно было взять только в маленьком нефтяном городе. Ехать назад? Время поджимало. Алик дал взятку. Недорого. В переводе на бутылки водки – пять поллитровок. Штамп появился в рекордные сроки. Вот и все.
***
Алик посмотрел на солидные документы Анастасии с изрядной долей иронии, которую, впрочем, внешне никак не проявил, а наоборот – напросился на замер своих интеллектуальных способностей. Схватился за клеммы. Анастасия запела дифирамбы. Алик нажимал то сильнее, то слабее. Стрелка крутилась, соответствуя обычному измерителю сопротивлений. «Смотри-ка, умственный потенциал зависит от силы. Хотя сила есть – ума не надо», – мысленно поиронизировал Алик и перешел в наступление:
– Почему стрелка гуляет?
– К клеммам надо прикасаться очень легко, как к девушке, – фривольно ответила Анастасия, но в ее глазах промелькнуло сомнение.
– Как вы оцениваете данные, полученные в школе? Те цифры, что вы записывали…
– Есть вторая часть прибора. В нем цифры обрабатываются и даются точные рекомендации. Вам я сказала примерный результат, по памяти.
– Можно взглянуть на вторую часть прибора?
Второй части прибора не существовало, но объяснить сходу, как из цифр получаются рекомендации, Анастасия смогла, только придумав добавочный агрегат.
– Я сильно устала. Тяжелый день. Хотела бы отдохнуть, – нашла выход она.
Алик вынужденно ушел, а на следующий день объявился в Управлении образования.
– Вы проверяли организации, на которые ссылается Анастасия? – спросил.
– По Санкт-Петербургам звонить дорого, – ответили ему так весомо, что сразу стало понятно: мозговой потенциал здесь измерен…
Алик шел домой и размышлял: «Во дают! Управление образования! Экспериментаторы хреновы, поклонники новомодных программ! К работе с детьми допущен неизвестный человек с каким-то прибором и документами, не проверенный в плане источника своего возникновения. Зарабатывает на внушении умственных настроек в стиле экстрасенсов: туда – ходи, сюда – не ходи. И все смотрят на это спокойно. Заплатила она им или родственница чья-нибудь?»…
Анастасия тоже размышляла, но в автобусе. Она радовалась, что уехала с деньгами, и вредный журналист не успел причинить неприятности. Радовалась так, что вслух проговорила:
– Положила я на всех с прибором.
Слова потерялись в дорожном шуме.
***
В газете вышла статья «Акцептор и дети». Анастасия укатила, но притяжение богатого деньгами и олухами маленького нефтяного города не ослабло, оно манило проходимцев, как влечет беззащитный изобильный мед сладколюбивых насекомых. Примерно через год Алик встретился с подобным еще раз.
***
Той весной женщины, работавшие в редакции газеты, начали повально отправляться в декрет и рожать.
– Да что же это?! Как бы самой не заразиться! – покрикивала то одна, то другая.
Алику это не грозило, и он ходил посмеиваясь. Чередой шли дни рождения с хорошо сервированными столами: с водочкой, салатами и еще бог знает с чем. Женщины летали над пищей, как мухи, в хорошем смысле этого жужжащего слова. Журналистка газеты маленького нефтяного города и его признанная поэтесса, Нана Пролетаева, имевшая заметное садомазохистское отношение к жизни и мужу, готовила поздравительные стенные газеты. Алик сочинял стишки, похожие на сочный виноград или сливы тем, что где-то в теплых обжитых краях они были бы вполне обычными и средними, но здесь на Крайнем Севере становились своими, редкими и оттого необычайно сладкими. Роза успокоилась и иногда сама приходила на редакционные гулянки. Петровна произносила умилительные тосты. Угощались. Танцевали. И как-то в завершении одного их таких увеселительных мероприятий в редакцию зашли двое. Парень и девушка. Оба худощавые, фигуристые и гибкие, словно профессиональные акробаты.
– Мы хотели бы ненадолго отвлечь ваше внимание от стола и показать несколько фокусов.
Редакционный люд оживился. После обильных возлияний, танцев и разговоров, хотелось иных развлечений.
– Кто такие? Откуда? – начальственно спросила Мерзлая.
– Мы обладаем способностями, которые принято считать экстрасенсорными. Бытует мнение, что это врожденное, но нет. Этому можно научиться за деньги, – понес агитацию парень. – Мы хотим провести ряд мастер-классов в вашем городе.
– Так это ваши объявления расклеены на подъездах? – спросил Алик.
– Мы проводим набор в группы, где будем учить упражнениям, усиливающим активность мозга, его сверхчувствительность, – продолжил парень. – Сами с Украины. То, что преподаем, дорого стоит, но здесь работаем почти даром. Сейчас покажем несколько упражнений.
Парень закрыл напарнице глаза черным бархатным шарфом, концы шарфа завязал на затылке и, приблизив к ней руки, не касаясь, стал отталкивать, как это делают мимы. Девушка отклонилась назад, словно почувствовала на своей груди давление нежеланных рук и ступила назад, чтобы не повалиться на пол. Парень засучил руками к себе, будто сгребал в кучу невидимые богатства. Девушка повалилась на него, словно спиленный высокий тополь на стену недовольного его тенью многоэтажного дома…
«Телепаты хреновы», – подвел консервативный мысленный итог Алик, глядя на представление…
Тем временем парень закружился вокруг оси, проходящей через его макушку и копчик, как кура-гриль на вертеле, а девушка повторила его вращение, точно вторая кура-гриль на том же автомате. Он менял направление – девушка тоже. Он наносил удары. Девушка с завязанными глазами отбивала…, читала, обходила стулья и табуретки…
– И что? – иронично спросила Мерзлая.
– Напишите в газете о том, что увидели, – попросил парень.
– Документы у вас есть?
– Пожалуйста, сертификаты, дипломы…
«Опять…», – понял Алик…
Вечером он встретился с Мариной, рассказал. Марина рассмеялась.
– Вас что за недоумков принимают? – спросила она.
– Понятно, ловчат, но ведь с завязанными глазами, – напомнил Алик, желая услышать критику самого себя и подтверждения собственных догадок.
– Дай что-нибудь глаза прикрыть, – попросила Марина.
Алик снял рубашку, скатал в жгут. Марина завязала рукава на затылке и повторила все, что показывали экстрасенсы.
– Женщины умеют хитрить, – объяснила она. – В этих фокусах главное оставить небольшую малозаметную щелочку и иметь среди зрителей больше доброжелательных простаков.
– Насчет щелочки мне и так ясно, – отмахнулся Алик. – Пойдем лучше ко мне, Роза с сыном уехала к родителям на месяц …
Парочку, показывавшую фокусы, Алик в дальнейшем не встречал. Давали они мастер-классы или не давали, кто знает? За всем не уследишь, но больше они не приезжали – это точно. Видать, не нужно народу оказалось их сверхчувствительное умение, если б водку давали бесплатно или лечили от алкогольной зависимости, а то глупостями торговать…
НЕБЫВАЛЬЩИНА?
«Каждый сам порождает врага, от которого гибнет»
В редакцию газеты приходили письма, случались очень занимательные. Вот одно:
«Дорогая редакция, недавно со мной беда приключилась такая, что не пойму, то ли приснилось, то ли взаправду было.
Мы все выпиваем для расслабления и от тоски. На выходные я выкушал пол-литра и возвращался домой часов эдак в десять вечера. Иду, ни к кому не пристаю, никого не облаиваю. Культурно возвращаюсь. Живу я в двухэтажной деревяшке. Житие не ахти какое, почти трущобы. Терплю. Захожу во двор по снежной февральской тропке, протоптанной людом в обход вмерзших автомашин и наметенных ветрами сугробов. Темно. Было бы совсем слепотно, когда не горящие окна. И вот когда до подъезда моего оставалось-то бутылкой можно добросить, на меня напала собака. Сволочная – до невозможности: облаивала, норовила сзади за штанину ухватить. Я пнуть пытался, но резвая отскакивала. Ее хозяин из окна второго этажа на эту картину, оказалось, смотрел и, когда я поскользнулся, очень гадко захохотал, издевательски прямо-таки, а потом прокричал в форточку:
– Бубен, хватай его, хватай пьянь эту!
Мерзость, мелкая, куцая, бросилась на меня.
– Убери пса, не такой уж я пьяный! – отреагировал я, когда поднялся. – Не доводи, пришибу четвероногую. Что человека травишь?
– Не обращай внимания, она не кусается. Иди своей дорогой, – гаркнул он.
Но только я пошел, он опять:
– Бубен, задай!!!
Собака в подол моей дубленки вцепилась и рвет ее, рычит злобно. Поворачиваюсь, а она крутится, уцепившись сзади. Хозяин опять захохотал, но я каблуком достал-таки собаку. Отлетела она вместе с куском шубы и опять на меня с остервенением.
– Уйми гадину, – крикнул я, – найду, что потяжелее, и по башке дам.
– Смотри, как бы сам не получил, – крикнул он и ушел от окна.
Я уже приблизился к своему подъезду, отбиваясь от разъяренного пса, как почувствовал звучный щелчок по дубленке, будто кто камешком крепко попал. Глянул. Оказалось, хозяин собаки обстреливает меня из пневматической винтовки. Пульки стучали по шубе, отскакивали и терялись в сугробах. Не больно, но жутко обидно. Да и в глаз попасть мог. Куда ж я потом?
– Мужик, кончай ерундой заниматься! – крикнул я ему вполне пристойно.
– Убирайся домой, мутило!
За точность последнего слова не ручаюсь, возможно, прозвучало нечто худшее, я не сдержался.
– Сейчас в милицию позвоню, – пригрозил и поспешил домой под перестук пневматических пулек и лай сволочного пса.
– Звони. Мутозвон… – полетело мне вслед.
Подъездной дверью я отделил собаку от своего уже полупальто и быстрее в квартиру, к телефону, а потом во двор, чтобы встретить подкрепление. Милиция прибыла быстро. Ребята в форменных сине-серых телогрейках забежали в подъезд нарушителя моего спокойствия, а потом вышли на улицу и ко мне.
– Все в порядке, гражданин. Можете отдыхать, – сказал один.
– Что будет с хамом?
– А что с ним должно быть?
– Повлияйте. Он сущий дебош сотворил.
– Какой дебош? Ничего не было. Ты, мужик, выпил лишнего.
– Как не было?…
– Так не было. Выпил, иди и спи.
– Правды хочу… – настаивал я.
– Ах, правды… Полезай в машину.

Запихнули меня в милицейский «Уазик», по бокам сели два страшнейших мордоворота, коим только рэкетом заниматься, и повезли в отдел, приговаривая:
– Счас, мужик, посадим тебя в камеру к отбросам общества, похуже тебя. Поубираешь за ними мусор и отходы телесного производства, вмиг протрезвеешь и понятливым станешь.
В отделе меня оскорбляли, унижали, требовали отказаться от написания заявления на сволочного соседа со сволочной собакой, а моих грехов-то было, что выпил вечером, но не до потери же человеческого разумения, а значит, и достоинства.
– Ты ж пьяный, какое заявление? – убеждали меня.
– Мы тебя палочками попрессуем, – устрашали меня.
– Гад меня собакой травил и пульками. Его к ответу надо, – не сдавался я.
– К ответу так к ответу, – сказали мне. – Поехали на медицинское освидетельствование – приравняем тебя к алкашам…
По дороге милиционеры меня опять обзывали:
– Мужик, ты полный мутак. Наверное, на учете состоишь? У тебя травм головы не было? Не было? Значит, будут…
– Да у тебя, наверное, желтый билет…
– А ты, случаем, сам не кусаешься?..
В больнице тоже не церемонились, и я заявил:
– Добровольно на обследование не дамся. Совершаете насилие, так совершайте до конца.
Сказал и встал в оборонительную позу боксера.
– Как же кровь брать? Он ненормальный, – испугалась врач и отказалась ко мне подходить.
– Ну козел! Ну козел! – обозвали меня. – Бери его, ребята, и назад в отдел.
В отделе сызнова принялись унижать и стращать:
– Либо ты, башка сосновая, отказываешься от заявления, либо в камеру определим.
– От правды не откажусь. Делайте, что хотите, – не поддавался я.
С меня сняли обкусанную собакой дубленку и повели в камеру. На пороге приостановили, чтобы я послушал, как собравшиеся милиционеры обсуждали то, что меня ждет. Они жутко хохотали. Ко мне подошел страшенный парень в гражданской одежде, может, переодетый мент, а может, и уголовник какой. Это порой сложно разобрать. Он оценивающе пуганул:
– Хороший мешок. Буду на тебе удары отрабатывать…
Но я, как Коперник перед сожжением, настроился на муки ради правды. Да хоть на крест. Меня заперли в камере… Спать не дали. Проскрипели засовы, и вновь на психические опыты.
– Ты еще намерен заявление писать? – спросили.
– Моей воли не сломить…
– Мы еще не начинали. Сейчас пойдешь в другую камеру, переориентируешься…
– Ничего, перетерплю. Раньше на кол сажали, а кол-то толще будет. За правду на все готов…
– Козел умнее будет! Что с таким делать? Может, ты голубой? Может, тебе этого хочется. Шиш! Не получишь. Ребята, в машину его, и назад…
Меня проводили пинками и привезли к дому. Там был и сосед, каковой собакой травил и из пулек стрелял. Двое моих сопровождающих приблизились к нему. До меня донеслось:
– Товарищ майор, ваш обидчик прямо хорек бешеный, не отказался от заявления, но можете отдыхать спокойно. Мы на него рапорт составили, что нашли в городе пьяным. Штраф выписали. Так что его заявление, если напишет, будет после нашего и без доверия.
Время за час ночи, а тут коррупция, созвучие власти против простого народа. Надежда на вас, газета. Фамилия одного, майора, на «К» начиналась. Другой – старшина, фамилия не прозвучала. Прошу помочь мне разобраться с памятью, потому как за правду я и под пульки, и под собаку, и под палки».
В редакции газеты маленького нефтяного города понимали, что письмо – правда, но связываться с милицией не хотели. Алик тоже. Дело казалось опасным. Журналисты выслушивали подобные рассказы, сочувственно качали головами и все. Только забывчивость и узколобые шоры помогают не чувствовать дискомфортных мук осознания несправедливости, творящейся рядом, а потом в редакции научись красиво отвечать на подобные письма. Примерно так:
«Мы разобрались с вашим случаем. Вы действительно были сильно пьяны, до темноты в глазах. На вас было изначально надето самодельное полупальто, дубленка приснилась. Стреляли из пневматического ружья не по вам, это вы стреляли по гулявшей на улице хозяйской собаке. Милицию вызвали действительно вы, а когда вас забирали, вы кричали кому-то, глядя в небо: «Что из окна выглядываешь? Я еще доберусь до тебя, соседушка!» Но никто из окон не выглядывал, только луна из-за туч подсвечивала. Вас попытались пристроить в психо-наркологическое отделение, но вы не ужились с местными пациентами. Сотрудники наркологии опять вызвали милицию, вас доставили назад в вашу квартиру, где вы и уснули. Искренне сочувствуем и просим впредь не напиваться».
***
Нельзя встречаться с такими людьми, как булочник Коновалов, санитарный врач Нашаров, обманщица с прибором Анастасия, изучать их и остаться ребенком, верящим в безоблачность жизни, в прекрасных и чистых людей. После таких встреч у Алика неизменно возникал вопрос: почему? Почему книги воспевают светлых героев и хорошие деяния, благожелатели призывают к доброте, святоши проповедуют красивые вечные истины и все мимо, или почти все мимо, как красивый туман над смертельной трясиной, как пригожая ткань, прикрывающая уродство. Когда понимаешь, что люди лезут во мрак и поклоняются дерьму, а призывают к свету, в душе возникает чувство неуверенности в собственных убеждениях.
Письма, приходившие в редакцию маленького нефтяного города с призывами о помощи. Как реагировать на них, зная, что там, куда призывает заглянуть адресат, царят недобрые законы? Сапа! Из всего окружения Алика в маленьком нефтяном городе только Сапа мог дать ответ на все эти «почему». Алик в это верил и искал предлога для сближения.
ИЗ БЫВШИХ
«Свергнутых вожаков либо приручают, либо ставят в музей, либо гонят прочь, опасаясь возврата»
Муж Петровны, работавшей в редакции газеты маленького нефтяного города, по имени Сапа, несколько лет назад работал на должности председателя Совета народных депутатов маленького нефтяного городка, и его лучшим воспоминанием о власти, точнее воспоминанием, наиболее часто приходившим на ум, стало возвращение домой из соседнего города.
Он был пьян до состояния перекати поля, гонимого ветром куда придется, что в то время для него и многих других граждан считалось вполне нормальным состоянием. Тогда, после сухого закона и дефицита советских времен, на рынок хлынула всевозможная и даже немыслимая водка и вино. Даже трезвенники соблазнялись рюмкой-другой.
Тело пьяного до бесчувствия Сапы покоилось на переднем сиденье автомобиля. На ухабах его хмельная голова соскользнула с подголовника и затрепыхалась бы, запрокинутая назад, на толстой шейке, как грузик на пружинке, если бы ее не подхватили заботливые ладони подчиненных, сидевших позади. Все два часа пути они нежно, но надежно держали голову председателя, глядя на его широкую плоскую лысину, похожую на блошиное футбольное поле, хотя блох у Сапа не водилось. Сам Сапа сквозь пьяные виденья вполне отчетливо ощущал эту заботу и возликовал.
– Холуи, холуи, не тревожьте солдат. Пусть солдаты немного поспят… – неразборчиво запел он, как рыба на воздухе.

Это воспоминание растягивало Сапины губы в лучезарной мечтательной улыбке, и его жиденькая бородка топорщилась, как колышки перьев на плохо ощипанной курице. Думы о прошлом теребили душу, напоминали о былом величии, когда именитые нынешние деятели маленького нефтяного городка в числе полусотни народных депутатов покорно сидели пред ним и жадно вслушивались в каждое его слово. Сапа привлекал мудростью и начитанностью. Он хоть жил в маленьком городе, но не соответствовал образу типичного провинциала. Судьба занесла его на Крайний Север крутить гайки на месторождениях нефти из Самары, где он общался с сильными мира того, а все – неуживчивость.
Из-за ссоры с родителями Сапа променял крупное на мелкое и достиг вершин в омуте политического поприща маленького нефтяного города, но, когда возомнил, что перемены не напрасны, президент России расстрелял Белый дом и разогнал Советы народных депутатов по всей Руси.
Политическое падение болезненно и на мягкой болотистой почве. Сапа потерял положение и из-за конфликта с новым руководством маленького нефтяного города вынужден был искать прокорма за его пределами. Приезжал домой только на выходные, радовался хотя бы тому, что его жену Петровну не выгнали из редакции, и надеялся на реванш…
Дружбу Мерзлой Сапа приобрел легко. Обаял мыслями, интересными речами.
– Ответь, – попросил он как-то в редакционной курилке, где и ели, и пили, и сочиняли, и говорили, говорили, говорили – в общем, находились, так сказать, в творческом поиске. – Для чего ты выпускаешь газету?
– Чтобы люди знали правду, – высокопарно сказала Мерзлая, предварительно вздернув подбородок вверх и выпустив на направлению к потолку бесформенную струйку табачного дыма.
– Глупая, – отечески пожурил Сапа. – Не в этом цель газеты. Цель в том, чтобы зарабатывать деньги. Это обычное производство и должно выпускать не правду, а отпечатанную бумагу, которая продается, за которую платят деньги. Согласна?
– А как же читатели? – спросила Мерзлая. – Газета не может врать. Мы обязаны работать для людей.
– Кто говорит – врать? – спросил Сапа и улыбнулся, как будто услышал детскую нелепицу. – Надо фильтровать информацию и красиво сервировать газетные полосы. Главные деньги вы получаете не от читателя, а от городской администрации. Читатели деньги отсчитывают скупо. Стремитесь крепче понравиться хозяину, и только тогда ваше благополучие возрастет. Любая статья, появляющаяся в газете, должна работать на городскую администрацию. Любая. Либо текстом, либо расположением на полосе.
– Городская администрация не всегда справедлива, а коллектив редакции входит в состав соучредителей газеты. Мы имеем право на слово, – напомнила о правах Мерзлая.
– Лишнее слово – лишняя головная боль, – отмахнулся Сапа. – Ваше соучредительство – мое достижение. Городскую газету учредил Совет народных депутатов, и я, как председатель, на всякий случай в число соучредителей ввел коллектив редакции, но, откровенно говоря, на месте городской администрации я вывел бы вас оттуда. При чем тут вы, если они платят, а насчет того, что администрация ошибается, забудь. Хочешь работать, не позволяй тявкать…
Сапа ревностно проповедовал и со второй попытки провел Мерзлую в депутаты городской Думы. Он любил мыльные пузыри парадоксов, которые хотя и пусты, но привлекают внимание объемом и красотой. Он предложил Мерзлой баллотироваться в Думу в истрепанных народом и природой деревянных микрорайонах, где жил люд, озлобленный жизнью.
– Да это ж зона, трясина! Как собирать голоса?! Там черт-те кто живет! Не люди – собаки! – заохала Мерзлая, вспомнив устрашающие ряды угрюмых общежитий с темными, зашторенными проемами окон; разбитыми массой ног порогами, обтертыми руками, временем и непогодой дверями, скрипящими, грозящими развалиться, лестницами, падающими от легкого пинка унитазами, осклизлыми поржавевшими душевыми, разнокалиберными щелями в окнах, стенах, крыше, сквозь которые в общежитие залетал ветер, дождь и снег....
– Возьми для защиты мужа или кого другого. Не бойся. Там выиграешь без сомнений. Они проголосуют за критику, за правду, за перемены. Напиши в предвыборной агитации: «Деревяшки под бульдозер». Дай надежду. Отличный лозунг. Запиши, пока не забыла, – предложил Сапа.
– А как исполнять это обещание, как сносить? – спросила Мерзлая.
– Вначале в Думу попади. Обеспечь четыре года депутатства. Исполнять – дело десятое. Запомни: первый этап – захват власти, и лишь второй – удержание. Не исполнишь обещания, тебя просто не переизберут, а до этого дожить надо, – учил Сапа не совсем бескорыстно…
Мерзлая частенько приходила к Сапе, в его панельную железобетонную обитель, где они за кухонным столом, украшенным скромной закуской и бутылочкой малоградусной водки «Стопка» с дынным привкусом или советским шампанским, вели неглупые беседы. Беседы касались не только политики, но и тонкостей взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Тогда Мерзлая заразительно гортанно смеялась и игриво напевала, имитируя мотив известной кадрили: «Татарам даром дам, татарам даром дам…» Петровна наигранно при этом веселилась, но безумно ревновала и от бессилия в противодействии Сапиным чарам чрезмерно курила, потому что муж, выступавший в роли учителя, и его ученица, начальница и редакторша, уже не стеснялись и ее. И как-то, чтобы развеять заунывное одиночество в этом тройственном союзе, она позвонила Алику:
– Алик, здравствуй! Помнишь, ты просил меня сообщить, если в соседнем доме будут продавать разливное молоко? – спросила Петровна.
– Конечно! – радостно вскрикнул Алик, поскольку в то время, о котором идет речь, в магазинах маленького нефтяного города молоко появлялось крайне редко и многие покупали разливное молоко, привозимое директором подсобного хозяйства к себе домой во флягах.
– Трехлитровые банки есть, можешь не брать, – сказала Петровна излишне весело. – В общем, заходи в гости. Вот и мой Сапа тебя приглашает. Он еще утром говорил о любви к ближнему…
Бросить леща и клеща Петровна умела. Фраза про любовь возбудила интерес. Алик пошел, почти побежал, поскольку чрезвычайно уважал Сапу за башковитость немногих подслушанных речей. Он мечтал о дружбе. Для завязки отношений купил бутылку шампанского и коробку печенья.
На подходе к подъезду двухэтажного дома, где проживал Сапа с Петровной, фальшивую ноту в возвышенные хоры солнечного настроения Алика внесла пьяная разноголосица, летевшая со второго этажа. «Если это у Сапы, то можно возвращаться», – подумал он, но привыкший щупать – не пророк. Проверил. Оказалось – не ошибся.
– Аличек, милый, – пьяно улыбнулась Петровна, открыв дверь. – Заходи, заходи. Раздевайся.
– Я только банку возьму да дальше, – сказал Алик.
– Что, зря шампанское купил? – мило пожурила Петровна. – Немного погостишь и пойдешь…
На кухне сидел пьяный Сапа с Мерзлой. В комнатах сновали неразборчивые из-за табачного дыма силуэты женщин и мужчин. Низенький дядька с бородкой и гитарой, очень похожий на бомжа, энергично потряхивая головой и бросая острые взгляды из-под длинных патлатых нечесаных волос, пел про какашку, болтающуюся в проруби почему-то по воле броуновских стихий, а сам думал о своей судьбе и судьбе искателя правды, в конечном счете, сгоревшего на площади маленького нефтяного городка по причине самосожжения. Слова витиевато закрученного стиха можно было бы вывести из иносказаний в реальность и опрозить следующим образом:
«В конце восьмидесятых – начале девяностых двадцатого века всех переполняло чувство революционности происходящего. Казалось, простившись с социализмом, Россия непременно войдет в светлое царство капитализма. Эйфория обманчива. У власти остались те же чиновники. Власть стала более алчной и изуверской. Чуваку казалось, что угроза самоубийства изменит общество. Никто не воспринял всерьез. Ранним утром на площади перед главным кафе маленького нефтяного городка чувак облил себя бензином и поджег. Факел вознес жизнь на небеса, оставив земле прах смерти. Перемен не произошло. Пошли пересуды: мол, с головой у чувака не в порядке. Все это подлость. Он быстро сделал то, что медленно происходит со всеми: мы все умираем от рождения. Отшумел митинг. Люди установили памятный знак. Милиция его убрала. Память не вечна. Пришли новые поколения, они тоже не знают, что делать, и болтаются в проруби».
В слова не вслушивались. Владычествовала та стадия веселья, на которой разливали быстро. Стрелы интересов Сапы всецело впивались в Мерзлую. На душевный разговор с бывшим председателем надежды не было. В голове Алика трепетала одна единственная мысль: «Как бы уйти, не оскорбляя столь изысканное для маленького нефтяного городка общество, на взаимность которого я питаю надежды?» Тем временем бомж опять затеребил гитару и вполне пристойно запел, шампанское кончилось, пошла водка. Разливное молоко перестало тревожить Алика.

– А теперь танцевать! – пропела Петровна.
Общество оживилось. Алик в сутолоке заспешил к коридору, как почувствовал мощную силу, развернувшую его на сто восемьдесят градусов. Перед глазами возникло круглое, бессмысленно улыбающееся лицо Петровны. Она импульсивно схватила Алика за плечи, проворно привлекла к своей весомой груди и впилась в губы. Взасос. Сопротивляться бессмысленно. Петровна по своему живому весу не меньше, чем в два раза превосходила добычу. Чтобы не выглядеть жертвой насилия, Алик обнял Петровну и в ответ поцеловал. Глаза Петровны загорелись. Она сразу после школы угодила замуж и не познала периода, который называется «погулять». Эта сценка развертывалась напротив кухни, где сидел Сапа и Мерзлая. Мимо шмыгали платья и рубашки. Все сделали вид, что ничего не видели, а может, так оно и было.
Новая сила, сравнимая с мощью урагана, поднимающего в небо коров, потащила Алика по направлению к широко открытой двери в небольшую комнату, каковую в стандартных харьковских квартирках маленького нефтяного города принято отряжать под детскую. Она пустовала. Перед глазами Алика опять возникла улыбающаяся Петровна. «Это она меня тащит, – сообразил захмелевший Алик. – Ей понравилось целоваться и она хочет большего. Надо линять, иначе можно попасть под такой пресс, что насильный поцелуй будет выглядеть вполнедетсадовской забавой».
– Давайте еще потанцуем, – лукаво успел предложить.
– Ну, пойдем, – согласилась Петровна, отпустила молочного гостя и поплелась в зал…
«Забыла», – решил Алик, нырнул в кухню, выпил на посошок, распрощался в первую очередь с Сапой, метнулся в коридор, поймал ногами ботинки, накинул куртку, крикнул общее «До свидания» – и в двери, оставив Петровну в пьяных раздумьях…
Ночные улицы удивляли необычной яркостью и мимолетностью, тело напоминало необъезженного коня, мозг понимал через шаг. Алик шел по заснеженным тротуарам и тропинкам и призабыл о нежностях Петровны, о поцелуе, не оставивших в его душе ничего, кроме чувства неловкости, а зря. Он не подозревал, что цели визита к Сапе выполнены. Именно через этот поцелуй Алик обрел в будущем покровительство Петровны и получил долгожданные уроки Сапы, но это произошло в будущем, а в тот момент Алика из всех вариантов творчества привлекала поэзия и разоблачительные статьи, смахивавшие на изобретения. Вот и после угощения у Петровны он на ходу и спьяну наговаривал давно написанный им стих:
Не начинайте предавать
Из-за внезапного желанья,
Ведь можно душу потерять,
Лишиться божьего призванья.
Не начинайте предавать
Из-за случайных увлечений
Или в стремленье убежать
От суеты и подозрений,
В тумане краткого порыва,
В незнанье, выслушав совет,
Или сторонние призывы
Со звоном «бешеных» монет.
Не начинайте предавать,
Ведь только первый раз тревожно
Кольнет у сердца, и, как знать,
Расслышать этот знак возможно
Вам будет как-нибудь потом,
Когда утратится способность
Интуитивно знать о том,
К чему в душе таится склонность.
Не начинайте предавать,
Ведь это лишь в начале трудно,
Когда имеешь, что терять
И ложь не стала беспробудной.
Себя к себе вы возвращайте,
Когда расходитесь в судьбе,
И никогда не начинайте
Случайно изменять себе…
Многие женщины, читая вышеприведенные строки, думали, что Алик призывал не изменять женам. За это они боготворили его и уважали. Даже ревностная Роза успокоилась, когда прочла. Стих же на самом деле призывал не изменять в первую очередь себе, а что это значит – каждый и сам знает. Возникли же строки, о которым мы говорим, дома у Алика, на незастекленном балконе, на четвертом этаже, в зимне-вечерней тьме, в окружении звезд, сиявших в чистом небе, над снегом, отражавшим свет фонарей, с подсветкой из ярких электрических окон соседских домов, при наличии свежего бодрящего воздуха, вполне сносного мороза в минус двадцать и тишины… Перечислены не все слагаемые поэтического полета, потому что многого Алик не замечал и, не ведая истоков великого, всегда болтался между стихами и дерьмом рутинной ежедневной работы.
ВСПОЛОХИ
«На фоне темного грозового неба заметны только молнии»
После молочно-водочной встречи Петровна стала смотреть на Алика восхищенно. Алик воспринимал это как должное, принимал не замечая, иначе требовались действия. Говорят: о вкусах не спорят. Спорят, и еще как! Полные женщины не привлекали Алика, но, учитывая, что обожающий объект являлся коллегой, тем более старшим по должности, сказать было нечего, а тут перевод стрелок на час вперед. Алик допустил ряд ошибок в материалах.
– Что-то не то, Алик, в твоих глазах, – заметила Петровна, намекая на его влюбленность, естественно, в себя.
Однако озорничал апрель. Приближались выборы. Это всероссийское предприятие вбирало и перерабатывало нефть не хуже мощного нефтезавода, вот только в результате получался не бензин и солярка, а побочный продукт российской нефтехимии – президент, министры и депутаты. Из-за этого в маленьком нефтяном городе денег на жизнь катастрофически не хватало и Алик бегал по ближайшим подъездам, продавая неучтенные газеты, выпущенные сверх тиража. По пятачку набиралась сумма на хлеб, колбасу. Встречи с людьми дышали разнообразно…
***
Весна принесла многочисленные дни рождения. В один из таких дней Алик понял, кого вскормили на праздничных отходах. Едва редакционные женщины ушли из празднично-застольной комнаты, как шестиногие коричневые хищники вылезли из укрытий и набросились на яства. Алик кинулся на оборону стола. На помощь прибежала Петровна. Тараканы не обращали внимания. Перелом в схватке с насекомыми наступил, когда Алик с Петровной схватили металлические ложки и стали энергично стучать ими по керамическим тарелкам. Тараканы побежали из гущи котлет, ломтиков колбасы и апельсинов, как бояре на колокольный звон.
Нападение шестиногих решили умолчать, но, чтобы самим скушать блюда, по которым они бегали, пришлось налечь на водочку. Вообще говоря, Алик перестал получать радость от увеселительных мероприятий, они утомляли его своей схематичностью. Создалась технология общего сбора, предусматривавшая количество и выбор спиртного, ассортимент закусок, порядок и ассортимент выступлений…
«Я не самец, а человек – и это все ж не худший грех», – мысленно сочинял Алик за столом, но даже не успел уследить, как он оказался на составном диванчике за радостным ощупываем груди одной из сотрудниц. Сотрудница заразительно смеялась. Алик присмотрелся внимательней и успокоился – не Петровна.
***
Второе майское утро, и второй раз подряд кричали прилетающие птицы. Алик слышал в их криках напоминание о близком отпуске…
В июне, с рассветом, если можно так сказать, о предутреннем периоде белых ночей, аккуратно, с расстановкой залаяла собака за окном. Минут через пять ее лай подхватила другая. Вскоре затявкал целый хор, не меньше собачьей стаи. Алик встал, пошел к балкону, чтобы закрыть дверь плотнее, и замер: двор светился свежим белым снегом.
***
Статью про первую нефть нового месторождения, испорченную правкой Мерзлой, пытавшейся высвободить место на газетной полосе под бездарную статью своей дальней родственницы, принятой на работу в редакцию, в полном объеме опубликовали в столице. Это дало повод Алику думать, что в каждой неприятности таится счастье, но с другой стороны…
***
Президента избрали, и редакционная кухня по этому поводу вибрировала от зычных речей Сапы:
– Он, сука, Белый дом из танков расстрелял, пренебрег Конституцией и незаконно разогнал Советы народных депутатов, алкоголик почище меня будет, а народ его избрал!? Где мы живем!? Сук – в президенты. Эти проститутки – звезды эстрады, ездили по России с лозунгом «Голосуй или проиграешь! Ни одного больше слушать не буду…
***
Осень, как ваза с цветами, иногда бывает наполнена красивыми думами о прошедшем лете. Алик любил своих друзей и свое прошлое и как-то свойственным ему корявым почерком настрочил:
При встрече с давними друзьями
И теми, коих смел любить,
Хотелось многое меж нами
В давно минувшем объяснить.
Ведь годы, между прошлым – годы!
Как просто все издалека,
Смешны обиды и уходы,
И нет в них остроты клинка.
Слова раскаянья звучали
Не раз в повинной голове,
Воспоминанья возвращали
К обычно каверзной весне…
Все изменилось, кроме Сути,
Душевной слабости внутри.
Родное, близкое до жути
Присыпал опыт. «Все сотри, -
Сказал я мысленно себе же, -
Все то, что было – ерунда,
Ведь срез, он только сразу свежий,
Сейчас же – вроде сухаря».
И вот – та встреча, что, казалось,
Не улыбнется никогда.
Куда же ты, моя, девалась,
Уверенность? Ушла куда?
Все чувства прежние вернулись,
Как не было прошедших дней.
Слова забылись, годы сдулись,
А с ними опыт – в мир идей.

Этой же осенью, через полтора года работы под руководством Мерзлой, после ее тесных общений с Сапой, Алик почувствовал силу, выталкивающую его из редакции, как постоянно чувствует ее одетая в праздничную фольгу пробка шампанского. Конечно, насчет праздничной одежды – это перегиб, поскольку наш герой, или антигерой, как хотите, относился к надеваемому на себя тряпью довольно спокойно, исключая момент свиданий, но с точки зрения выталкивающей силы, все верно: Мерзлая скандальничала и мстительно гадила в Аликовских материалах.
«Страшится, что мечу на ее место. Неужели все начальники, если видят рядом более-менее способного человека, считают, что он хочет спихнуть их с руководительского кресла?» – размышлял Алик и через некоторое время понял, что все.
***
Почему-то именно в этот момент, в октябре, Алик отчетливо вспомнил притягательный запах мандаринов, которые в советское время простым детям подавались только на Новый год в подарках. Алик вспомнил этот желанный в детстве запах, предвестник самого лучшего праздника в году, вживую. Он вдыхал их соблазнительный аромат везде, даже идя мимо машин, испускающих выхлопные газы, которыми маленький нефтяной город зимой изобиловал, потому что водители для согрева моторов на морозе государственного бензина не жалели, а именно таковой заливало большинство в баки своих личных авто. И несмотря на газовый туман, летевший по маленькому нефтяному городу, туман, проникавший сквозь тройное остекление в квартиры, запах мандаринов преследовал Алика. Как не разглядеть в этом Чудо! Знамение, призывавшее к действию. Алик направил бумагу в городскую администрацию, где подробно отразил притеснения редактора. История повторялась неожиданно быстро. Скандал крепчал. Мерзлая в отместку перевела Алика в печатники. «Газета вынашивается, ребенок капризничает, жена стонет, а я?» – грустно спрашивал он себя.
***
За зашторенным окном на убеленной до неузнаваемости декабрьской улице шумело, будто шел дождь. Что-то скрипело, постукивало, побулькивало, шуршало – и минус двадцать – форточку не открыть. Алик после покраски домашних стен спал на полу. Испарявшиеся нитроэмали дарили видения. «Предметы хранят воспоминания. Как есть музеи стран и городов, так есть музеи малых человеческих жизней. К ним надо относиться бережно. В памятных вещах скрыта великая сила возвращения к друзьям прошлого, пленительным временам и местам. Памятные вещи как двери в храм», – думал Алик, рассматривая настенные часы, купленные в Киргизии. Они имели советский знак качества и шли так точно, словно напрямую сообщались со звездами. Взгляд переместился на предохраняющий пол ворох газет, постеленных у стены, и они вызвали новые ассоциации: «Петровна умеет изящно скрывать свои мысли за своими ласковыми словами, ох как скрупулезно она подбирает слова, чтобы ее речи брали за душу. Этому надо поучиться, пригодится…»
ГАРНИТУР
«Не пытайтесь заставить влюбить в себя тех, кто вас не любит. Напрасно потратите время и деньги»
Хохол Дудкин продавал мебель на рынке маленького нефтяного города и носил на шее толстенные золотые цепи, становившиеся со временем все длиннее и длиннее, потому что каждая пружинка проданного дивана прибавляла к ним дополнительное звено. Каждый раз, когда цепь опускалась до пупа, хохол Дудкин снимал ее, перекручивал накрест, сворачивал вдвое и опять надевал на шею. Он торговал мебелью, дело знал назубок, говорил «дудки» насчет помощи всем, кроме нужных людей, а к таковым относил тех, кто в форме, и тех, кто работал в здании городской администрации, располагавшемся напротив рынка – через дорогу. Дудкин от простой деревенщины продвинулся до известного торговца мебелью и не намеревался возвращаться в прежнее состояние, всех ответственных лиц знал в лицо, в том числе и Колю Тыренко, служивого из налоговой полиции.
Похожий на лакированную, плохо обструганную по бокам шахматную ладью, Тыренко важно прохаживался по рынку, подходил к продавцам, проверял документы, представляясь неизменно заместителем начальника налоговой полиции, хотя поначалу был простой опер. Может, внутренней значимости на себя нагонял, может, уважения большего добивался, а может, прозорливо знал будущее – об этом судить сложно, но такой у него был характер.
Золотые цепи на Дудкине Тыренко приметил сразу: сложно не увидеть выставленный напоказ широкий самоценный ворот. «Хорошо живет нехороший человек, значит, деньги есть, а раз деньги есть, значит, делиться надо», – так поразмыслил Тыренко и стал настойчиво искать способа, как обработать богатую непаханую целину Дудкина. Он регулярно подходил к нему, проверял документы, но придраться не к чему. Патент у Дудкина и все документы на товар имелись и пребывали в полном порядке, даже к административной ответственности Дудкин ни разу не привлекался.
– Как коммерческие дела, Дудкин? Идет торговля? – раздраженно спрашивал после очередной безрезультатной проверки Тыренко, думая: «Ну и сволочь ты Дудкин – аккуратная сволочь, чтоб тебе неладно было».
– Нормально, – сухо отвечал Дудкин, не давая повода для дальнейшего разговора.
Тыренко уходил, Дудкин облегченно вздыхал. Так продолжалось довольно долгое время, пока Дудкин однажды не посчитал, что знаком с Тыренко настолько, что можно и пооткровенничать.
– Нормально, – ответил Дудкин, как обычно, на вопрос о делах, но на том не остановился. – В Польшу собираюсь за мебелью, да денег немного не хватает.
– Сколько надо? – спросил Тыренко, и сердце в его груди радостно отбило незапланированные ритмы от предчувствия удачи.
– Миллионов десять хватило бы, – ответил Дудкин.
– Разве это деньги? Плевое. Как раз спальный гарнитур, какой я хочу, если по закупочной цене. Давай так: ты привезешь гарнитур без наценки, а я даю деньги, хоть сейчас, но с условием, что ты их возвратишь по первому требованию, – Тыренко проговаривал условия договора, а его мозги работали, словно компьютер.
Дудкин собирался сказать «дудки», потому что выгоды с предложения Тыренко не было никакой, но вовремя остановился. Испугался, что золотые цепи на шее похудеют из-за проблем с налоговой полицией. Он растерянно немотствовал, шустря глазами, и молчание затягивалось.
– Не сомневайся, дело говорю, – ударил по сомнениям Тыренко. – За услугу обещаю покровительство. Возникнут проблемы, подходи в любое время, помогу…
Как было договорено, Дудкин привез один комплект спальной мебели, поставил на склад и стал ждать перспективного заказчика. Как ни удивительно, но Тыренко на рынке не появлялся и забирать гарнитур почему-то не спешил. Дудкин удивлялся день-два, неделю – другую, а потом в его голове стали возникать следующие мысли: «Может, забыл, уехал из города или сгинул где, к счастью. Подожду еще немного да выгодно продам мебелишку». Но примерно через месяц Тыренко позвонил.
– Дудкин, ты не забыл, что деньги мне должен? – спросил он.
– Что вы?! Как забыть? – изобразил радушие Дудкин.
– Помнишь, мы договаривались, деньги вернуть по первому требованию?
– Да.
– Так вот: сегодня к вечеру…
О мебели ни слова.
Дудкин занес деньги домой Тыренко, надеясь, что тот скажет, что делать с гарнитуром, но Тыренко взял деньги и прохладно распрощался…
Опять прошел месяц, и в тот момент, когда Дудкин стал подумывать, что гарнитурчик уже его, поскольку истекли все разумные сроки, на рынке появился Тыренко с эскортом из трех богатырей физической защиты налоговой полиции. Он подошел и, нахально поблескивая глазками, произнес:
– Помнишь, как обещал продать спальный гарнитур по закупочной цене.
– Помню, но ты деньги забрал…
– Деньги я на товар давал, чтобы помочь тебе, дурашка, в бизнесе. Ты обещал мебель по закупочной цене. Так привез гарнитур или нет?
Вопрос Тыренко так ударил по ушам Дудкина так, что они вмиг покраснели.
– Да привез, привез. Не беспокойтесь. Давно вас ждет, – трусливо засуетился Дудкин, поблескивая золотыми цепями.
– Вечером доставь ко мне домой. Рассчитаемся потом…
Заказанную мебель испуганный Дудкин не только подвез к дому, но и занес в квартиру на пару с водителем Тыренко по фамилии Шестеркин. Высокий молодой водитель был на удивление лысоват подобно своему начальнику, даже лицом схож, где в рисунке бровей, ресниц, изгиба носа и губ вполне доступно читалось: «денег ты не получишь». Но Дудкин такие вещи видел плохо…
***
Водитель был предан Тыренко всей своей рабоче-крестьянской душой, потому что считал, что обязан. Прошлой зимой он ездил в соседний город и на обратном пути, как говорится в милицейских сводках, не справился с управлением – служебная машина опрокинулась в кювет, и ее кузов сильно помялся.
– Мать твою! – кричал Тыренко тогда. – Мать твою!
Шестеркин уныло крутил носком форменного ботинка кренделя и раздумывал о том, куда идти работать. Но громкие крики Тыренко испускал не как прелюдию к увольнению, а как оптимистическую агитацию к пополнению своих сбережений.
– Ну, что с тобой делать? Что? Скажи! – бесновался Тыренко.
– Я нечаянно, – промямлил Шестеркин.
– За нечаянно платят отчаянно, – съязвил Тыренко. – Но проехали, забудем. Ты парень неплохой. С кем не бывает. Ремонт за твой счет и все забыто. Идет? Только деньги мне передавай – запчасти и все остальное я сам куплю – у знакомых дешевле.
– Идет, – буркнул Шестеркин…
Продажа стенки, дивана, кухонных шкафов и тумбочек вершилась под ругань жены Шестеркина. Квартира пустела, сумма собиралась. По другую сторону конфликта происходило следующее: Тыренко написал служебную записку на ремонт машины. В итоге деньги провинившегося водителя Тыренко положил в свой карман и навсегда, машина была отремонтирована за государственный счет, но довольны были все, кроме жены Шестеркина, конечно.
***
С момента передачи спальной мебели Дудкин, обретаясь на базаре, настойчиво вглядывался в проходящих мимо беспокойных, суетливо толкающих друг друга покупателей, выискивая Тыренко, а, заметив, устремлялся к нему:
– Николай Владимирович, извините за напоминание, но вы покупали у меня гарнитур, – скороговоркой говорил он в надежде успеть высказать главное.
– Как дела Дудкин? – прерывал Тыренко.
– Нормально, – привычно вылетало из Дудкина, а он сам приобретал от того конфузный вид.
– Видишь – нормально. Так работай спокойно, не суетись, а то как бы бизнес не дал трещину. А насчет денег не беспокойся. Отдам, отдам…
Складывалась заурядная ситуация. Кредитор регулярно напоминал о долге, заемщик – обещал рассчитаться, но денег не возвращал и избегал встреч. Даже тупой железный гвоздь молотком забивают, поэтому немудрено, что после нескольких отказных ударов судьбы, представшей в виде хоть и низкорослого, но опасного налоговика Тыренко, Дудкин понял, что ему показали «дудку». Жаловаться не решился. Он домысливал, что все руководство связано одной большой незримой паутиной. Вызвать вибрацию ее нитей он не желал: мог появиться большой паук. Что за паук и чем он опасен, Дудкин тоже не знал, но с детства боялся «косиножек». Оставалось обсуждать происшедшее с соседями и на рынке…
***
Лис от рожденья дерет курей, шкодливый кот пакостит, так и махинатор – явление характерное, особливое и неизменное… Тыренко до приезда на Крайний Север жил в Луганске, работал в милиции, занимался строительством здания отдела внутренних дел и сильно проворовался, да так, что пришлось срочно ретироваться. А где прятаться, как ни в какой-нибудь норе на краю света? Он бросил жену с тремя детьми, взял с собой любовницу Соньку и устремился в сторону, где еще недавно жили только бесхитростные ханты. Он думал, что в таком богом не обработанном месте, где и церквей-то заметных не было, его, работника Луганска (пусть в России малоизвестного городишки, но для Севера по возрасту, что столица), возьмут на работу с распростертыми объятиями. Но не тут-то было.
Начальник отдела кадров северной милиции маленького нефтяного городка хоть и был вечно с похмелья, но читать не разучился. Он просмотрел личное дело Тыренко и громко сказал:
– Эту сволочь сюда пускать нельзя!!!…
На «сволочь» Тыренко не обижался уже давно, а отказ простого сотрудника милиции, как отказ желанной дамы, только распалил устремление. На родине Тыренко одно время работал в отделе кадров. Он вернулся в Луганск, прошелся по старым связям и обзавелся необходимыми печатями, документами, материалами – в общем, изменил свое личное дело до неузнаваемости, а затем повторно, на этот раз победоносно вторгся в маленький нефтяной городок и устроился заместителем директора в частное предприятие «Лидер», где учили на охранников кого придется. Это частное предприятие выдавало лицензию на ношение и использование огнестрельного оружия и было весьма популярно среди местных бандитов и руководителей нефтегазодобывающих управлений. Даже Генерал, возглавлявший производственное объединение «СНГ», прошел школу «Лидера».
***
Репутация частного охранного предприятия «Лидер» оставляла желать лучшего, хоть и во главе его стоял ухоженный круглолицый высокорослый молодой человек Витя Пропихайлов. Внешне – милейшее создание. Он пах дорогими одеколонами, следил за своим здоровьем до совершенно безумной стадии, на которой прошел модную в то время процедуру очистки крови от шлаков. Румянец танцевал на выпуклых щечках. От него стоило ожидать по-детски чистого мышления, добродушного витания в голубом небе. Но под легкомысленной оболочкой скрывался медведь-людоед.
Пропихайлов был очень здравомыслящим человеком, и в бумагах не значилось, что он хозяин «Лидера», директорствовал болванчик Голоскоков. Пропихайлов же регулярно ездил в Москву, придирчиво и аккуратно стриг ногти, делал маникюр, одевался в добротный костюм, ходил на официальные приемы, но не пил. По последней причине – согласовывать эскиз печати и штампа «Лидера» с Главой администрации маленького нефтяного городка – ходил Голоскоков. При решении вопросов в кабинетах чиновников водки изводили тогда много, и если человек не пил, то это отрицательное качество почти полностью перекрывало возможности на доброе отношение к нему со стороны городского бюджета. Так и родился «Лидер» без особых мук, когда Воровань метал икру на нарах камеры предварительного заключения.
Прохиндействовало предприятие тихо, если не считать майской ночной кражи со складов нефтегазодобывающего управления маленького нефтяного городка. Пропала не нефть – множество меховых шапок и шуб. Охраняли склады «лидерцы», и Алик неоднократно слышал, что преступление стало возможным благодаря сговору между Пропихайловым и начальником складов. Это была опасная тема, и Алик за приличный гонорар, похожий на тривиальную взятку, спокойно написал рекламную статейку про сборник законодательных актов для северных территорий, который Пропихайлов выпустил огромным тиражом, надеясь подзаработать, но напоролся на невеликий интерес жителей северных территорий к законам.
После «Лидера» Пропихайлов по причине налоговых льгот основал общество инвалидов, занимавшееся самой обычной торговлей, потом – непонятное общественное объединение МУКЦ. Был еще один взлет на полосе маленького нефтяного города в карьере Пропихайлова, когда тот был избран народом в депутаты и даже претендовал на роль председателя всей городской Думы! Но этот лишний замах встревожил властителей маленького нефтяного города, и книги Пропихайлова частично успокоились на свалке, прокуратура дала санкцию на арест его самого. Правда – символично, поскольку Пропихайлов пустил слух, что кинулся в бега, был объявлен всероссийский розыск, но сам спокойно жил в своей квартире.
Возвращаясь к «Лидеру» надо отметить, что предприятие отработало примерно четыре года, сильно задолжало в местный бюджет и, развалившись, дало налоговой полиции еще одного специалиста – майора Голоскокова, вместо которого командовать предприятием осталась его жена. Они образовали распространенное ситуационное уравнение: чиновник + предприниматель = деньги. Но о них мы не будем больше говорить. Вернемся к Тыренко.
***
Из «Лидера» Тыренко перешел в службу безопасности газоперерабатывающего завода. Потом – в милицию маленького нефтяного городка. И, наконец, – в налоговую полицию…
После выхода из тюрьмы Воровань с большим недоверием относился к работникам милиции, но Колю Тыренко на работу взял. Не любил его, но понимал: нужен. Семеныч распознал в Тыренко хитрую вороватую личность, способную на любую подлость и пакость, но был у Тыренко один плюс, с точки зрения Семеныча, перекрывавший все минусы – управляемость и чинопочитание. Более того, он был из тех мужчин, которым нравится, когда их унижает женщина, и это удовольствие Сонька доставляла ему в любое время. Как-то забыли выключить громкую связь на планерке. Раздался звонок. Тыренко поднял трубку.
– Слушай, козел! Ты знаешь, что дома нет мяса?!! – на весь кабинет прошумел озлобленный Сонькин голос.
Калориферная краснота растеклась по лицу Тыренко, он ткнул выключатель громкой связи, а после планерки послал подчиненных в подсобное хозяйство. Но куры оказались костлявые, и когда Тыренко вместе с Шестеркиным, торжественно несшим ящик с битой птицей, зашел домой, то Соня взяла одну курицу за синюшные ножки и, не смущаясь постороннего, треснула ею мужа прямо по лысой голове…
Соньку не любили даже коты. Как-то Семеныч пригласил чету Тыренко к себе в гости. По квартире разгуливал только что помытый сибирский кот, со слипшейся шерстью, а оттого похожий на крысу. Он подошел к Соньке обнюхать, что для котов совершенно обычно, а она брезгливо оттолкнула его ногой и произнесла:
– Фу, какая гадость!
Кот внешне не отреагировал, огляделся и ушел, а потом, когда все сели за стол, он незаметно подкрался, скрытый от глаз столешницей и скатертью, повернулся к Соньке задом и умудрился облить ей ноги своей природной жидкостью от трусов до пяток… Но самец самцу рознь: Тыренко жене не мстил, он вымещал домашние обиды на других, младших по званию…
***
Если бы хохол Дудкин знал, с кем имеет дело и что спальный гарнитур был прихотью Соньки, то был бы молчаливее. Вот уж где поверишь, что молчание – золото.
Но судьба не так сурова, как кажется, – она часто дает второй шанс, а то и третий, и у Дудкина шанс вернуть деньги появился. Его разговоры на рынке о комбинациях со злополучной мебелью каким-то образом достигли службы безопасности налоговой полиции, которой командовал довольно честный службист Витя. Как он затесался средь кадров Семеныча, не понятно. Это как «в семье не без урода», только наоборот. Дудкина вызвали для допроса.
Через считанные дни после этого Дудкин по звонку открыл входную дверь, а там на фоне ядовито-зеленых подъездных стен и бело-серого потолка темнел поджелтушенный лампочкой Тыренко.
– Здравствуй, Дудкин, – уныло прохрипел он.
– Здравствуйте, Николай Владимирович, – пожелал и Дудкин.
– Разговор к тебе есть.
– Проходите.
Только закрылась входная дверь, как Тыренко тут же заговорил о деле:
– Из-за тебя Дудкин увольняют меня.
– За что?
– Под дурака не коси. Ты ж наябедничал, что я тебя обманываю: полгода не отдаю деньги за гарнитур. Меня в мошенничестве обвиняют. Так-то. Под монастырь подвел, а я ж обещал, что отдам.
– Николай Владимирович, вы уж извините, сколько ждать можно? – урезонил Дудкин.
– Знаешь, какие махонькие зарплатки в налоговой полиции? – воззвал к жалости Тыренко. – Жена – то одно, то другое. Никак не скопить.
– Вы хотя бы частями рассчитывались, – обиженно сказал Дудкин.
– Рассчитаюсь, обязательно рассчитаюсь, Дудкин. Но прошу тебя, как друга, прошу. Напиши расписку, что я вернул деньги, а то меня ж раскрутят, как торгаша какого, – взмолился Тыренко, готовый расплакаться.
– Но, Николай Владимирович, а где ж гарантия…
– Клятва! Долг верну через три дня. Клянусь. Чем угодно. Хочешь, мамой поклянусь? – надрывно спросил Тыренко.
– Да что вы, – расчувствовался Дудкин.
– Хочешь, папой поклянусь? – изменил предложение Тыренко.
– Не надо, – попросил Дудкин.
– Хочешь, детьми своими или Сонькой поклянусь? – не унимался Тыренко, порываясь встать на колени…

Дудкин схватил Тыренко за руки и потянул вверх, не давая начальственной личности достичь коленями пола.
– Не надо так, не надо… Что вы? – растерянно просил Дудкин.
– Дудкин, ты пойми, если меня уволят, то возврат твоих денег затянется на длительное время, – воззвал к рассудку Тыренко. – Я ж никогда не отказывался от долга. Да и в дальнейшем не смогу отказаться, ведь об этом знает мое руководство, Семеныч в курсе. Все мои обязательства перед тобой останутся в силе. Подходи в любой момент, помогу…
От стольких почти коленопреклоненных заверений начальственной особы у Дудкина возникло великое ощущение, будто его грудная клетка распирается изнутри газами должностного роста. Он стремительно, хоть и умозрительно приподнялся над полом, словно воздушный шар. Коли такой человечище, как Тыренко, падает на колени пред ним, пред бывшим деревенщиной Дудкиным, то кто же тогда он, Дудкин, по своей величине!? Под потолком подъем души Дудкина прекратился, голова души уперлась в облагороженную железобетонную плиту, похожую на плотную облачную преддождевую пыль. Душа Дудкина глубоко вздохнула, чихнула и слетела назад в ладони почти покинутого тела, где обычно и водилась. Дудкин ожил, по-спринтерки написал расписку, что Тыренко с ним рассчитался за спальный гарнитур и, поглаживая того по спине, проводил за порог.
Как только Дудкин закрыл дверь, Тыренко радостно помчался вниз, перепрыгивая через две ступеньки. Он подпрыгивал на лестничных площадках и в полете над их затертыми коричневыми плитками звучно ударял одним ботинком об другой, будто исполнял вальс-бабочку…
Быть в дураках привычно для тех, кто верит. Но какой дурак признает, что он дурак? Психология дурака настроена на оправдательный мотив легкой польки жертвы обстоятельств. Ведь если признаться себе, что ты поступил, как дурак, то надо меняться. Но дурак не намерен меняться, он считает себя законченным…
Спустя некоторое время Дудкин понял, что Тыренко его и в этот раз обманул. Но считал ли он себя виноватым? Нет. Он еще долго размышлял о приключившемся с ним происшествии примерно так:
«Тыренко – мошенник. О моей истории точно знают и его сослуживцы и руководители, но деньги не вернули. Значит, все такие… Может, он поделился моими деньгами, всех купил. Лучше забыть».
Действительно о спальном гарнитуре и долге Дудкин постарался забыть, и это у него получилось. Лишь иногда ночью он просыпался от одного и того же кошмара: ему снилась темная нераспознаваемая личность в черном костюме и шляпе и говорила: «Насчет денег не беспокойся. Отдам, отдам…». Тогда Дудкин просыпался, резко открывал глаза и омерзительно потел, видя, как силуэт приснившейся личности медленно растворяется в черноте телевизионного кинескопа, а потом он хватался рукой за золотую цепь и пересчитывал ее звенья, чтобы узнать, не похудела ли.
ПОДЪЕМ
«Чей-то выигрыш всегда чей-то проигрыш»

Примерно в это же время на политической почве маленького нефтяного городка зрел необычный фрукт. В один из негожих февральских дней в редакцию местной газеты зашел коренастый, похожий на крупного плюшевого мишку, мужчина, одетый в старенькое демисезонное драповое пальто серого цвета и нелепую помятую зимнюю шапку. Мужчина приехал на потрепанном «Жигуленке» первых моделей и прошел в редакцию походкой вразвалочку. Голос у него был зычный и требовательный. Алик не обратил бы на него внимания, если бы Мерзлая не попросила посмотреть какие-то статьи, написанные этим необычным человеком. Правда, к слову сказать, необычность людей, которые обращались за помощью к журналистам, была обычной: то приходила нервная женщина со слуховым аппаратом, жаловавшаяся на угрозы расправы, исходящие от сотрудников комитета государственной безопасности, которые непонятно каким образом вживили передатчик ей в мозг и общались напрямую, то забегал худенький человечишка с лыжами и, немного помолов языком, сообщал, что он психотерапевт, и тут же начинал изучать и ремонтировать ауру, то ветром заносило непризнанного поэта, впадавшего в припадок от незначительной правки… Иной раз казалось, что газета для того и существует, чтобы защищать права алкоголиков, тунеядцев и всякого рода проходимцев, потому как они и составляли наибольшую часть прихожан. В общем, Алик смотрел на нового пришельца через призму прошлых встреч, не зная, что это и есть будущий мэр…
Тогда фамилия Хамовский ни о чем Алику не говорила. Он еще не знал, что с этим человеком нельзя спорить, а надо только соглашаться. Он посмеялся над убогим языком рукописей, внес правку, думая, что этим закончится. Однако Хамовский готовился к выборам в Думу серьезно. Он опубликовал три очень весомые статьи в газете маленького нефтяного городка при активном содействии Мерзлой, управляемой Сапой. В простонародных статьях Хамовского прозвучали основные идеи его избирательной кампании: хозяева нефтегазодобывающего комплекса, построенного руками жителей города, должны обеспечивать им достойную жизнь, а не заниматься уводом денег с территорий; бюджеты нефтяных городов в расчете на одного жителя должны быть соизмеримы…
Политик должен уметь говорить на разных языках, в том числе и на языке простого народа. Изысканными фразами и научными постулатами не завоюешь очерствевших необразованных сердец – в него войдут только острые, как заточенный нож, эпитеты и определения. В отличие от Хамовского, этого Алик еще не понимал.
«Отнять и поделить» настолько въелось в подкорку советскому человеку, что, несмотря на блеклость пропитанных свинцом газетных шрифтов и текста в целом, лозунги будущего мэра были прочитаны и оценены. Редкий житель маленького нефтяного города, даже из противоборствующей команды, команды Главы, остался к ним равнодушен. В избирательной кампании на пост депутата Думы кроме Хамовского участвовали люди немалые для маленького нефтяного города: важный и горделивый Генерал, заведующий юридической консультацией Кошмарин, заведующая местными развалюхами и муж начальницы налоговой инспекции. Но для будущего мэра все, кроме Генерала, были шпаной.
Проникся лозунгами и Алик. Хамовский, несмотря на вредную фамилию, виделся ему настолько справедливым, что Алик договорился со своими знакомыми телевизионщиками на съемку сей выдающейся личности маленького нефтяного города. Ввиду опальности кандидата встреча произошла в тайне, в фойе дворца культуры, снаружи больше напоминавшего автовокзал или банно-прачечный комбинат, но интервью не получилось. Оператор усаживал Хамовского то так, то эдак, пока тот не взорвался и не нахамил, произнеся историческую фразу:
– Я создаю событие, а ваше дело фиксировать, как есть!!!
И он ушел, чтобы прийти.
***
Политика и интриганство неразрывны. В ходе избирательной кампании досточтимый Генерал сошел с дистанции. Произошло это в результате активных действий будущего мэра.
Чтобы зарегистрироваться кандидатом в депутаты, надо заручиться определенным количеством подписей избирателей, проставленных в специальной таблице. Можно бегать по квартирам, ловить людей на улицах, чтобы они собственноручно подписались, но какой Генерал будет бегать? Генерал подрядил доверенных лиц. Доверенным лицам тоже лень. Они отчитались, что организовали собрание по сбору подписей – на самом же деле в отделе кадров натаскали паспортных данных и сами заполнили липовые подписные листы. Избирательная комиссия приняла и не возмутилась. Все ж Генерал!
Послушание, исполнение и молчание – вот на чем основана демоническая власть, но информация о махинации Генерала достигла Хамовского, обладавшего генеральскими навыками, но, в отличие от Генерала не сытого, оттого активного и злого. Хамовский сошелся с адвокатом Кошмариным, поговорил, убедил, и Кошмарин предложил Генералу:
– Либо ты уходишь сам, либо через прокуратуру…
Тут надо сказать, что будущий мэр не любил лично пачкать руки. Эту возможность он всегда предлагал другим. Сохранить лицо немаловажно. Генерал выбрал самостоятельный выход из выборной кампании, но напоследок выступил в газете маленького нефтяного городка с предложением к его жителям:
– Голосуйте против всех, потому что все козлы!!!
Жителей маленького нефтяного города, трудившихся в нефтяной компании, согнали на собрание и объяснили, что если кто-то проголосует за Хамовского, то будет немедленно уволен, но Хамовского все же избрали депутатом.
КАЧЕЛИ
«Подпрыгивая, можно достичь вершин, но не надолго»
Летом, спустя всего два месяца после избрания Хамовского депутатом, сняли с поста самого разгульного пьяницу маленького нефтяного города – Главу его администрации. Причем сняли так неуклюже, что назначенный на его место Бабий, до этого первый заместитель, рыдал навзрыд. Телосложения он был коренастого, но выглядел слегка покорежено, будто в далеком прошлом его схватили за волосы и протащили через очень узкую трубу, такую узкую, что все наружные части лица отвисли навсегда. Он даже говорил, еле открывая рот. Начальственная статность, как обычно у таких людей, лезла наружу без спроса, а тут слезы капали на стол и разбивались на множество мелких брызг, достигавших его ближайших подчиненных, собравшихся вокруг, как пустые просящие тарелки вокруг богатого торта.
– Как специально, как специально! – истерично кричал Бабий. – Все ждут законных выборов Главы. Я – один из главных кандидатов. Теперь же все грехи этого пропойцы лягут на меня недвижимым камнем. Хамовский спит и видит…!!!
– Успокойтесь, Михаил Владимирович, успокойтесь! – кудахтали подчиненные. – Может, пронесет.
– Ох, вы наговорите, уже живот скрутило! – кричал Бабий. – Думайте, что делать мне, думайте! Зря что ли вам деньги плачу? Завтра пойдете с шапками.
Для поднятия угасающего в народе престижа городской администрации пригласили Алика. Принесла это предложение Мерзлая.
– На кой мне это нужно? – спрашивал ее Алик. – Зачем продаваться? Мне и так хорошо.
– Иди, иди, – уговаривала Мерзлая. – Будешь разведчиком во вражеском стане.
– Это ж черное пятно на репутации. Какой я тогда журналист? – вопрошал Алик.
– Брось ты. И так на них работаем. Может, денег дадут. Сходи хоть узнай, – посоветовала Мерзлая…
Пол-оклада Алику надбавили для настроения…
***

Власть, не приносящая денег, что прокисшее молоко. Бабий поспешно собрал депутатов и попытался их оседлать, чтобы принять очень нужные решения.
– Проблема с аварийностью и ветхостью с каждым годом увеличивается, – глухим голосом начал выкладывать пасьянс Бабий. – Чтобы решить жилищную проблему в городе, надо закупить в соседнем поселке три деревянных дома. Состояние их прекрасное. Для них в городе есть места из-под сгоревших деревяшек. Я вынес этот вопрос на Думу, потому что владеет этим всем частник, чтобы ни я, ни люди не были замараны. Если мы примем положительное решение, приступаем к демонтажу этих трех домов и везем сюда.
Как уже догадался читатель, Бабий решил использовать способ утверждения контракта, с помощью которого Генерал завез в маленький нефтяной город протухшие немецкие подарки. Общественное одобрение – вот чего он жаждал, но среди депутатов пройдох было достаточно, и задаром никто не хотел… Кроме того, Бабий еще не стал фигурой, и имелась вероятность, что и не станет.
– Пять миллиардов за деревяшки. Зачем? Через три-четыре года они опять придут в негодность, – заохал Кошельков, начальник нефтегазодобывающего управления, тот, что послал Семеныча в Германию, хапнул деньги, и благополучно был избран ограбленным им народом в депутаты.
– Если будете против, вопросов нету, – сказал Бабий, понимавший, что давить нельзя: непосредственной власти над депутатами он не имел.
Весь его расчет был на провинциальную глупость и то, что депутаты, как обычно, захотят быстрее разойтись по домам и не станут вникать.
– С другой стороны, это, конечно, хорошо, что они немного дешевле, чем конструкции в капитальном исполнении, – продолжил Кошельков, не желавший быть главным критиком, а в перспективе – врагом.
– На восемь миллиардов дешевле, на всякий случай замечу, или на десять, – врезался Бабий, почувствовав депутатскую слабину.
– Положение в деревянных микрорайонах ужасное: провалены полы, нет унитазов, – заохала депутат Матушкова, в простонародье Матушка, которую народ считал своей заступницей за ее умение обещать и утешать.
Такой подход к обсуждению вопроса был весьма кстати Бабию, и его губы начали складываться в улыбку, как…
– Я тут посчитал, получается, что одна квартира в домах, которые нам предлагается купить, обойдется в двести шестьдесят миллионов, – бомбанул предложение Бабия Хамовский.
– У нас сейчас готовые квартиры в пятиэтажках в два раза дешевле, – сообразил Кошельков.
– Лучше миллиард подарить тому частнику, спасибо сказать и ничего не брать, – сострил Хамовский.
– Счас, – выдохнула Матушка.
И началось.
– Вообще надоузнать, что там за предприниматель и как у него в личном пользовании дома оказались.
– Отказать.
– Ни в коем случае, конечно.
– Лучше уж денег добавить и пятиэтажку построить.
– Разбирать начнешь, все разрушится.
– Кто-то заинтересован в этом варианте, – заключил Кошельков, стараясь не глядеть на Бабия.
– Если отвод есть, вопросов нет. Спасибо, – обиженно закончил Бабий и повысил голос на возбужденных депутатов. – Прошу спокойствия. Спокойно!…
Остаться у власти – вот главное, что хотел Бабий, и он понимал, что убедить в своем избрании десять депутатов гораздо легче, чем тысячи избирателей.
– Предлагаю выбирать Главу администрации из состава городской Думы, – провозгласил он.
– …Закон. Зачитываю первый абзац первой части. Выборы глав муниципальных образований осуществляются непосредственно жителями… – опять встрял Хамовский.
– Давайте общим голосованием, – поддержала Хамовского Матушка.
– Какие еще будут мнения? – с надеждой спросил Бабий.
– Общим голосованием, – многократно повторяясь, зазвучало вокруг думского стола.
Опять предложение Бабия не было поддержано депутатами. Его речь становилась все путанее, голос грустнее…
– О проекте бюджета на следующий год, – провозгласил Бабий после перерыва.
– Согласованная со столицей округа расходная часть составляет… – убедительно заговорила кряжистая крепкая женщина Дайналап, председатель Комитета финансов.
Хорошо жить и иметь много денег – понятия относительные. В этом смысле столицы всегда господского разряда, а провинция – чернь безысходная. Жировала своя столица и в округе, и окружные власти не видели большого смысла давать много денег маленькому нефтяному городу на границе округа и не давали. Глава маленького нефтяного города по родству чиновничьего сословия поддерживал эту стратегию, чтобы быть в милости. Вот главное подводное течение, определявшее отношение Бабия к вопросу о бюджете.
– История повторяется, бюджет дают от достигнутого, – продолжил задираться Хамовский. – Городу иметь сто семьдесят пять миллиардов рублей расходов, как сегодня, при пятистах миллиардах доходов не к лицу…
Бабий закашлялся, чтобы привлечь внимание к себе. Хамовский встревал во все вопросы и выходил победителем. Требовалось срочно изменять ситуацию и забирать инициативы Хамовского себе.
– Дам справочку. Я был в округе и четко сказал, что больше такого бюджета в городе не должно быть, – произнес он. – Практика такова, что нам срезают бюджет год от года. Я думаю, если мы выйдем на миллиардов… четыреста – было бы хорошо. Я согласен с депутатом округа…
В конце этого года бюджет маленького нефтяного города вышел на сумму триста восемьдесят миллиардов рублей. Без поддержки Бабия этот успех бы не состоялся, но народная молва приписала все заслуги Хамовскому, и немалую роль в этом сыграл Алик. Так будущий мэр заявил о себе как пробивной лидер.
***
Алик сидел в зале, где проходило заседание городской Думы, и, будучи человеком неискушенным в политике, восхищался внешним мужеством Хамовского, спорившего с Бабием – высшей властью в маленьком нефтяном городе. Ему было невдомек, что борьба за власть всегда рядится под борьбу за справедливость, поэтому борьба за справедливость часто воспринимается борьбой за власть.
– Прекратите …съемку! – крикнул Бабий телевизионщикам, перемежая приличные слова с неприличными, в самый горячий момент заседания.
Оператор отскочил вместе с видеокамерой назад, как будто получил удар в челюсть. Он спешно выключил оборудование и замер. Диктофон Алика остался на столе перед Бабием и продолжал работать. Сам Алик замер, готовый, если Бабий спросит, извиниться и сослаться на недопонимание, но разговор состоялся после…
– Про Хамовского в газетном материале не должно быть ни слова, – резко сказал Бабий, когда Алик зашел в его кабинет и остался один на один.
– Михаил Владимирович, так нельзя. Он участвовал, – начал убеждать Алик.
– Мне плевать, где он участвовал, – прервал Бабий. – Никаких выступлений Хамовского.
– Если мы не опубликуем его выступление, то люди будут говорить, – слукавил Алик, понимая, что единственный выход – подыграть. – Не надо его убирать, давайте лучше оставим последнее слово за вами.
Этот аргумент заставил Бабия задуматься.
– Пускай, пиши, – согласился он…
Хорошая политика – это не только умелые интриги, но и головная боль от вибрации струн, представляющих собой нервные нити, натянутые на виолончель тела. Так начинался музыкальный спектакль, посвященный выборам мэра маленького нефтяного города.
ИГРА В МАШИНКИ
«Детские игры отличаются от взрослых бескорыстием»
Государство жаждало денег, но многие предприятия после краха социализма не могли или не хотели платить. Государство усилило репрессивный механизм и форменным ботинком налоговой полиции давило должников, как клопов. Оно рассчитывало поправить дела за счет продажи имущества этих предприятий, но на русле финансовой реки, утекающей в кошельки различных бюджетов, стояли хищные сети исполнителей.
Занижать цены, по которым изымалось имущество предприятий, скупать его по дешевке и перепродавать дорого позволяло само общенародное законодательство. Идея использования этого феномена витала в воздухе по всей России, вдыхал его и начальник налоговой полиции маленького нефтяного города Анатолий Семенович Воровань, проще – Семеныч. Соответствующие фонды помощи налоговым реформам возникли в каждой области, в каждом крае. И водились в этих фондах оценщики, знающие цену и себе, и другим. Крепко дружили они с руководителями налоговых формирований, потому что только на основе этой дружбы листья денежных купюр щедро сыпались в личные закрома, создавая полное впечатление, что золотая осень, наконец, преисполнившись своего истинного значения, бессменно поселилась в отдельно взятых местечках финансовых организаций. Оценщика, с которым дружил Воровань, звали Хлопцев.
– А можно хороший японский джип оценить как разбитую российскую машину? – спросил как-то Семеныч.
– Можно, – не раздумывая, ответил Хлопцев.
– А если докопаются? – подначил Семеныч.
– Кто? – с усмешкой переспросил Хлопцев…
Похожие вопросы Семеныч задавал и раньше, и каждый раз ответ Хлопцева не менялся:
– Все будет законно, – успокаивающе говаривал он Ворованю. – У нас разные классификаторы. По одному имущество оценивается по заоблачным ценам. По другому – по реальным. По третьему – по бросовым. И никто не привлечет: все на усмотрение оценщика, т.е. мое.
Хлопцев весело гладил живот, Семеныч задумчиво тер подбородок. В этот раз насчет джипа он спросил, потому что налоговая инспекция вынесла постановление на взыскание задолженности с местного газоперерабатывающего завода на огромные суммы. В опись арестованного имущества входили, в частности, импортные автомобили. И насчет одного из этих автомобилей Ворованю позвонил Паленый, директор этого газоперерабатывающего завода, внешне вполне приличный и представительный образчик отряда начальников.
– Толя, к тебе дело на сто рублей. Шучу, гораздо больше, – начал Паленый. – Вы мои машинки арестовали. И есть там одна, близкая моему, прости, заду. Это я о служебном японском джипике. Не один месяц на нем ездил. Привык. Он мне дорог как память о заводе…
– …Имущество, которого не без твоего участия постиг арест, – попытался сострить Семеныч.
– Ты не шути, Толя, – укорил Паленый. – Знаешь, обстановка какая. Хохлам газ поставляем, а они не платят.
– Бог с твоим газом. Потрудиться придется. По логике мы должны в течение двух месяцев продать твой транспортный парк с аукциона, как и положено…
– Толя, найди обходной путь. Ты меня знаешь. В долгу не останусь…
Насчет большого труда Семеныч подзагнул, чтобы добавить авторитета своим поступкам. Он направил необходимые документы в фонд содействия развитию рыночных реформ. И все. А дальше: шустрый хлопец Хлопцев сел за рабочий стол, поставил рядом с калькулятором батарею бутылок пива и начал расчет.
«Сейчас из добротной «Тойоты-Ройндер» сделаем рухлядь, – рассуждал он. – За два года работы, если по максимуму, ее можно признать большей частью изношенной. С остатка снимем удешевление за эксплуатацию в условиях производства. Теперь накинем Ворованю, себе и компаньонам. Что у нас получается? Дешевле битого «Жигуля»! Толя будет доволен».
Роскошный, непрерывный, не меньше, чем стаканный глоток из бутылки отменно смочил горло, и Хлопцев принялся за другие расчеты, которые были аналогичны… И началась тихая распродажа.
Желанный джип Паленый получил, можно сказать, даром, если бы не подарок Семенычу: солидный видеомагнитофон. Исчисленную же Хлопцевым сумму за машину Паленый отдавать не торопился. Зачем платить за то, что уже имеется? Напоминание поступило от прокурора Коптилкина, проверявшего налоговую полицию, осуществлявшего, так сказать, плановый надзор.
– Сука, сука, – говорил Семеныч в сердцах, имея в виду бывшего директора газоперерабатывающего завода. – Что за люди! Никому верить нельзя.
– Толя, хочу я или нет, но я вынужден реагировать, – оправдывался прокурор. – У тебя свои дела, у меня – свои. Если обнаружится, что я знал и не отреагировал, то меня поставят на колени и голову отсекут. Пусть Паленый немедленно перечислит деньги, а дело я постараюсь замять…
Семеныч перезвонил Паленому и такими словами объяснил необходимость немедленных расчетов, что деньги за джип появились мигом.
Тем временем Коптилкин написал бумагу, где перечислил все факты нарушений в налоговой полиции, и отправил ее начальнику Управления Федеральной службы налоговой полиции Закоулкину. Расчет прокурора был прост: передав письмо, долг он исполнит, а Закоулкин, друг Семеныча, и посему уложит письмо под самую большую стопку бумаг, какая только имеется в его кабинете.
Факсимильное письмо было действительно пренеприятное, потому что прокурор попросил принять меры к устранению нарушений законности в деятельности отдела налоговой полиции маленького нефтяного городка, а самого Ворованя привлечь к дисциплинарной ответственности…
«Пустая формальность, никто ни о чем не узнает», – рассуждал прокурор. Как только письмо в виде блуждающих электронов утекло по проводам телефонной сети, Коптилкин позвонил Семенычу, успокоил, а вечером они встретились и в комнате отдыха, находившейся прямо в рабочем кабинете Коптилкина, выпили коньячку и поговорили о разных жизненных мелочах, о которых говорят добрые друзья. Но они не пили бы спокойно, если бы знали, что на том конце телефонной линии, как только из щели телефонного аппарата, перейдя из электронной в бумажную форму, выползло это самое письмо, оно было скопировано и припрятано до лучших времен человеком, которому Семеныч не очень-то нравился, человеком, о котором мы скоро узнаем…
СМЕНА ВЛАСТИ
«Для того, чтобы победить, не обязательно быть сильнее и праведнее, порой – достаточно отступить от правил…»
Первое же агитационное выступление Хамовского в газете маленького нефтяного города началось так: «Сегодня нет в городе постоянного и законного главы администрации…» Бабий в ответ опубликовал в том же номере газеты список десяти злостных неплательщиков квартплаты, в числе которых был назван и Хамовский.
Состоялась война рейтингов. В газете первым опубликовал результаты социологического опроса Хамовский и, согласно его результатам, за него готовы были проголосовать в два раза больше избирателей, чем за Бабия. Ответом Бабия стали результаты исследования, по которым за него собиралось проголосовать в четыре раза больше избирателей, чем за Хамовского.
В поддержку Бабия высказались почти все городские депутаты, в том числе и Кошельков. Поддержали Бабия коллективы учителей и воспитателей. В поддержку Хамовского высказались только Матушка и Мерзлая.
В ход пошли скандальные статьи, пошлые частушки и стишки, листовки и даже сказка…
СКАЗКА О МУРАВЕЙНИКЕ – 0
«С точки зрения вышестоящих лиц – одна Букашечка ничем не лучше другой»
Действующие лица:
Букашечка – обычный человек, замахнувшийся на место зажравшегося чиновника.
Матка – зажравшийся чиновник.
Муравейцы – жители города под названием Муравейник.
Другие – по мере надобности.
Здравствуй, дружок. Сегодня я расскажу тебе сказку о Муравейнике. Сказка эта страшная, но со счастливым концом.
Жил-был Муравейник на берегах черной, богатой рыбой реки под названием Нефтеяха, и обитали в нем муравейцы, жили худо-бедно, но на существование хватало. Руководила ими матка по имени Бабка. А сверху было еще начальство: большой окружной шаман и клуб любителей Себенефти. И жили все правители меж собой в мире и согласии. Да чего б не жить: муравейцы ведрами носили им всю рыбу из Нефтеяхи, а получали в оплату головы, хвосты да плавники. Есть можно, да жиру не скопишь.
Все было бы по-прежнему, но стала мельчать река, обводняться, то есть количество рыбы на ведро воды снижалось с каждым годом, и только старожилы вспоминали о великих былых уловах. Уныние пришло к муравейцам: как жить на худые рыбьи обрезки, которых становилось все меньше? Но тут нашелся среди них Букашечка и сказал: «Муравейцы, сколько можно отдавать всю рыбу и жить впроголодь? Пошлите меня к шаману, я отвоюю у него нашу рыбу!» Муравейцы поверили и выбрали Букашечку делегатом, даже Матка-Бабка доверилась, хотя и понимала – конкурент. Букашечка поехал к шаману и отвоевал часть рыбы для муравейцев…
Муравейцы, увидев, что теперь у них на столах не только плавники с головами, но и рыбье мясо, возликовали. Но не бесцельное ликование нужно было Букашечке. «Это я, это благодаря мне!» – крикнул он, а сытая Матка самоуверенно промолчала. Вот муравейцы и задумались: «Зачем нам Матка-Бабка, которая только себя кормит, а о нас не заботится, давайте поменяем ее на Букашечку-кормильца!» И собрались они на вече и выбрали активного голосистого взамен молчаливого…
***

Выборный спектакль был зрелищный и эмоциональный. Алик пребывал в раздвоенных чувствах. С одной стороны, он работал на Бабия, с другой стороны, его сердце было на стороне Хамовского. Он решил не вмешиваться, молча отсиживался на заседаниях штаба Бабия.
– Напиши про Хамовского что-нибудь, – говорил, глядя на Алика, Бабий. – Ведь он, пройдоха, отсиживался в теплой кабине, когда мы по колено в нефти пахали на промыслах, а теперь собрался на должность Главы.
Когда сердце не лежит, получаются казусы. Алик написал заметку «Коней на переправе не меняют», но ее тут же использовали помощники Хамовского и назвали Бабия – мерином. На Бабия работал и Кошмарин, редактор местного телевидения Лесник, но все тщетно. Впрочем, встречаясь с Бабием, Алик не мог отделаться от ощущения, что тот не рассчитывал на победу с самого начала. Уж слишком равнодушен и безынициативен он был, и слишком революционные настроения бытовали тогда в народе. Люди, невзирая на все благие предвыборные дела Бабия, готовы были голосовать против старого, за перемены.
Бабий сделал проезд в городских автобусах бесплатным, а люди были против него. Бабий начал строительство церкви и парка, а люди были против него. Бабий поднял зарплату, а люди были против него…
Время, видать, наступило такое, как смена зимы весною: как бы зима не задабривала и какими красотами не прельщала, все равно ее сменяет весна, и с этим не поспорить.
***
Перед выборами в предчувствии катастрофы за Бабием, как беспокойная свита за королем, бегали его приближенные с просьбой выкупить у них квартиры подороже, слышались слезные стенания:
– Вы-то в столицу округа уедете, вас губернатор заберет, а как мы?…
– Нас же в порошок, работы лишат, куда нам потом в этом городе?…
– Купите квартиру за деньги, которых хватило бы, чтобы приобрести в другом городе не хуже…
За бюджетный счет скупцов мало.
– Пусть новый мэр расхлебывает! – весело покрикивал Бабий, наверчивая на листах распоряжений свои подписи.
Никто из счастливцев не был зарегистрирован в Книге учета заявлений по продаже квартир, где ожидали очереди сотни человек. Недостаток денег в городском бюджете на медикаменты, школьные обеды, заработную плату не повлиял на решение Бабия.
***
Когда Хамовский пригласил Алика к себе в кабинет, где еще недавно сидел Бабий, и показал документы о продаже квартир, внутри Алика поднялась мощная волна воодушевления от предчувствия, с каким настроением встретят данную весть читатели.
– А цены, цены-то посмотрите какие! – взволнованно говорил Алик. – За какие заслуги такое внимание к работникам администрации? Видимо, были…
– Приоритеты расставлены, – ответил Хамовский. – Кто сколько наработал – видно по цифрам стоимости квартир. Возьмешься статью написать?
– Вы еще спрашиваете, – удивился Алик. – Конечно…
Новый мэр задал этот вопрос не случайно, он испытывал подозрение ко всем, кто работал в команде Бабия, и проверял…
***
Умоподжигательная статья «Эвакуация с прихватизацией» вышла. «Детей кормили!» – ответила в газете госпожа Дайналап, еще работавшая председателем Комитета финансов маленького нефтяного города и тоже продавшая квартиру. «Живут и ныне там…» – ответил Алик в следующем номере. Купленные у чиновников квартиры были распределены самим Бабием пожарным и учителям. Алик встретился с одной из учительниц, которая должна была уже жить в квартире Дайналап, и с удовольствием опубликовал ответ «новосела»:
– Я увидела свет в окнах распределенной мне квартиры и зашла проверить. Оказалось, там живут прежние хозяева и, несмотря на то, что квартира продана администрации, выселяться пока не собираются. Вот так продажа! И деньги взяли хорошие, и выселяться не торопятся…
С этого момента Алик стал вхож в кабинет Хамовского, хорошо его узнал, что впоследствии позволило ему сделать вывод, что «Знание некоторых вещей старит до времени».
Хамовский был хамом и грубияном, нецензурно выражался, имея страсть к популярному слову из трех букв, которое он склонял по всем падежам, но страстно желал стать писателем и сойтись с элитой высшего общества России. Он вынужденно общался с творчески одаренными людьми, хотя после расставания с ними, когда оставался в одиночестве, негодующе хрипел: «Интеллигенты хреновы». Конечно, звучало не «хреновы», а гораздо худшее выражение, но мы не будем переступать норм морали в нашем повествовании. При этом надо отметить, что Хамовский никогда не стеснялся сказать вышеприведенную фразу в лицо собеседнику, и надо отметить, что многие творчески одаренные люди маленького нефтяного города принимали такое обращение как должное и даже внимательно всматривались в глаза мэру, доказывая преданность, а иногда и, раскланиваясь и напряженно улыбаясь, отступали к двери…
Алик тоже старался не замечать эти слова, иначе надо реагировать, оскорбиться и разругаться. Ругаться с Хамовским в его планы не входило. Он научился слушать Хамовского так, что когда звучало нехорошее слово, ни одно из которых в нашем скромном повествовании мы упоминать не будем, то он его слышал наоборот, как в этом разговоре по душам:
– Ьдялб, вот последний прием по личным вопросам, – рассказывал Алику перевозбужденный Хамовский, как хорошему другу. – Народу было немножко – человек десять. Из них восемь – женщины, ьдялб, без мужей. Ну, тут бабы, которые со мной тут принимали, сидят уже тюеух. Они уже, ну, балдеют. Например, одна ьдялб заходит. Я спрашиваю: «Семейное положение?». Она: «Не замужем». Я спрашиваю: «Ребенок?» Она: «Два». Проблема. Я понимаю, что с двумя ей трудно. Она их наделала и без работы. Здесь ей работы на йух нет. А она к нам: «Думайте сами за меня». Ну, как же? Вопрос. Это не так себе йух!
– Сложная ситуация, – согласился Алик.
– Бе твою мать, основная часть проблемы ведь в чем заключается, – продолжил мэр. – Ьдялб, пенсионеров много и их число растет, к сожалению. Очень много женщин без мужей, сходятся, расходятся, не думая о будущем. И вот: материальная помощь, жилье, благоустройство. А это нагрузка для города, принцип которого – рабочий город, созданный для добычи нефти, а не для того, чтобы льготников плодить…
Хамовский был хамом не от рождения, его испортило воспитание, но он стремился в интеллигентное общество, потому как все вопросы решают именно «интеллигенты хреновы». Это бесило Хамовского, но поделать с таким мировым укладом он ничего не мог. Он стремился ограничить грубиянский набор, но некоторые фразы летели с языка сами собой.
«Иди на йух!» – так обычно говорил он, если ему кто-то не нравился.
«Икадум, дураки!» – это ласковое.
«Это тебе не так себе йух», – это о сложном вопросе.
***
Эти странные взаимоотношения шли на пользу Алику. Выслушивая ущербные монологи, он брал как бы лицензию на спокойную работу в редакции маленького нефтяного города. Статья про квартиры добавила ему популярности среди читателей, популярности, заработанной на других разоблачительных материалах, но Алик еще ничего не знал о налоговой полиции, которая работала в маленьком нефтяном городе, как говорится, в двух шагах…
КАДРИЛЬ, НО НЕ ТАНЕЦ
«Нет лучшей страховки, чем родственные связи»
Воровань подбирал кадры, как трусы, чтобы не жали, не терли и не болтались. Прапорщиком в налоговой полиции работала дочь судьи Краплевко, неопределенных лет женщины с мрачным обликом, но странно задиристыми глазами. С момента трудоустройства дочки она помогала Семенычу выигрывать судебные тяжбы.
Для укрепления служебных позиций Семеныч принял на работу родственника самого директора Департамента налоговой полиции Российской Федерации. Уж как этот родственник очутился в небольшом нефтяном городке на Крайнем Севере Сибири, вдали от Москвы, сказать сложно, но как-то он пришел к Семенычу в кабинет. Выглядел он солидно и грузно, однако казалось, что если не сейчас же, то уж через минуту обязательно поклонится собеседнику. Попросил, как в магазине сметану иль хлеб:
– Хочу у вас работать.
– Не надо кланяться! – изумился Семеныч. – Кто ты такой?
– Работаю в транспортном предприятии…
– Так какого лешего к нам?
– Моя фамилия Кабановский. Я родственник вашего московского начальника: генерал-лейтенанта.
– А не врешь?
– Проверьте. Вот паспорт.
Воровань внимательно посмотрел на просителя. При тех махинациях, которые он проворачивал, такой человек был нужен. Мало ли что. Но что-то староват…
– Сколько тебе лет? – поинтересовался Семеныч.
– Сорок семь.
– Да-а-а. В таком возрасте в органы не принимают, было бы до тридцати лет. Сейчас только восстановиться. У нас такие, как ты, папаша, на пенсию уходят, да и чем ты можешь помочь?
– Вопросики могу порешать на самом верху. Мне не откажут во встрече…
– Что ж, для родственника столь высокопоставленной особы сделаем исключение, только не кланяйтесь, – глубокомысленно промолвил Воровань.
Через некоторое время Кабановский-старший попросил принять на работу своего сына Кабановского-младшего. Семеныч понимал, что это перебор, что ему хватило бы и одного представителя этой нужной фамилии, но отказать не смог, поскольку обидел бы старшего и те вопросики, которые можно порешать на самом верху, могли зависнуть. Он попробовал брыкнуться:
– Может не получиться, у нас штат полностью укомплектован.
– Постарайтесь, пожалуйста, Анатолий Семенович. Это же сынуля…
Пришлось Семенычу звонить своему другу и ближайшему начальнику, Закоулкину и просить того выделить дополнительную штатную единицу. Разговор получился непростой, но, узнав, что место готовится под родственника Кабановского, Закоулкин согласился.
– Еще один Кабановский объявится, убью, – сказал Семеныч, оставшись в одиночестве. Но, честно говоря, он с радостью убил бы и имеющихся обоих, представилась бы возможность.
ДУРАК
«Как солнце за горизонтом не разглядишь, так и чужой ум за гранью понимания»
Кабановский-младший оказался большой проблемой для Семеныча. Никакого генеральского родственного шика, лишь мелковоровские замашки, на которые брезгливо смотрели даже сотрудники налоговой полиции маленького затерянного в тайге нефтяного городка. Младший совершил достаточно проступков, за которые его можно было несколько раз уволить, но Семеныч смотрел на них сквозь весомые шрифты букв значимой фамилии и не реагировал до поры до времени.

Мелкую кражу датчиков пожарной сигнализации из туалета налоговой полиции Кабановский-младший совершил во время ночного дежурства. Благодаря суровому запору он долго смотрел на них, сидя на унитазе, и размышлял: «На кой они здесь нужны, где вода журчит из всех щелей. Керамика не горит. Дома бы их поставить». Он задумался, как их можно применить, и в момент наивысшего напряжения осенило: на своей машине. Открутить датчики не составило труда…
Семеныч долго и импульсивно смеялся, похрюкивая на пиках веселья, но обязал виновника написать по этому поводу рапорт. Кабановский-младший изобразил:
«Обязуюсь отремонтировать датчики. Впредь имущество налоговой полиции портить не буду».
Семеныч вызвал отца:
– Твой сынок с головой не дружит? Нужны датчики – пусть идет на базар, предприниматели ему их сколь угодно привезут. Там тихо, а тут все на учете. Ты смотри, что он пишет: мол, извините, больше не буду. Детский сад.
– Молодой еще, Анатолий Семенович, не судите строго. Учится парень. У него мозги хорошо настроены. Поймет.
– Ты постарайся. Объясни ему, что налоговый полицейский должен уважать честь мундира и не тырить копеечное оборудование… Расскажи ему, как все делается…
Дома отец разговаривал с сыном.
– Сынок, у тебя в руках доброе ремесло. Если тебе что-то надо, что продается за деньги, ты сразу требуй с предпринимателей.
– Просить их что ли? Дайте мне денег?…
– Нет, так может вести разговоры только начальство. Мы должны обстряпывать умнее. Берешь какого-нибудь кавказца, который все равно жаловаться не будет, потому что запуган, и заводишь на него административное дело.
– За что?
– Какая разница? Найди любой предлог. Ценник не так оформлен или руки у продавца грязные. Они все равно до того загорелые, что не поймешь, где грязь, а где кожа. Сам знаешь, их черными называют.
– А дальше как?
– Дальше ничего делать не придется. Они сами предложат все, что надо. Но только ради бога липовые документы потом порви и выброси…
Кабановский-младший выслушал отца, но просьбу «потом порвать» воспринял в слишком отдаленном смысле. Его опять поймали, на этот раз с материалами на невинных людей, хотя среди предпринимателей в то время таковых было мало. Все понимали: в таком государстве будешь честно работать, разоришься, но нет факта – нет преступления. Народ стал жаловаться в прокуратуру, Коптилкин при всем его желании не смог найти способа, как защитить налоговую полицию, и полетели отказные решения на дела, заведенные Кабановским-младшим. Семеныч опять вызвал отца.
– Что он у тебя, дурак?! – ядовито спросил он. – Наши дела обжалуют – это же пятно на репутацию!
– Нет, Анатолий Семенович, парень умница, но первый блин комом, сами знаете, – успокаивающе произнес Кабановский-старший.
– Это второй прокол, – напомнил Семеныч.
– И на старуху бывает проруха. Вы тоже не без греха, сидели, – в свою очередь напомнил Кабановский-старший.
– Ладно, забудем, но постарайся, чтобы такого больше не было, – свернул разговор Семеныч, недовольный, что ему напомнили о прошлом.
«Надо от них избавиться при первой возможности. Один слишком разговорчивый. Смотри-ка, мне шпильки вставляет. Другой – тупой, как задница», – подумал он. Но это был не последний диалог такого рода, потому что Кабановский-младший продолжил вершить нелепости.
За границей он приобрел подержанную иностранную машину, въезжая на территорию своего родного государства, объяснил таможенникам, что он свой, тоже служитель закона и к тому же родственник самого начальника налоговой полиции, сослался на отсутствие денег и пообещал оплатить таможенные сборы потом. Его пропустили, а Кабановский-младший и забыл про таможню, катался, думая, что все обойдется. Дело обернулось судом и исполнительным листом. Обладатель весомой фамилии пересудился со всеми судебными приставами, доказывая, что он хороший, пока не вышел срок давности его проступку и штраф сам собой перестал существовать…
В момент, когда Кабановский-младший вел судебные тяжбы, Семеныч сильно переживал от излишнего внимания, привлеченного к его организации, и опять вызвал отца.
– Вынужден объявить твоему хотя бы выговор, – строго сказал он.
– Анатолий Семенович, мне, как отцу, это очень тяжело слышать, – укоризненно произнес Кабановский-старший.
– Себя вини, твое воспитание. Ничего не могу поделать, подчиненные смотрят на твоего, не стараются, дезорганизуются, дисциплина нулевая. Некоторые рвут и мечут…
От сотрудников службы безопасности налоговой полиции почтовыми голубями полетели рапорта на Кабановского-младшего окружному высшему руководству, минуя Семеныча. Они ложились на стол Закоулкину, рассчитывая на взаимность, но тут же переправлялись в корзину для бумаг. И как-то Семенычу нежданно влетело от начальства из еще более высокого Управления. Он поднял трубку и услышал знакомый, вызывающий дрожь голос:
– Что-то твои орлы слишком рьяно клюют не ту падаль. Ты забыл, кто такой Кабановский? Хочешь нам и себе жизнь испортить? Никаких служебных проверок в отношении него впредь не проводить. Не трогать, учитывая связи.
Короткие гудки возвестили Семенычу, что ответ не нужен. С этого момента он принялся хвалить Кабановского-младшего на планерках, и тот вообще перестал работать, а когда получил письменное извинение из Управления «по фактам предвзятого отношения» и получил повышение в должности, то вообще перестал ходить на работу, а если и появлялся, то мечтательно гулял по коридорам налоговой полиции, словно по воскресному бульвару…
Но однажды все изменилось. Седовласый, но еще довольно крепкий военком Ботов зашел по делам в налоговую полицию и лицом к лицу встретился с Кабановским-младшим, который шел мимо и поигрывал пистолетом. После этого Ботов забежал к Семенычу и с изумлением вопросил:
– Толя, ты в своем уме?!
– А что случилось? – испугался Семеныч.
– Сейчас в вашем коридоре встретил одного дурака с оружием, которого из-за неполадок в психике даже в армию не взяли, – объяснил Ботов. – Дай бог фамилию вспомню. Честновский кажется…
– Таких не держим, – твердо ответил Семеныч.
– Только что видел, – заверил Ботов. – Он и застрелить может, и ему ничего не будет. Ну форменный же дурак. Вспомнил – Кабановский.
– Кабановский?! – удивленно переспросил Семеныч.
– Иду, а он с оружием навстречу, – продолжил рассказ Ботов. – Думаю: все, кранты. Сейчас шарахнет. Мысленно уж с женой попрощался, посожалел, что не успел дожить до очередного призыва, когда, сам знаешь, деньжат за отсрочку родители несут…
– Ты не ошибаешься? – перебил Семеныч с надеждой на то, что Ботов не ошибается.
– Какое там! – отмахнулся Ботов. – Мы ж его из-за недуга мозгов от армии освободили, а он у тебя окопался. Получается, что для армии нездоров, а для полиции годен…
– Пиши письмо, будем рассматривать, – ответил Семеныч, посчитав, что руками военкома убрать лишнего Кабановского из налоговой полиции будет куда надежнее: и отец останется без претензий, и сверху ничего не скажут…
Военком ушел, запалив у сердца Семеныча огонек шаловливой радости. Едва дверь захлопнулась, как он встал в стойку боксера и принялся наносить удары по невидимому для постороннего, но ясно видимого Семенычу противнику – Кабановскому-младшему или даже двум – обоим Кабановским. Умозрительные Кабановские защищались плохо и вскоре скрючились от болей на полу. Семеныч плюнул на каждого из них и задумался: «Вот так номер! Я-то думаю, почему он не может выучить и сдать правила пользования оружием. Несложная инструкция и такие проблемы, а он, оказывается, дурак. Вот и датчики в туалете воровал. Ой, дурак!!! А ведь меня могут наказать, если выяснится, что дурака-то не приметил. И не поможет, что фамилия у дурака – Кабановский». Семеныч взял чистый лист бумаги, ручку и застрочил характеристику на Кабановского-младшего, чтобы всегда лежала под рукой, и ее можно было мигом вложить в личное дело:
«За время службы зарекомендовал себя как безынициативный, ленивый, недисциплинированный работник. Уклоняется от исполнения задач. Имеет самые низкие показатели служебной деятельности…»
Этого показалось мало. Семеныч понимал, что зажимать Кабановских надо с разных сторон, как в тисочках, да что в тисочках – чем больше стальных давящих губок – тем лучше. Требовались специалисты по добыче новых данных и толкованию всех известных положительных фактов исключительно в отрицательные, в пользу обвинения, то есть следователи. А если подключать к делу милицию, то кого, как не Хмыря, в свое время чуть не посадившего за тюремную решетку самого Семеныча…
– Слушай, Хмырь, мы с тобой, в принципе, на одно дело работаем, – произнес Семеныч при встрече. – Ты меня садил без вины, я не в обиде, но долг платежом красен. Помоги. Не афишируя, прощупай у Кабановского-старшего диплом, кажется, он фальшивый, а то этот Кабановский обнаглел: просит дать ему звание лейтенанта налоговой полиции.
– Хорошо, Анатолий Семенович, помогу, но и вы если что…
– Не сомневайся…
Хмырь вызвал Кабановского-старшего на прием в свою маленькую прокуренную служебную комнатушку. Разговор был долгий, но весь он состоял из двух по-разному заданных вопросов и одного по смыслу ответа.
– Почему раньше диплом не предъявлял? – угрюмо допытывался Хмырь. – Почему он всплыл только в налоговой?
– У простых работяг зарплата была больше, – спокойно отбивался Кабановский-старший. – Помните, как при социализме? В полиции же диплом необходим – зарплата там зависит от звездочек, а звездочки от образования…
Сказано – проверено. Хмырь направил запрос в московский автодорожный институт, каковой значился в дипломе Кабановского-старшего. Ответ пришел скоро: «студентом не состоял, диплом не выдавался». «В Москве в переходе метрополитена купил», – догадался Хмырь…
Есть много вещей и живых организмов, которые нежелательно трогать, например, музейные экспонаты или клопы-вонючки. Что делать с московско-хмыревской информацией, Семеныч не знал, идея пришла внезапно, когда кончилась туалетная бумага и он вынужденно второпях мял газетную и на ее затертых изгибах прочитал одну известную в маленьком нефтяном городе фамилию. После этого Семеныч опять встретился с Хмырем и попросил:
– Мне светиться нельзя. Пригласи к себе корреспондента, Алика. Он любит скандальчики, как гиена падаль. Расскажи ему о деле с подложным дипломом. Пусть напишет статейку.
Хмырь почувствовал, что Семеныч не случайно выбрал роль незаметного суфлера, предлагая ему сыграть спектакль одного актера: значит, за нападки на этого человека, Кабановского, никто спасибо не скажет, а может, и наоборот. Хищник жив и сыт, когда осторожен. Хмырь пригласил к себе Алика и только приготовился рассказать о нехорошем человеке, купившем в московских подземных переходах диплом, как корреспондент вытащил из сумочки диктофон.
– Диктофон не нужен, – мгновенно отреагировал похолодевший Хмырь.
– Вы же хотели рассказать что-то интересное, – напомнил Алик.
– Я расскажу. Вы послушайте, а потом определимся с записью.
Хмырь рассказал все, что ему известно о Кабановском-старшем, показал ксерокопии диплома и переписки с Москвой и, откинувшись на спинку стула, стал ждать реакции Алика.
– Материал интересный, но попахивает расправой над одним человеком, – прямо сказал Алик.
– Но разве такие люди могут служить в органах? – возмущенно спросил Хмырь.
Какие люди порой служат в органах, Алик прекрасно знал, но промолчал. Он сильно удивился, узнав, что один его хороший милицейский знакомый, кадровый офицер, страстно любивший музыку и казавшийся приятным исключением из своей силовой братии, выжигал показания из задержанного мужика паяльником. Было заведено уголовное дело, но, как часто бывает, закончилось оно безрезультатно. Теперь Алик не удивлялся, не верил никому и откровенничать с Хмырем не собирался:
– Человек недостойный, что и говорить, – компромиссно согласился он. – Давайте снимем копии с документов, вы немного наговорите на диктофон, и я пойду.
– Нет. Я не хотел бы давать интервью и копии документов тоже, но вы можете осмотреть материалы и убедиться в их подлинности. Вы же хороший журналист, я всегда вас читаю…
Иногда надо не просто слушать, а понимать скрытый подтекст, причину и цель сказанного. И лучше это делать всегда. Алику предлагали взять на себя риск остаться крайним. Ведь если дело дойдет до суда, то предъявлять доказательства придется ему, а как поведет себя этот Хмырь, которого он видел в первый раз, Алик не знал.
– Что ж, давайте я сделаю выписки, – ответил Алик, решив не связываться с этим делом, но зафиксировать информацию на всякий случай…
Семеныч с Хмырем долго ждали выхода статьи о Кабановском, но вышла другая…
***
Никто не вечен, а некоторые и того менее. Когда генерал-лейтенанта Кабановского сняли с должности начальника Департамента, его родственники в далеком от Москвы маленьком нефтяном городе сразу почувствовали…
***
Прошлого не вернуть, как бы слезы не просились, как бы сердце не рвалось. Воспоминания о прекрасных людях, окружавших нас когда-то, не воскресят их, и не только потому, что некоторые из них умерли, а потому, что с возрастом мы понимаем людей все лучше и лучше и вдруг осознаем, что люди, казавшиеся прекрасными вчера, не такие уж прекрасные, или начинаем разбираться в не очень приятных тонкостях создания прекрасного облика, но таково свойство памяти – воскрешать и звать. Воспоминания, воспоминания…
В прошлом ежедневно теряется по частичке сердца, нельзя пройти путь, не истратив сил. Кто-то от дикой ностальгии уходит из жизни, кто-то – из разума. «От грустных мыслей не спрятаться. Если молодые умирают иногда, то старики – всегда. С каждым прожитым днем в каждом отдельно взятом теле остается все меньше молодости, прибавляется больше признаков старости, и начинается все с младенчества. Об этом стараются забыть, но иногда вспоминают. Стоит ли укорачивать и без того недолгие дни?» – размышлял Алик, потрясенный смертью одного из журналистов газеты маленького нефтяного городка.
АЛКОГОЛИКИ
«Как лыжам, так и таланту нужна смазка»

История газеты маленького нефтяного города знала двух алкоголиков. Мерзлая, редакторша газеты, и Петровна относились к ним с почитанием. Одного звали Тщеслав, и иногда в нем возникало что-то светлое, наподобие лучей солнца, пробивающихся через тонкую ткань ушей.
– Девчонки, вы знаете, как надо худеть?! – произносил он, похожий после двухнедельного запоя на живой скелет. – Пейте водку и запивайте ее водой, – и больше ничего!
Такова была манера работы Тщеслава: три месяца труда, а потом полмесяца пьяных прогулов. После этого он возвращался, словно потрепанный в любовных схватках кот, и, улыбаясь, произносил указанную выше фразу. Человек он был веселый, глазки так и сияли в женском коллективе редакции, и, зная, как унять упреки относительно прогулов, произносил:
– Галочка, давай я тебя обниму!
Мало того, что Тщеслав произносил такое пожелание, он еще и направлялся к Галочке, и весь его вид излучал серьезное намерение осуществить то, что он затеял.
– Только попробуй! Ишь ты! – игриво отвечала замужняя Галочка, слегка отбиваясь, но в принципе она была не против.
– Мужчина без женщины глупеет, женщина – дурнеет, – сказал Тщеслав, продолжая заигрывать с Галочкой. – Мне без женщины никак нельзя.
– Я-то тут при чем? – спрашивала Галочка. – Он один, а я виновата!?
Она обращалась к другим редакционным женщинам, ища поддержки, а все смешливо на них поглядывали, та же Петровна и Мерзлая.
По образованию Тщеслав был военный репортер, отличник, милицию не любил на уровне животных инстинктов и говорил об этом открыто, и как-то ему представилась возможность…
Двое милиционеров из соседнего поселка, с оружием, смертельно пьяные, решили проехаться на машине, попали в аварию и очутились в больнице маленького нефтяного города. Тщеслав, как узнал, прибежал в редакцию и, вместо того чтобы как обычно пошутить, начал оживленно рассказывать о происшедшем, а в конце предложил:
– Ах, суки! Считают, что им все дозволено. Берусь. Напишу расследование.
– Я не против, – ответила Мерзлая.
Тщеслав обратился в милицию, больницу, но наткнулся на служебную тайну и клятву Гиппократа.
Клятва Гиппократа ислужебная тайна для журналистов маленького нефтяного города всегда возникали, когда организации не хотели разглашать неудобную информацию, и никогда не возникали, если разгласить информацию приказывало руководство. Все клятвы относительны, ими удобно прикрываться, их можно забыть…
«Что делать? – искал выход Тщеслав. – Как доказать, что менты были пьяные? Другого пути нет, как сослаться на данные компетентного источника, который я не могу назвать. Конечно, информатора не существует, но они были действительно пьяны. Менты подумают, что их кто-то выдал, и подавать в суд не будут. Сто процентов…»
Детали прояснились после командировки в поселок, где интервьюируемые оказались более словоохотливыми, а на таких людях и держится журналистика. Оказалось, что машина с пьяными ментами врезалась в стоявший на обочине автомобиль.
«Как мог Александр Поручиков в милицейской форме, да еще при оружии (то, что у него нашли пистолет, в один голос утверждают медработники, но напрочь отвергают сами «блюстители» порядка), сесть за стол и выпить, скажем прямо, солидную дозу спиртного? Вот вам и хваленая честь мундира. Позволю предположить, что это не первый случай совместного застолья, просто до этого они заканчивались благополучно, а если кто и замечал, то спускал «на тормозах», – это была первая и последняя критическая фраза Тщеслава в газете маленького нефтяного города, опубликованная в его единственном расследовании «Долг».
После опубликования «Долга» через весьма короткое время Тщеслав опять ушел в запой и вернулся в редакцию не только похудевшим, как обычно, но и посиневшим от побоев. Где его так сильно отработали, он подробно не рассказывал, но грешил на милицию. Правда это или неправда – судить сложно, но после этого случая Тщеслав стал писать только хорошие материалы, в которых хвалил администрацию города, или сочинял легенды о людях, которые порой достойны были разве что хорошего пинка под зад. В конце концов он умер во время одного из запоев.
***
Другой алкоголик со странной фамилией Лучина не писал расследования. Он был умудренный жизнью мужчина и не искал проблем. В отличие от Тщеслава он приехал в маленький нефтяной город не на пустое место с одной лишь зарплатой, а на готовую квартиру, подаренную городской администрацией. Он писал в газету красивые байки и политические материалы, призванные обработать население. Его источниками были высшие чиновники города. Он добротно рисовал их мысли, а в награду мог спокойно уходить в пьяные загулы.
– Алик, пятьдесят рублей до зарплаты не займешь? – спрашивал Лучина пару раз, и это была единственная мудрость, которую Алик от него слышал.
ДЕВУШКА И СМЕРТЬ
«Чем дольше живешь, тем ближе к смерти»,

– прочитал Алик на стене морга маленького нефтяного городка, куда зашел со всем коллективом редакции, чтобы проститься с Тщеславом. Впечатление от осунувшегося воскового лица, безжизненного тела коллеги, лежащего в узком ложе гроба, было удручающим. Сладковатый запах смерти душил. Алик старался соблюсти формальности и поскорее выйти наружу. Он не любил находиться рядом с мертвыми, даже родными или близкими знакомыми. Он обычно мысленно прощался с их душами и даже оплакивал в одиночестве и тишине и считал, что этого вполне достаточно, что поклонение перед телом сродни идолопоклонству. Алик уже направлялся к выходу, как у него на пути возникла худенькая стройная молодая женщина довольно приятной наружности. Она была в форменном медицинском халате, не оставлявшим вариантов, как принять ее за сотрудницу морга. Алик, изумленный замеченным им диссонансом между жизнью и смертью, заинтересовался.
– Вы здесь работаете? – осторожно спросил он для завязки разговора, понимая, что спрашивает глупость, поскольку ответ был очевиден.
– Да, – наэлектризовано ответила женщина.
– Хотелось бы встретиться с вами и написать статейку о морге, – предложил он.
Женщина не отказалась.
***
Лена в морг попала случайно – по объявлению в газете. Когда тебе девятнадцать лет, ты волен быть легкомысленным. Ей почему-то думалось, что, как на вредной и особо пугающей работе, в морге хорошо платят.
Первое знакомство с покойником она запомнила навсегда. Произошло оно на второй день работы, когда в морг привезли женщину, зарезанную собственным мужем. Лена, полностью экипированная, в перчатках, фартуке, косынке, маске, все вскрытие простояла рядом, следя за действиями наставницы. Комок подкатывал к горлу…
Наставница, ловко орудуя скальпелем, провела разрез по затылку покойной от уха до уха и, как чулок, сняла скальп, оголив череп. Подпилила его нижнюю часть и с помощью зубила проделала в нем отверстие. Вынула мозги. Они оказались серые с извилинами, – с холодно отметила Лена. Обильно хлынула кровь, зато стали исчезать синюшные пятна на лице. Кровь потекла еще сильнее после того, как наставница взрезала тело от лобка до горла. В этот момент одной из ее ассистенток, тоже новичку, стало плохо, и та выскочила из зала, Лена осталась…
«Милая, не волнуйся. Происходящее – обычная работа. Лежит неодушевленный предмет, вроде дивана или сковородки, только на вид схожий с человеческим телом», – мысленно говорила она себе, словно молилась. Наставница тем временем оголила ребра покойницы, не торопясь, вырезала грудную клетку по хрящам и вытащила внутренности, начиная от языка и кончая кишками. Дальнейшие процедуры для Лены проплыли, как во сне: осмотр, взвешивание, сбор образцов для анализа… После первой получки решила найти работу лучше, но пообещали квартиру. Лена задержалась в морге…
Страх перед мертвыми она преодолела. Появилась уверенность. Под первое самостоятельное вскрытие ей попала погибшая в автокатастрофе семья: муж, жена и двое детей… Она положила рядом с собой скальпель, ампутационные ножи, пилу… и начала…
– Почти каждый покойный подвергается исследованию, независимо от желания родственников, – объясняла Лене наставница. – Надо выяснить: была ли смерть естественной. Повреждения внутренних органов указывают точно на причину смерти, в отличие от обманчивой внешности. При обследовании висельника могут обнаружиться на шее кровоизлияния в форме ладоней…
– Чтобы разрезы и распилы были незаметны на покойных перед похоронами, приходится мастерски трудиться – говорила наставница. – Разрез вдоль туловища не доводи до подбородка, как требуют инструкции, а заканчивай чуть ниже. Спил черепа делай на затылочной области. Швы накладывай тоньше. И не забывай, главное – лицо…
Неторопливые слова наставницы Лена проговаривала поначалу перед каждым вскрытием, а с лицами покойников намучилась. С трудом узнала у коллег рецепт специального бальзамирующего состава, шприцами стала вводить его под кожу, образовавшиеся шишки разминала руками… Иногда приходилось накладывать макияж, грим, подкрашивать и реставрировать внешность, брить и подстригать ногти…
Полностью отрешиться от покойницких суеверий не получилось. Нет-нет да одолевали фантазии. Особенно вечером, когда одна с покойным. Рядом с моргом – прачечная. Шумели трубы. И кажется, что грудь умершего движется – дышит покойный, что он вот-вот откроет глаза, вздохнет… Тогда Лена подходила к трупу и мысленно убеждала себя: «Он же мертвый, давно здесь лежит, холодный…» Как здесь не закуришь?
Она курила много не столько из-за нервного напряжения, а чтобы подавить ужасный запах, источаемый трупами. Бывало, зажигала вату. После работы быстрее домой и сразу – в душ.
Когда летом в морг маленького нефтяного города привозили уж очень гнилые трупы, то больные и врачи в расположенной рядом хирургии, несмотря на зной, закрывали все окна и форточки, прикрывали лица платочками, смоченными одеколонами и духами, и ругались. Смрад стоял неимоверный, и все из-за того, что в морге маленького нефтяного города не работал холодильник.
***
– Сейчас два невостребованных. Один – висельник, поступил еще в январе и по холодку подсох, мумифицировался. Другой скончался от черепно-мозговой травмы, поступил недавно и уже позеленел, – рассказывала Лена. – Запах такой, что стоит открыть дверцу неработающего холодильника – и словно волной сносит. Хочешь, открою?
– Нет, спасибо, – отказался Алик.
– Начинается лето, – продолжила Лена. – Опять мухи в морге разведутся и опарыша будет немерено. Кстати, работа опасная. Покойники несут в себе серьезные заболевания. Может и кровь брызнуть, и острый край кости перчатки порезать…
Морг – обитель горя. Чужие страдания рвутся в сердце. Не воспринимать – иначе долго не проработаешь. Алик понимал это и всматривался в Лену, стараясь понять: как она может?
– Воспоминания о прошлом кажутся нереальными, – все говорила Лена. – Каталки не было, и покойника из холодильника к столу тащила по полу. Голову на колено и – волоком. Иногда давали в помощь «пятнадцатисуточников». А как-то на вскрытие вызвали из-за праздничного стола. После этого я поняла, что значит настоящий ужас. Неконтролируемый страх душил, дрожью уходил в руки, ноги, мутил зрение, казалось, не совладать с паникой. Казалось. А однажды пришли пьяные мужики, хотели забрать покойного. Я показала им холодильник и попросила идти осторожнее. Те глянули вниз, а там вскрытое тело. Мужики, не раздумывая, кинулись в разные стороны. Один забежал в тупичок и давай биться в запертую дверь…
Алик слушал, а сам представлял, как если он умрет в этом маленьком нефтяном городе, то попадет к этой девушке на стол и она с ним сделает то же, что и остальными. Ему стало не по себе от этой мысли.
***
«Несколько лет Лена работает на территории смерти, но сама не разучилась жить. Она жизнерадостна, не очерствела душой, не разучилась сопереживать. Она провела четкую границу между домом и работой. Конечно, ее странная для молодой женщины профессия кого-то может насторожить. Что ж, даже ее родной брат долго не мог привыкнуть к такому выбору. А, может, ей и не важно стороннее одобрение? Дома ее ждет двухлетний малыш и любовь. А что еще нужно для счастья?» – так оптимистично завершил Алик очерк о странной сотруднице морга, но сам не верил в написанное: в то, что человек, молодая женщина, добровольно выбравшая профессию средь стен ужасных, страшных инструментов и трупов, добрая и сердечная. Он чувствовал, что в этой истории есть какая-то недосказанность, изюминка, нет, скорее – перчинка. Так и оказалось, но это выяснилось через несколько лет.
***
В середине января по маленькому нефтяному городу, словно буруны по спокойной поверхности озера, заскользили слухи об убийстве двух девушек, одна из которых незадолго до этого вернулась из Израиля. Убийство произошло в десять часов утра, когда квартиры рабочего города опустели. Преступников было двое. Оба – ранее судимые наркоманы. Один вооружен ножом, другой – обрезом малокалиберной винтовки. Собрали все ценности, имевшиеся в квартире, и ушли. Перед тем как кинуться в бега, переночевали последний раз в маленьком нефтяном городе, в квартире у знакомой. Этой знакомой оказалась Лена из морга…
***
«Ей нравится все отвратительное, и больше никаких секретов и никакого геройства и жертвенности перед обстоятельствами. Темное притягивает темное», – понял впоследствии Алик и вспомнил замечание знакомого, учившегося в Омском медицинском институте:
– Вход в столовую у нас располагался прямо напротив входа в анатомку. Душок, конечно, проскальзывал, но витал незаметно, поскольку перебивался запахом котлет, борщей и прочей простецкой студенческой пищи. Мы бы и забыли о страшном соседстве, если бы не работники анатомки. Они заходили в обеденный зал прямо в рабочих халатах, бородатые, хмурые и серые, и было в них что-то нечеловеческое, как будто они и сами умерли. Они покупали пирожки с мясом и ели их этими руками, которыми… После увиденного к пирожкам с мясом в этой столовой я больше не прикасался, хотя раньше день, прожитый без них, казался пустым, и все потому, что начал подумывать, будто не мясо в пирожках, а человечина…
***
«Чем больше ярких необычных людей окружает тебя, тем сильнее сам возгоришься», – такой вывод сделал как-то Алик. Очерк о странной работнице морга принес ему наибольший успех. За чрезмерный натурализм его ругали многие, но зато вспоминали этот очерк, в отличие от других газетных работ, и через многие годы. Вот так, продвигаясь от человека к человеку, от проблемы к проблеме, он и работал, не останавливаясь надолго ни на одной теме, срезая только приметные цветы на событийном лугу маленького нефтяного города, пока не столкнулся с Семенычем. Предвестником встречи стало очередное письмо в редакцию.
ПОДПОЛЬЕ
«По кругу бегают не столько в спорте, сколь в жизни»
Черти бы всех чиновников утащили в камеры пыток, и мир бы вздохнул свободнее. Не встречал хороших. Послушайте, как надо мной измывались.

Я давно ремонтировал машины втихую, но на широкий наплыв клиентуры по причине подпольности рассчитывать сложно. Решил легализоваться, чтобы вывеска светилась, приманивая железо-лаковых жуков. Первым делом обратился в налоговую инспекцию.
В нашем маленьком нефтяном городе инспекция располагается на первом этаже пятиэтажного дома, сами знаете. Вход в нее находился не со двора, а с тротуара, и ведут к нему ступеньки, имеющие такие острые углы, что если уж налогоплательщик упадет, то не поднимется. Я поднялся и, в отсутствии охраны, сразу прошел в длинный коридор с множеством закрытых дверей. Думал: «Все ж люди, помогут, подскажут». Открыл первую попавшуюся.
Кругом женщины и ничего. Щебечут между собой. На меня – ноль. Осторожно спрашиваю:
– Здравствуйте! Зарегистрироваться хочу, а для начала узнать: как и что?
– Закройте дверь, не мешайте работать. Мы проводим семинары, посещайте, там объяснят, – сказал один из затылков.
Кто конкретно сказал, я не понял. Предо мной были разные варианты: пышные каштановые волосы длиной до плеч, обесцвеченная короткая соломенная стрижка и простая стрижка под мальчика.
– Мне бы зарегистрироваться, – повторил просьбу я.
Ко мне повернулись.
– Ты еще здесь? – спросили каштановые волосы, под которыми оказались пухлые щечки и щедро подрисованные глаза. – Выпишите-ка ему штраф на два минимальных оклада за незаконное предпринимательство. Это для начала.
– Мне бы разрешение, – настойчиво повторил я, поскольку деваться-то некуда.
– Мужчина, вы всех утомили, а нам еще чай пить. С каким настроением мы по вашей милости будем печенье кусать? – гневно произнесла соломенная стрижка с худощавым лицом и с отчетливым украинским акцентом.
Она пугающе хищно воззрилась на меня, как волк на теленка, которому некуда бежать.
– Мне бы еще пару вопросиков, – просяще промычал я.
– Откровенно, мы и сами не знаем законов, пока не посмотрим, – заговорила со мной стрижка под мальчика с рассеянным взглядом, – а смотрим законы мы тогда, когда проверки проводим. Мы посажены не для того, чтобы голову памятью утомлять, а чтобы бюджет пополнять, а там прорва. Да еще вас, предпринимателей, как клопов. Сейчас посоветуем, а потом, когда штрафы пойдут, будете в нас пальцем грязным целить. Мол, вы же говорили… Так что ищите ответы сами, а сейчас платите штраф, потом получите разрешение на дальнейшую регистрацию и в добрый путь. Видеться будем часто. У нас тоже машины есть. Им ремонт нужен. Правда, девочки?
– Что-то засомневался я, что путь добрый, – сказал я, прикинув в уме, сколько народу работает в налоговой инспекции и сколько у них машин. – Многовато вас.
– Налоги платить надо, мужчина. Иначе, на какие шиши будет жить система, ладящая из вас то, что вы есть? На какие шиши будет жить система, собирающая налоги?
Второй моей инстанцией стала транспортная инспекция. Там в затрапезном кабинете, где свисали местами обои, как полуоторванная кора у дерева, за типичным канцелярским столом сидел худощавый мужчина с бородкой и что-то высматривал в бумагах.
– Здравствуйте, мне бы автомастерскую зарегистрировать, – сказал я осторожно, чтобы не испугать ненароком увлеченно работающего человека.
Мужчина посмотрел на меня, как моя жена обычно смотрит на муху, ползающую по кухонному столу. Я уже подумал: «Не дай Бог полотенцем шибанет», но взгляд у мужчины прояснился, будто проснулся, его рука потянулся к купе бумажек на краю стола, взяла одну и бросила мне, небрежно, словно корм бездомной собаке.
– Там перечислены все организации, где вам надо получить разрешение.
Я схватил бумагу на лету, как и полагалось верному псу, поблагодарил и вышел вон.
– И не забудьте принести копии трудовой книжки, диплома, подтверждающие вашу пригодность к ремеслу, – понеслось мне вслед.
А я уже читал:
1. санитарная станция
2. экология
3. архитектура
4. пожарка
Принцип совмещения приятного с полезным всегда удобен при прощупывании неизвестной почвы. Поэтому поиски санитарной станции я совместил с хозяйственной прогулкой по маленькому нефтяному городу. Нашел станцию. Продолговатое двухэтажное здание наподобие общежития. Две двери по краям. Куда заходить? На дальней двери висело объявление с расписанием работы. Поднимался к ней по ступенькам, сваренным из тонкой металлической решетки. Они ходили ходуном, словно болотные кочки, но меня не так просто утопить. Добрался до двери, дернул, не открылась. Надо в другую.
Зашел и опять оказался в длинном коридоре с множеством дверей, как в налоговой инспекции, но если в последней ремонт и красота, то у санитаров было неуютно и тараканно. Чувство опасности обострилось. Открылся большой кабинет. Людей много. Опять здороваюсь, все делаю, как полагается просителю.
Все заняты. Крепкий мужчина с пузцом и большим круглым лицом – главный, как я понял – разговаривал с кавказцем. Разговор интересный. Я его слышал правым ухом, которым привык моторы диагностировать.
***
– Как мои овощи прошли анализ? – еле подбирая русские слова, спросил кавказец, имевший землистый цвет лица.
– Содержание вредностей по всем показателям зашкаливает, – ответил главный. – Причем в десятки раз от нормы.
– Какие нормы, дорогой? – переспросил удивленный кавказец, слегка пританцовывая лезгинку от волнения. – Мы ж с вами обо всем договорились. Я ж вам и за вредности дал, и для хорошего настроения дал, и для детей дал.
– Это я говорю, чтобы вы знали, на что ради вас иду, – ответил главный, поджав в улыбке синюшные мешочки под глазами. – Вот разрешение, торгуйте. Народ съест. А кто хочет здоровеньким помереть, тот проварит свеклу вашу хорошенько да отвар выльет…
***
Вокруг главного молчаливо сидели женщины и чего-то ждали. Не вовремя – понял я – но где наша не пропадала.
– Извините, что отрываю. Мне нужно разрешение на открытие, – объяснил я и привлек к себе внимание.
Главный неприязненно посмотрел на меня, но не как на муху, а так, как смотрят мои клиенты на счет за ремонт.
– От вас нужна медицинская справка, что вы настолько здоровы, что можете крутить гайки в чужих машинах, – сообщил он, будто объяснил, почему не может заплатить. – Вы должны на рабочем месте установить умывальник, создать хорошее освещение. Мы приедем, проверим. Все это платно. Не забудьте про спецодежду…
Когда клиенты отказываются платить, я всегда ругаюсь.
– Какое вам дело до моего здоровья, гигиены, оснащенности, а спецодежда у меня может быть… костюм от Версаче, – само собой выскочило из моего рта, а сердце мое замерло от собственной дерзости.
Женщины, сидевшие вокруг главного, обомлели, переглянулись.
– Что? – переспросил главный. – Да мы тебя за такие слова…
– Извините, что-то сегодня со мной не то… – прервал главного я и выскочил из кабинета.
Действительно от хождений по лестницам что-то занервничал я. «С-с-с-спокойнее, с-с-с-с-спокойнее», – растягивая букву «с» на выдохе, успокаивал я сам себя, как учил в свое время модный специалист по аутотренингу, а сам шел в комитет по экологии. Я надеялся, что хоть там претензий не будет. Выбросов в атмосферу не делаю, кроме как когда гороховой каши откушаю, грязных сбросов в почву не планирую, опять же если в лесу не приспичит. Действительно, претензий не было, как не было и чиновника выдающего справки.
Я – в архитектуру. Там:
– Ваш гаражный комплекс еще строится, потому никаких справок не даем, теоретически гаража у вас нет.
– Но с меня берут плату за охрану, свет, предлагают заплатить налог с недвижимости.
– Пусть начальник вашего гаражного кооператива шевелится.
Я – в пожарную, а там преддверие праздника. Столпотворение возле таблички «Понченко, начальник пожарной части». Полная приемная народу с цветастыми коробками, серыми упаковками (сразу видно челобитные), а я с пустыми руками. Сидел долго. Тихие разговоры, а у меня слух от волнения сильнее обострился. Слышу справа:
– Раньше пожарные, работавшие на нефтяных месторождениях, получали молоко за вредность. Потом Поня сказал: не надо молока, лучше деньгами. Генерал согласился, и для рядовых не стало ни молока, ни денег.
Слышу слева:
– Что-то подарочек у нас дешевый: рюмочки на ножечках. Смотри, что у других. Как бы Поня не обиделся.
– А что можно на наши деньги? На канцелярию их списали, вроде как приобрели в контору пару пачек бумаги. Копейки…
Слышу справа:
– Даже по зданиям видно кто есть кто. Краснокирпичное здание пожарной охраны дорогого стоит.
– Поня как-то проводил соревнования. Позвонил мне, попросил денег на призы. Я сказал: деньгами помочь не могу, но несколько электрических чайников на призы дам. Поня согласился. Я пришел на награждение. Средь призов ни одного моего чайника…
Захожу. За дорогим канцелярским столом в окружении чайников, телевизоров, телефонов, чайных сервизов и коробок, перетянутых яркими лентами, сидел пухленький розовощекий коротышка. Я сразу понял – Понченко или, как говорили в приемной, Поня.
– Мне бы разрешение получить, что гараж пожаробезопасный.
– Мужчина, у нас канун важного праздника, Дня пожарной охраны, а вы тут с бытовухой. Подарок принесли?
– Нет.
– Секретаря ко мне! – прокричал Поня в селектор.
Вошла милая женщина в зеленом форменном.
– Я говорил, чтобы без подарка ко мне никого…
– Но у некоторых подарки такие маленькие…
– Распустились, как лопухи, мать вашу. Этого быстро за дверь. Я тут поздравления не успеваю принять, а он за справкой! Смотри внимательно на входящих, пусть показывают подношения. Других не пускай…
После ботинкообивательных неудач я потерял надежду на счастливое легальное предпринимательство. По-прежнему шепотом зазываю клиента из-за угла гаража и жду, когда же меня поймают соответствующие органы. Особо боюсь узаконенного рэкета налоговой полиции. Это же бандиты в форме и на государственной службе. Приведу несколько эпизодов пока без имен, но если это письмо послужит основанием для газетной статьи или возбуждения судебного дела, то будут приведены даты, имена и так далее.
***
Приходит упитанный работник налоговой полиции на рынок, величественно, не торопясь, рассматривает на прилавке овощи и фрукты и складывает понравившееся в сумку, само собой разумеется, бесплатно. Продавец молча глядит на всю эту картину, подсчитывая свои убытки, тоскует, но, как только в сумке налогового полицейского исчезает самая спелая и богатая гроздь бананов, возмущается:
– Хватит, хватит… бесплатно больше не дам! Купи хоть по закупочной цене.
– Ах так! – обижается налоговый полицейский. – Ладно.
Через короткое время на базар, тряся пустыми сумками, прибегают сотрудницы налоговой инспекции вместе с обиженным полицейским и выписывают этому продавцу денежный штраф неважно за что. И штрафы возникают регулярно. С той поры неудачливый продавец бегает за налоговыми полицейскими по всему городу, пытаясь задобрить их бананами и прочими фруктами. Макака бы ласковей стала, те – никак…
***
На одного предпринимателя наложили. И не просто, а по-крупному в виде большого штрафа. Но этот предприниматель чувствовал себя настолько уверенно или был настолько не искушен, что обратился в суд. Адвокатов кругом прорва, и все продаются, так чего бояться? Адвокат ознакомился с задачей и сказал:
– Дело решается в вашу пользу, но я не возьмусь за него, иначе мне придется поставить крест на карьере. Мы ж тоже налогоплательщики. Они ж меня потом…
Отчаянный предприниматель разыскал правозащитника в другом городе. Но суд-то из другого города по такому мелкому делу не закажешь. Заседание переносилось ровно столько раз, сколько было надо. Судьям нравилась их работа. Эта развлечение продолжалось до тех пор, пока все не завершилось полюбовно: предприниматель аннулировал заявление в суд, а за проявленное понимание с него сняли штраф.
***
Можно устроиться на работу и ждать зарплату с задержкой в полгода. Можно проедать бюджетные деньги на бирже труда, но сколько же можно быть быдлом и стоять на коленях перед чиновниками?
СТАТЬЯ
«По грани ходят не только скалолазы, но и авантюрные жители равнин»
Алик дочитал письмо предпринимателя и понял: это то, чего ему не хватало последнее время. Не хватало огня и пламени. Из природных стихий посредством хитроумных устройств человек научился добывать энергию. Алик был одновременно стихией и устройством для выработки собственной энергии. Он подпитывался жаром народных трений и сам иногда метал словесные молнии. Иначе говоря, человек он был скандальный и даже редакторше как-то сгоряча порекомендовал:
– Иди ты на…
Далее последовало неприличное сочетание из трех букв русского алфавита, обозначающее мужской половой орган. На такой эмоциональный выпад Алика, за который он сам себя корил, Мерзлая, нервно смеясь, ответила:
– Ты думаешь, что меня обидел. Как бы не так, мне даже приятно. Сходила бы и не один раз. Жаль, мало предлагают.
В общем, в редакции газеты маленького нефтяного городка Алик всегда висел на волоске от увольнения. «А если это произойдет, то что дальше? – иногда думал он. – А дальше можно будет рассчитывать только на свои силы, на то, что называется предприимчивость».
Предприимчивость на российской земле многогранна. Это хитрость, изворотливость, подчас полное пренебрежение всеми моральными нормами, способность пройти по грани закона, но вместе с тем это возможность выжить, жить – и порой очень хорошо. Говорить о кристальной честности и полной законопослушности в среде предпринимателей невозможно. Честность накладна. Средь блюстителей закона тоже работают обычные люди. Столкнулись две хитрости…
***
Просторный кабинет начальницы налоговой инспекции впечатлил. Алику показалось, что он вышел на улицу, поэтому на мгновенье по привычке он поискал глазами птиц и уже собирался оценить небеса насчет возможной непогоды, но вовремя прервал сии неуместные изыскания и пошел вперед. Черный мощный стол, телевизор, компьютер, телефоны, множество цветов и емкий аквариум с сытыми толстыми рыбками. И она, Вельможнова – упитанная кудрявая женщина с лицом, подретушированным пудрами, тональными кремами, тенями, и бегающими из стороны в сторону глазами, которые почему-то не могли остановиться на каком-то одном объекте, будь то посетитель или телевизор, и постоянно что-то искали. Она прочла письмо, вполне естественно, не обрадовалась ему и, сыто щурясь, защищала свое ведомство и ругала предпринимателей:
– Мы не можем консультировать людей, когда им захочется. Приемный день каждую неделю во вторник после обеда. При необходимости помогаем литературой. Проводим семинары, но приходят считанные единицы. Самообразование у предпринимателей не вызывает интереса…
Излагала Вельможнова быстро, точно и без сантиментов, как наемные рабочие сбрасывают лопатой землю на гроб, уложенный в свежую могилу. Она улыбалась, двигала головой и руками легко и непринужденно, но зрачки блестели, словно бы хорошо заточенные и обезжиренные острия новеньких гвоздей.
Алик слушал, кивал, избегая прямого схождения взглядов, чтобы не быть пробитым остриями гвоздей, блестевшими в глазах Вельможновой, записал ответ и ушел к следующему информатору. «Всяк, кто обидел налоговые органы, без проверки и штрафов не останется. Слишком велика и неограниченна власть у этих структур. Жаловаться, в принципе, некуда», – размышлял он по дороге к начальнику налоговой полиции Анатолию Ворованю. Офис этого ведомства находился на первом этаже старого двухэтажного дома. Обстановка бедненькая, и крепенький круглолицый Воровань сидел в своей комнатушечке, как крыса в мышеловке. В нем не было ничего зловещего. Милый, добрый дядечка с немного серым уставшим лицом. Он тоже ознакомился с письмом и наговорил на диктофон:
– При Главе города совместно с предпринимателями проходили совещания. Ни один предприниматель не сказал ничего плохого в наш адрес, претензии направлялись работникам милиции. У нас было несколько случаев, когда наши работники подозревались в злоупотреблении служебным положением. Я вызывал службу безопасности. Проведены расследования, опрошены десятки свидетелей. Факты не подтвердились, но все же, если горожанам известны случаи вымогательства со стороны работников налоговой полиции, прошу сообщить мне об этом. Виновные будут уволены.
Алик ушел с чувством исполненного долга, не зная, плакать ему или смеяться. Воровань хвалился тем, что никто из свидетелей не подтвердил злоупотребления налоговых полицейских! Да какая же овца будет жаловать волкам, что те задрали ее подружку или укусили саму? Свидетели сами тряслись от страха, как бы их самих штрафами не обложили.
«Решило раз овечье стадо избрать свой Думский комитет. Без депутатов скучно стало, да и порядка в стаде нет. Кого избрать? В среде собратьев достойных сложно отыскать. Ведь должно жизнь овечью знать им и страх на стадо нагонять. Избрали волка…», – такую басню Алик сочинил своей редакторше к выборам в городскую Думу, и он ее вспомнил, поскольку ситуация проявлялась схожая.
Овечьи свидетели интуитивно чувствуют бойню. С полицией шутки плохи. Но для написания статьи Алику остро не хватало личных наблюдений, явление существовало только в рамках теорий, рассказов. И бывает же такое: только задумаешь – исполняется.
***
В канун Восьмого марта Алик шел пружинящей походкой по улицам маленького нефтяного города и наговаривал пришедшие на ум стихи:
Все впереди – мы знаем это,
Точнее – чувствуем и ждем,
Покуда прошлые рассветы
В душе горят живым огнем.
И эта трепетная сила –
Кораблик на судьбы волнах,
Всего лишь память, но причина
Нетленной юности в глазах.
Наговаривал он их потому, что никак не мог понять, почему средь встречавшихся ему глаз, большинство было уставших, спокойных, равнодушных, но не было горящих, какие он видел как-то у молодой женщины, спускавшейся по лестнице в подземный переход с огромным букетом в руках. Он ее часто вспоминал и жалел, что не придумал повод подойти к ней и поговорить… Собственно Алик даже не понимал, почему сложились именно такие рифмованные строки, которые он повторял. На эту же тему можно высказаться бессчетное число раз и все по-разному. Он шел и придумывал новые варианты стиха и за этим совершенно глупым занятием приблизился к ступенькам в парфюмерный магазин «Штиль», где работала его знакомая директорша Серафима, у которой он собирался приобрести подарки женщинам, работавшим в редакции.
Имевшая округлые формы, но не толстая, шустрая и всегда улыбчивая Серафима от многотрудной подпольной торговли водкой и самогонкой во времена сухого закона выросла до полноправной хозяйки и директора и сблизилась с Аликом на почве составления рекламы для своего ароматизирующего и цивилизующего мелкоштучного товара вроде парфюмов. Алик с Серафимой в торговом зале неторопливо разговаривали, как звякнул маленький колокольчик и в двери зашли двое убойных налоговых полицейских. Серафима улыбнулась самому здоровенному, как близкому другу, и, попросив Алика подождать, удалилась со здоровяком в подсобку. Оттуда полицейский вышел с множеством разноцветных коробочек, покоившихся на руках, скрещенных на животе, и придавленных сверху его двойным подбородком. Серафима мило помогала нести ему то, что не уместилось в охапке. Их беседа была мелодичной и легкой, но только служивые исчезли под тихий звон колокольчика и хлопок входной двери, как лицо у директорши внезапно приобрело черты сильнейшей усталости, частично ответив Алику на его недавний вопрос относительно множества встречающихся безжизненных глаз. «Все запутались в мелочах, придавлены неопределенностью, напуганы беззащитностью», – решил Алик и подначил:
– Бойко у тебя торговля идет!
– Какая торговля? Забрал все самое лучшее, ходовое и, естественно, со значительной скидкой, – с тихой грустью пролепетала директорша и ехидно добавила. – Они же бедные.
– А что отдаешь?
– Не отдай! Так они завтра с проверкой нагрянут, а у меня и так долгов полно…
***
Когда сам не болен, кажется – все здоровы. Это молнии видны издалека, а, например, венерические болезни или СПИД скрытны, больные не рассказывают о них каждому встречному, и лишь по сообщениям узнаешь, что таковые существуют. Чтобы внести в статью последние, но самые главные фрагменты текста, отражающие народное возмущение, Алик отправился к герою, переболевшему встречами с чиновниками, написавшему скандальное письмо и обещавшему помочь.
Гараж, превращенный в автомастерскую, находился в сером грязном ряду других гаражей. Из приоткрытой двери изливался бледный поток света. Алик потянул тяжелую стальную дверь на себя. Открылось небольшое помещеньице, почти полностью занятое автомобилем. По узкому проходу между гаражной стеной, инструментальными стеллажами и лаковым кузовом Алик осторожно прошел боком, чтобы не запачкаться, и в дальнем углу гаража возле открытого капота разглядел трех настороженных мужчин, помеченных темными пятнами смазки. Свет исходил от маломощной настольной лампы, но его было достаточно Алику, чтобы понять: он не желанный гость, а большая помеха, вроде нахально ввалившегося в квартиру незнакомца.
– Здравствуйте, я из газеты. Ищу Юрия, написавшего в редакцию письмо. Он должен работать в этой автомастерской, – быстрее объяснил Алик, чтобы не получить гаечным ключом от настороженных.
– Я Юрий, – ответил один из мужчин, худощавый, молодой и в самой грязной робе.
– Надо переговорить. Отойдем в сторону, – попросил Алик.
Они встали у выхода из гаража, на границе вечерней тьмы, и Алик принялся за объяснения:
– Я работаю с вашим письмом. Материал почти готов. В нем учтены все мнения. Необходимы ваше окончательное согласие на публикацию и помощь, которую вы обещали: подтвердить те случаи…
– Я передумал и отказываюсь от публикации, – жестко ответил Юрий.
– Как? – только и смог произнести изумленный Алик.
– А так! Мне не нужны неприятности. Докопаются и прикроют нашу автомастерскую, а так, хоть и без регистрации, мы здесь худо-бедно управляемся. Письмо я на нервах написал. Отправил, а потом мы с отцом поговорили. Систему не изменить… а жить надо…
– Вы же письмо прислали в газету, а не бросили в урну! Мы работали по нему. Не было сомнений в вашей решимости, и мы радовались, что хоть один смелый человек нашелся, – кинул леща Алик, мысленно справлявший панихиду по своему труду, потраченному на человечка, желавшего только выговориться и успокоиться, как на исповеди у попа…
– Я не герой и связываться не хочу…
***
Мысленно ругая тихушников, Алик ушел в препоганом настроении. В голове царил полный кавардак и кто-то начитывал стихи:
Шторы задернул Господь,
И посерело небо,
Словно засохший ломоть
Белого раньше хлеба.
Мне не по нраву грусть,
Не по душе тление,
Но посещает, пусть,
Странное настроение.
Через усталость глаз,
Ценою последней кровинки,
Может найду свой лаз,
Свою простую тропинку.
Жду, что подходит час,
Жду, что взорвется миг…
Сколько мне лет сейчас?
Что же я в них постиг?
Иногда хочется шагнуть в неизвестность наперекор страхам. Жизнь коротка по сравнению с вечностью, и продолжительность ее не имеет значения, с точки зрения последующей смерти. Алик иной раз представлял, что он умер, глядел на свой жизненный путь и неизменно приходил к одному и тому же выводу:
«Моя жизнь – пустое место, все, что я видел, ел, слышал, уйдет вместе со мной и, возможно, если нет заоблачной жизни, умрет. Так ради чего? Видимо, не случайно рыцари средневековья шли на гибель ради славы. Они гибли, но о них помнили, слагали легенды. Это и есть жизнь, – то, что о тебе знают другие. И чем больше людей тебя знает, тем лучше. В этом смысле многие и не начинают жить…»
Имеет значение только след, оставленный на земле, но там, где ходят все, след конкретного человека теряется, вытаптывается. Чтобы оставить настоящий след, надо шагнуть в сторону, как это Алик делал уже не раз. Как он это сделал тогда, на снегу, нарисовав нехорошее слово. И народ сразу сошел с колеи. Связываться с силовиками опасно, Алик знал на примере Тщеслава, но появилась возможность. Возможность сделать бытие интересным, и в сердце Алика вселилась безудержная радость, воздух посвежел, чувства обострились. Через несколько лет он уже не мог объяснить себе, что с ним произошло, но в тот момент пришла решимость выпустить статью без участия главного ее инициатора. Его гнало вперед любопытство и желание жить.
«Да идет он на хрен, – порекомендовал Алик себе. – Предпринимательство, может, и мое будущее. Я не должен отказываться от его обустройства, если какой-то трус сболтнул правду и испугался собственных слов. Мое дело использовать шанс исправить это общество. А там будь что будет. Мерзлая знать не будет, что Юрий отказался от своих слов».
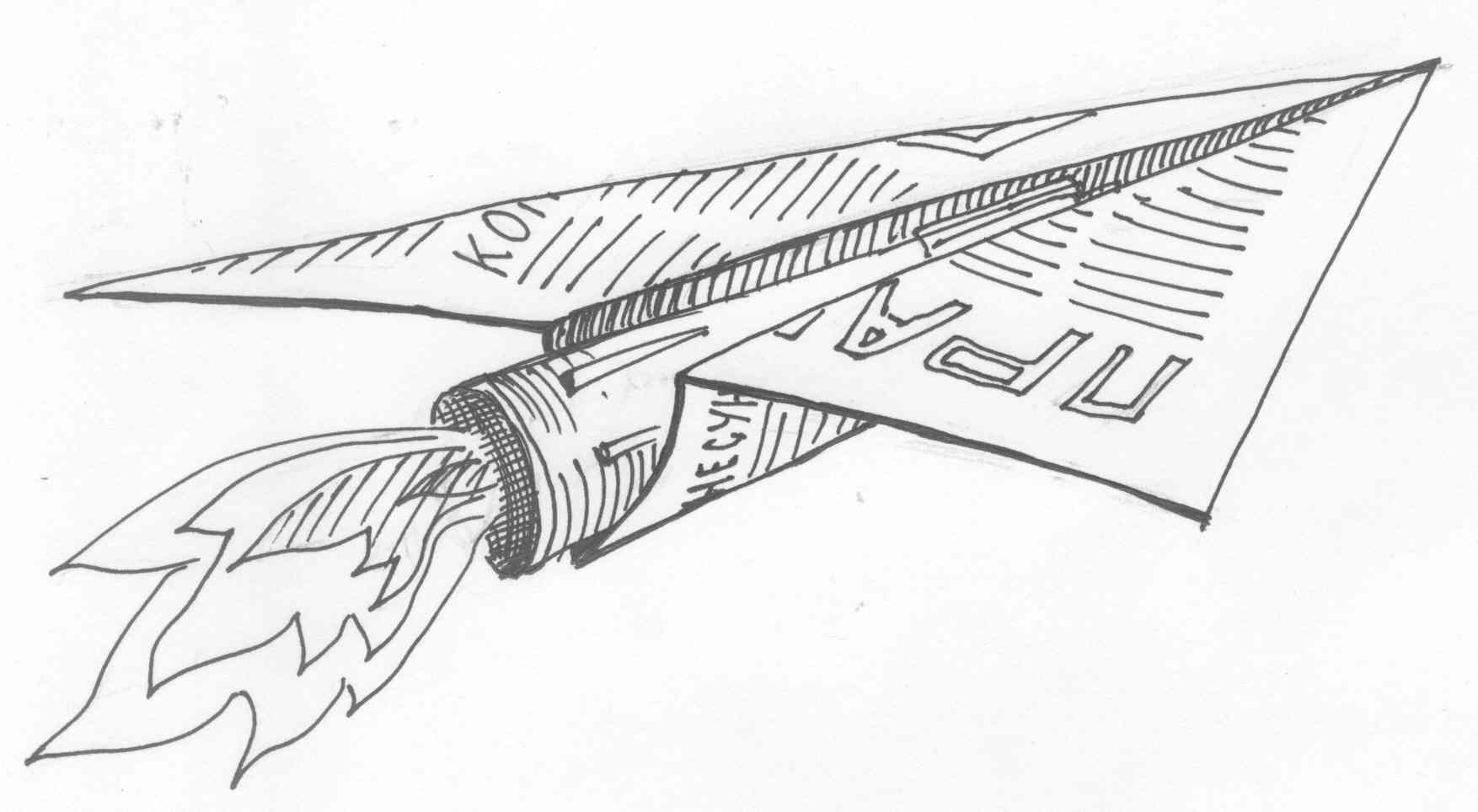
Так вышла статья «Сила действия равна силе противодействия», посвященная проблемам предпринимательства. Она изменила всю последующую жизнь Алика.
***
Реакция на статью была ощутимой. Нет, благодарные читатели не звонили в редакцию газеты маленького нефтяного городка, спеша поблагодарить за смелость. Ни один предприниматель из их многочисленного числа не прибежал в редакцию, чтобы пожать руку автору за заступничество, не говоря уже о том, чтобы подсластить автору жизнь хотя бы коробкой конфет. Похвалил статью только адвокат Кошмарин, заявив:
– Ты попал в точку, в змеиный клубок.
Заявил о желании встретиться один обиженный полицейский:
– Правильная статья. Могу еще кое-что вам рассказать…
С другой стороны, первым из неприятных событий, происшедших как следствие, стал визит рассерженных сотрудниц налоговой инспекции, нахлынувших в редакцию с проверками. Они обнаружили много ошибок в ведении бухгалтерской документации, выписали штрафы и так сильно напугали Мерзлую, что на протяжении всех последующих лет в газете эту организацию больше не критиковали. Более того, с этого момента Мерзлая поручила Алику, как виновнику инцидента, сотрудничать с налоговой инспекцией и писать о ней все, что попросят. Естественно в радужных тонах.
Согласие далось не просто.
«Тут либо с работы уходить, чтобы у инспекции не было повода долбить редакцию, и таким образом лишить себя интересной жизни и успеха в других статьях, либо идти на компромисс с надеждой на продолжение и возможный выигрыш в будущем, – размышлял Алик. – Налоговая инспекция может в такие долги редакцию загнать, что зарплаты не увидишь. Придется закрыть глаза на их произвол. Куда деваться? Это часть жизни. Лучше пожертвовать частью, чем всем…»
***
Осерчал и Семеныч, когда ему рассказали про статью. Планерка сотворилась жаркая.
– Надо эту сволочь в камеру и там хорошенько обработать! – рычал Семеныч, энергично подергивая кулаками.
Преисполненный возмущения, он откинулся назад, на спинку стула, оттолкнулся ногами, намереваясь качнуться на задних ножках, но не соразмерил усилия и упал бы спиной на пол, если бы не выпрямил мгновенно ноги и не уперся носками ботинок в столешницу снизу. Стол от удара подпрыгнул. Семеныч вернулся в исходное положение и закричал:
– Садить и только садить, пока мир не перевернулся…
– Не за что, шеф. Все проверили. Ни одной зацепки, – пищали подчиненные. – Он, гад, не предприниматель. Не торгует, не ворует, налоги уплачены, даже за квартиру вовремя платит. Мерзавец, одним словом.
– Так подбросьте ему наркотики в машину. Мне вас учить надо? Машины возле подъездов беззащитно стоят, даже пацаны вскрывают двери и магнитолы тырят. В вас же ментовская закваска.
– Эта падла даже машины не имеет. Урод какой-то.
– Как не имеет? Его статейка явно заказная, наверняка, кучу деньжищ получил. Вот только от кого? На взятке его поймайте.
– Шеф, левые платные статейки он пишет. До денег жадный, но осторожный. Неуловим. Долгая песня. Слюной захлебнешься, пока съешь…
– Тогда заприте его в камере просто так. Палками обработаем, сам придумает, в чем виноват – воображение унего функционирует…
– Шеф, не горячитесь. Все-таки – пресса. Шум поднимется. Надо кончать цивилизованно. Давайте законным путем…
Исковое заявление в суд составляли впопыхах, и получилось оно легкомысленным, поскольку Семеныч в порыве чувств раскритиковал в нем не статейные цитаты, а те действительные моменты работы налоговой полиции, которые, как он думал, в статье были затронуты (вот уж точно: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать):
«…было опубликовано, что отдел налоговой полиции – это «узаконенный рэкет», что сотрудники налоговой полиции берут на рынке бесплатно товар и лиц, которые не дают его бесплатно, привлекают к административной ответственности. Кроме этого, якобы, работники налоговой полиции также приобретают товар по закупочной цене. Все эти высказывания являются личными умозаключениями корреспондента. Прошу обязать газету опубликовать опровержение фактов, изложенных в статье».
***
Можно было бы посмеяться над Семенычевой писулькой, но Алик понял, что ему нечем доказать случай в магазине «Штиль», коему он был свидетелем. Парадокс состоял в том, что можно видеть и слышать все, что угодно, но для суда этого вроде как не было. Ситуация не памятник, к ней не подойдешь спустя время и не перечитаешь надгробную надпись. Она не кинофильм, который можно перемотать, пересмотреть и, указав пальцем в нужном эпизоде, в нужное место, сказать: «Смотри. Вот оно!» В реальности момент прошел и его нет. Если не запасся доказательствами, что Нечто вообще существовало, то любая, образно говоря, собака может возразить: «А ты докажи, что я лаяла и мясо воровала. Я вообще мясо не ем и не лаю. Голословные утверждения! Голословные утверждения! Гав! Гав!» Она может опять схватить кусок мяса со стола, унести его в свою конуру, злобно поблескивая оттуда глазками и скаля клыки, тявкать: «Голословные утверждения! Голословные утверждения!» Возразить нечем, если под рукой нет диктофона, видеокамеры или фотоаппарата.
Обращение к адвокату Кошмарину было для Алика вынужденной, но приятной мерой. Кошмарина он любил. Этот адвокат обладал проникновенным умом и широкой эрудицией, благодаря которой мог говорить на любые темы. Внешне это был представительный мужчина, каких много, но с очень живым, хитрым и переменчивым взглядом. Когда он взывал к справедливости, то его взгляд становился страдающим, будто он сам сердечно переживал за дело, его не касающееся. Когда он рассуждал на общеполитические темы, то взгляд становился чрезвычайно осмысленным, въедливым, вызывающим на спор и одновременно утверждающим бессмысленность этих споров. Как любой адвокат, он защищал всех, кто платит, и мог добиться смягчения приговора или его отмены как самому мерзкому и кошмарному убийце, так и вполне порядочному человеку. Данная всеядность Кошмарина была неприятна Алику, но она не перевешивала яркости личности адвоката.
Застать Кошмарина в небольшом, скудно обставленном кабинетике юридической консультации было непросто: вечно в разъездах. На двери часто белела бумажка с текстом, предупреждающим об отсутствии. Алику повезло. Когда он шел по коридору, впереди приметил спину человека с портфелем, имевшего поразительно знакомые повадки. Кошмарин! Адвокат тоже обрадовался. Он открыл дверь, приставил портфель к столу, сел на простенький деревянный фабричный стул.
– Давненько, давненько. Каким ветром? – спросил он.
Алик изложил. Кошмарин, обильно испуская удушливый для носа нашего героя сигаретный дым, по-дружески посоветовал:
– Сходи к директору магазина «Штиль». Пусть выступит на суде и подтвердит, что налоговые полицейские брали у нее товар.
– Вы что, Владимир Николаевич?! Не пойдет она в суд…
Про директора магазина «Штиль», Серафиму, Алик знал многое. Во-первых, она была не в фаворе у мэра города, поскольку выступала на стороне его противника Бабия в схватке за власть в маленьком нефтяном городе. Отсутствие покровительства не самая большая беда. В то время у властителей нефтяных городов было принято вызывать своих беззащитных противников к себе в кабинет и пугающе резким голосом произносить, срываясь на крик:
– Сутки на сборы и чтобы тебя здесь не было!
Серафиму пока не трогали, поэтому она старалась быть ниже ягеля, чтобы не дай бог. Но это один момент. Второй состоял в том, что она знала, какова бедная жизнь, погуляла, потеряла здоровье, встретила хорошего молодого человека, с которым начала новую семейную жизнь и коммерческое дело. Слишком дорого обошлось счастье, чтобы ставить его под угрозу нападок налоговой полиции и власти.

– Тогда только один выход: встретиться с ней, разговорить, накрутить скрытую запись, – генерировал советы Кошмарин. – Вы, журналисты, имеете право на скрытую запись для защиты, так сказать, общественных интересов. Ну, общественные интересы доказать легко. Только не забудь: надо составить список вопросов, которые ты будешь задавать. Акцент – на то, почему полицейские забирали товар.
– Попробую, Владимир Николаевич, – ответил Алик и стал обдумывать подробности предстоящей операции.
С Серафимой отношения были. Алик на механической печатной машинке «Березка» набил вполне сносную рекламу для парфюмерии, продававшейся в ее магазине. Рекламу подали, как самую обыкновенную статью журналиста, на целую полосу, да так красиво, что народ живо кинулся в «Штиль» скупать подарки, стоившие в близлежащих магазинах значительно дешевле. Серафима не обидела деньгами и даже дала два фигурных флакона отменных духов, которые Алик тут же подарил Марине. В общем, если бы он подошел к Серафиме просто поговорить на разные темы – это не выглядело бы подозрительно. Таков был плюс.
«А если закосить под дурака, то все, несомненно, получится. Надо просить ее заступиться за меня, рассказать правду на суде. Пусть она думает, что я всерьез на это рассчитываю. Она, конечно, откажется, но вынуждена будет оговорить детали дела», – поставил завершающую точку в ходе своих размышлений Алик и принялся готовиться к операции.
На обшлаге рукава своей любимой коричневой куртки из свиной кожи он закрепил чувствительный выносной микрофон так, чтобы его можно было скрыть под ладонью, прокинул шнур через рукав к диктофону, уложенному в карман брюк. Эта незатейливая комбинация из трех компонентов: маленький микрофон в руке, длинный шнур, диктофон – давала Алику возможность произвести запись как можно ближе к лицу говорящего, с высоким качеством звука. Если партнер по тайнописи сидел за столом, то Алику ничего не стоило вытянуть руку. Если это была продавщица в киоске, то он засовывал руку в окошко. Если он сидел рядом с интересующей его личностью, то по-дружески клал руку на спинку стула, позади этой личности. В общем, действия производились разные, но все они связаны с манипуляциями руками, на которые люди обычно не обращают внимания.
Люди любили говорить все, что душе угодно, видя перед собой очкарика, строившего из себя умного, а на самом деле глуповатого, на их взгляд. Алик, зная это, давал противникам преимущество в игре, убаюкивал и делал уязвимыми. Неприятель раскрывался порой более, чем рассчитывал Алик. До такой технологии он дошел своим умом и был рад подтвердить ее правильность, читая «Трактат о военном искусстве» какого-то древнего китайца:
«Война – это путь обмана. Поэтому, если ты и можешь что-нибудь, показывай противнику, будто не можешь; если ты и пользуешься чем-нибудь, показывай ему, будто ты этим не пользуешься; хотя бы ты и был близко, показывай, будто ты далеко;…заманивай его выгодой; приняв смиренный вид, вызови в нем самомнение; если его силы свежи, утоми его; если враги дружны, разъедини…»
Такие изречения Алик не пропускал, и они кирпичиками укладывались не только в памяти, но и в характере. Знания были помножены на божеские актерские способности, и Серафима наговорила достаточно, чтобы Семеныч отозвал исковое заявление. На такое решение оказало влияние и то обстоятельство, что Семенычево дело по привычке взялась рассматривать судья Краплевко. Но если до этого момента никто не знал, что ее дочка работает в налоговой полиции секретарем, и удивленно разводили руками, когда проигрывали выигрышные дела, то в этот раз такого не получилось. Алик подготовился к суду основательно и не только был готов предъявить эту информацию, но сделал так, чтобы об этом узнали его противники. Было и еще одно обстоятельство, помешавшее Семенычу отличиться на судебном поприще. Во время судебного процесса у него появились более горькие заботы…
***
Газета маленького нефтяного города была в то время завидным исключением из множества других изданий. Несмотря на то что ее финансировала городская администрация, политику издания хаотично определяли журналисты. Редакторша Мерзлая лавировала между руганью в главных кабинетах администрации и скандальными выходками уверенных в своей талантливости корреспондентов, болезненно воспринимавших маломальскую правку собственных текстов. Со временем, конечно, ведущие чиновники администрации обломали бы и обработали редактора, и в свою очередь сила редакторской власти, несомненно, подмяла бы подчиненную солому, но Мерзлая пробилась в депутаты. Она обещала гласность и была совестливой до смешного – старалась исполнять.
В газете появлялись расследования, ехидные переписки между Аликом и ведущими руководителями маленького нефтяного городка, едкие статейки на злободневные темы. И все без задания редактора или чиновников, а по единственному хотению пишущих. Причем стрелы печатного слова иной раз летели в самих кормильцев городской газеты – чиновников. Но кому объяснишь такие дела? Не поверят. Ведь обычно: кто платит, тот и музыку заказывает. Редактор, как пастух, гонит журналистское стадо по избранным информационным лугам. Но так стало чуть позднее. В то время, о котором ведется рассказ, журналисты публиковали почти все, что хотели. Так продолжалось пять лет от начала. В общем, публикацию в городской газете статьи «Сила действия равна силе противодействия», атакующей налоговые органы и написанной Аликом по собственному желанию, Семеныч воспринял как позицию городской администрации…
СИГНАЛ
«Быстрее всего человек под действием кнута или скипидара»
Примерно в это же время Семеныч ждал новоселья. Нынешнее помещение налоговой полиции на первом этаже старого двухэтажного дома опостылело. На втором этаже, то есть потолке федеральной структуры, скрипели половицами заурядные жильцы. Они топтались, как начальство, эти примитивные налогоплательщики. Начальство всегда сверху – эта азбучная истина карьерной лестницы, входившая в противоречие с реальность, не давала Семенычу покоя. Он ждал старта к переезду своей силовой конторы в домик, изначально проектировавшийся под детский сад. «Вот там будет тепло и уютно. Детям и налоговой полиции – самое лучшее. Так и должно быть», – размышлял он. Но вот закавычка: хоть пистолетов в его конторе наличествовало достаточно, стартовый выстрел должен был исполнить чиновник администрации города.
Аккуратненькая трехэтажка, расположенная рядом с небольшим красивеньким магазинчиком, «Минимаркетом», одним из действующих денежных насосов бывшего начальника отделения рабочего снабжения маленького нефтяного города, а впоследствии сказочно разбогатевшего предпринимателя Сергея Хапалы, действительно была неплоха. Детки там могли бы взрослеть вполне, но рождаемость упала благодаря медвежьим заботам Правительства России о подъеме экономики, и депутаты городской Думы маленького нефтяного города решили отдать часть трехэтажки налоговой полиции при условии финансирования ее строительства. Налоговая полиция за весь срок строительства здания внесла чуть больше одного процента от требуемой суммы, но Воровань нисколько по этому поводу не беспокоился, поскольку считал, что уважение к всероссийской силовой структуре перевесит любые местнические договоры…
И вот Семеныч сидел в своем кабинете и размышлял о приятном – о переселении, которое наверняка подхлестнет творческое воображение и позволит реализовать еще несколько денежных операций для покупки квартирки в районе тюменского железнодорожного вокзала.
Он любил Сибирь и не собирался менять ее на Москву. Зачем бросать обжитые норы ради того, чтобы очутиться средь великого множества других пауков, уже полностью поделивших территорию и добычу? В столице придется опять пробиваться, быстро шевелить ножками. В Сибири спокойнее. Семеныч мечтал: он брел по бескрайней сибирской тайге и срезал золотые грибы, которых было видимо-невидимо, и все грибные поляны помечены вешками с названиями предприятий. Он складывал необычные грибы в добротные льняные мешки, в каких обычно размещалось пятьдесят килограммов сахара. Мешки аккуратно скидывал в багажник машины. И вот когда места в багажнике оставалось всего под один мешок, а Семеныч наткнулся на богатейшую златогрибную поляну и уже подсчитывал, сколько грибов можно положить в салон машины, его мечты прервал осторожный стук в дверь.
– Заходи, – недовольно прикрикнул он.
Забежал Тыренко, чрезмерно взволнованный, с раскрасневшимися щечками:
– Анатолий Семенович! – заговорил он, слегка подвывая. – Ведь что делают…
– Не тарахти. Рассказывай дело…
– Депутаты, падлы, сейчас заседали и порешили вернуть нашу трехэтажку, на которую мы так надеялись, детям, из которых еще хрен знает что получится. Мы-то уже готовые значительные люди, и нас кинули…
– Как? Мы ж бюджет пополняем денно и нощно, – неуверенно сказал Воровань, но вспомнил о деньгах, полученных вчера от очередного запуганного предпринимателя, и его голос опять обрел твердость. – Пополняем бюджет даже по вечерам!
– Все так, Анатолий Семенович, а депутаты лапы подняли за то, чтобы создать в нашей трехэтажке центр творчества подрастающего поколения. Мало того, что их, недоумков, народ выбрал, так они еще и пакостят.
– А нас куда?
– Нам предложено занять освободившуюся пристройку к жилому дому, где раньше располагался «Сбербанк».

– Суки, суки, суки! – закричал Воровань, топая крепкой ножкой по полу. – Они знают, кто в банке верховодил. Шершень! Он основал один из первых коммерческих магазинов города с самыми высокими ценами. Директорствовала его жена. Банк под руководством Шершня постиг финансовый крах. Слишком много кредитов роздали без гарантий возврата. Ясное дело: Шершень в этом поучаствовал. Как он мог оставить женушкин магазин без денежной поддержки?! Не брезговал и липовыми сделками. Скандал грянул громкий. О нем не писали в газете. Такими аспектами боялись интересоваться. Это сейчас расписались, даже на нас перо подняли. А тогда сидели тихо, как мыши, хоть в их газетенке работала жена заместителя Шершня и все знала. Когда банк без надежды на спасение разорился, первый «Мерседес» в городе, купленный для банка, бесследно исчез, попрятались должники. Заместитель Шершня продал квартиру и машину, чтобы остаться на свободе. Сам Шершень исчез, и теперь нас в его здание! Это же намек, что, мол, и мы такие же, что, мол, и мы так же кончим…
– Анатолий Семенович! – забубнил испуганный Тыренко. – Может, все не так плохо…
– Я этого не потерплю! – забасил Семеныч, глуша слова своего заместителя. – Всех на внеочередное собрание!..
Он глядел, как его подчиненные проскальзывали в кабинет, тихонько рассаживались, и копил в душе горестную тираду, вылившуюся вдруг в жутко разоблачительную речь, забродившую на презренной, но частой в употреблении закваске – зависти. Не по размаху Ворованя было низкопробное помещеньице, и он устремлял завистливые то взгляды, то слова в сторону налоговой инспекции.
УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ
(Лекция «О женщинах», подготовленная мужиком для мужиков)
Я давно наблюдаю за женщинами, и вот что оказывается. Сильно мы отличаемся от них, господа мужики, и не только по половым признакам, усложняющим нам танцульки. Женщины чистоплотнее нас. От мужика – мужиком пахнет, а от женщины – женщиной. Чувствуете отличие, даже без конкретного определения? Чувствуете. Они пролетают мимо, принося легкое дуновение ветерка с ароматами духов. И надо сказать, иной раз занюхаешься…
Они чаще нашего брата причесываются, стригутся и притом что вроде бы больше травмируют волосы – меньше лысеют. Парадокс. Ведь и химия, и высокотемпературные бигуди, и фены… Им все нипочем. Эстетично и привлекательно получается, надо сказать. А вот еще парадокс: они носят юбки, их ножки открыты для внимательных глаз, обдуваются прохладным ветром и кусаются морозом, но на ногах-то пушистости куда меньше!!! К чему я? Да к тому, что мы страдающая часть человечества от рождения!!!
Приглядитесь, как они радуются. Их улыбки действительно согревают, в отличие от мужских. Действие одно и то же: растяжение губ, но разительный контраст! Конечно, улыбка улыбке – рознь, и за ней иногда скрывается чувство превосходства или каверза какая. Но за их улыбку прощают. За нашу – нет. Скажу более: не дай бог, если женская улыбка пропадет. Это хуже испортившейся погоды.
А одержимость красками, мазями и еще бес знает чем!? Женщины слетаются к парфюмерным витринам, как птички на корм, буквально все. Вспыхивают глаза, разглядывающие какие-то блестящие безделушки, флакончики с жидкостями, тюбики. Разве наше сердце хоть что-нибудь трогает так, ну кроме денег, конечно, и еды?
А как они одеваются! Если женщина в брюках, то на них нет пузырей на коленях и засиженных складок. Они, как солнце, приходят в дома и на службу, и тепло разливается внутри от взгляда на них, и настроение молодецкое появляется. От визита мужика такого ощущения нет. А легкая их походка!? Не то что мы ходим, словно бычки сигаретные топчем.
Они не так слабы, как кажется. Смотришь, такая милая, такая миниатюрная, а в каждой руке по огромному пакету. Приглядишься – знакомая. Подойдешь, поздороваешься, поговоришь на разные темы, а она улыбается, вежливо отвечает и сумки в руках держит. На лице ни капли усталости. А в пакетах все для кого? Неужели для нее – такой фигуристой и приятной? Конечно, нет. Для своего нашего брата старается, для детушек. И хочется с ней подольше поговорить, чтобы узнать, как долго она сумки-то продержит. Но распрощаешься, смотришь вслед, а она с поклажей дальше идет своей легкой походкой, будто в каждой руке по букету цветов.
Знаете, что еще заметил. Быстрее они наклоняются. Если выронит дама, например, сотню из кошелька, то иной раз не опередишь. Хотя по этикету надо. И хочешь помочь, подобрать купюру, потянешь руку, но нет, ладонь с аккуратными наманикюренными ноготками ее быстрее ухватывает. Жаль.
А женская интуиция? Пока до мужицкого разума дойдет, женщина сердцем узнает. Они предчувствуют! Факт, что большинство ясновидящих – женщины. Пока мы составляем бытовое уравнение, они в уме имеют решение. Мы думаем, что женимся на них. На самом деле нас выбирают в мужья, а мы лишь решаем «быть или не быть». Нами управляют, отдавая нам то, что мы хотим. Они очень умные, хотя нам приятно думать иначе…
Они нам готовят кушать, стирают, гладят рубашки, убирают в квартире, а мы их поучаем и ворчим. Может, мы и правильно делаем, но… в итоге живут они дольше нас. И намного. В России в среднем – на добрый десяток лет! И кроме того сегодня они без нас могут продлить род людской, а мы без них – нет. И есть еще один повод для пессимизма.
По статистике мы пошли на убыль при рождении, не говоря уже о том, что вечно суемся в «горячие точки», хотя не приспособлены природой для ведения кровопролития. В медицине известно, что мужики теряют сознание от вида крови гораздо чаще таких женственных женщин…
Так на ком, мужики, мир держится, кто в доме хозяин? Я боюсь дать ответ. Надо быть хитрее и напористее, чтобы сравниться с ними. Ведь не зря умнейшие мужские умы посвятили женщинам столько стихов. Они сочиняли их, когда нежнейшая часть человечества в поту занималась домохозяйством. Гении понимали, что если не дарить комплименты, не стоящие в принципе ничего, то можно потерять главное – возможность лежать на диване…
***
–…При всем природно-характерном неравенстве, – завершал речь Семеныч, – где женщины выглядят куда предпочтительнее, нас, мужиков, еще и материально обижают. Женщины налоговой инспекции работают в уютных помещениях, на первом этаже пятиэтажки, а нам, налоговым полицейским, депутаты отказали в переселении в бывший детский сад, трехэтажный, и предлагают всего лишь двухэтажное здание бывшего Сбербанка, руководство которого плохо кончило. Намекают, издеваются!!! Это над нами, налоговыми полицейскими, сильными мужиками с оружием!…
В зале нарастал возмущенный шум, сквозь который прорывали отдельные реплики:
– Приду домой, отлуплю свою, а то получается она нимфа, а я козел со свирелью.
– Этих депутатов стрелять надо и самим избираться…
– Чем же это налоговая инспекция лучше полиции?
– Хороший вопрос, – похвалил Семеныч. – Суть у нас одна, а вот отношение к нам – разное. Какие у них возможности, таких у нас никогда. На заре образования налоговой инспекции ее начальница, небезызвестная вам Вельможнова, купила за государственные деньги полтора десятка квартир и почти даром продала своим приближенным. На такую операцию она не имела законных прав. Вам не нужны квартиры?
– Нужны, Анатолий Семенович! Нужны! – хором, как по команде, прогудел зал.
– Второе, – продолжил Семеныч. – У налоговой инспекции имелся специальный фонд социального развития. Деньги из него тратились на покупку оргтехники, канцелярии и на решение прочих хозяйственных задач. Государство ликвидировало эти фонды с передачей имевшихся в них денег в федеральный центр, но Вельможнова решила, что коль деньги пропадут для города, то в каких карманах они пропадут, значения не имеет. В последний день ликвидации фонда все его деньги перечислили в специально образованную коммерческую фирму. Взамен получили устаревшую оргтехнику, но большая доля фонда исчезла в неизвестном направлении. Вам не нужны деньги, которые можно увести в неизвестном направлении?
– Нужны, Анатолий Семенович, ох, как нужны! – проскандировал зал.
– Третье. Вельможнова сумела получить от государства две квартиры бесплатно…
– Как? Такого быть не может…
– Мы тоже хотим…
– Мы готовы доказать, что мы мужики…
– Мы мужики, – согласился Семеныч. – И должны действовать по-мужицки, только тогда мы достигнем уровня женщин, всегда действующих по-женски. Не будем молча терпеть гадкие статейки, печатающиеся в газетенке городской администрации. Предлагаю наплевать на депутатов. Тьфу. Тьфу…
– Тьфу. Тьфу, – подхватил зал.
– Мужики, берем оружие, собираем веши – и по машинам. Сами возьмем то, что причитается нам по праву. На том основании, что мы мужики с автоматами и знанием налоговых проколов администрации. А если чиновники будут возмущаться, то слетят со своих теплых мест на Крайнем Севере на прохладные зарплаты в теплых краях…
ЗАХВАТ
«Сила, если не пересиливается, то покупается»

Пока полицейские грузили вещи, Семеныч размышлял о последствиях. Они виделись ему в необыкновенно ярких красках, какими горят осенью мхи и лишайники таежных лесов.
Несколькими годами раньше среди жителей еще строившегося маленького нефтяного города бытовала устоявшаяся схема поселения в новенькие дома: новоселы спешили в квартиры и быстрее меняли входные замки, давая этим мини-ремонтом знак всем проходящим, что квартира занята, потому что двери в пустующие квартиры зачастую вскрывали те, кто не имел ордера, но хотел жить комфортно. Захватчики самовольно заселялись, расставляли вещи, обживались, и это было порой навсегда. На такой исход и рассчитывал Семеныч, поэтому в занятой им части здания, являвшегося собственностью администрации города, стали обживаться без промедления…
В это время в главном кабинете городской администрации гремели ругательные речи, приближенные Хамовского выскакивали оттуда с красными, да что с красными, с малиновыми лицами, словно сгоревшими под лучами южно-морского солнца, и зажигали подчиненных. Между администрацией маленького нефтяного городка и захваченным налоговой полицией несостоявшимся детским садом курсировала служебная машина, перевозя распоряжения, заявления, приказы… Это оружие чиновников всего мира использовалось многократно, но Семеныч, смеясь, делал из писем бумажные самолетики и через форточку отравлял в последний полет. Стало не до смеха, когда он поднял телефонную трубку и не услышал гудка, а потом попросил сотрудника отпечатать на электрической машинке угрожающее письмо в телефонную компанию, но и это не получилось, поскольку исчезло электричество… Домой Семенычу позвонил прокурор Коптилкин:
– Толя! У меня письмо с требованием мэра. Просит повлиять на тебя, чтобы твои орлы освободили трехэтажку.
– Идет он на хрен. Мы давно ждали переезда, а они все отрубили…
– Анатолий Семенович, – просил Тыренко на следующий день. – Может, к мэру сходить и с ним утрясти…
– На поклон не ходил и не пойду. Я не начальник пожарной части, Поня, и не начальник милиции, Зорькин, чтобы кланяться. Я – Воровань! Я богаче, чем все они вместе взятые…
***
О конфликте между администрацией маленького нефтяного города и его налоговой полицией прослышал Алик. Публикация этой истории могла повысить его шансы в судебной борьбе с Семенычем. Встань он на одну сторону с чиновниками города, появилась бы серьезная поддержка. Он ринулся к заместителю мэра, и тот все рассказал, но с условием – публиковать, если мэр разрешит. В том, что Хамовский разрешит, Алик был уверен: как бороться за власть без поддержки журналистов? Но, к его удивлению, он оказался не прав. Хамовский запретил статью. Алик расстроился, он смотрел на исписанные листы и думал: почему? «Пожалуй, у Хамовского есть более сильное продолжение», – рассудил он и стал ждать. Но вышло опять наоборот. Освободительные начинания чиновников поутихли… Из городской администрации полетели умилительные письма Закоулкину, начальнику и другу Семенычу, с просьбой рассчитаться за занятые площади…
«Хамовский явно не хочет ссориться, – оценивал факты Алик. – Знать, ему нужен Семеныч. Хамовский доплачивает из бюджета сотрудникам всех федеральных структур, пренебрегая Конституцией России, доплачивает и сотрудникам налоговой полиции. Это понятно. Приручает. Сейчас есть возможность использовать этот хлыст. Взял бы да отменил доплаты налоговой полиции, вмиг бы успокоились. Не идет он на этот шаг. Может, боится? Мэр – руководитель большого комплекса муниципальных предприятий и боится!? Что ж, он был частным предпринимателем. Несомненно, где-то нарушал закон. Возможно, сильно. Семеныч мог знать о Хамовском компрометирующую информацию, а может, на испуг взял. Вот, мол, материал на тебя, и «бац!» папкой по столу: «Могу упрятать надолго!» Думай не думай, до правды не докопаешься, кругом тайга и люди, как молчаливые сосны. Хамовский тоже не прост, иначе не стал бы мэром…»
***
Как-то на планерке в городской администрации, где Алик присутствовал словно карманный журналист, Хамовский попросил его, незаметного тремя рядами сидящих впереди руководителей, подняться с места, и принялся рассуждать об опубликованном в газете материале, где Алик назвал действия мэра по отношению к губернатору округа шантажом.
– Так, по-твоему, я шантажист? – ожесточенно спросил Хамовский.
– Я вас так не называл Семен Петрович, но действие ваше так и называется, – неуклюже смягчил ситуацию Алик.
– Раз мэр шантажирует, значит, шантажист?! – не унимался Хамовский.
– Не знаю, – ответил Алик и виновато опустил голову, поняв, что угадал с определением, что мэр злится и близок к хамским определениям.
– Садись, – сказал Хамовский и продолжил планерку.
«Конечно, шантажист, – объяснялся Алик, но уже мысленно. – Но я не обвиняю. Таков рычаг. И многие городские решения ты принимаешь из личной заинтересованности. Ты человек – самый обычный, одержимый чувствами. Магазины в подъездах запретил, потому что такой был в твоем подъезде и работал на Бабия. Никому этот магазин не мешал. А ты взял и запретил. Да и то, как запретил? Многие подъездные магазины в других микрорайонах как работали, так и работают. А вот магазин с многообещающим названием «Русь» умер. Некоторые твои действия диктуются только личной заинтересованностью мил, властный человек…»
В будущем Алик узнал и еще одну причину милости Хамовского к налоговой полиции: эта структура поднаторела в торговле за бесценок арестованным имуществом, и кое-что из реквизированного добра перепадало городской администрации. А в настоящем мысли Алика ушли от происходивших событий и от планерки в философско-демагогические рассуждения, например, о том, что имя у мэра «Семен», а начальник налоговой полиции «Семенович», знать последний в сыновья годится по своему соображению…
***
Иной раз даже заяц может грозно бранить волка и даже забраться его нору и прыгать там, но стоит появиться хищнику, так только ноги и могут спасти…
Захваченные детсадовские территории у налоговой полиции Хамовский отвоевал, и произошло это без единого выстрела. К несостоявшемуся детскому саду подъехал джип, из него вышел, почти вывалился одетый в черный кабинетный костюм мэр. Среди начальства северного маленького городка было принято ездить по городу в любой мороз в легкой одежде. Считалось престижным достичь должностного уровня, чтобы на Крайнем Севере не надевать шубу – этим фактом гордились и публично демонстрировали. Хамовский не был исключением. Он резво поднялся по ступенькам, поскользнулся на обледенелой гладкой плитке крыльца и упал бы, но вовремя схватился за спасительную ручку входной двери. Следом два раза сотряслись косяки тамбура, прозвучали опасные шаги по коридору и…
– Так ребята. Из этого здания уезжайте. Я забираю его, – с легкой одышкой произнес волшебные слова Хамовский, едва войдя в кабинет, на котором уже висела табличка «Анатолий Семенович Воровань – начальник налоговой полиции».
Семеныч был не один: сидел в окружении ближайших соратников, молчал и не решался возразить. Соратники переглядывались. Возникшую тягостную тишину нарушил Тыренко. Он запричитал:
– Боже мой!!! Сто сорок тысяч рублей в электропроводке, светильниках и выключателях с розетками. Боже мой – все пропадет!!!…
– Как пропадет? Забирайте имущество в двухэтажку «Сбербанка», там установите, – не понял мэр и ушел…
Вслед за мэром выскочил Тыренко, забежал в свой кабинет, сел, локти уткнул в стол, прижал ладони к вискам и горестно задумался…
ВЫМОГАТЕЛЬ
«Вниз идет та чаша весов, на которую больше наложат»
Новомодная практика добывания денег была такова. Тыренко приглашал в налоговую полицию предпринимателя, заводил его в самые бедные кабинеты, по пути изрекал что-то устрашающее о борьбе с утаителями доходов, о том, что у любого можно найти массу недостатков, нарушений…
Варианты монолога разнились, но в финале звучала одна и та же фраза:
– Вы только посмотрите, как мы плохо живем! Финансирования нет. Помогли бы нам. Дайте на ремонт. Можно материалы, можно деньги, а мы со своей стороны…
Предприниматели не только давали, но и привозили. Тыренко вручал им расписку и даже ставил на нее конторскую печать. А расписка та – приходный кассовый ордер, не регистрировавшийся нигде. Верхний ящик письменного стола Тыренко всегда был полон этими отксерокопированными бумажками.
– Если что, приходите, – говорил Тыренко напоследок.
Предприниматель исчезал из кабинета чиновника с радостью, считая, что дешево отделался. Насчет «приходите» в налоговую полицию без вызова, по доброй воле, чтобы проверить, как там распорядились благотворительными подношениями, ни у кого и мысли не возникало. Тыренко на это рассчитывал и, надо сказать, ни разу не ошибся.
Безвозмездно переданные в руки Тыренко розетки, унитазы, умывальники, линолеум и прочие нужные в хозяйстве вещи оформлялись как установка оборудования, строительство, ремонт через какой-нибудь кооператив или строительное предприятие. Деньги налоговой полиции шли на счет этого предприятия или кооператива и спокойно изымались участниками, то есть Тыренко, Семенычем и главной бухгалтершей, и рассовывались по карманам, поскольку все розетки, унитазы, умывальники, линолеум и прочие нужные в хозяйстве вещи уже давно имелись – дареные. Бывало, что и работы выполнялись бесплатно, тогда карманы тройки лидеров налоговой полиции маленького нефтяного города оттопыривались еще сильнее, а если предприниматель давал наличные, то на лице Тыренко набирала длину и веселую радиальность счастливая улыбка, поскольку появлялась возможность ни с кем не делиться. Предприниматель настрачивал заявление об оказании безвозмездной помощи налоговой полиции и все…
Регулярно страдали от неуемных финансовых аппетитов Тыренко даже иностранцы, например белорусы, целыми автобусами посещавшие Крайний Север с приземленными целями продажи залежалых товаров. Но где-то залежалые, а на Севере – ходовые. И писали иностранные братья липовые заявления:
«Прошу Вас согласно закону принять от меня в добровольном порядке деньги в сумме пять тысяч рублей для развития материально-технического оснащения милиции».
А как не написать, если приходили серьезные люди в форме, при должностях и правах и говорили:
– Если не будете нам ежемесячно платить по десять тысяч, мы вас закроем за нарушения. Какие? Найдем. Будем штрафовать и тоже найдем за что. Больше платите – меньше теряете, и мы не появляемся.
Иностранцам что милиция, что полиция – одинаково. С них, как с далеких и чужих, собирали дань кто ни попадя. Суммы добровольных пожертвований в заявлениях разнились, ходили слухи о миллионах, а слухи как пронзительные северные шальные ветры: вызывали дрожь.
Дань носили прямо на службу. Тыренко клал деньги в карман, заявления – в корзину. Бывало, давали натурой. Начальник участковой милиции со странной фамилией Фрак любил брать телефонами с определителем номера. В кабинете они стояли неделю. Потом исчезали. Уж на что Фраку надо было столько телефонов, даже Тыренко не мог понять. Иногда при встрече спрашивал:
– Фрак, что дурью маешься? Бери, как все, – деньгами. Даже черные не понимают твоих наклонностей…
– Балда ты, Тыренко, тебя как-нибудь за взятку посадят. Ты, ради приличия, часть денег бы на налоговую полицию потратил, мои телефоны хоть недельку, да постоят…
***

Случайности. Само рождение, многие обеды, когда по счастливой случайности в дыхательное горло не попадает ни одна крошка, многие сны, после которых посчастливилось проснуться, подъезд, из которого каждый день удается выйти, избежав падающего с крыши кирпича. Жизнь – непрекращающаяся цепь счастливых случайностей, развивающих в каждом живущем мнение, будто он может полностью прогнозировать ход следующего дня, часа или даже минуты. Отчасти это так, потому что судьба не мелочна и преподносит отрезвляющие сюрпризы только тогда, когда… Не будем определять когда. Судьба просто преподносит сюрпризы и не всегда приятные. Тогда мы понимаем, что не вечны, внимательнее смотрим на себя в зеркало, и, оказывается, есть досадные изменения: появилась новая морщинка, подросли темные пятна под глазами, стал заметнее второй подбородок, а зубы…
На стене подъезда, в котором на четвертом этаже находилась квартира Тыренко, о прозрении и потере веры в бесконечную жизнь и счастливую случайность избежать общей участи кто-то очнувшийся написал черным фломастером:
Мне жаль, что я не исключенье
Совсем из множества людей…
И те же признаки старенья
Приходят к юности моей,
И те же странности, и боли,
И тот же взгляд уставших глаз,
И то же пониманье роли,
Которую мне Бог припас…
Если бы Тыренко спокойнее поднимался по ступенькам к двери своей квартиры, а не скакал, как горный козел, и был внимательнее, то он не горевал бы оттого, что не успел оформить подаренные светильники, выключатели, электропроводку на переоборудование детского сада под налоговую полицию. Он бы прочитал надпись на стене и, возможно, осознал, что есть в мире случайности, к которым надо относиться спокойно, и есть в мире закономерности, регулярно организующие эти случайности, вероятно, понял бы, что человек он обычный и подвержен он тем же напастям, что все остальные люди. Но, будучи в незнании, он скорбел: «Вот неудача! В двухэтажке «Сбербанка» все есть. Куда теперь столько проводки и прочей строительной дребедени. Не на базаре же торговать!? Сонька меня уроет, разорвет…»
***
Пока чиновники городской администрации пытались очистить площади несостоявшегося детского сада от налоговой полиции, пока шли судебные перипетии, связанные со статьей, у Алика состоялась важная встреча с сотрудником налоговой полиции, назвавшим себя по телефону:
– Я один из честных ментов.
Встретились в квартире.
– Ваша статья мне очень понравилась, – честный мент не был оригинален в начале. – Все верно, но я мог бы добавить. Я много месяцев не получаю зарплату и ничего не могу сделать. В таком же положении и другие честные менты: Паша и Гриша, Кабановские…
Алик выпил с хозяином чаю, запомнил имена и ситуацию и ушел, имея собственное мнение. Если послушать любого жалобщика, а потом его притеснителя, веруя в речи обоих, то умом подвинуться можно. Ведь каждый из них прав и честен. Раздвоение честности получается, а то и утроение, и более того. Поэтому Алик никогда не рассуждал категориями честности, он всегда брал под защиту сторону слабейшую, хотя большинство журналистов, насколько он знал, придерживались обратной тактики. Начальник налоговой полиции был врагом однозначно, потому что при должности, но и его понять можно. Ни один начальник, какую бы поддержку ни имел, не может гарантировать себе свое собственное место и начальственный доход на бесконечный срок. Каждый старается заработать больше, но зарабатывает больше не тот, кто больше работает, а тот, у кого возможностей больше.
***
На денежках, поступавших в налоговую полицию, Семеныч зарабатывал, как мог. Не гнушался он и использованием зарплат собственных сотрудников, некоторые из которых сидели без копейки месяцами, даже годами, и получали заработки исключительно через суд. Их деньги из налоговой полиции шли предпринимателям под закупку товаров, предприниматели платили Семенычу проценты за использование кредита. Помогала Семенычу его главная бухгалтерша по фамилии Братовняк, крепенькая симпатичная хохлушка.
Вполне естественно, что такой полезной бухгалтерше, как Братовняк, Семеныч не смог отказать в просьбе о принятии в налоговую полицию ее мужа, тем более что тот имел вполне подходящие телесные габариты для работы в физической защите и даже в нападении, и никакие дипломы Семеныч не спрашивал. Не имеют высшего образования? Да и хрен с ним, важно, чтоб пользу приносили, но документы у Братовняков имелись. Дипломы они получили на Украине, в Академии государственной службы, их и предъявили, но это было уже давно, на заре образования налоговой инспекции, еще до того, как Воровань попал в камеру. Однако бумаги легко переживают время…
В налоговой полиции маленького нефтяного города каждый таил среди стопок белья в домашнем шифоньере какой-либо компромат на коллег. Не брезговал подбирать факты и Тыренко, любивший почитывать на досуге газеты своей родины, Украины, и как-то вычитал, что высшее учебное заведение, оконченное Братовняками, давно расформировали, поскольку лицензии на образовательную деятельность оно не имело. Братовнякские дипломы приравняли к дипломам ПТУ. Но если в Украине всех, кто окончил это учебное заведение, поснимали с должностей, то на Крайнем Севере эти процессы были прихвачены крепким льдом землячества.
Как принято, Тыренко затаил найденную информацию до нужных времен, которые, впрочем, никогда не наступили. Братовняк же развлекался…
ФОРМЕННЫЙ ГРАБЕЖ
«Любая ровная линия не обходится без неровностей – все зависит от степени ее изучения»
Не кричали коты заунывные любовные песни, похожие на плач младенца, в маленьком нефтяном городке на Крайнем Севере. Сугробистой мартовской ночью было по-зимнему морозно. Коты незримо сновали по пропахшим канализацией отсыревшим подвалам, гоняя раздобревших в сырости комаров. Коты живут не по календарю, они нутром чувствуют время любви, а оно еще не наступило. На Крайнем Севере время котов приходит на месяц позднее, чем в средней полосе России. Человеческие страсти в этом смысле куда менее капризны.
Песни летели из бара «Охотник», название которого произошло не оттого, что в нем торговали дичью, а оттого, что бар притягивал страждущих выпивох, охочих до мутящих разум напитков. Было далеко за полночь. До белых ночей оставалось еще два месяца. Романтическая темнота окутывала «Охотник», где женатый и безработный молодой мужчина Мухан тепло жужжал со своей подругой Дойкиной, рассказывая ей о недостатке женского тепла в семейном кругу. Они уже находились в изрядном подпитии, когда к их столу подошел сотрудник налоговой полиции Братовняк. Он тоже был пьян и тоже испытывал недостаток женского тепла.
– О, какие люди! Дружище! – воскликнул Мухан, хотя другом на Севере, куда приезжали исключительно за деньгами, редко кого можно назвать.
– Привет! Что, отдыхаешь? –спросил Братовняк, не ожидая ответа. – Какая милая особа рядом с тобой.
– Это Дойкина! Хорошая баба, подруга дней моих суровых… – изрек Мухан.
Дойкина изобразила горделивую осанку, внезапно вздернув вверх подбородок, распрямившись и даже выгнув спину, но от хмельного расстройства координации едва не упала со стула…
– Присаживайся, – пригласил Мухан. – Дойкина, это Братовняк, мой старый кореш, с которым я не одного предпринимателя потряс. Эти хапуги думают, что они могут жить за народный счет. Нет, есть еще Робин Гуды на Руси, а с такой защитой, как Братовняк, слугой, блин, закона, мы и еще наработаем.
– Так ты – мент? – спросила насупившись Дойкина.
– Да, милаха, почти. Полицейский я, налоговый, – ответил Братовняк. – Это как вор в законе. Я все могу взять бесплатно, и ничего мне за это не будет. Предприниматель – он же как курица, надо только вовремя из-под него яйца вынимать. В моей конторе начальство такие деньги потихоньку делает, какие тебе, Мухан, на киосках никогда не сделать. Это я точно знаю, от жены. Но т-с-с…
– Э-э-э, не говори, – встрял Мухан. – Полгода назад мы тоже неплохо вкалывали. Такой же темной ночью. Проследили, где один торгаш товар хранит. Оказалось – в гараже. Пришли, сбили замок. Там же никакой охраны. Попотеть, конечно, пришлось: сто мешков муки, триста килограмм арбузов, картофель. Но зато какой навар! Через два дня раскололи торговый павильон. Да много чего было. Тоже намаешься. Сложная работа. Постоянно по ночам, надрываешься. Ты ловко крутанулся: раз – и налоговый полицейский, а меня замели, сам знаешь, месяц назад. Три года лишения свободы – условно. Хорошо, хоть суд у нас свой, гуманный.
– Дурак ты, – определил Братовняк. – Иди к нам, в налоговую полицию. Хочешь, за тебя слово замолвлю.
– Давай, дружбан, – заблестел глазками Мухан. – Окажи любезность. Благодарен буду…
– Мальчики, что вы все о работе да о работе. Про вашу девочку забыли, – прервала дружескую беседу Дойкина. – Хоть бы пива заказали, а то все бутылки пустые.
– Слышь, Братовняк, – зашептал Мухан, приблизив свои губы к уху. – У тебя деньги есть? Я всю наличность спустил. Дойкина пьет, ровно жаждущая корова. Возьми что-нибудь, я потом рассчитаюсь.
– У меня тоже ни копья, – посетовал Братовняк. – Жена все карманы вычистила, даже побренчать нечем.
– Так ты подойди к барной стойке, – сказал Мухан. – Тебе и так дадут.
– Не моя точка, – ответил Братовняк. – Все магазины в городе поделены. Администрация города контролирует сеть магазинов «Классно-Е-мое». Главный судья дает крышу торговым павильонам. Тыренко доит все магазины системы «Маркет», « Титан», «Натали», «Камел». Причем «Натали», «Камел» и «Титан» отстегивают не только товаром, но и деньгами. Мой магазин – «Еврейский». Теща моя открывает. Но в него мы не пойдем. Давай киоск ничейный сделаем…
– Мальчики-и-и, ваша девочка скучает, когда вы начнете меня развлекать? – закапризничала Дойкина.
– Ой, лапочка, сладенькая ты моя, – грубо пробасил Мухан. – Мы ж о тебе разговариваем. Поехали в хату, надоело здесь. Подружку твою, Телкину, пригласим и хорошо оттопыримся. По пути заедем за продуктами…
Компания вышла на улицу, где в свете горбатых фонарей стояла машина Мухана – «Жигули» десятой модели. Хозяин, покачиваясь, как пассажир в проходе железнодорожного вагона, быстролетящего по неровным рельсам, подошел к водительской дверце, открыл ее и почти что упал на водительское сиденье. Дойкина с Братовняком тоже уселись. Машина качнулась из стороны в сторону, будто приняла на борт партию африканских слонов. Входные дверцы так смачно хлопнули, что лицо у Мухана на секунду-другую перекосило от беспокойства за их сохранность. Взревел двигатель, и машина двинулась вперед, обиженно щелкнув примерзшими тормозными колодками.
– Правь в деревяшки, – скомандовал Братовняк. – К тридцать шестому.
Мухан втолкнул кассету в приемное гнездо магнитофона, и тот запел под гитару хрипловатым голосом, каковым принято петь блатные баллады:
В саду у тещи одурманивали розы,
Но я покинул эти райские края.
Уехал в даль, где леденят морозы
И беспощадны стаи комарья.
Мечтать о деньгах… как это достало.
Они нужны, лишь только чтобы жить.
Тайга дала их, только крайне мало,
Чтоб радость юга с ханты позабыть.
Живу и тещин садик вспоминаю,
Как раз сейчас там яблоки висят,
А рядом – груши. Боже! Но я знаю:
Других все эти фрукты угостят…
– Насчет того, что денег на Севере мало платят, то верно. Что за муру включил? – спросил Братовняк.
– Местные пое-е-еты дуркуют, – ответил Мухан. – Кстати, знаешь, почему это нефтяной городок назван Муравлюдка?
– Да это ж вроде по имени какого-то первопроходца.
– Нет. Раньше он назывался красиво – Людка. А потом в нем завелась всякая мура вроде тебя. Вот и стал он Муравлюдка. Ха-ха-ха…
– Смотри за дорогой, а то как бы в глаз не получил…
Город спал, незряче глядя на мир темными рядами окон. На улицах ни одного подсвеченного фонарями силуэта. Пьяный Мухан ехал, как трезвый, лихач он был отменный, поэтому машина шла точно к цели, несмотря на то что сознание Мухана внезапно помутнело, и он перенесся в мир грез, где тоже ехал…
ОТВЕТНЫЙ УДАР
«Сдача, конечно, мелочь, но иной раз увесистая…»
«Классно гонять по тротуарам и видеть, как людишки разбегаются в стороны, – размышлял Мухан, несясь в железном панцире автомобиля мимо мелькающих подъездов. – Дурачье мелкое. Железа боятся. И правильно делают. Против стали не попрешь: тут они что муха против мухобойки».
Мухан никогда не ездил по параллельной автодороге, если имелась возможность пролететь по дворам. Он с наслаждением почесал затылок и содержимое черепушки, совершенно неожиданно выдало нехарактерный для него стиль мышления:
«Порой обхохочешься, когда какая-нибудь фифа выряженная, на высоких каблучках, оказавшись перед бампером, пытается быстрее выбраться из накатанного желоба тротуара и взобраться на обледенелый бугор. Одна даже на четвереньки встала для устойчивости и быстрее наверх, впиваясь маникюрными ноготками в лед, как скалолаз ледорубом в отвесные склоны…»
«Почти как Пушкин размышляю, такая же образность», – похвалил себя Мухан и въехал на тротуар, где папы и мамы плотным потоком вели деток из детского сада.
«Они думают, что я ради деток скорость снижу. Фигушки, не за того принимают. Помню, как такие же детушки мячом мою машину задели, а вырастут, так ботаниками станут …»
Ботаниками Мухан называл тех, кто тянул руку на уроках, вызываясь ответить домашнее задание, и не любил их со школы. «Выпендриваются, выслуживаются, козлята. Вырастут – козлами будут», – говорил он когда-то с задней парты.
Мухан сделал тупую каменную физиономию, благо, что стараться не пришлось, родители отстарались. Прохожие всматривались в его лицо, надеясь увидеть в нем хоть что-то человеческое, желая встретиться взглядами, чтобы понять, видит он их или нет. Но Мухан знал: в глаза глянешь, и руки обмякнут от неуверенности, а когда без душевного контакта, то вроде не люди идут, а собаки бегают под колесами, или сгустки воздуха витают, метельные вихри. Он пристально вглядывался вдаль, демонстрируя отсутствие интереса к народу, разлетавшемуся в стороны, как косяк кильки перед акулой. Родители прикрывали детей телами, забрасывали на сугробы, сами едва успевали убрать из-под колес ноги…
«Боятся, что пальчики на ногах отдавлю да ботиночки испорчу. Правильно, что боятся. Уже давил, – припомнил Мухан. – Ох, и звонко кричали! Звонко! И неприятно».
Против посторонних звуков он принял меры и теперь снаружи ничего слышать не мог, поскольку в салоне рвал динамические глотки магнитофон, прославляя дела лихой братвы и их подруг.
«Вот чувства! Вот страсти! – восхитился Мухан. – Не сопли жуют, а словно ножом по позвоночнику…»
Он ехал за собутыльником, чтобы подвезти его до соседнего магазина. Туда можно и пешком дойти, но зачем, если колеса есть. Такова была традиция в насыщенном автомобилями маленьком нефтяном городе, и Мухан не желал ее нарушать. Он притормозил рядом со знакомым подъездом и несколько раз протяжно просигналил рвущим душу клаксоном…
Завыли сигнализации окрестных машин.
Бабуля, шедшая мимо Мухана из магазина с двумя гружеными пакетами, выронила их, забыла, развернулась и пошла невесть куда…
С балконного козырька пятого этажа упал мужик, очищавший его от снега, благо, что в сугроб…
Собутыльник не появился. Мухан просигналил еще несколько раз…
В стену дома слету врезалась стая голубей. Оглушенные столкновением, птицы безвольно полетели вниз, как мусор, выброшенный из окна, и полегли в рыхлом снегу меж подъездов, став легкой добычей бродячих собак, которых уж ничем не испугаешь…
Собутыльник не появился. Тогда Мухан принялся нажимать на клаксон в такт блатному ритму…
Неожиданно перед глазами Мухана, прямо на капоте, разбилась бутылка. Осколок с этикеткой, где весело и ярко значилось «Водка», читаемо замер рядом с лобовым стеклом. Разгневанный Мухан выскочил из машины и обомлел. На крыше валялось уже достаточно разноцветного стекла, звон боя которого глушил все тот же магнитофон. Ошарашенный увиденным, он повернулся к дому, задрал ввысь голову, чтобы засечь обидчика, и следующую бутылку поймал лбом. Контакт произошел аккурат с донышком, где на стекле выпукло значились отлитые на заводе совместно с бутылкой какие-то цифры и буквы. Эта надпись зеркальным отражением отштамповалась на челе Мухана, где внимательный взгляд и спустя время мог распознать арифметические и алфавитные знаки и вроде бы слово «жертва»…
Мир Мухана позеленел, словно оба глаза прикрыли осколки цветной бутылки. «Изумрудный город – мать его, а культуры никакой», – подумал он и, пока думал, приметил, что обстрел его машины ведется, как минимум из двух десятков вращающихся относительно друг друга окон.
– Ни хрена себе! – воскликнул он и огляделся.
К нему бежали псы, держа в зубах многочисленные тушки голубей.
Из сугробов лезли мужики с лопатами, крича грязные ругательства.
Из подъездов показались близнецы его собутыльника.
Ужас продавил истонченный рассудок Мухана. Он – к машине, но у нее столько дверей, что чокнуться можно, а сквозь стекла видно нагромождение панелей и три руля.
Мухан рванул по улицам, пытаясь на ходу определить, по какой бежать, едва проскакивая между шибко подвижными ледяными буграми, а ему навстречу плотным строем выехали машины, не оставляя никаких шансов. Он, памятуя, что промедление в таких случаях смерти подобно, со страшным криком бросился на скользкие сугробы, пытаясь выжить…
Автомобильный гудок проорал почти в ухо, и Мухан кинулся поперек всех улиц к, как казалось ему, безмерно привлекательной морской глади, рядом с которой колыхались широколистные ветви пальм, сильно похожие на сосновые лапы… Завершилось бегство Мухана тем, что группа медиков догнала его, закатали рукава на всех его правых руках, воткнули в них шприцы и одновременно вкололи лекарство. Потом бабки в белых халатах поднесли под его носы несколько пузырьков с нашатырным спиртом. И вскоре всего стало гораздо меньше, а кое-что исчезло, например, права на вождение автомобиля: их изъяли у Мухана по психическим показаниям. А спустя еще некоторое время он попал с обморожениями в больницу, когда зимой, вдоволь наскакавшись по ледяным буграм, долго стоял у пешеходного перехода, ждал, когда его пропустят проезжавшие мимо такие же, как он, мужики, сидевшие в своих уютных железных панцирях…
***

Призывно светящиеся витрины невзрачного торгового киоска «Лала» возникли перед открытыми глазами Мухана внезапно, так, будто он приподнял веки.
– Долго ж ехали, – пробормотал он. – Ну надо ж – бутылками и права…
– Что, что? – переспросил Братовняк.
– Не город, а помойка. Везут хреновое пойло, а народ от уколов страдает, – ответил Мухан, сообразив, что мечтал по пути. – Это ж надо на автомате…
– Без автоматов возьмем, – отрезал Братовняк. – Тормози, приехали.
Торговые окрестности «Лалы», несмотря на убогий вид, были благодатными: самый старый в городе микрорайон, сплошь застроенный деревянными домами, покосившимися от времени, нуждался в водке, как в лекарстве от бессонницы. В нем жили обиженные судьбой и властями люди. Они ждали отселения. Рядом с их халупами стояли добротные автомашины, выдававшие обеспеченность претендующих на нищенство граждан, но вопрос жилья был принципиальным. Жители трущоб маленького нефтяного города держались за свои развалюхи, потому как считали, что те вот-вот развалятся, что собственно подтверждали коммунальные комиссии, и тогда они получат бесплатно хорошие квартиры в пятиэтажных панельных домах. Развалюхи кособочились, но упорно не разваливались: их стены и потолки крепко держались за стальные водопроводные скелеты. Жители нервничали и пили водку…
Мухан медленно проехал перед облупившимся ларьком, как самолет перед посадкой облетает вокруг аэродрома, и остановил машину чуть поодаль. Дойкина вышла на улицу подышать морозным воздухом и посмотреть на луну, словно порхавшую над быстрыми и блеклыми, как дымы натужной котельной, тучами. Братовняк тяжело прошелся перед дамой и направился к ларьку, но не к окошку, а сразу к двери. От его стука с крыши киоска слетела кучка еще не таявшего снега.
– Что надо? – раздался испуганный голос продавца.
– Открой, увидишь, – ответил Братовняк и загадочно усмехнулся.
– Меня закрыл хозяин, а ключа нет, – донеслось из-за двери.
Тогда Мухан и Братовняк подошли к окошку, вдвоем. Братовняк встал так, чтобы продавец хорошо видел его камуфляжную форменную куртку в скудном свете, пробившемся сквозь грязные стекла витрины, придал лицу недовольное выражение, а голосу – угрожающие интонации:
– Слышь, торгаш, счас в клетку закрою, если не выйдешь…
– Мужики, да я взаправду не могу выйти…
– Хрен с тобой. Тогда дай местного пивка, тушенку, супы и томатную пасту и все это, сука, положи в пакет.
В полиэтиленовый пакет с надписью на английском языке, которая в переводе означала «Злорадство – тоже радость», переместились с десяток бутылок «Хламогорького», пять потрескивавших под пальцами коробок китайских супов быстрого приготовления, четыре скользкие от жира железные банки с тушенкой, несколько пачек сигарет, банка томатной пасты. Братовняк профессионально осматривал упаковки, выискивал сроки хранения продуктов и придирался:
– Ты какую томатную пасту протягиваешь? Просрочена. На меня смотри! Я тебя счас вместе с киоском опрокину. Положи обратно и дай другую.
Пакет с продуктами продавец поставил к окошку и спросил:
– Кто будет рассчитываться?…
– Ты что на голову болен? Не видишь, кто перед тобой? – спросил Братовняк и наклонил поближе к окошку свое лицо, похожее на побритую до гола морду медведя.
Продавец, худосочный небритый кавказец, которого на русский манер звали Федя, чуть не забыл, какие мышцы надо напрягать, чтобы дышать. Он открывал рот, напрягал грудь, но воздуха внутри не чувствовал. Медведи вокруг маленького нефтяного города ходили, и он сам еще недавно был рыбаком и охотником.
ЗВЕРИНЫЙ СУД
«Никто не знает, в каком обличье предстанет высший суд»

На охоту без водки что в магазин без денег: завидной добычи нет, и азарт не тот. Вот и Федя как-то забыл припасенную бутылку. Вроде бы положил в рюкзак, а на поверку вышло, что в коридоре оставил, и не удалась охота.
Дело было весной, когда солнце на Крайнем Севере парит высоко и ослепительно, но без шапки-ушанки не походишь. Шел Федя по лесу, ружьецо за плечом дулом вверх болтается, снег под ногами сминается, как воздух. А тут медведь впереди. Обмер Федя, чтобы зверь не отличил его от пня-переростка или кустарника, рванул ружьецо с плеча, и тут мохнатая темнота на оба глаза упала!!! Федю липкий пот прошиб.
«Лапа медвежья свет скрыла! Парой ходили, гады, – запаниковал он. – Пока тот, что впереди, внимание отвлекал, второй сзади обошел. Сейчас скальп снимут». И пронеслась перед Федей вся его охотничья жизнь в одно мгновенье, и послышался ему медвежий рык, в рыке том – слова:
– Бил зверье – вот и расплата пришла!
«Ничего личного, ничего личного… – как молитву мысленно затараторил Федя, надеясь, что ослышался. – Ведь только для семьи старался, чтобы попробовали свеженького мяска».
В ответ ему опять рыко-слово:
– У меня тоже ничего личного. Для медвежат стараюсь. Извиняй. Поделим тебя с брательником поровну, у него тоже детишки по берлогам сидят.
Федя поразился: он и не думал, что перед смертью медведя можно понимать, и заговорил вслух:
– Не бери грех на душу. Не ешь меня. Я хороший и честный.
– Ты ж пьянчуга! Пьешь и стреляешь. Врун! Тьфу!
Показались медвежьи когти, острые, как испанские ножи, и требовательно постучали по Фединому лбу. Федя смолчал.
– Сколько ты, зверь, зайцев, куропаток, уток да гусей побил?! У тебя весь ствол в крови, точнее оба ствола! – прорычал медведь. – У тебя ж и для пули, и для дроби отдельно. И дома, поди, арсенал…
– Выброшу все ружья, мишка, хоть денег стоят. Выброшу. А насчет зайца я не специально. Азарт взыграл. Жалел его, ох как жалел, но не пересилил натуру. Ошибся, пощади.
– У меня тоже натура такая, что не укротить, и азарт вот-вот взыграет! Не лень же тебе идти через леса и болота и не жалко бензина. Столько сил ради того, чтобы пострелять, смерть посеять. Ну ничего, отходился…
– Так за компанию же. Все палят, и я палил. Куда деваться? Теперь в лес ни ногой…
– Это точно. Больше в лес не пойдешь. Здесь останешься, а ноги мы отгрызем первыми. С них начнем. И на жалость не дави! Ты ж обычный убийца. Мы с голоду охотимся, жить по-другому не можем. А ты?
Федору показалось, что медведь, стоявший позади него, похлопал себя по брюху и громко сглотнул слюну.
– Говори последнее слово. Не томи. Лапы горят, и желудок требует.
– Миш, а миш, отпусти меня, а я начальника своего приведу? Он жирнее…
– Фигушки. Знаю такую сказку. Уйдешь и не воротишься и никого не приведешь. Я тебя за такие разговоры могу и в заложники взять. Будешь других зазывать: письма из лесу слать о том, что богатую поляну, ягодную или грибную, нашел и не можешь оторваться… А мы тут все соберемся, лужайку для банкета расчистим. Хорошая мысль?
– За гада же меня посчитают, проклянут…
– Ничего страшного. За то тебя в последнюю очередь съедим, а пока медвежата тобой поиграют. Опять же надежда у тебя останется. Будешь убегать, точнее уползать, куда ж ты без ног, а мы разомнемся хоть, след твой вынюхивая…
В этот момент Федя почувствовал, что тяжесть в голове ослабла, что медведь ослабил хватку. Проворно присел он, уходя от медвежьей лапы, повернулся в сторону, где медведей встретить не предполагал, и побежал. Ох как побежал, но вокруг по-прежнему темно, то ли от страха, то ли оттого что медведь не отставал и глаза лапой прикрывал. «Ах, падла», – ругнул медведя Федя замолотил ногами, как мог, на полном ходу ударился головой в дерево, каковых в тайге полным-полно, и упал…
Очнулся Федя от шлепков по щекам, приоткрыл глаза, а там медведей и голос опять:
– Добегался? Башка у тебя крепкая. Мы из нее медвежатам баклуши сделаем… Баклуши, баклуши… Медвежатам, медвежатам… Да очнись ты… Федя!
И тут Федя распознал, что не звери вокруг него, а друзья. Оказалось, что медведь, которого он подстрелить хотел, убежал, а второго медведя и вовсе не было. Просто когда потянул ружье с плеча, оно дулом-то зацепилось за шапку-ушанку и развернуло ее так, что ухо от шапки прикрыло глаза мохнатой темнотой…
***
Эту курьезную историю Федя вспоминал долго. Первые два месяца он не мог заснуть, если жена не гладила его спину или голову. Во сне его навещал медведь, то в черном костюме со значком «Дэпутат» или «Мэрин» на широченном отвороте и при галстуке, то в телогрейке мастера жилищно-коммунального участка, то в фартуке парикмахера… Особенно четко запечатлелась в больном сознании Феди начисто выбритая медвежья морда, вежливо выговаривавшая:
– Позвольте оболванить!..
Вот такую начисто выбритую морду медведя из Фединых кошмаров напоминало лицо Братовняка. Когда же тот просунул в окошко руку и поскреб по прилавочку крупными грязными ногтями, то Федя вспомнил медвежьи когти-ножи и, обуянный ужасом отлетел от окошка, как легкая бумажка, подхваченная сквозняком. Ему помешало убежать и придало храбрости лишь то, что он сам был заперт в киоске, казавшемся ему военным бункером.
– Мне надо кассу пробить и перед хозяином отчитаться, – ответил он Братовняку, всем своим поведением предлагавшему отдать пакет с продуктами бесплатно.
В дело включился более опытный в таких делах Мухан.
– Открой дверь, узнаешь, как добрые люди рассчитываются! – прорычал Мухан и вызывающе толкнул форточку, да так, что разбилось стекло.
Осколки звонко разлетелись по подоконнику и упали на пол. Продавец сильнее вжался в дальнюю от окошка стену, зазвенев приставленной к ней стеклотарой. Мухан просунул руки в окошко, схватил пакет, вытащил его наружу и пошел к машине.
– Деньги отдадим, – хмуро заверил Братовняк. – А шум поднимешь – я лично с проверкой приду, и вы только на штрафы будете работать. Так хозяину и передай. Слышь, ты, запертый? Понял?
– Понял, – безрадостно ответил Федя.
Его не услышали: удовольствие получили и забыли. Компания опять села в машину.
– Ну что, Дойкина, махнем к твоей подружке? – утвердительно спросил Братовняк.
– Крути баранку до Телкиной, Мухан. Гулять будем! – задорно крикнула Дойкина и шлепнула ладонью по плечу…
Гулянка прошла так, что безодежные Дойкина с Телкиной, после достижения высшего накала разыгравшихся чувств, принялись позировать Мухану, прыгавшему вокруг них с фотоаппаратом в одном носке и почему-то женских трусах. Братовняк пританцовывал гопака в куртке защитного цвета, накинутой на обнаженное тело, и устраивал сцены… Но для поддержки приобретенного настроения, спиртного, учитывая даже самогонный амбарчик Телкиной, оказалось мало…
***

Мужику не спалось, он сидел у облупившегося окна, облокотясь на кухонный столик, поглядывал на перемигивающийся экран телевизора. Спроси его, что показывали хоть минуту назад, он бы и не вспомнил. Но можно сказать с полной определенностью, что на следующий день, он как обычно купит пива, сигарет, замечтается о дорогой машине, неосознанно возжелает собачьих консервов и проявит повышенный интерес к женским прокладкам и тампонам… В общем, мужик безмятежно исполнял свою потребительскую роль в общении между трудовым коллективом телевизионного предприятия, зарабатывавшим на телевизионной рекламе, и рядовым зрителем.
Квартира находилась на первом этаже, и окна располагались достаточно низко, чтобы легко обозревать окрестности и прохожих. И вместо того, чтобы счистить с окна остатки краски и заново покрасить его или заняться другим плодотворным занятием, мужик регулярно после работы смотрел либо в телевизор, либо на улицу. Он иной раз подскакивал со стула, упирался лбом в стекло, чтобы проследить за интересной уличной сценкой, но сейчас его загипнотизировал телевизор.
Звонкий стук в окно нарушил умиротворение. Мужик глянул и изумился. Возле окна задорно исполняли вольный сексапильный танец две девицы. Это были Дойкина и Телкина. Они пьяно улыбались, смотрели в окно на мужика и, осознав, что привлекли его внимание, начали раздеваться, несмотря на морозец. Мужик прильнул к окну. Ночь летела лунная. Светло. Дойкина и Телкина недолго исполняли парный стриптиз и накинули шубы, а потом возле окна появились Мухан и Братовняк. Последний постучал в стекло и сказал громко, чтобы расслышали:
– Слышь там. Знаем, что смотрел. И знаем, что понравилось, а за зрелища надо платить. С тебя пять тысяч, иначе стекла побьем…
Зрелищ в маленьком нефтяном городе немного. Мужик поблагодарил самостийную стриптиз-группу и сторговался за тысячу.
***
Кто выдумал разрозненность событий,
Исток которых – случай и порыв?
Откуда дар нечаянных наитий,
Дающий миновать Судьбы обрыв?
Все свыше. Только жизнь без риска смерти
Лишь грезится, хоть и в достатке сил
Финал один на жизненном концерте,
Хоть разный путь. Бери, который мил.
И не спокойствие я взял. Был весел, буен.
Вчера. Сегодня снова стал угрюм.
И так мотает, словно, в бурю буек
По жизни, где то стар, то снова юн.
Как не сгореть на этих перепадах,
Сгореть, как часто многие горят?
Не будет никакой за то награды,
Лишь только чуть потом поговорят.
Жизнь ищет не полетов и падений
И требует не полюсов страстей,
А только лишь надежного горенья,
Чтобы сгореть, как можно попоздней…
Стихи читал Семеныч словно для большой аудитории, слова неслись по кабинету, но влетали только в две пары ушей. Одна пара находилась на голове у самого Семеныча, и ушки эти были оттопырены и потерты сверху, где Семеныч привык укладывать запасные сигареты. Вторая пара ушей, похожих на полуоткрытые крышки жестяных консервных банок, находилась напротив – на голове скучающего Братовняка, который, как кряжистая сосна, покореженная вездеходом нефтяников, стоял перед столом Семеныча.
– Хоть негодяи работают в городской газете, но суть твою верно прописали, – сказал Семеныч, положив газету на стол. – Горишь ты ненадежно. Не надо взлетать и падать – нам надо спокойно идти по жизни, чтобы было тихо и вдоволь. А ты что делаешь?
– А что я делаю? – спросил Братовняк, надеясь, что Семеныч не знает про вчерашнюю пьянку или хотя бы не все.
– Дурака-то не строй, – рассердился Семеныч. – Вот Коптилкин бумагу прислал. Ты что по крайностям ходишь? «Лалу» разбомбили! Договориться, как люди, не могли?! Хозяин киоска – Оглы. Он бы и так отдал.
– Да где его ночью искать? – спросил Братовняк. – Нам невтерпеж было, мы ж кавалерили, ухаживали за дамой, а там один продавец упертый.
– Ох, дубинушка! – определил Семеныч. – Отъем продуктов прокурор Коптилкин вынужденно расценил как грабеж и затеял уголовное дело.
– Ущерба-то на копейки, зато вони на тысячи! – пробасил Братовняк.
– Ладно. Замнем, – смягчился Семеныч. – Но ты помягче впредь. Помягче. Даже курицу напугай, так она яйца нести перестанет, еще и квохтать будет на весь огород.
– Постараюсь, Анатолий Семенович…
Братовняк пожал мощными плечами, Семеныч подумал: «А говорят: две горы не сойдутся. Что с дубины возьмешь, кроме силушки, а она нам нужна, иначе как на базар ходить?»
– Большой ты мальчик, а как ребенок. Иди, работай, – сказал он.
– Анатолий Семенович, чуть не забыл. Примите, пожалуйста, на работу моего дружбана, Мухана, – попросил, будучи у дверей, Братовняк. – Ей-богу, не пожалеете.
– Какого Мухана?
– Да этого, с которым мы ларек бомбанули. Парень со способностями к полиции, но улица делает из него обычно бандита.
– Хватит нам таких. Иди, иди, – проводил сотрудника Семеныч и стал писать на него характеристику, затребованную из суда:
«За время работы в налоговой полиции проявил себя исключительно с положительной стороны. Имеет высокие показатели служебной деятельности. Примерный семьянин. Любящий отец малолетнего ребенка…»…
***
Лишь по прошествии трех лет суд вынес приговоры обоим участникам ограбления «Лалы» – три года лишения свободы. Условно. Мухан по этому поводу смеялся:
– Я уже дважды условен!
Братовняка, несмотря на приговор суда, из налоговой полиции не уволили: он был человек нужный.
Нужные всегда выгодно отличались от простых, тем, что они были родственниками того, кому нужны, друзьями или необходимыми специалистами. Последнее, правда, случалось крайне редко. Нужные не становились в очередь на получение квартиры, не откладывали деньги на их приобретение: квартиры им выдавали даром и быстро, вне зависимости от того, строилось жилье или нет. Нужным всегда назначали выгодную заработную плату и хорошие премии. Нужные получали ссуды по самым низким процентам, а то и без процентов. Нужные имели почти все жизненные блага, которые могли себе возжелать. В ответ требовалось быть преданным. Были нужные люди и в редакции газеты маленького нефтяного города.
ЛУЧИНА
«Человек гораздо устойчивее, когда на коленях»
Любому вождю нужен летописец, любому чиновнику – покладистый и умелый журналист. Лучину в маленький нефтяной город пригласила Мерзлая, Хамовский наделил Лучину квартирой в элитном доме, где кроме него селился Тыренко, разная начальственная мелочь, и даже дама из отдела по распределению жилья и дело пошло…
Высок ростом, в меру обаятелен был Лучина, словоохотлив, имел пышную волосяную поросль над верхней губой, скрывавшую ноздри. Выгодно отличал Лучину изысканный, спрятанный в глубине души страх перед начальством, изредка пробивавшийся на поверхность тела в виде дрожащих кончиков пальцев и век, маслянистых глазок, всегда смотревших чуть наискось от собеседника, будто Лучина стремился разглядеть, кто стоит за его спиной. Мэру это нравилось. Он часто говаривал: «Человек без страха – лодка без весел».
Водилось за Лучиной еще одно неопределенное качество. Он сосал водку, как грудной младенец молоко. К этому начальство тоже относилось снисходительно, потому как само посасывало. Но был у Лучины один недостаток, не нравившийся высокому начальству маленького нефтяного города: он не чурался в пьяном виде появляться в публичных местах и тем самым бросать перегарную тень на красивейшее в городе здание – здание муниципалитета.
Маленький нефтяной город от Лучины получил готовый продукт в виде сносных статей о том, какие прекрасные люди работают чиновниками и как хороша городская администрация, но, поскольку тот не унимался в своих пьяных забавах, Хамовский задумался о ликвидации…
– Здравствуйте, можно? – спросил Алик, осторожно приоткрыв дверь в кабинет мэра.
– Что, спивается ваш друг? – сходу спросил Хамовский. – Водку пьет. Выгонять буду. Ты знаешь, что он водку пил?
– Я не интересуюсь. Честно, – обманул Алик, не желая доносить на человека, не сделавшего ему ничего плохого.
– Водку пьет. Буду выгонять, – повторил Хамовский. – Думай, если хочешь на его место… Просьба подумать и в понедельник-вторник мне сказать. Хорошо?
– Хорошо. А исходные данные этой должности? – спросил, проявляя внешнюю заинтересованность, Алик. Он был готов сказать «нет», потому что не желал подсиживать человека и ущербно для себя не стремился к карьерному росту, но не желал столь быстрым отказом навлечь на себя возможные неприятности.
– Нормальные исходные данные, – ответил Хамовский. – В деньгах ты выигрываешь. Думай, думай быстрее…
Причину поспешности мэра Алик знал: администрации нужен был незапятнанный славослов, а пьяного Лучину за рулем личного «Москвича» задержали сотрудники автоинспекции…
***
Лучина, как сильно напьется, любил поиграть в кегли. В родном Калининграде, будучи нетрезвым, он плелся в ближайший кегельбан и катал шары до одурения, но в маленьком нефтяном городе развлекательных заведений почти не было, если не считать нескольких питейных забегаловок и неуклюжего, похожего на упавшую водонапорную башню Дворца культуры. Лучина вышел от знакомых, с которыми он залил внутрь пол-литра только на дорожку, сел в «Москвич» и вдруг представил себя мыслящим шаром, что ему, творческому человеку, в угарном состоянии не сложно. Он восхищенно оглядывал свои округлые, гладкие формы глазами на ниточках, как у морского рачка, похлопывал, постукивал по твердой блестящей поверхности выступавшими по бокам руками, и слышал качественный костяной звук. Припаркованные машины стояли тесным рядком напротив подъездов дома, как кегли, и манили. Лучина медленно проехал мимо ряда, внимательно оценил расстановку кеглей-машин и газанул… «Будь я трезвый, – размышлял шар-Лучина после игры, – то, возможно, результат был бы куда лучше. А на пьяную голову сумел поразить всего ничего…» Из задумчивости его вывела сирена… От подъездов бежали жильцы, некоторые порывались ударить неудачливого Лучину по лицу, но присутствие милиции охладило их пыл, а потом над разозлившеюся толпой пронеслось: «Да это ж Лучина – мэров писака…»
***
Сразу после разговора с Хамовским Алик вернулся в редакцию газеты маленького нефтяного города. Был разгар работы: в квартире, которую занимала редакция, поселилась тишина и безлюдье, корреспонденты пребывали на заданиях. Один Лучина задумчиво сидел в кабинете и курил. Тлеющий табак на кончике сигареты вспыхивал, как черноморские светлячки в ночной тьме. Лучина энергично втягивал дым, полногрудо выстреливал его, а потом с наслаждением трогал языком и обминал губами сигаретный фильтр. Алик не стал таиться:
– Мэр предложил занять твое место, но мне не надо… Хочешь удержаться – сосредоточься… Журналистская солидарность… Решил предупредить… Он тобой недоволен… Очень недоволен… Не я, так другой…
С каждым новым словом огонь жизни покидал лицо Лучины все заметнее. Он бледнел, и Алик счел за должное умолкнуть.
– Спасибо. Спасибо, что сказал… – рассеянно поблагодарил Лучина, но при этом походил на вежливого боксера, получившего умопомрачительный удар в один глаз и смиренно приглашавшего своего соперника к другому удару…
В джентльменском поступке Алика порядочности было примерно наполовину. Алик рассчитывал, что Лучина, как приближенный к мэру человек, все ж был фигурой в маленьком нефтяном городе и мог помочь в будущем из благодарности. Во-вторых, он рассуждал так: «Ну оступился человек, все ж не дурак, будет знать, что над ним нависла угроза увольнения, может, исправится…» Расчеты роились глупые, потому как всякая кошка дождется своей мыши, и добровольной добычей стала как обычно услужливость, вежливость, учтивость…
***

Лучина, как только за ним захлопнулась пропитанная морилкой лакированная тяжелая дверь кабинета мэра, упал на колени, хотя был в отглаженном добротном костюме, и так, стоя на коленях, направился к градоначальнику. В глазах Лучины появилось страдательное выражение, какое бывает у огарков свечей, когда с них ручейком стекает плавящийся воск. Ручки энергично ходили вдоль тела, как поршни. Брюки мягко шуршали, касаясь пола, но их шорох заглушался быстрыми стуками коленей Лучины. Боль от ударов о паркет снимало воодушевление.
– Виноват, ей богу виноват, – на ходу тараторила Лучинина голова, проплывая над поверхностью административного стола, словно срезанная. – Больше никогда. Что-то нашло на меня…
– Ты что!? – удивился Хамовский, отстраняясь от приближавшегося Лучины. – Сдурел?! Имей самоуважение.
– Какое самоуважение!? – вскричал Лучина и примкнул губами к мэровым ботинкам.
Зазвучало чмокание.
– Только не увольняйте. Докажу. Что угодно, – Лучина поднял голову.
Его губы чернели, как руки кочегара.
«Да! После чистки туфли надо протирать. Обувная кожа ни хрена не впитывает. Этот урод все слизал. Как теперь не думать о себе в божественном смысле? Рука не поднимется его уволить. Оставлю. Страх работоспособность подгоняет», – подумал Хамовский и сказал:
– Вставай, Лучина, клади зад на стул, поговорим.
– Молю, не увольняйте, – всхлипывая, проговорил Лучина, потянулся черными губами к ладони мэра и остановился только тогда, когда эта ладонь стукнула его по лбу.
– Хватит шалить, садись, мать твою, а то действительно уволю…
Лучина сел напротив Хамовского, сердце его взволнованно отсчитывало по два-три удара в секунду, стремясь выскочить из груди, глаза слезливо поблескивали и неотрывно вглядывались в лицо мэру, как у впечатлительных женщин, смотрящих сердцеедную мелодраму, или как у фанатичных прихожан, вглядывающихся в лики святых.
«Только бы не знал всего остального, – молился мысленно Лучина. – Только бы не знал». И молиться было о чем, поскольку Лучина регулярно и непрофессионально поворовывал, получая деньги по откровенно липовым документам, где значились нужные для редакции покупки, которых никто и в глаза не видел. Собственно для этого он и приехал в маленький нефтяной городок на край света, чтобы подзаработать любыми способами, рассчитывая на дремучесть северных жителей. Но до этого, он полагал, не докопаются.
– Еще раз попадешься пьяным, уволю, – угрожающе произнес мэр. – В принципе, твоя работа меня удовлетворяет. Рассказывай, как дела…
Нужным многое прощается. Им всегда дается второй шанс. Даже когда их увольняют, они без работы не остаются. Так было с Лучиной, так было с Братовняком, так было и есть…
ОППОЗИЦИЯ
«Было бы что делить, а те, кому делить, всегда найдутся»
Типичный российский казнокрад Семеныч в целом был человек неплохой и даже душевный. Он любил любые стихи, профессиональные и непрофессиональные, любил сами рифмованные фразы, любил музыку в них. У него иной раз серебристые слезы зарождались в уголках глаз, когда по местному радио транслировали распевные стихи местных поэтов, настоянные на тоске по родному дому, по старым друзьям, на стремлении что-то написать в рифму на тему маленького нефтяного городка и Крайнего Севера. Вот и в этот раз женский голос из небольшого китайского радиоприемника, оформленного под свинью-копилку, мягко декламировал:
Если есть дороги на юг, то есть и на север.
Уезжаем домой, в отпуска мы не навсегда.
Сколько в сердце тепла, когда жарче и солнце, и ветер!
Сколько скучной прохлады с рожденьем за окнами льда…
Жизнь – забвенье тревог и разлук, соли слезной и острой,
Если б не было так, то давило бы вечно виски…
И стучит по железу дорог колесами поезд,
Оставляя в далекой дали нефтяные пески.
Где, когда остановка, где выйдем, обнимемся крепко?
Поцелуя глоток – и дыханье любимой в груди,
Но дрожат за окном от движенья вагонного ветки,
И махают они и прощаются: «Милый, лети!»…
Семеныч по привычке расчувствовался, утер смочившую ресницы жидкость и отключил радиоприемник. Лицо его сразу утратило сентиментальные черты и стало жестким, как кирпич. Он вернулся к мстительным мыслям, одолевавшим до краткого поэтического отдыха. Дело в том, что его собственные сотрудники, Гриша и Паша, сказали и замыслили недоброе против него – против Семеныча. Теперь перед Семенычем стояла задача: кончить противников без лишних сантиментов, то есть любыми способами убрать с работы.
***
Бывшие оперативники Гриша, худой и гладкий, как чертежный карандаш, и Паша, верткий и манерный, средний по калибру мужчина, не были честными налоговыми полицейскими. Внешне они выглядели вполне прилично – душевную гнильцу выдавали глаза, и то не всегда, только при разговоре о деньгах. В них появлялся задорный блеск, словно на поверхности глаз самопроизвольно выступало сливочное масло, и возникала небесная мечтательность, странная на алчном лице.
В милиции они тоже брали взятки с подследственных за помощь в смягчении уголовных дел, но это было опасно и размах не тот, а в налоговой полиции на мздоимство смотрели куда проще. Гриша и Паша перешли в ведомство, близкое им по духу, надеясь на хорошие заработки и взятки. Однако, несмотря на то, что по складу характера они вписывались в коллектив налоговой полиции, как пара стандартно отштампованных пряников в общей куче, их не допускали в ядро коллектива, где делились главные деньги, и даже более: они попали в число тех полицейских, чью зарплату Семеныч прокручивал и выплачивал с большим опозданием…
В тот момент, когда возле кассы оживленно толпились приближенные к Семенычу лица, в одном из кабинетов налоговой полиции встретились Гриша и Паша, фамилий которых как обычно не было в платежной ведомости.
– Шестеркин – мерзавец – тоже за деньгами стоит, – возмущался Гриша. – Показателей никаких, зато поощряется премиями и почетными грамотами за высокие результаты! А все оттого, что стукач. Продажный подлиза, где что услышит, тут же докладывает, причем нагло, в открытую. Как же! Человек, преданный Тыренко с макушки до пят. Тот его из простых водителей вывел в офицеры, а он и высшего образования не имеет, и неизвестно, заимеет ли. Вот какие теперь люди нужны, а не такие менты, как мы.
– Вспомни, как раньше праздники отмечали. Всегда всей полицией вместе. Спокойно выпивали, говорили, ничего не боясь. Как Тыренко пришел, стали делиться на группки, – поддержал Паша. – А с приходом Шестеркина полный крах наступил. Звать его за стол – это считай заявление на увольнение писать. Все ж руководству расскажет. В пацанские годы мы таким темную устраивали, а сейчас они нам. Когда последний Новый год справляли, я вышел в коридор, смотрю, он один в дежурке сидит. Грустно на меня посмотрел. Вижу по глазам: ждет, что я позову. Хреночки…
– Слышь, Пашка, надо проникнуть вбухгалтерию и порыться в документах. Тогда можно взять Семеныча за горло.
– Согласен. Не откладывая, во время ближайшего ночного дежурства сделаем. Только приемник громче включи, а то как бы эти обсуждения боком не вышли. Кабинеты могут прослушивать…
Так оно и оказалось. Двух не заглушенных приемником фраз Семенычу оказалось достаточно, чтобы распознать зловредные намерения. Он то прослушивал запись, то включал радио, ища отдохновение для сердящегося сердца в поэзии маленького нефтяного города, но по радио транслировали поп-музыку…
Семеныч взглянул на часы и нашел утешение в цифрах на их прямоугольном дисплее. «Слава богу, конец работе, – вздохнул он. – Пойду домой, завтра решу, что делать с моими революционерами».
АВТОСЛЕСАРЬ ПРОТИВ ХИЩНИКОВ
«Брать взятки, как и танцевать, надо виртуозно, не сильно наступая на партнера»

Маленький нефтяной городок фонтанировал финансами, и, несмотря на то, что самому городу из этого богатства доставались лишь брызги, а главная денежная струя текла в Москву, российская общенациональная мечта относительно квартиры, телевизора, машины для многих работающих сбывалась в нем очень быстро. Старые советские нормы обустройства дворовых площадок, рассчитанные на установку максимум с десяток «Жигулей», показали полную непригодность для нового времени Крайнего Севера. Но дома не мебель, которую можно передвигать с места на место. Счастливые автовладельцы начали заезжать на газоны, детские площадки… и даже у подъездов домов машины стояли так тесно, что жители к своим квартирам проскальзывали бочком, да и то если до обеда. Преумножение машин стало горем для городских властей, но большим счастьем для тех, кто умел ремонтировать автохлам, чинить электронику, понимал в двигателях. Станции технического обслуживания расплодились, как мышеловки во времена подвального нашествия этих серых тварей.
Юра Рыжий, о котором мы уже говорили, не упоминая фамилии, работал в своей станции технического обслуживания, а попросту – гараже, незаконно. В налоговой полиции на этот грех смотрели сквозь пальцы, поскольку Рыжий чинил машины задаром Семенычу и его приближенным. Это был автослесарь в законе.
Он пытался легализоваться, но спасовал перед обилием формальностей и взяточников, написал сердитое скандальное письмо в редакцию газеты маленького нефтяного города, вскоре понял, что драка не метод, что лучше дружить, успокоился и остался в отрасли теневой экономики. Рыжий сошелся с Семенычем, тот договорился с налоговой инспекцией, и все предпринимательские проблемы Рыжего исчезли, как мелкие хулиганы пред солидной бандитской крышей. На его гараже появилась притягательная вывеска «СТО у Рыжего», о которой он когда-то мечтал.
К великому удивлению Рыжего, в один не очень прекрасный день за отсутствие лицензии, факт очевидный и выгодный всем контролерам, на него завели административное дело Паша и Гриша, не знавшие подробностей сношений Рыжего с Семенычем. По ходу дела они выяснили, что Рыжий фиктивно числился в какой-то организации, чтобы ему шел стаж. Кто получал за Рыжего заработную плату – не важно. Важно то, что Рыжий перепугался. Он и подумать не мог, что два энергичных сотрудника налоговой полиции действуют по собственной инициативе, и решил, что чем-то обидел Ворованя. А возможность этого существовала, потому что бесплатным слесарным работам душа его противилась, и он тащил себя на дармовой труд, как упершегося осла.
«Прогневил некачественным ремонтом! Ох, прогневил! Теперь мстит! Ох, мстит! Опять лицензироваться придется, – от последней мысли луковицы волос на голове Рыжего выпустили седые нити. – Что ж, прав тот, у кого больше прав. Надо уважительнее к чиновникам. Уважительнее». И он смирился с судьбой, а судьба в виде Гриши с Пашей просила денег за то, чтобы замять дело. Они пришли в гараж Рыжего, расположенный в самом гнилостном местечке маленького нефтяного города, удаленном от центра, если пешком, то на минут двадцать…
– Сколько? – только-то и спросил Рыжий.
– По твоему бизнесу немного. Ты эти деньги быстро отыграешь. Тридцать тысяч рублей, – без колебаний Гриша назвал сумму, на которую, если немного добавить, можно было купить новую российскую машину последней модели.
– Сейчас таких денег нет. Свою машину продал, чтобы памятник отцу поставить. Заработаю, рассчитаюсь…
– Отговорки не интересуют. Сейчас давай. Иначе под суд пойдешь.
– Хоть сумму снизьте, – попросил Рыжий. – На базаре самый жадный торгаш и то…
– Мы не на базаре, а при исполнении. Сумму не снижу. Она на троих. По десять тысяч мне, Паше и Ворованю, – ответил Гриша. – В противном случае мастерскую придется закрыть.
Рыжий, услышав фамилию Ворованя в ряду своих мздоимцев, окончательно упал духом, поскольку уверовал в версию о плохом ремонте и мести.
– Хорошо, я постараюсь собрать деньги, но это будет непросто, – ответил Рыжий.
– Постарайся, постарайся и побыстрее: сроки рассмотрения твоего дела поджимают. Завтра нужна половина, – сказал Гриша.
Рыжий приплелся домой огорченный. Его вид вызывал тоскливую грусть, какую на Крайнем Севере у переселенцев обычно вызывает июньский снег. Чем-то на снег и смахивало лицо Рыжего, слегка – цветом, слегка – душевным холодом, шедшим от него. На пороге его встретила жена, Люда, крепкая женщина, одетая как обычно в синее обтягивающее хлопчатобумажное трико и белую футболку с цветной фотографией Генерала, что делало ее похожей на бройлерную курицу без перьев.
– Что случилось? – беспокойно спросила Люда.
– Водка есть? – вопросом на вопрос ответил Рыжий.
– Кажется, но что с тобой? – еще более забеспокоилась Люда.
– Налоговая наехала. Двое молодых, но дерзких, просят тридцать тысяч. Воровань послал. Чем не угодил, не понимаю, – рассказал Рыжий, следуя за женой на кухню.
– Тридцать тысяч!? – ошарашено переспросила Люда.
– Да. Иначе закроют. А куда мне? – скорбно произнес Рыжий.
Супруги Рыжие сели на кухне на белые табуретки, поверх которых лежали небольшие округлые подстилки из разноцветной овчины, и выпили водочки, и пошла она очень хорошо. После каждой рюмки тепло растекалось в груди, ощутимо расползалось по невидимым извилистым канальчикам в животе, а в голове благополучно мутнело, и этим туманом все больше скрывались одержимые лица требовавших денег налоговых полицейских. Когда горечь от встречи с вымогателями полностью утонула в водочных стопках, Рыжий пошел в комнату и из-под кипы глаженого белья, лежавшего в антресоли достал пачку денег. Пересчитал. Оказалось двадцать тысяч. «Ну и хрен с ними, – решил он. – Не было денег, и это не деньги. Принесу, скажу: больше нет. Может, они удовлетворятся и отстанут. У меня действительно – ни копейки». Подумал он это, лег на диван и уснул.
***
Ему снилась мощная река. Широка была ее покрытая множеством волн серая непрозрачная поверхность, окаймленная по линии берегов зеленым кустарником. Его руки держали деревянные светло-зеленые весла, и он греб. Стоило многих сил совладать с течением реки, изобиловавшей водоворотами, и направить лодку прямо. Он даже несильно столкнулся с попутной лодкой, где сидели двое налоговых полицейских.
– Следуй за нами и готовь бабки, – сказали те. – Мы плывем на дачу. Отдыхать будем, шашлык жарить…
Внезапно широкая поверхность реки превратилась в узкий бурный поток небольшой речки или ручья. Берега дышали живой ивой, в воде играли дети. Впереди по-прежнему плыли налоговые полицейские. Они уверенно и весело вели свою лодку теперь уже по желобу со стремительно текущей водой, по желобу, который вдруг стал подниматься вверх…
Отчетливое чувство опасности пронзило сердце Рыжего. Он понял, что при таком взлете желоба впереди ожидает спуск, возможно крутой. Возможно водопад. Так и получилось.
Налоговые полицейские полетели вниз. Рыжий уперся ногами в края желоба, затормозил, вылез из лодки, ставшей узкой, как каноэ, и устремился к обрыву. Внизу под падающей водой оказалась куча дерьма, из которой торчали две пары ног. И тут Рыжий понял, что из хорошей мощной реки их затянуло в протоку со сточными водами, в часть очистной системы. Но самое удивительное, что на помощь упавшим налоговым полицейским уже бежали не какие-нибудь сантехники в грязных робах, а какие-то вполне приличные люди в дорогих костюмах…
***
Сон не принес Рыжему свежести отдохновения, внутренности головы болели. Он, кривясь и охая, собрался, взял деньги и пошел в гараж. Работа вызывала отвращение. Тогда он отпустил помощника, а сам сел на канистру и слепо уставился на помятое крыло пригнанной для ремонта машины. Так и сидел, пока не пришли Паша с Гришей, а это произошло ближе к обеду.
– Что сидишь, не работаешь? – участливо спросил Гриша, чтобы не сразу о деньгах.
– Какая работа?! Вас жду, – уныло ответил Рыжий.
– Принес? – жестко спросил Гриша и, войдя в зону, где витал дух перегара, усмехнулся. – В гостях был?
– Какие гости? – непонятливо переспросил Рыжий. – С женой пили. Думаешь, приятно с деньгами прощаться? Двадцать тысяч принес. Это все, что есть.
Рыжий кинул вымогателям перетянутую тонкой красной резинкой крест на крест пачку денег. Паша поймал ее с молниеносной быстротой ястреба, хватающего на лету добычу, пересчитал и подтвердил:
– Двадцать.
– Хочешь, чтобы я или Паша, или Воровань остались недовольны тобой? От каждого из нас зависит твое спасение, – напористо заговорил Гриша. – С тебя еще десять и времени максимум две недели.
– Правду говорю. Нет денег. Хоть с обыском приходи…
– Дело о твоих проступках, Рыжий, не просто закрыть. Хлопотно. Поработать придется, дать на лапу тем, другим. Нам-то с Пашкой почти ничего. Ты нас обидеть хочешь? Ищи, крутись. Ты же предприниматель. Две недели срок…
Вечером Рыжий с Людой опять сидели на кухне и попивали водочку. Они сидел и этим вечером, и следующим, и последующим, пока похмелье не притупило у Люды страх перед начальством, и она рассказала эту историю жене Ворованя, с которой вместе работала в одном бюрократическом учреждении.
Нефтяной город был маленьким настолько, что средний человек проходил его центральную улицу имени Ленина из конца в конец за полчаса, скорая помощь проезжала эту же улицу минут за пять, а Мухану хватало пары-тройки минут, когда у постовых пересмена. Прожив в этом городе несколько лет можно знать всех его людей, если не по фамилиям и имени, то в лицо – точно. Организаций мало. Работают кто с кем, и каждый знает другого. Вместе пьют чай, лялякают. Маленький город диктует домашние рабочие отношения. Это не безликое производство или чиновничье заведение большого города, где разбежались после окончания рабочего времени и прощай. Здесь пойдешь по улице – встретишь, зайдешь в магазин – увидишь, а иной раз в своем подъезде за руку поздороваешься со своим сослуживцем. Поэтому обсуждать личные проблемы в коллективах маленького нефтяного города – не грех и не случай, а правило. Вот жена Рыжего не утерпела и рассказала.
– Только мужу не рассказывай. Не надо, а то как бы нам хуже не было, – взмолилась под конец исповеди Люда, выговорившаяся и вновь обретшая свое обычное бытовое соображение.
– А может, тебе или твоему Рыжему самим подойти к Анатолию и все объяснить? – спросила Ворованиха.
– Да что ты!? Я ж боюсь. Мой тоже не пойдет. И ты, прошу, молчи, – еще раз попросила Люда…
Она перестала нормально спать от панической догадки, что Ворованиха все-таки расскажет…
Так и произошло, когда Семеныч после прослушивания скрытой записи враждебно затаившихся против него Паши и Гриши пришел домой, собираясь отдохнуть…
***
Машинально пощипывая подрагивавшие от гнева ноздри, Семеныч слушал жену. Более всего его оскорбило то обстоятельство, что деньги у Рыжего отобраны его именем, а доли своей он не получил и даже не знал. Это настолько взбесило Семеныча, что он достал кулек с грецкими орехами и начал попарно давить их своими мощными ладонями, представляя, что это головы Гриши и Паши.
– Толя, ты что? – несколько раз переспросила жена, желая услышать от мужа хоть слово в ответ на ее рассказ.
Семеныч молчал. Он давил орехи, пока не истребил все, лежавшие в кульке.
– На, перебери. На торт, – сказал он таким голосом, что Ворванихе показалось, будто в комнате внезапно похолодало. – Подружку пригласи к нам для дачи показаний…
– Толя, она боится, как кролик, – простуженно ответила Ворованиха.
– Тогда возьмешь скрытый диктофон и выведешь подружку на этот разговор, чтобы она все повторила. Спросишь: как дела, что-нибудь решилось? Учить не буду? Как про заначку выведывать или с кем я иной раз выпиваю, ты почище профессионального следователя работаешь…
Магнитофонная пленка с записью Людиного рассказа легла в ладонь Семеныча уже на следующий день и он, горя ожесточением против служебной контры, направился к Рыжему. Он хотел убедить того к написанию заявления на вымогателей. Конечно, Семеныч не полагался на случай, что Рыжий все изложит на бумаге. Готовясь к встрече, он встроил в костюм миниатюрный микрофон…
Сердце Рыжего заторопилось, когда он заметил в дверном проеме своего гаража начальника налоговой полиции. «Доигрался. Сам пожаловал. Надо было одолжить эти десять тысяч и отдать. Пусть бы подавились», – подумал он.
– Здравствуй, Рыжий. У меня к тебе разговорчик, – начал Семеныч.
– Да знаю я ваш разговорчик. Приходили твои. Рассчитаюсь полностью. Не беспокойтесь. Мне только время надо, – проворчал Рыжий.
– Сколько денег взяли? – спросил Воровань, поглаживая лежавший в кармане диктофон.
– Двадцать тысяч, а что твои не передали? – спросил Рыжий.
– Нет, – ответил Семеныч.
– Вот стервецы, – возмутился Рыжий.
– А кто деньги требовал?
– Гриша с Пашей.
– За что…
Рыжий при всех возможных обстоятельствах, включая просьбу Семеныча, не написал бы заявление на правоправных рэкетиров, если бы ни один обидный момент. Он перетерпел, что с него взяли большие деньги. Он перетерпел, что пришлось повременить с памятником отцу, но Гриша с Пашей обещали его административное дело закрыть и не отправлять в суд, но за день до визита Ворованя они опять пришли в гараж, и Гриша сказал:
– Ты не додал десять тысяч. Дело возбуждено по двум статьям. Одну мы закрыли, а по второй – придется передать в суд. Тебя осудят, ты уж не обижайся, и десять тысяч долга по-прежнему за тобой…
– Мужики, это ж не по-человечески. Вы ж обещали…
– Тебя же просили быстрее…
Ни результата, ни денег. Этот момент сильно рассердил Рыжего…
Семеныч вернулся в служебный кабинет радостный и сразу вызвал начальника службы собственной безопасности налоговой полиции. Зашел крепкий коренастый розовощекий мужчина.
– Витя, есть идеальная возможность поохотиться на оборотней в полицейских мундирах, а заодно улучшить показатели раскрываемости, – бодро заговорил Семеныч, зная, что начальник службы безопасности отработает отменно, потому что, во-первых, он был один из немногих профессионалов в его ведомстве, а во-вторых, потому что должен…
СДЕЛКА
«Каждый волк отыщет своего зайца, каждый заяц будет по-своему счастлив»

Витя, приехав в маленький нефтяной город, полтора года проживал в печальных общежитиях-развалюхах и мечтал переехать в благоустроенную квартиру. Да и кто не мечтает о личном и добротном? Общежитие – черная дыра общественной жизни. Она, согласно официальным отчетам обслуживающих контор, вбирает, всасывает в себя блестящие шеренги новых унитазов, необозримые футбольные поля линолеума, штабеля дверей, пахнущих свежей древесиной, тонны шифера и перекрытий для крыш, бессчетные рулоны утеплителя…
Но в то же время если посетить случайное общежитие наугад, без провожатых комиссий, хочется выть по-собачьи, глядя на затертые прогнутые стены и кое-где проваленные полы. Хочется убежать из общаги подальше от неустроенности общих кухонек, туалетов и душевых, неустроенности, ощутимой не только обонянием, заставляющим редко и неглубоко дышать, но и физически – в какой-то скованности и излишнем напряжении мышц по всему телу, скованности, которая, несомненно, у животного давно бы подняла дыбом шерсть …
И если вы выйдите из общаги в полном здравии и добром рассудке, то считайте, что повезло. Повезло, что вас не убило разрядом из электрического щитка, заливаемого талой или дождевой водой сквозь любопытные щели в крышах. Повезло, что никто из жильцов, выглядывающих из открытых шумных комнат, не попросил для начала закурить… Повезло, что стая бездомных или бродячих собак по выходу из общаги всего лишь проводила вас безразличным оценивающим взглядом.
Об общагах можно слагать дурные заунывные песни на манер тюремных баллад, но это никому на ум не приходит. Жители выглядывают в коридор, смотрят друг на друга сквозь щели в стенах и полах и подчас сильно ненавидят, поскольку не могут ужиться. Общаги располагают к дурному панибратству, где сосед может в полночь постучать к соседу и попросить на бутылку, где дети носятся по тусклому, длинному и прямому, как туннель на тот свет, коридору, испуская всепроникающие воинственные крики…
***
Инстинкты патриархальности, отеческие чувства доброго вождя племени, члены которого все его дети, а если не дети, то дети детей и знакомых, или напоминают таковых, не дают окончательно особачиться многим местечковым руководителям. Руководители смотрят на своих подчиненных, подчас конченных сволочей и подлецов, и млеют, словно от взгляда на собственного ребенка. Витя подлецом не был, по крайней мере в делах неприглядных никем замечен не был. Это не красило его в коллективе налоговой полиции, но Семеныч по возможности помогал нужным подчиненным. Он написал письмо в городскую администрацию с просьбой о выделении Вите благоустроенной квартиры и живо интересовался, когда это произойдет…
Произошло это в одно самое обычное северное утро, тишину которого никогда не нарушают веселые крики петухов и бодрящее разноголосье птиц, а только гул моторов, визг сигнализаций, гудки автомобилей, вызывающих пассажиров из квартир, плач детей, влачимых в детские сады, и гомон прохожих. На работу Витя пришел радостный и сразу к начальнику, а там Воровань с Тыренко. Ликование вырвалось наружу едва Витя успел переступить порог:
– Был в администрации. Мне квартиру распределили!!! Трехкомнатную – в новой пятиэтажке. Анатолий Семенович, спасибо. Век благодарен буду!
– Поздравляю! Молодец! Обмывать будем! – расчувствовался Семеныч.
Тыренко промолчал, но минут через пятнадцать забежал в Витин кабинет, плюхнулся на стул и торопливо заговорил, направляя своей гладкой зеркальной лысиной прямо в глаза Вите солнечные зайчики:
– Я сейчас с Семенычем переговорил. Он не против, чтобы мы одну сделку провернули.
– Какую сделку? – жмурясь и уклоняясь, спросил Витя.
– Мне по числу членов семьи положена трехкомнатная квартира, – деловито начал излагать Тыренко, по-прежнему целя солнечными зайчиками Вите в глаза. – Давай так: письмо насчет твоей квартиры перепишем на меня. Мне твою трехкомнатную отдадут, а тебе – двухкомнатную, где я сейчас живу. В моей квартире евроремонт, а в новую вселишься, так работы невпроворот. Кафель клеить, обои…
Витя, после скитаний по общагам готовый согласиться и на однокомнатную в деревянном доме, пребывал в возвышенных новоселских чувствах и не пожелал огорчать отказом приближенного к Семенычу человека.
– Вариант неплохой, – жмурясь от лысинных солнечных зайчиков, неуверенно согласился он. – Давай махнемся. Лишь бы промашки не было.
– Не боись, – успокоил Тыренко, дергая глазками из стороны в сторону, будто общался с Витиными ушами. – Я ключи в администрацию сдавать не буду, прямо тебе в ладошку вложу. Со всеми договорюсь, так что не беспокойся…
Квартирное письмо переделали, и Витя стал ожидать уже от Тыренко приглашение на вселение в новую квартиру. При внезапных встречах с Тыренко в коридорах налоговой полиции он, как за подаянием, протягивал ладошку, желая ощутить приятную металлическую прохладу квартирного ключа, но ощущал лишь крепкое рукопожатие и Тыренковскую длань, влажную, словно кожа сытой лягушки. Так в молчаливых взаимных рукопожатиях прошло около месяца.
Витя задумчиво и медленно топал мимо дежурки, направляясь к себе в кабинет, как внезапно остановился. Со стороны могло показаться, что Витя наткнулся на крепкое стекло, установленное на проходе, но застопорил его продвижение всего лишь громкий развеселый разговор прапорщиков:
– Ох, и недурственна новая хата Тыренко!
– Да! Нам так не жить, а если жить, то недолго. Славно погуляли…
– А мебель какая?! Мебель-то о-го-го! Вот только тяжелая. Еле расставили…
Витя ввалился в дежурку.
– Так, когда это было?– обеспокоено, спросил он.
– Неделю назад, или две, а тебя, что не приглашали? Не юли, ты ж до сих пор хмельной…
Ладонь правой Витиной руки несколько раз самопроизвольно сжалась, но обещанного ключа не ощущалось. Кадык задвигался, провожая слюну в пересохшее горло. Мысли завертелись, как клубок у опытной вязальщицы: «Уж кого-кого, а меня Тыренко должен был пригласить на новоселье. Если не пригласил и молчит, значит, сволочь, про меня забыл. Раз забыл, то не видать мне его квартиры…». Витя развернулся, вышел из дежурки, легко откинул в сторону тяжеленную входную дверь в налоговую полицию, слетел с крутого спуска остроугольных ступеней и устремился в весело раскрашенную городскую администрацию, поскольку почувствовал подвох…
– Квартиру Тыренко мы погорельцам отдали, – весело сказала заведующая отделом по распределению жилья Жанна, моложавая тетка с облюбованным крупными угрями лицом, с обеих сторон которой сидело по мужику самого отъявленного чиновничьего вида. Мужики, сладострастно поглядывавшие на Жанну, отвлеклись от приятного занятия и неприязненно взглянули на Витю.
***
Симпатичные одинокие женщины, работавшие в городской администрации, были чьими-то. Народ жизненно-активного возраста и на холодном неуютном Севере оставался весьма горяч в сексуальном отношении вне зависимости от ранга. Так, даже отца Лексия, православного духовного пастыря жителей маленького нефтяного города, внешне вполне милое божественное создание, уже в бытность принятия сана сняли с малолетней девчушки… Дело прикрыли, но после этого отец Лексий удовлетворял любой каприз мэра маленького нефтяного города, коленопреклонствовал, ходил на планерки, шаркал ножкой в приемной, звонил в колокола по нуждам чиновников. Хамовский на нервотрепной должности мэра города, несмотря на возраст и большой северный стаж, который по логике должен был заморозить все влечения, оставался любвеобилен и пылок настолько, что на него даже поступило заявление в милицию с обвинением в попытке изнасилования, что само по себе из ряда вон. Но и это дело заглохло по причине столь понятной, что мы не будем ее объяснять. Хамовский просто позвонил куда надо и попросил. Мэр любил красивых девушек и в своем кабинете, и в охотничьем домике, и в санаториях, награждал их должностями и званиями, потому снисходительно относился и к подобным нуждам своих подчиненных. Алик впервые познакомился с таким положением дел, когда еще в бытность Главы засмотрелся на одну сотрудницу городской администрации, а Лизадков, заместитель Главы, правильно расценив интерес, сказал:
– Это наша девушка, хочешь, устроим…
***
Жанна, тетка с угрями, тоже получила в новом доме квартиру и устроила в ней обитель сумасброженных свиданий, такую, что соседи до самого пупка ночи не могли заснуть от манящих скрипов кровати и любовных стонов. В соседях ее числился Тыренко. От ссор с ним тетка устала и испытывала неприязнь ко всем, кто осложнял ее любовные игры. Витя скандально стоял в ее кабинете и ждал ответа.
– Никакой квартиры. Освободите кабинет, мешаете, – брезгливо пояснила Жанна.
Мужики, сидевшие по бокам тетки, мерзко ухмыльнулись и потерли рабочие кулаки, и в этих жестах легко угадывалась крайняя антипатия…
Как только Семеныч узнал о происшедшем, он открыл дверцу самого обычного одежного шкафчика, где стояли коробки дорогого коньяка, подаренные предпринимателями, взял одну бутылку и побежал к мэру. Общались несколько часов. Вернулся раскрасневшийся и невнятный, но с доброй вестью:
– Не горюй. Порешили. Завтра иди в администрацию. Квартира тебе отойдет.
Витя действительно на следующий день получил ключи от квартиры Тыренко и отправился на нее поглядеть. Открыл входную дверь и замер – евроремонт пах гарью. Потолок в коридоре, сплошь утыканный сгоревшими спичками, напоминал шкуру диковинного никудышно опаленного животного. Так балуются обычно пацаны в подъездах. Наслюнявят спичку, потрут об известку, подожгут и приткнут к потолку, она прилипает, догорает и зависает черным с изломами волосом, пока ее кто-нибудь не собьет, то есть до того момента, пока коммунальные службы не решатся на редкий ремонт. Таких обгоревших спичек на потолке Тыренко висело не меньше сотни-другой. «Не иначе сынок Тыренко покуражился. Он как раз недавно приезжал на каникулы из школы милиции», – сообразил Витя, перешагнул порог и глянул вниз. По линолеуму жирными буквицами разбегались иностранные надписи, смысл которых Витя постигнуть не смог, потому счел за ругательские. «Маркером работали», – понял он и прошел в комнату. С хороших импортных обоев, на него смотрела улыбающаяся свинья, нарисованная тем же маркером на всю стену. На голове у свиньи что-то поблескивало. Витя вспомнил, как Тыренко пускал солнечные зайчики ему в глаза, уговаривая на сделку. Недели две красил, менял обои… и отчаянно ругался, но благодарность Семенычу осталась…
***
Здесь необходимо сделать очередной перерыв в развитии событий в налоговой полиции маленького нефтяного города и донести до читателя перемены, происшедшие в редакции городской газеты, пока налоговые полицейские Гриша и Паша вытягивали взятку из Рыжего, работника станции технического обслуживания автомобилей.
ВОКРУГ КРЕСЛА
«Хапнуть и уехать – статья № 1 Кодекса северянина»
Редакторша Мерзлая на Крайнем севере мерзла и, не отработав депутатский срок, смоталась на юг, на свою татарскую родину. В богатом нефтью городе, где первый дом-то появился всего полтора десятка лет назад, известные люди, а это обычно начальники, любыми путями старались пробраться в депутаты, чтобы гарантированно от служебных потрясений получить больше материальных благ, выйти на новые перспективы и покинуть навеки снежно-комариный край. Мерзлая не являлась исключением: от городской администрации она получила две квартиры, одну из которых продала, другую оставила мужу после развода…
***
Развод. Тяга к нему у редакционных женщин, особенно у газетных журналисток, всегда поражала Алика. В корреспондентской его окружали по большей части разведенки с детьми. Если не разведенки, так на грани. Как будто над женской журналистикой витала антисемейная Афродита, не противница любви, но воинственно настроенная против брака. Вполне естественно, что эти дамы считали всех мужчин недостойными свиньями и энергично несли крест одиноких матерей, передавая его по наследству…
***
О разведенках и одиночестве – это к последнему слову о Мерзлой. В связи с ее отъездом появилась завидная вакансия – место главного редактора во вполне налаженном производстве газеты.
Редактор – должность вредная, но денежная. Золотые крупицы везде вымываются из грязи, но в так называемых средствах массовой информации в особенности. Только зеленый корреспондент может безоглядно служить исключительно делу справедливости и законности, не понимая, что любая информация субъективна, и спорить с редактором, считая, что он то единственное зло, которое мешает… На самом деле хороший редактор стоит по воротничок в грязи, которую льют учредители и связанные с ними чиновники, пытается сохранить в чистоте хотя бы лицо, свое место и тащит за собой лодку с чистыми и впечатлительными журналистами. Повторюсь: все сказанное выше – о хорошем редакторе, а ведь есть и плохие.

Поиском подходящего претендента на должность редактора занялся председатель Комитета по общей политике администрации маленького нефтяного города, уважаемый за свой мощный интеллект еврейчик Сапа, тот, что из бывших. Вполне естественно, что главным претендентом на должность редактора газеты стала его жена Петровна, в момент безвластия исполнявшая обязанности редактора. Готовясь занять редакторское кресло, она прикупила новый яркий костюмчик и красную шляпку и до того была в себе уверена, что свою красную шляпку не снимала даже на планерках у мэра города и выглядела как чудом уцелевший тюльпан на вытоптанном баранами горном пастбище. Такая экстравагантность на консервативном, почти военизированном поприще административной власти и неумение отделять разумные слова из шелухи нецензурной речи нисколько не возвысили Петровну в глазах мэра.
– Начальником она не будет, – сказал Хамовский Сапе. – Я ее посылаю на йух (напомню, что ругательства в данном повествовании пишутся наоборот), а она обижается! Я ей: дура, молчи и слушай, а она в слезы ьдялб. Детский сад на йух.
– Как вы смеете так разговаривать с моей женой!? – возмутился Сапа.
– Иди на йух, герой ворех! – прикрикнул Хамовский, нахмурив брови. – Иди, ищи другого редактора.
Сапа ушел, но затаил обиду. Он решил подыскать такого редактора, который бы привел газету к краху. Для отсеивания ненужных претендентов и соблюдения приличий Сапа пригласил к себе в кабинет Алика. Пригласил по-доброму, как друга семьи.
– Алик, ты один из самых первых журналистов газеты, поэтому я обязан спросить: хочешь ли ты возглавить газету? – начал Сапа.
Мне, как автору, так и хотелось крикнуть Алику: «Соглашайся, дурак, пока предлагают! Бери должность, а там разберешься, нужна она тебе или нет». Но у Алика были в то время другие стремления. Должность, деньги, обязанности, исполнение, свобода, радости жизни… Что бросить на судьбомерные весы, когда получаешь перспективное предложение? Что первее? Ответственность и предположение: «А справлюсь ли я?» Или очарование общественной значимостью должности и заработком? Эта дилемма часто решается в пользу денег, а там как получится. Оглянешься – не очень-то получается. «Дворником всегда успеешь поработать», – говаривал и отец Алика. Но не надо забывать, что для нашего героя деньги и должности никогда не манили настолько, чтобы рвать, и не просто рвать, а подпрыгивать. Если бы Сапа сказал: «Тебе предлагается занять место редактора», – Алик взял бы время на размышление, а потом, скорее всего, согласился, поскольку работу знал и мог отработать за всех журналистов вместе. Но Сапа был стреляный тетерев таежных лесов, поставил вопрос по-другому, не как предложение должности, а как предложение открыть мечты. Но представить свои мечты не облачно-высокими, а морковно-низкими, корыстолюбивыми – желанием занять место редактора – Алик не хотел, тем более что это было неправдой. Сапа как бы воззвал к негодованию приличного воспитания против карьеризма: «Хочешь ли ты возглавить газету?» Что ж, он был хороший психолог.
– Мне нравится работа журналиста, – честно ответил Алик, не желая принимать ответственность за собственное назначение и изменение будущего. – Но я не хочу, чтобы кресло редактора занял человек со стороны. Вы же понимаете, что редактор-варяг будет наших притеснять, выживать и на освободившиеся места потащит своих знакомых, друзей. Он потащит своих, однозначно. Одно хорошо, если у чужака будет мало друзей. Только если кроме меня в газете не будет претендентов на место редактора, то я согласен, но это как грудью на амбразуру.
Была еще одна причина, почему Алик ответил так. Он, как большинство в редакции газеты маленького нефтяного города, не имел специального образования и побаивался, что новый редактор, независимый от дружеских и товарищеских отношений в коллективе, будет излишне формалистом и догадается избавиться от него самого, а нынешняя профессия ему нравилась.
– Если на должность редактора не будет других претендентов из нынешнего состава редакции, то я согласен, – повторил Алик ответ, на который повлияла и еще одна причина из недалекого прошлого.
***
Хлесткая газета до красна массирует холеные лица мерзавцев, не прибегая к грубому насилию, а используя их привычку к чтению или привычку к чтению их разговорчивых знакомых или подчиненных. Остальные чиновники видят муки жертв, попавшихся в сети букв и строчек, иногда смеются, иногда гневаются, но всегда понимают, что так могут и их… Депутатский корпус маленького нефтяного города, полностью состоящий из руководителей разного ранга, волновался.
– Надо, чтобы все статьи перед публикацией обязательно просматривались начальником, – говорил Генерал. – Это сделает их более объективными и точными.
– Правильно, правильно, – раздавались голоса. – А то пишут черт-те что, народ волнуют…
– И это будет не цензура, – продолжил Генерал, – а помощь в подготовке достоверной информации…
Когда слово предоставили Мерзлой, то она неожиданно заявила:
– Каюсь, каюсь, господа депутаты! Газета у нас непрофессиональная, потому что ее делают непрофессионалы. У нас же нет ни одного журналиста с образованием. Нам нужна помощь…
«Стерва, ох стерва, – подумал Алик, записывавший ход заседания. – В друзья к начальству набивается. При чем тут образование журналиста, если все писать умеют после окончания школы, а приемы можно наработать практикой. После такого заявления наших газетчиков могут метлой…»
***
– А кто, кроме тебя, может стать редактором? – продолжал расспрашивать Сапа.
– Петровна, – ответил Алик, понимая, что с Петровной, так трепетно к нему относившейся, он сработается. Однажды он даже стих ей посвятил:
Бесспорно, Я есть отраженье ближних –
Тех, на кого мы смотрим, чьи храним
Улыбки, жесты, разные привычки.
Как в детстве мы безжалостно творим
Себя, как, не задумываясь, лепим
Из странных черт родителей своих,
Берем пример друзей, героев книг и Этих,
Что из кино, и множества Других.
Душевные пустоты заполняли
Тем, что поближе… Годы же твердят
О завершенности… Как редко допускаем
К себе Великое в заветные друзья.
Но есть звезда, погруженная в хаос,
Но есть зерно средь гущи сорняка.
Есть нечто главное, пусть это даже малость,
Вокруг которой снова зреет «Я».
Отсюда все границы и заборы,
Которыми страна окружена,
Страна Души.
Не проберутся воры
В тот мир, где не смолкают малыши.
Но где брать силы?
Снова в фильмах, в книгах,
В прекрасной музыке, покое сентября,
В друзьях старинных,
В их сердечных письмах…
И хорошо, что есть Учителя.
Учителя – это не только, даже не столько те, кто учит чтению, математике и прочим наукам, которые необдуманно по-детски молодые ученики пропускают мимо сачков ушей и объективов глаз… Это те, кто учит выживать в самом широком смысле. Это люди-знаки, наделенные способностями и появляющиеся именно в тот момент, когда ученику они жизненно необходимы и когда он готов воспринять Учение.
Алик назвал Петровну Учителем. И тому была причина. Он впервые на ее примере понял, что можно говорить красивые слова театрально, внешне совершенно искренне, со слезным блеском в глазах, на радость публике, вызывая уважение к себе, но почти не испытывая ничего подобного, о чем говоришь. На примере Петровны оказалось, что можно заставить себя чувствовать, и любить, и сострадать, и эта мимикрия поможет выжить среди людей, поможет заставить их полюбить себя.
Мы все привыкли говорить правду, не раздумывая, нужна ли эта правда и является ли наша правда правдой истинной. Обидеть человека просто. Говорить не всю правду, а слова, приятные собеседнику, открывать в нем самом положительные качества и возвеличивать только стороны, достойные уважения – вот путь для контакта и завоевания сердец. И в этом нет ничего плохого, как в любом строительстве, а не разрушении. Это было великолепное умение, которому стоило учиться. Петровна, подвыпив, как-то сама сказала: «Грубая лесть всегда действует безотказно».
Общество приветствовало душевную патоку. И еще как! «Может, от недостатка родительской любви, любви вообще люди клюют на фальшь, на обманчивую заботу, чтобы хоть подделкой заменить собственное неумение создавать счастье. Этот созидательный обман вполне можно было простить Петровне, если бы она пела на манер соловья, бескорыстно. Но сирены никогда не поют бессмысленно. Петровна с Сапой слишком злоупотребляют несознательным управлением людьми. Мне кажется, большой грех так обманывать. Слишком тяжелой может оказаться цена, которую придется заплатить», – так мыслил впоследствии Алик, но порой и сам попадался…
Петровна сочилась лицемерием, как перезрелая или перемороженная хурма собственным соком, она умело создавала вокруг себя ауру доброй мамы, которой окружающие обязаны потакать за доброе хорошее слово или улыбку. Она действительно манила к себе, с ней хотелось общаться, звонить по пустякам. Это великое искусство, которое Петровна, похоже, впитала с молоком матери. «Такому сложно научиться, – думал по этому поводу Алик. – Излучать любовь, ее не имея, это очень сложно». А в искусственности доброжелательности Петровны его убеждали слишком пряные и благоухающие эпитеты, которые она раздавала…
– Я не хотел бы ставить в редакторы Петровну, – ответил уклончиво Сапа…
Этот реверанс Сапы Алик воспринял как обычную лживую стыдливостью, формальную любезностью, с которой люди, желающие откушать чего-либо вкусненького и дорого за чужой счет, обычно символически открещиваются, желая продемонстрировать скромность. Если перевести слова Сапы на нормальный язык, то они, по мнению Алика, выглядели так: «Конечно, Петровна станет редактором, но для этого все претенденты на эту должности должны отказаться от претензий, а все сотрудники редакции должны нас хорошо попросить, примерно так: «Ну, пожалуйста, Петровна, стань редактором. Кто кроме тебя? Ты самая! Хочешь, на колени встанем?» Но в данном случае Алик ошибался.
Он не знал, что Хамовский отказался уговаривать Петровну и, даже наоборот, показал ей, в каких условиях она будет работать. Сапа действительно выполнял в отношении него, Алика, свой последний долг вежливости, поскольку ответ Алика легко донести до мэра как отказ, а на должность редактора Сапа присмотрел гражданина Квашнякова из соседнего города. Сапа задумал, на его взгляд, хорошую комбинацию.
«Квашняков будет благодарен мне за помощь в назначении редактором газеты, – размышлял Сапа, – и будет благосклонен к моей жене. Мэр согласится на его назначение в память того, что Квашняков помогал ему выпускать самую первую газету в маленьком нефтяном городе, газету, помогшую ему набрать политический вес. С другой стороны, Квашнякова ненавидят на старом месте, где он работал ответственным секретарем и развалил свою газету, и скорее всего, он завалит дело здесь, сделает газету нечитаемой служкой. А тогда можно диктовать условия и ставить Петровну редактором…»
Петровна на этот счет имела другое мнение. Мама коллектива, щедрая на теплые слова и умные советы, хотела все и сразу. Домашняя атмосфера в редакции высоко ценилась, и рядовые сотрудники редакции прощали Петровне то, что, сидя на второй должности в газете после редактора, она не имела высшего образования и в принципе ничего не писала, занимаясь лишь легкой правкой статей. «Грех не использовать такой запас уважения и получить деньги, власть и еще большую любовь», – размышляла она. С другой стороны, как мы знаем, высокая должность Петровны была вполне закономерна и проистекала из ее дружбы с Мерзлой, высокого самопреподнесения, но самое главное – из дружбы Мерзлой с ее мужем Сапой.
ПОДКИДЫШ
«Если собственный ребенок не всегда любим, то какие чувства может вызывать подкидыш?»
Слух о возможном назначении Квашнякова гулял по редакции, как безутешный диагноз. В кабинетах и коридорах звучали испуганные речи, настоянные на боязни потерять работу. О последствиях таких назначений наслышаны были все, испытывать на себе не хотелось. Состоялось стихийное собрание. В качестве возможной кандидатуры редактора выдвинули Петровну, но потуги на местное самоуправление оказались тщетными…

Как невесту в старомодные времена отец вел под венец, так мэр города, солнечно улыбаясь, завел торжественного гражданина Квашнякова в редакцию к его будущим подчиненным. На Квашнякове вместо фаты висел серо-зеленый воробьиный костюм. Лицо Квашнякова напоминало серо-розовую морщинистую резиновую маску, казалось, сними ее и обнаружится шутовская физиономия. Встречать гостей вышли и печальные претенденты на должность редактора газеты, и рядовые сотрудники. Обстановка складывалась напряженная, как в закипающем чайнике, где за нарастающим гулом угадывается поспевающий кипяток.
– Вот человек, которого я хочу видеть во главе газеты. В свое время онмне хорошо помог. Он профессиональный журналист, как мечтала Мерзлая. Большой стаж. Пишет прозу и стихи. Достойный человек. Я понимаю, что у вас есть другие кандидаты. Давайте обсуждать.
Мэр сел на стул, но тяжесть его власти сжимала рты. Тишина грозила затянуться, и тут под влиянием бремени неофициального лидера заговорила Петровна:
– Наша газета интересна, ее содержание куда лучше той, в которой работал Квашняков. Я глубоко обеспокоена, поэтому против такого назначения. Кроме того, надо обеспечить сотрудникам редакции возможность должностного роста как стимул к развитию….
– А зачем нам лишний человек? – неожиданно выступил Лучина, не любивший делить водку на лишние рты. – После ухода Мерзлой газета по-прежнему выходит, качество материалов на прежнем уровне.
Алик понял, что пора и ему сказать слово как главному критику и аналитику:
– Через назначение редактора (по желанию только одного мэра) вводится цензор от администрации города, потому что главный редактор – это лицо, принимающее окончательные решения в отношении производства и выпуска средства массовой информации. Цензура по закону недопустима. Учредителями газеты в настоящее время являются ее коллектив и администрация города. Коллектив имеет право на слово, так может, решить вопрос голосованием?…
– Ну ты говно! – выразился мэр и тотчас поправился. – Как и я. Ты себе имя сделал за счет муниципалитета. Я вам деньги плачу, премии даю, а вы не хотите подчиниться! Да если я захочу, то у вас сразу сократится финансирование! По улицам пойдете с протянутыми руками! Будете песни на базаре петь и танцевать вокруг пустых шапок! Что мне стоит вас сократить как подразделение или создать новую газету, передать ей ваше оборудование?! Тогда вы как хотите, так и работайте! Ладно, давайте по-хорошему. Пусть слово скажет сам Квашняков.
Квашняков, пока его обсуждали, стоял и багровел, его резиновое лицо-маска недовольно пульсировало.
– Вы тут живете, как в детском саду! – заорал он. – Таких отношений нигде нет! Нашли теплое местечко! Но я умею людей ломать! Я поменяю всех, кто против или плохо работает! Поменяю независимо от должности и связей! И кое-кому мы кровь пустим!!!…
Квашняков уничтожающе посмотрел на Петровну, на всех, кто выступал против него. Сотрудники редакции после его выступления притихли и угрюмо уставились на носки соседских ботинок и туфель…
Хамовский с Квашняковым ушли. Алик быстро составил жалобу в городскую Думу, которую подписали все работники редакции, но, когда Квашняков на следующий день вышел на работу, большинство от своих подписей отказалось. Так похоронили свободу муниципального слова в маленьком нефтяном городе, хотя по большому счету в редакции газеты от свободы слова балдели всего пара журналистов, остальным работникам редакции до этой свободы не было никакого дела. Они просто исполняли то, что говорят, и получали зарплату, как на любом другом производстве. Позднее Алик видел подобные трагедии на всероссийских телеканалах и, несмотря на пространные дебаты по данным поводам, он всегда знал, что власть победит, потому что большинство желает не бороться за идеалы, а исполнять и получать. «Что за дерьмо сделали из российского народа за время советской власти, – размышлял он. – Не могут сплотиться, не желают бороться. Безмолвствуют и будут безмолвствовать. Этому народу хочется денег и зрелищ, но только с безопасных трибун…»
Не таков был наш герой, чтобы стать таким, как все. В надежде найти могущественного союзника в маленьком нефтяном городе Алик обратился к Матушке, самому уважаемому местному депутату, которая обещала всегда так сладко, что дел никто и не ждал. Матушка была врачом по специальности, лечила как могла, но умела убеждать умирающих больных так убедительно, что они умирали, испытывая необъяснимую любовь к ней. Лечебные навыки она перенесла и на депутатскую работу. Подробнее о Матушке мы расскажем позднее, сейчас же достаточно сказать, что Алик пришел к ней с надеждами. Он объяснял, что городская газета содержится не на деньги администрации города, потому что администрация их не зарабатывает, а на деньги налогоплательщиков и должна действовать в интересах налогоплательщиков, то есть всех жителей города, независимо от их политических и других воззрений. Матушка внимательно слушала, то согласно кивала, то возмущенно потряхивала головой, в итоге согласилась помочь и даже пообещала задать Хамовскому жару…
Прошел месяц, другой, третий…
«Вот тебе и главный народный защитник маленького нефтяного города. Боится, как все. Но как красиво обещала! – подумал Алик, поняв, что Матушка обманула, и помогать в столь серьезном вопросе не поторопится. – Буду работать, как обычно. Уволят. Найду новое место». Кстати, последнее обстоятельство в редакционном коллективе ему стали кидать чуть ли не как обвинение:
– Конечно, ты можешь возмущаться. Ты профессионал, хорошо пишешь. Тебя везде возьмут…
Алик слушал это и думал: «Даже унижаясь, люди жаждут сохранить достоинство. Они склонились перед хамством Квашнякова и квашениной Хамовского и, чтобы не выглядеть на моем фоне скверно, ищут во мне черноту, чтобы обвинить. Даже плюсы переводят минусы – для самооправдания. Как они могут себя уважать, если не чувствуют себя профессионалами? Такие люди вечно будут бояться сокращения и сделают все, чтобы остаться на работе. Скоро придется опасаться каждого в этом еще недавно добром и хорошем коллективе…» Холодные мысли недолги вблизи июня, по пути домой всепроникающие солнечные лучи зажгли в душе Алика искры:
на краю весны
Еще одно заманчивое лето
Открылось с края пропасти весны.
Опять снега в седую пыль одеты,
Нисходят до поверхности земли.
Привычное приходит повторенье
Той странности, что сердце вдаль влечет,
И прошлого – щадящее забвенье.
И синева опять зовет в полет.
И смело в пропасть прыгают поэты,
Сигают без оглядки пацаны,
Слагая те душевные куплеты,
Что воспевают страстный дух весны.
Отсюда с края пропасти шагают
В туманный, но безмерно дивный край
Художники, и в красках возникают
Желанные прилеты птичьих стай.
Весной, мой друг, опять уходим в пламя
Давно забытых в юности страстей
И тучи вьются, как большое знамя,
Сбирая войско любящих людей.
О светлое, великое виденье
Пред краем жаркой пропасти весны.
И я пойду навстречу провиденью,
Чтоб вспомнить то, что знают пацаны.
КАПКАН НА ВЗЯТОЧНИКА
«Волки грызут волка, когда тот нарушает закон стаи, и никакой борьбы за справедливость»

В конце апреля топот тяжелых ботинок разорвал глухую предобеденную тишину в помещении налоговой полиции. Группа сотрудников службы собственной безопасности под предводительством Вити пробежала по коридору и ворвалась в служебный кабинет старшего лейтенанта Гриши. Испуганный Гриша замер и растерянно глядел на развертывающуюся перед ним суетливую картину тщательного обыска. Крупная артерия, заметно выпиравшая на его тонкой шее, подрагивала с частотой пульса бегуна на короткие дистанции. Рубашка омерзительно промокла от пота, будто он и впрямь бежал, она прилипла к телу и годилась только в стирку. Гриша лихорадочно искал ответ на вопрос «где ошибся?», вспоминая недавнее…
***
Неделю назад произошло необычное, а оттого подозрительное событие: Рыжий сам позвонил Грише и сообщил:
– Недостающие десять тысяч я собрал и готов передать.
– Хорошо, Рыжий, я как-нибудь зайду…
– Как-нибудь – не пойдет. Я не могу такие деньги носить при себе или хранить в гараже. Давай завтра…
– Хорошо, в районе двенадцати буду…
Гриша положил телефонную трубку и подумал: «Что с Рыжим приключилось? То у него денег не было и не спешил, а тут сам звонит и предлагает. Как бы батюшка Рыжий не подставил меня…»
В гараже Рыжего действительного готовилась ловушка: устанавливались телекамеры и звукозаписывающая аппаратура, а Семеныч, как режиссер уголовного театра, лично обучал Рыжего. Показывал, где надо остановиться для разговора, как повернуть собеседника, как передавать взятку.
– Ты, Рыжий, главное не тушуйся, не волнуйся – не на оперной сцене. Этот фильм не пойдет в кинотеатрах, а будет употребляться только для нашего просмотра, – учил он.
– Постараюсь, – говорил Рыжий, поглядывая на разноцветную денежную пачку, спешно подготовленную для взятки…
На следующий день перед обедом Гриша не решился идти на встречу с Рыжим. Деньги для оплаты обучения на юридическом факультете университета требовались, но погореть на взятке не хотелось.
«Уволят и посадят в тюрьму, – догадывался он. – Это наверху хапают и при свободе. Нас, работников низшего и среднего звена, садят. Нарколога в поликлинике повязали всего за четыреста рублей, а ведь человек, донесший на него, сам ходил, просил справку, что не состоит на учете, предлагал деньги. Цена гада не устроила…»
После обеда в кабинете Гриши опять раздался телефонный звонок:
– Это я, Рыжий, – раздалось из трубки. – Ждал до обеда. Вы не пришли.
– Работа, – соврал Гриша. – Сегодня не получится. Я сообщу, когда встретимся.
– Надо быстрее закончить с этим, – настойчиво предложил Рыжий, повторяя текст вслед за суфлирующим рядом Ворованем. – Не хочу, чтобы при мне была крупная сумма. Сам зайду где-то через час.
– Хорошо, – автоматически согласился Гриша на легкое предложение …
Примерно через час, возвращаясь от Паши в свой кабинет, Гриша застал у приоткрытой двери переминающегося с ноги на ногу Рыжего, который немного волновался, ощущая в районе печени тяжесть скрытого диктофона.
– Заходи Рыжий, заходи, – пригласил он.
Рыжий вошел, Гриша – следом и закрыл дверь на защелку.
– Вот оставшиеся десять тысяч за то, чтобы вы прекратили дело в отношении меня, – четко и громко сказал Рыжий, как требовалось для записи.
– Прекратить полностью не получилось, сам знаешь, был бы расторопнее, – ответил Гриша.
– Теперь мы полностью в расчете? – четко и громко спросил Рыжий. – Вы говорили, что за закрытие дела я вам должен тридцать тысяч. Двадцать вы у меня взяли. Сейчас десять…
Гриша почувствовал, что разговор складывается опасный: Рыжий задавал вопросы, вынуждающие его подтверждать причастность к взятке. Конечно, это могла быть случайность, но сжимающая внутренности прохлада, нарастающее чувство тревоги и, наконец, профессиональное чутье подсказывали Грише, что здесь таится подвох, но деньги пересилили. Он машинально вытащил из кармана носовой платок, обернул им взятку, и вытянул ее из ладони Рыжего, а потом уж думал не столько о разговоре со взяткодателем, сколько о том, куда спрятать полученные деньги: «Их можно вернуть назад Рыжему. Но вдруг все это собственная профессиональная подозрительность и самое обычное паникерство. Деньги Рыжий отдавал немалые, может, поэтому и малость сошел с ума, треплет языком лишнее. Верну – потеряю нелишнюю сумму. Была не была».
Гриша внешне спокойно проводил что-то объясняющего Рыжего до двери, но только тот вышел, мигом бросился к одежному шкафу и спрятал купюры в ботинке, прикрыв их сверху стелькой. Одеть – не оденешь, но скрытно. Осмотрел работу и остался доволен. Он отошел к столу, мысленно посмеиваясь над чрезмерной осторожностью, как дверь в кабинет распахнулась…
***
«Ошибка от жадности и недоверия интуиции, – осознал Гриша. – Всегда – от жадности и недоверия».
– Ищите лучше, деньги в кабинете точно. Он никуда не выходил, – подхлестывал подчиненных Витя, разгуливая средь выдвинутых ящиков, рассыпанных бумаг, открытых дверей одежного шкафа и лежащих на полу средь всякой мелочевки ботинок.
– Ты бы сознался, куда взятку положил, – благожелательно предложил он.
– Какую взятку? – оскорбленно вопросил Гриша, сохраняя завидное хладнокровие.
– Ту, что тебе Рыжий только что сунул, – нетерпеливо объяснил Витя.
– Не понимаю, о чем вы. Я вызывал Рыжего на допрос, – ответил Гриша, безотрывно наблюдая, как идут поиски.
– Ничего, Виктор Николаевич, – уныло подвел итог один из сотрудников.
– Ищите лучше, я сказал! – прикрикнул Витя и в сердцах со всего маха пнул один из ботинок, целя между ножек стола. Ботинок пролетел над столешницей и щелкнул о стену. У Гриши потемнело в глазах, он слегка покачнулся. Но ботинок оказался не тот.
– Ищите! Что встали и вытаращились? А ты сознавайся, где взятка, а то футбол не получается. Сборная опаскудела, пенальти в пустые ворота забить не могут, – разнервничался Витя и сильнейшим ударом пнул второй ботинок… Банкноты взвились плотной тучкой, словно испуганная саранча.
– Го-о-о-л! – заорал Витя. – Вот они денюжки-то – салютом вознеслись, стоило пенделя дать. Нашлись милые! Твоя взяточка?
– В первый раз вижу, – ответил Гриша. – Что я дурак, взятку в ботинок пихать? Где вы такое видели? Взятки обычно в ящик стола прячут или в карман. Подкинул кто-то. Рыжий, наверное. Он без меня возле открытого кабинета ошивался…
Формально операция по изобличению взяточника провалилась. Видеосъемка из-за поспешности Семеныча, горевшего желанием расправиться с изменниками, не велась, а скрытая диктофонная запись у Рыжего из-за старости пленки получилась такого качества, что речи человеческого диалога напоминали мычание простуженных коров на фоне щебета птиц, треска насекомых и шума бушующего ветра. Кроме того, номера купюр готовившейся взятки переписали в спешке с ошибками. Любой юрист мог сказать:
– Нарушения господа, нарушения. Это не те деньги, которые милиция готовила к взятке. Некоторые номера не совпадают. На деньгах нет отпечатков пальцев агнца Григория. На него нет ничего, кроме слов Рыжего, который, змей, за хорошую профессиональную работу моего подзащитного затаил на него злобу и мстит. Мой подзащитный, однозначно, невиновен…
– Там пока единственное доказательство, – объяснялся Витя перед Ворованем, – прямые показания потерпевшего. Ну а это может любой на любого наговорить, что давал двадцать тысяч и потом еще десять. Надо работать…
– Мать, перемать…, – возмутился Семеныч. – Дармоеды. Уволю всех на хрен. Какие законы?! Гришу надо садить во что бы то ни стало.
Стало это недорого. Старший следователь прокуратуры, чем-то похожий на матрешку Поршнев, ближайший помощник Коптилкина, умел продавливать нужные дела, также как и задавливать ненужные. Он в своем деле был все равно что Паганини. Он возвысил ноты показаний Рыжего за счет привлечения показаний его родственников и других свидетелей, организации очных ставок, которые, впрочем, ничего не доказывали, но создавали атмосферу напряженности вокруг Гриши, настолько плотную, что даже прокурор города Коптилкин заочно поздравил своего друга Ворованя с победой.
– Толя, привет, – кричал в трубку прокурор. – Твой злодей одной ногой в тюрьме. Осталось только направить к нему хорошего адвоката и ликвидировать взятку из числа доказательств, чтобы все разговоры об отсутствии на ней отпечатков пальцев стихли сами собой, и почитай все. Ты же говоришь, что он точно брал взятку…
– Точнее некуда. Взяточник матерый, – в этот момент Семеныч глянул в зеркало и на мгновенье увидел волка. – Да они тут кругом. Хоть охотников приглашай. Так давай, Серега, действуй. Мочи…
***
В камерном холоде Гриша думал только о том, как освободиться.
– Мне бы выйти отсюда, – просил он адвоката. – Сессия на носу, пропускать нельзя, иначе отчислят.
– Гриша, пойми, – уговаривал Кошмарин. – Не раскаешься, света не увидишь. Предлагаю признать десять тысяч, найденные в ботинке, и я добьюсь, чтобы тебя выпустили под подписку о невыезде. А на суде твое признание потянет не больше, чем на условный срок.
– Это единственный выход?
– Да. Воровань настроен серьезно. Склонись перед ним, повинись, он тоже человек. У тебя жена, маленькая дочка…
– Хорошо. Единственно напишу ходатайство, чтобы сняли отпечатки со взятки, а то Поршнев не чешется, – сказал Гриша, зная, что взятки его пальцы не касались.
– Конечно, напиши, – сказал, внутренне посмеиваясь, Кошмарин, поскольку знал, что следователь еще два дня назад исключил взятку из числа вещественных доказательств и вернул…
Гришу выпустили из камеры после частичного признания. На выходе вечно безэмоциональный, как рыба, Поршнев вручил Грише бумагу с текстом:
«Ваше ходатайство не подлежит удовлетворению, в связи с тем, что раньше таких заявлений не было, а теперь взятку вернули…»
Гриша читал текст и не верил. «И это еще до суда!!! – запаниковал он. – Избавились от главного вещественного доказательства, понимая, что отсутствие отпечатков пальцев на взятке – свидетельство в мою пользу. Вину за то, что их не сняли, теперь свалят на меня, на мою заинтересованность, что я специально промедлил… Адвокат – сука. Надо срочно менять показания: опять все отрицать. Временную слабость объясню тем, что за признание обещано смягчить меру пресечения. Это – правда. Бояться нечего. У них ничего реального. Но Семеныч – мерзавец. Вот мерзавец. Как гайки закрутил! Надо его под зад…»
***
В самой обычной стандартной двухкомнатной квартире харьковского проекта, дверь в которую располагалась на лестничной площадке направо, имевшей вместительный коридор, большую кухню и общую площадь пятьдесят два квадратных метра, не считая балкона-лоджии, тайно сошлись отверженные: Кабановский-старший и Гриша. Над первым нависла угроза увольнения, разжалования и даже лишения пенсионного обеспечения. Второй ждал увольнения, суда и возможно – приговора. Оба сидели на темном старом диване, разговор легко намазывался на хлеб общности интересов.
– Пока Воровань у власти, нам не жить, – говорил более мудрый Кабановский-старший. – Он загрызет за свои шкурные интересы.
– А мне непонятно, что он до нас-то докопался? Можно подумать – мы худшие, – возмущался Гриша. – Взятка!? Да там все взяточники и воры.
– Мы, Гриша, не в его команде, – растолковывал Кабановский-старший. – Мы ему нужны, как ослы в упряжке, чтобы тянуть воз, раскрывать преступления. Мы ему нужны, чтобы прокручивать наши зарплаты. Его надо кончать…
– Оформим ему бег с барьерами. Пусть скачет, пока не сдохнет. Компромата у нас много. Сольем в газету. Там опубликуют, – предложил Гриша. – Роботу отдадим. Он часто пишет на скандальные темы, его читают. Кажется, Алик зовут.
– Ты думаешь, он возьмется? – спросил Кабановский-старший. – Газета и власть едины. Неизвестно, как компромат аукнется. Я бы не стал. Лучше Семеныча в подъезде подкараулить и по мозгам…
– Оставь уголовщину. Ты что ослеп? Я почти сижу, а Робот любит скандалы, – ответил Гриша. – Возьмется и даже рад будет. Ведь это же популярность, карьера. Тем более что с Ворованем он уже воевал.
– Пожалуй, ты прав, – согласился Кабановский-старший. – Давай выберем бумаги, которые отдадим.
Он залез в тумбочку и вытащил оттуда толстенную кипу документов…
ВСТРЕЧА
«Формула контакта: встреча всегда порождает импульс, мощность которого зависит от заряда встречающихся»
Алик сидел в любимом пестром кресле с полумягкими подлокотниками, установленном рядом с окном, глядел поверх крыши близлежащего дома сквозь частокол телевизионных антенн на невероятно синее летнее небо и размышлял:
«Август за окном. Отпуск закончился. Два месяца среди родных и близких пролетели незаметно и хорошо. Опять я здесь, на далеком Крайнем Севере. Конечно, работа и деньги – без этого не прожить, но как обеднены здесь люди длительными разрывами с родиной, недостатком общения. Неизвестно, что в великом смысле весомее: деньги или душевное благоденствие. И остается только телефон. Но по нему не наговоришься, отсчитывая минуты разговора. А ведь родители не вечные, их, как и всех людей, смерть настигнет, и только телеграммой эта горькая весть прилетит сюда. Тогда останется одна надежда на последнюю встречу у гроба, на молчаливую горькую встречу, на которую еще и не всякий северянин успеет приехать. А то и на билеты не хватит денег, за которыми он сюда приехал. Как жить, зная, сколь много крадешь у себя, когда каждый год, возвращаясь из отпуска, покидая родителей, прощаешься, будто видишь их в последний раз?..»
Нарождающаяся строка радостно пульсировала, она рвалась наружу, грозя утонуть в забвении. Алик подскочил с кресла и заметался в поисках ручки и бумаги. Под столом он заметил свой портфель, достал его, мысленно заставляя строку трепетать. Она читалась и читалась непрерывно, а Алик знающе лицемерил сам с собой, делал вид, что не прислушивается к строке, и она продолжала напоминать о себе, как человек, считающий, что говорит нечто несусветно важное, а его не слушают. Алик играл со строкой, и другого пути не существовало, чтобы не потерять ее. Эта строка, он знал по опыту, была ключевой. Стоило ее проговорить и задуматься, как неизменно появится вторая строка и третья и так далее. Важно, чтобы в окружающем мире не возникло помех волшебному настроению. Это был вопрос жизни и смерти стихотворения. Плохого или хорошего – другой вопрос, о котором Алик не задумывался. Писательство было самой интересной частью его жизни. Поэтому Алик торопился. Необычное состояние длилось недолго и было неуправляемым. Ручка очутилась в руке, и на листке бумаги появилось:
Старение трогает близких
Внезапно, как осень желтит
Вчера еще летние листья,
И сердце при встречах болит.
От лета до лета – разлука.
Им время добавит морщин.
Все тише зов близкого друга,
Но больше желание жить
Всегда рядом с ними. Я верю
Во встречу еще через год.
Разлука – рулетка. Но смею
Я ждать, что еще повезет…
По комнате залетал обычный телефонный звонок, заставляющий инстинктивно бросать все дела и бежать на звук, как голодные зоопарковые животные спешат на запах еды. «Кранты стиху. Вот она судьба», – подумал Алик и, не понимая, насколько прав, поднял телефонную трубку, где после обычных любезностей прозвучало:
– Мы хотим с вами встретиться, потому что знаем вас как самого порядочного и честного журналиста в городе…
Таких фраз Алик слышал немало и относился к ним с изрядной долей иронии. Он понимал, что человек на том конце провода что-то от него хочет и стремится произвести хорошее впечатление, как частенько хищники маскируются под сущности, приятные для своих жертв. Но к работе Алик относился внимательно, ему нравилось вальсировать на краю, поэтому он продолжил разговор, в финале которого ему сообщили:
– … напротив остановки вас будет ждать красная шестерка.

В назначенный час он пришел на место и подсел к неизвестным ему людям в условленную машину, хоть это и шло наперекор прописным правилам безопасности журналистов-расследователей. На передних сиденьях его ожидали двое разновозрастных мужчин. Представились работниками налоговой полиции.
– Вы знаете, что начальник налоговой полиции, Воровань, сидел в тюрьме и на него заведено уголовное дело? – без предисловий начал Гриша.
– Да, – ответил Алик.
– Вы полностью знаете суть дела? – с изрядной долей сомнения переспросил Гриша. – Если нет, то почитайте. Слухи – пустой треп, тут документы.
Он протянул Алику пачку документов, прочитать которую в машине за короткое время было невозможно. Менты потянулись за сигаретами.
– Я могу эти бумаги взять с собой? – спросил Алик.
– Да, – ответил Кабановский-старший.
– Мы отдадим вам материалы только в том случае, если вы будете работать над статьей, – дополнил Гриша. – Если будет судебный процесс, то вам придется предоставлять доказательства.
– Дело настолько серьезное? – спросил Алик.
– Речь идет о контракте на два миллиона долларов, – сказал Гриша.
– Мы вам даем подтверждающие документы… – дополнил Кабановский-старший. – Там и про Тыренко, и про бензин, и про ковровое покрытие.
– А Тыренко тут при чем? – спросил Алик, потому что Тыренко он знал до этого только с положительной стороны как решительного человека, перестрелявшего из охотничьего ружья стаю бездомных собак, оккупировавших его подъезд.
– Они все совместно делают, – сказал Кабановский-старший. – Тыренко, как мне сказали, забрал домой все указанное в списке арестованного имущества. А по машинам там очень и очень.
– Но это дело – старая история, – разочаровался Алик, увидев на бумагах дату пятилетней давности.
– Там есть и новая история, – обнадежил Гриша. – И она по своей сути один в один со старой. Деньги ушли, а куда?..
– Я хотел передать японские джипы, арестованные на газоперерабатывающем заводе, в администрацию, – объяснял Кабановский-старший. – А они задаром пошли…
Тем временем Алик листал документы и нашел довольно свежие. Дело обещало быть интересным. «Статья, отгроханная на этих свидетельствах, вызовет большой читательский интерес и может привести к снятию руководства налоговой полиции, – размышлял Алик. – Это же бумажная бомба с атомным зарядом под зданием целой силовой структуры. Надо браться, но обязательно прикрыть информаторов. Их же с работы выгонят».
– Про вас, естественно, молчок, – предложил Алик. – Бумаги пришли письмом в редакцию. Пойдет?
– Можно так, – согласился Кабановский-старший. – Нас действительно не надо упоминать. Мы свое слово скажем. Чуть позже. Смотрите. Вот «Волги» поскупали – по пять пятьсот, по шесть. Обнаглели, но эту бумагу я пока оставлю себе.
– Прекращение уголовного дела в связи с амнистией или с изменением обстановки, как это было с Ворованем, – обстоятельство нереабилитирующее, – добавил Гриша. – Человек виновен. Он не может работать в любых правоохранительных органах…
«Таких, как Воровань, в России много», – подумал Алик, тем временем Гриша продолжал:
–…Его должны были бы по представлению прокурора уволить из органов налоговой полиции. Но город маленький, и все начальство – друзья и знакомые. Прокурор не написал, проверяющим, как говорится, «до лампочки»: работает и пусть себе работает. Все знают, но никто не возмущается, потому что связаны. Однако Воровань не обжаловал постановление о прекращении уголовного дела в связи с изменением обстановки. Значит, признает вину.
– М-да. Я заходил к Хмырю насчет этих бумаг. Спрашивал, – сказал Алик, вспомнив встречу со следователем, передавшим ему компромат на Кабановского-старшего, который сейчас сидел напротив него и в свою очередь предоставлял компромат на руководство.
Алик понял, что в коллективе налоговой полиции шла борьба и его хотели использовать. Но разве профессия журналиста не предполагает использования? Вопрос состоял в том, кому разрешить собой пользоваться и на каких условиях? Бумаги уголовного дела, обвинявшие в мошенничестве человека, руководящего целой структурой – это не сомнительный липовый диплом Кабановского-старшего – рядового сотрудника, от которого вреда-то с мелкую занозу…
– Хмырь до этих бумаг не доберется, – сказал Гриша.
– Тут столько труда и энергии вложено, – добавил Кабановский-старший.
– Смотрите, как они арестованную технику продают, – продолжил рассказ Гриша. – Она потеряла балансовую стоимость, списана, но вполне работоспособна. Они берут эту технику, продают в какую-то фирму. Фирма указывает в бумагах какую-то сумму для налоговой полиции, допустим десять тысяч, но фактически наличными платит двести тысяч. Сто девяносто тысяч уходит в чей-то карман. Так продан шестидесятитонный трактор «Камацу», а там только железа в виде лома на эти десять тысяч. И фирму-покупателя не напряжешь. Может, ей трактор до зарезу нужен…
– Никто не расскажет, – засомневался Алик.
– Почему? Не все люди мирно живут. Всегда есть недовольные, – сказал Гриша и продолжил. – Вот видите, кто проводил оценку имущества. Обыкновенный предприниматель.
– Действительный член Российского общества оценщиков, – прочитал Алик.
– Можно написать что угодно, хоть членистоногий вычлененный двучлен, – резко оборвал журналиста Гриша. – Почему ему отданы права по оценке имущества, если есть специальные муниципальные службы? Подобные бумаги не каждый день вам попадают. Может, только один раз в жизни. О нас не упоминайте. Нам еще долго воевать, поэтому афиша не нужна. Если что, сами позвоним…
***
Краски позднего летнего вечера горели, когда Алик возвращался домой. Многолетняя зелень сосен казалась яркой, словно только что родилась. Синева неба вдохновляла. Рассохшиеся, облезлые, более того, уродливые балконные рамы на пятиэтажных домах он перестал замечать, как и сами цементного цвета пятиэтажки, выстроенные из обитых плит, а заборчики маленького нефтяного города, изготовленные абы как из бракованной трубы, износившейся в нефтяных скважинах, и похожие на прогулку пьяного, стали приятными. Осознание удачи, хорошей работы пьянило Алика, и он размышлял:
«Нефтяные города как скороспелая клубника. Всего пятнадцать лет этому населенному пункту, а уже – город. И сейчас с новым редактором о нем, как о покойнике, – ничего плохого. Но здесь жили и живут не пай-мальчики, отдававшие себя без остатка созданию государственного нефтегазового комплекса. Вряд ли. Над этим городом витает одна сугубо земная страсть к большим деньгами и материальным благам. Подавляющее большинство людей хочет иметь побольше денег, машину, квартиру, хорошую, удобную и красивую домашнюю обстановку… В этом городе собрались люди, бросившие обжитые родные места ради большего достатка! А это немалая цена, она требует компенсации. Они не просто хотят денег – жаждут. Вот кто-то строит, кто-то добывает нефть, кто-то лечит, учит, в общем занимается полезным для общества трудом, – а кто-то крадет. И по большому счету все бы крали, была бы возможность. Это объективная реальность. Но с преступностью надо бороться, не прикрываясь удобными словосочетаниями вроде «Быть у воды и не напиться?». Надо бороться даже если сам не чист. Все-таки есть разница между украденным гвоздем и миллионами. С другой стороны, сейчас много говорится о криминализации власти, о центре, где доллары выносят коробками, а рубли тоннами пропадают в «черных дырах». Но ответственные за происходящее лица остаются на своих постах. Стоит ли?…»
Алик пришел домой и сразу лег спать…
КОМАРИНАЯ ЖЕРТВА
«Как часто большое беспокойство рождается из-за не стоящей внимания мелочи»

Уж откуда взялась эта тварь певучая, сказать сложно. Но если заведет тихую музыку да еще в хоре, то сложно заснуть ее жертве, как от шума, что раздается в три часа ночи у загулявшего соседа. Какое счастье снисходит, когда, замерши в своей постели, определив ее по звуку или в просвете окон, ощутив кожей ласковые дуновения ветерка, исходящие от мелких, едва заметных, трепетных крылышек, и нежные прикосновения тонких, как волос, ножек, изловчишься накрыть ладонью! А затем облегченно раскатаешь маленькое тельце пальцами в комочек и одним щелчком отправишь в угол комнаты, где таких комочков скопилось уже с добрый десяток. О, какое раздражающее наслаждение – охота на комара!..
«Комар – невелика тварь божья, а жить хочет», – подумал Алик уже заполночь, хлопая ладонью по плечу с силой достаточной для того, чтобы наладить советский телевизор. Поглядел на ладонь. Ничего. Напряг зрение, вглядываясь в полутьму комнаты, укрытой плотными шторами от возбуждающего света еще не погасших белых ночей. Да что можно разглядеть? Прислушался. Вроде бы тишина. «Может, краем ладони зацепил или ударной волной оглушил?» – подумал Алик, перевернулся набок и закрыл глаза, желая скорее заснуть, а там мерзавчик пусть сосет кровушку сколько влезет.
Сон одолевал. Его расплывчатые картины, когда комар невесть куда пропадал, фокусировались и становились узнаваемыми. Но не успевали они обернуться манящей соблазнительной девицей или друзьями и пригласить его на рюмку-другую, как в руках возникал гудящий пылесос или жужжащий стоматологический наконечник во рту … Алик открывал глаза, и звук работающего пылесоса и бормашинки оказывался на поверку писком комара…
Со сном не получалось. Возле головы опять раздалось нудное жужжание, источник которого то отдалялся, то приближался, но однозначно был в пределах досягаемости. Алик приоткрыл глаза и заводил зрачками по сторонам. Головой не двигал, чтобы не спугнуть… Рядом мелькнула быстрая песчинка темноты. «Охотится. Не спится ему. Ну ладно, посмотрим, чья возьмет. Будем ловить на живца», – подумал он и осторожно задвигал руками. Одну положил привлекательно для комара, венками наружу. Другую руку отвел в сторону и затаился в напряженном ожидании, чтобы прихлопнуть стервеца, когда тот опустится на кровепой. Комар сел на ухо…
Алику показалось, что в расположенной рядом с его домом церкви громогласно зазвонил колокол, сзывая на службу…
Комар был смышленый. Вместе с колоколами церкви он звенел одновременно в разных местах и перемещался столь быстро, словно прыгал в пространстве и времени. В случае опасности он хоронился на пестрой лужайке ковра, висевшего на стене, где легко потеряться на фоне узоров, но, лишь появлялась возможность, цепной собакой бросался на Алика. Ситуация еще более осложнилась, когда во дворе залаяли бродячие псы. Они брехали несильно, но с чувством темпа, давая понять, что сил хватит надолго. Звон комара потерялся окончательно. Отчаяние овладело Аликом, отчаяние обреченной на бессонницу жертвы, которой через пару часов предстояло идти на работу.
Он вскочил с постели, стукнул по выключателю, скрутил в плотный убийственный сверток свежий номер газеты маленького нефтяного города и огляделся. В свете люстровых ламп комар отплясывал на потолке задиристый рок-н-ролл. Он жизнерадостно метался и дергал ножками. Алик встал на табуретку, расправил конец бумажной дубинки, сделав ее похожей на мухобойку, и плавно подвел ее под ненавистное насекомое. С мысленным криком: «Собаке – собачья смерть», реализовавшимся в глухом горловом то ли рыке, то ли хрипе, он ударил. На белоснежной известке обозначилась красная клякса. Еще одна…
После убийства не спалось. Алик сел в любимое кресло и приступил к работе над циклом статей о Вороване и налоговой полиции…
НА ШИРОКУЮ НОГУ
«На основе закона грабить куда спокойнее»
Примерно в это же время автоматчики налоговой полиции приступили к атакам на крупные частные предприятия маленького нефтяного города. Сопротивления почти не встречали. Летом половина работников, задолжавших в бюджет предприятий, отдыхала в отпусках. Вторую половину Семеныч нейтрализовал тем, что велел нападать только в выходные, вечером или ночью. Сторожа, вооруженные пластиковыми свистками, прятались и робко отсвистывались из охранных будок. Налоговые полицейские автоматными прикладами сбивали замки с производственных помещений. И никаких понятых. Лишние свидетели не нужны. Арестовывалось все добротное имущество. Материалы, изымаемые на складах, не включались в опись, а документы по реализованной продукции не предоставлялись… Шел грабеж.
Утром, после успешной последней операции, Семеныч выстроил бойцов на праздничную линейку и, вглядываясь в невыспавшиеся лица, думал: «Что б я делал без вас, вороны? И вы без меня? Киоски бомбили? Шантрапой остались? А сейчас при серьезном деле».
– Молодцы! Ух, молодцы! Хорошо потрудились. Каждому премию, – пробасил Семеныч, но, почувствовав на себе слишком заинтересованные взгляды, добавил. – Хотя бы небольшую премию надо! Заслужили! Хвалю.
– Рады стараться, товарищ полковник! – прогремело на всю двухэтажку налоговой полиции.
– Гляжу на вас и вспоминаю, как сам таким был …
Хотелось сказать что-то вдохновляющее, но не получилось. Семеныч никогда таким не был. Он добивался своих целей не кулаками, а топорной интригой или попросту наушничая начальству. Он застрял на продолжении фразы и уже испытывал некоторую неловкость, как вдруг частая трансляция по радио маленького нефтяного города стихов местных поэтов возымела реальный эффект: Воровань перед строем заговорил в рифму:
Есть человеческий стандарт
В наборе качеств и извилин.
Иметь их – взять у черта дар,
А не иметь – себя обидеть:
Дипломатичность как расчет,
Злопамятство как дальновидность,
Серьезный вид, чтоб был почет,
Любовь к деньгам как страсть и милость…
Их много – штампов для души,
Клейменым легче жить на свете…
В этом месте Семеныч попытался прекратить словоизвержение, потому что сказанного вполне бы хватило для назидания, но фразы цеплялись одна за другую и летели с языка:
Что делать, если не нашли
Сии черты большие дети?
Налоговые полицейские непонимающе переглянулись, а Воровань продолжал:
Открыться – значит стать шутом.
Закрыться – жить в себе, в неволе,
В «подполье» жить и быть при том
Немного странным, но не боле,
Всем отвечать лишь то, что ждут,
Слова, которые привычны,
И правдой уши не прожгут,
Или со справкою наличной.
Слова, как щит перед душой,
Незащищенность защищают.
Ведь ларчик должен быть двойной,
Когда ему судьбу вверяют.
Позади Семеныча раздались скромные двуладонные аплодисменты, следом кто-то постучал по плечу. Семеныч оглянулся и увидел осунувшуюся личность с темными кругами под глазами, одетую в добротный гражданский костюм.
– Ты кто? – хрипло спросил Семеныч. – У нас мероприятие. Не видишь?
– Я как раз по мероприятию, – ответила личность. – Я директор предприятия, имущество которого вы арестовали этой ночью.
– Ах, вот ты кто! – въедливо вскричал Семеныч. – Дети мои! Вот он, козья морда, неплательщик. Он укрывает налоги от государства, вскормившего его, обучившего, отлечившего. Запомните его и если встретите в ресторане, кафе или баре, где вы часто бываете, естественно, по долгу службы, то всегда спрашивайте: «А рассчитался ли ты с батькой Ворованем, то есть с налогами, прежде чем жратву заказывать?» А коль не рассчитался, так гоните его, можно даже приложить по такому случаю…
Бойцы налоговой полиции одобрительно зашумели, как гудит морская волна, разбиваясь о прибрежные камни. Семеныч опять почувствовал легкий стук по плечу.
– Извините, но мне необходимо переговорить. Лично, – попросил директор.
Семеныч внимательно взглянул на свою ночную жертву, и многолетний профессиональный опыт подсказал, что разговор с ней может вполне закончиться хорошей взяткой. Он повернулся к бойцам и крикнул:
– Вольно, разойтись!
Визит директора затягивать не хотелось, поэтому, как только тот вошел в кабинет и приблизился к столу, Семеныч вытащил из выдвижного ящика объемную пестро разрисованную железную коробку из-под леденцов или печенья, в которую он всегда складывал денежные подношения, открыл и предложил:
– Угощайтесь.
Директор пошарил в коробке.
– Пусто, – растерянно сказал он.
– Тьфу ты, не угощайтесь, а кладите ваше дело в коробочку и бывайте здоровы, мы о вашем имуществе позаботимся. Постараемся помочь, – уточнил Семеныч.
– У меня устное дело. Я поговорить хотел, – проговорил директор, чувствуя неясную вину.
Семеныч недовольно поморщился и рявкнул:
– Что тут говорить? Устно надо было раньше! Устно с бабами теперь…
– Да, мы должники, но не по своей воле, – торопливо заговорил директор, серея с каждым сказанным словом. – Виноват порочный круг неплатежей: заказчики не платят строителям, строителям нечем рассчитываться с бюджетом. Вы же на заказчика боитесь повлиять, потому что это или нефтяная компания «СНГ», или городская администрация. Причем они нам должны больше, чем мы должны бюджету, и не платят. Я не спорю: налоги платить надо. Но нельзя же забирать все, как это сделали вы. По закону техника, участвующая в производстве, изымается и реализуется в третью очередь и только после согласования с федеральным центром и после решения суда. Вы же изъяли у нас все пользующиеся спросом материальные ценности без согласования и судебного решения. Как нам жить и рабо…
– Мужик, это не разговор, – оборвал Семеныч. – Законник нашелся! Я от тебя ждал другого. Не жалоб, а точно отсчитанных действий. На лицо вроде не прапорщик, а говоришь чушь. Надо погасить твои долги перед нами, то есть перед бюджетом, а чем их погасить, если не ходовым имуществом…
– Из-за вашей конфискации сотни людей останутся без зарплаты, – повысил голос директор, теперь уже скорее красный, чем бледный.
– Не шуми. Заботиться о людях – твое дело. Мое дело – забота о государстве, – высокопарно и грозно проговорил Семеныч и задумался на секунду: «Как удобно прикрываться интересами государства – козырный туз в любой игре. Нижестоящая сволочь теряется. А если возразит, так ей можно сказать: «Я поставлен на этот пост, потому что знаю больше тебя, а был бы ты такой умный, так сидел бы на моем месте. Кто лучше понимает интересы государства? Ты или я? Президент тоже, будь уверен, рассуждая о благе народа, ищет личную выгоду…»
– При чем тут государство? – обиженно фыркнул директор, совсем уже красный, особенно на выпуклых щечках. – Вы у нас не первый раз арестовываете имущество. Оно гниет на складах, а нам – пени. Вот прошлый отчет по реализации. Читайте: «передано материальных ценностей по балансовой стоимости на пять миллионов рублей». Стоимость этого же имущества ваши определяют в пять раз ниже. Вот смотрите – цифра. Миллион. Продана доля этого имущества всего на тридцать пять тысяч рублей. И есть расшифровка тому, как распределились указанные тридцать пять тысяч. Большая часть ушла на оплату услуг по оценке. Далее: на комиссионное вознаграждение, на юридическое сопровождение, на информационные расходы, на счет налоговой полиции, на прочие расходы – и, наконец, перечислено в бюджет для погашения нашего долга четыре с половиной тысячи рублей. Восьмая часть от суммы реализации! Мизер! Остальные деньги осели в посторонних карманах!
– Люди не могут бесплатно. Это вы сами знаете. И хватит, наконец, кричать, а то сейчас за дверь… – по-доброму сказал Семеныч, потому что тирада директора напомнила ему о кормильце, милом оценщике Хлопцеве.
– Ваш оценщик – мошенник! – резанул директор, на лбу которого показались первые капли пота. – Его оценка ниже даже остаточной стоимости. Вы изъяли четыре километра стальной импортной трубы. Она оценена в пять тысяч рублей и продана. Только нищий не купит. Минимальная рыночная стоимость ее на момент продажи составляла не менее двух с половиной миллионов рублей. В пятьсот раз выше! Вы нас грабите! Мы остаемся должниками. Ваш любимый бюджет без денег. Наши деньги растаскивают всякие оценщики и сомнительные фирмочки. Кому выгодна такая распродажа?..
– Не твоего ума дело! – рявкнул Семеныч, лицо которого тоже украсил агрессивный румянец. – Нас создало государство, а тебя лишь мать в ячейке общества! И ты хай поднимаешь?! Трубу ему жалко! Ты смотри, как бы тебя за грязные речи куском этой трубы в подъезде не огрели. И не забывай: мои автоматчики охраняют твое имущество от твоих посягательств не бесплатно. Их цена на твои плечи ляжет, а ты орешь. Смотри, как бы позвоночник не хрустнул от тяжести, которую взвалил на себя. Все. Время истекло. Поумнеешь – жду…
Директор вышел и громко хлопнул дверью. Семеныч откинулся на спинку кресла, растер ладонями гудевшую, как ткань на барабане, кожу на лбу и включил радио. Передавали его интервью:
– За восемь месяцев текущего года отделом Управления федеральной службы налоговой полиции маленького нефтяного города возбуждено тридцать три уголовных дела, по которым выявлено тридцать семь преступлений. Производство тридцати уголовных дел закончено. Пять из них направлено в суд…
«Хорошо говорю, – подумал Семеныч. – Работа налицо. Любому нормальному слушателю понятно, что налоговая полиция не зря хлеб ест. Преступников ловим. Укрывателей налогов, как раньше укрывателей зерна. Мы гончие современной продразверстки. Наш девиз – отобрать у богатых. Это нашему, советскому, человеку должно нравиться…»
Тем временем по радио пустили стихи местных поэтов, озвученные все тем же женским, на этот раз страдающим голосом:
Кто замыкается в аду
Своей души, когда несчастье
Опутало ее одну,
Слезами кормит тот беду,
Лелеет, бережет ненастье
И вместе с тем идет ко дну.
Но если гомон голосов
Друзей любимых вдруг нахлынет,
Тьма непроглядных облаков,
Несущих ранний хлад снегов,
Под светом солнца мигом сгинет,
И сердце в нем напьется силы…
«А что не выпить и не поговорить с друзьями?» – подумал Семеныч, достал из шкафчика дежурную бутылочку коньяка, налил до краев в чайную чашку и, резко запрокинув голову, одним глотком выпил. Потом пододвинул телефон и натыкал знакомый номерок.
– Это столица? – спросил он, когда на том конце телефонного соединения кто-то поднял трубку.
– Общество с ограниченной ответственностью «Сорви с Сибири», – ответил приятный женский голос.
– Вы-то мне и нужны, – заверил Семеныч. – Пропихайлов на месте?
– Виктор Лиманович? – переспросил женский голос.
– Да. Соедини меня с ним, – не терпящим возражений голосом скомандовал Семеныч.
– А как вас представить?
– Скажи, Семеныч из маленького нефтяного…
– О-о-о, Семеныч, привет. Что заскучал? Буквально ж вчера говорили, – радостно поприветствовал его мужской голос.
Это был голос Вити Пропихайлова, находившегося во всероссийском розыске с подачи прокуратуры маленького нефтяного города. Того самого Вити, который основал в маленьком нефтяном городе охранное предприятие «Лидер» и благополучно исчез со сцены, оставив неудовлетворенных зрителей при желании закидать его помидорами. Он кому надо заплатил, вполне прилично обосновался в столице округа, организовал доходнейшее предприятие на основе старых связей и ничего от жизни более не желал.
– Привет, – ответил Семеныч. – Сейчас по поводу вчерашнего ареста ко мне директор заглядывал, так настроение испортил, дай, думаю, тебе позвоню, чтобы, как говорится, в общении с тобой напиться силы.
– Чего-чего напиться? – переспросил Пропихайлов.
– Забудь, к слову пришлось, – ответил Семеныч. – Давай обсудим, как продвигаются наши дела. Зачитай, что там у нас получается.
– Слушай. «КАМАЗ» Хлопцев оценил в три тысячи рублей. Автокран – в пять тысяч рублей. Бульдозер – в полторы тысячи. Автобус – в две. Далее две легковые автомашины – по две с половиной и восемь тысяч рублей. Вахтовый автобус – десять тысяч рублей…
– Отличная работа! – воскликнул Семеныч. – Неплохо наваримся. Рыночная стоимость вахтового автобуса как минимум в десять раз выше. А полторы тысячи рублей – цена игрушечного бульдозера! Не забудь: часть этой техники нужна лично мне. У меня родственник в Тюмени автотранспортное предприятие открыл.
– Нет проблем, Семеныч, – ответил Пропихайлов. – Что надо – твое. У нас оборот большой. Сам знаешь: мы – федеральный центр. Ваш маленький нефтяной город – один из семи городов округа, попавших в нашу сеть, а ведь есть еще и районы. Денег мы зарабатываем достаточно, чтобы не обращать внимания на подарки друзьям. Только в этот раз изменится схема продажи.
– Как? – голос Семеныча утратил восторженность.
– Не волнуйся, – успокоил Пропихайлов. – Моя жена, Олечка, тоже хочет подработать. Имущество твоего скандального директора пройдет через ее магазин «Автомиг». Кстати, хочу тебя обрадовать. В последней сделке отчисления в бюджет с продажи арестованного имущества удалось еще более снизить. Ненасытное государство получило меньше двух процентов. Все остальное мы списали на Хлопцева, на его услуги по оценке, и на охрану. Это уже очень серьезные деньги, Семеныч.
– Приятно слышать. Государство не прокормишь. Оно как корова, которой все не впрок: сколько не сожрет, а худая. О себе надо думать, о семье, – удовлетворенно выдохнул Семеныч. – Ну, пока.
– До свидания…
Воровань положил телефонную трубу, достал из выдвижного ящика стола бумагу с таблицей, где в графах левого столбца значились названия местных предприятий, и поставил в крайнем правом столбце, под названием «Исполнение», еще один жирный крест. Посмотрел на него и пририсовал ниже аккуратный холмик.
***
Алик сидел за добротным письменным столом, купленным по объявлению, и писал статью о налоговой полиции. Он не знал ни устройства двигателя, приводившего финансовую машину Ворованя в действие, ни связей между ее агрегатами. Перед ним лежали излишне залитые черной копировальной краской листы с прыгающими шрифтами: сухие финансовые отчеты, копия обличительного факса прокурора Коптилкина, материалы старого уголовного дела… Он старался писать коротко и ясно, не отходя от первоисточника, не строя замысловатых выводов, чтобы избежать обвинений в некомпетентных журналистских домыслах. Все выводы лежали перед ним. Текст ложился на лист легко. Единственное, чего опасался Алик, что статью не опубликуют, и тому было два основания. Первое: новый редактор по фамилии Квашняков был не из смелых журналистов, а типичный чиновник, исполняющий и дрожащий. Второе: таких острых статей, какую он собирался предложить, в газете маленького нефтяного города еще не печатали…
Первый рубеж был взят, когда ответственный секретарь газеты Посульская и подросший за хорошую службу Хамовскому до заместителя редактора Лучина пропустили эту статью на вычитку корректорам и поставили на газетную полосу. Лучина спросил единственное:
– У тебя есть материалы, подтверждающие эту статью.
– Все имеется, если надо, хоть сейчас покажу, – ответил Алик.
– Хорошо, – со вздохом ответил Лучина и занялся чтением свежей почты, что и было его основным занятием.
ЦЕНА ИДЕИ
«В человеческом мире нет ничего менее реального и более весомого, чем хорошая идея. Но результат ее материализации всегда непредсказуем. Она может как возвысить, так и похоронить»
Сапа считал, что он первым подсказал Хамовскому идею выдвигаться на пост мэра города. Он втайне гордился этим фактом и полагал, что тот ему пожизненно обязан. Мэр расплатился с помощниками по выборам должностями и доверил Сапе пост председателя Комитета общей политики. Он со всей стороны мыслил, что рассчитался.
От частичной должностной реанимации Сапа воодушевился: после низвержения с поста председателя Совета он слишком долго перебивался заработками в соседнем городе. Кроме того, Сапе нравилось быть тайным советником вождя, шептать на ухо и видеть, как фигурка мэра шевелится, словно марионетка. Для того чтобы управлять, совсем не обязательно быть первым, можно быть и десятым, но давать нужные первому идеи. В целом деятельность Сапы проходила незаметно для жителей маленького нефтяного города, как неприметная работа подсознания, исключая одно существенное деяние – изменение местного герба.
***
Когда возник паровоз, многие цивилизованные люди считали его изобретением дьявола и боялись. Когда появился калькулятор, то старые бухгалтеры не доверяли цифрам, возникавшим на его табло, а пересчитывали результат на счетах, перегоняя деревянные замусоленные шайбы, нанизанные на стальные штыри, с одной стороны прибора на другую… Все новое приживалось постепенно, возникали новые понятия, но бюрократия всегда поглядывала назад.
Сапа начитался литературы по традиционной геральдике – науке, ответственной за создание гербов, привлек знакомых специалистов из родной Самары, и в итоге его бурной деятельности из герба маленького, но очень нефтяного города исчезла нефтяная вышка, а появилась два золотых ключа, соприкасавшихся между собой на манер раздвинутых ножек. «Почему?» – спросит читатель.
Престижное назначение возбуждает вновь назначенного. Он спешит подтвердить правильность выбора. Им овладевают неукротимые доисторические желания поменять все и вся, происходящие от того времени, когда первая человекообразная обезьяна, получившая из лап вождя племени должность шамана, зажигала новый костер, на котором жарили невыгодных собратьев, но чтобы менять божка… Особенно эти желания овладевают людьми в период революций. А в ту пору, о которой идет повествование, и шла революция, меняли все подряд, словно стараясь забыть о прошлом: названия городов и улиц, названия праздников, памятники, название должностей и предприятий. Институты в одночасье стали академиями, начальники вместо голых окладов стали получать весомые контракты…
***
– Почему? – спрашивал Алик, не понимая, как из герба нефтяного города можно убрать нефтяную вышку.
– Такого символа в геральдике нет, – горделиво отвечал Сапа, – а вот ключи есть.
– Когда создавалась геральдика, не было нефти, – говорил Алик. – Меч, щит, ключ, крепость – элементы древности, средневековья. Символы времени и места изменились…
– Ты рассуждаешь, как дилетант, – сказал, немного нахмурившись, Сапа. – Я над этим много работал. Два золотых ключа к недрам символизируют доступ к нефти и газу. Сложены они так, что получается чум. Смотри, сколько эскизов…
Слово «дилетант» не ранило самолюбие Алика нисколько, поскольку было правдиво, но он понимал, что к прямому унижению всегда прибегают, когда нет доказательных аргументов. Можно было спорить. Однако в споре рождается не истина, а враги. Алик заметил, что бородка у Сапы затопорщилась, как шерсть у животного, готового кинуться в драку, а губы сложились в мстительную нехорошую улыбку.
– Может, вы и правы, – сказал он, чтобы прекратить полемику, больно ранящую Сапино самолюбие, и не рвать складывающиеся близкие отношения.
– Конечно, прав, – воодушевленно откликнулся Сапа…
Смысл нового герба был разъяснен жителям маленького нефтяного города через газету и телевидение, и никто не воспротивился публично, как обычно. Русский народ все принимает, и лишь смеется, снимая напряжение, над шутками юмористов, рассказывающих о жизни правду. Команда клуба веселых и находчивых из соседнего города отшутилась по гербовым ключам, назвав один – ключом от машины, другой – от квартиры, а весь герб мечтой жителей маленького нефтяного города. Алик не смеялся. Он прожил в этом городе достаточно времени, чтобы привязаться к нему и обижаться… Кроме того, Алик не любил и самих юмористов о жизни, считая, что они выгодны власти, поскольку своими остротами выпускают пар из кипящих котелков народа, которые в противном случае взорвались бы, а в результате этот народ живет, как жил. Нет ничего прискорбнее привычного, разрешенного высмеивания: оно уже не уничтожает власть, а лишь веселит.
В целом деятельность Сапы на должности председателя Комитета по общей политике была незаметна и безобидна: он то готовил сувенирную продукцию, то идейно боролся с наркоманией, но однажды подбросил Хамовскому мысль баллотироваться на должность мэра соседнего города, где народу жило в три раза больше.
– Прямая дорожка на кресло губернатора. Прямая! – убеждал Сапа. – Заявите о своих претензиях и не сомневайтесь. Если система не развивается – умирает. Идти на выборы или нет – решите позднее.
– Как говорится, «Ах, Моська, знать она сильна, коль лает на слона», – подхватил идею Хамовский. – Больше амбиции – выше рейтинг…
Мэр внял совету Сапы и на планерке заявил:
– Ребята, возможно, я пойду на выборы в соседнем городе. Но это не значит, что я вас брошу. Наши города родственны и близки…
Саботажный слух захлестнул маленький нефтяной город. После пересказов он принял законченную форму во мнении, что мэр досрочно уходит на повышение, а потому он обычная сволочь, как и многие руководители. Такой поворот не понравился Хамовскому.
Он сидел за рабочим т-образным столом в том месте, где обычно располагается ударение над буквой, и катался на вращающемся кресле с колесиками из стороны в сторону, мягко отталкиваясь от пола носками туфель и хватаясь руками за столешницу, когда требовалось остановиться. Лицо его было красно, как у начинающего зреть помидора, но без характерной зелени. На столе среди стопок бумаг, за символическим забором, составленным из двух больших прозрачных колдовских шаров синего и зеленого цвета, фотографии семьи, офисного набора с ручками, карандашами и прочей атрибутикой бумагомарак, фигурок животных, серебряных юбилейных рублей…стояла полупустая бутылка «Хванчкары», любимого вина Хамовского. Она была открыта и наполовину пуста. Рядом стоял стакан, красные подтеки на стекле которого выдавали его использование. Хамовский действительно иногда останавливал движение, наливал в стакан до краев красного ароматного вина, выпивал его жадными непрерывными глотками и продолжал кататься на кресле, как бегает беспокойный вратарь в воротах – от штанги к штанге. Мэр думал.
«…не такой и он умный, как кажется, интеллигент хренов, – размышлял Хамовский о Сапе. – Непростительная ошибка. Все ему дал, а он то ли дурак, то ли на мое место метит. Мне ж до перевыборов недолго осталось. Подставил…»
Хамовский затаил обиду на Сапу, находившегося на грани исполнения мечты о должности главного и безапелляционного наушника, и подпустил слух, что идею идти на выборы мэра ему первоначально высказал Лесник, редактор телевидения маленького нефтяного города.
Выбор героя для слуха был не случаен. По своему уму-разумению Лесник отличался приземленностью, по складу характера – воровскими наклонностями и плагиаторством. Кроме того, он являлся вдохновителем избирательной кампании противника Хамовского – Главы Бабия и после проигрыша своего благодетеля уехал в окружную столицу, где по блату получил чин председателя Комитета по средствам массовой информации.
***
Идея не книжка, на ней не записано имя автора. Благодарность и авторство на идею можно потерять вмиг, если не угодишь. Но столь изощренная передача авторства в руки личности неуважаемой сильно огорчила Сапу.
«Ниже Лесника опустил, – размышлял он. – Теперь я стал вроде плагиатора. Ох, не к добру, не к добру».
Сапа стал меньше улыбаться и больше рассуждать о черном будущем.
ПЛАГИАТОР
«В мире придумано столько всего, что не надо уже и думать»

За душой у Лесника, будущего начальника окружного Комитета по средствам массовой информации, кроме строительного техникума, другого образования не было. Зато он умел деловито напрягать щеки, пыжиться и говорить нехотя, с легким презрением к оппоненту, так что тому казалось, будто он, Лесник, – крупная и недостижимая, как дирижабль, фигура на манер знаменитого певца. «Строго по билетам, строго по билетам. У вас нет билетика? Идите отсель», – Алику казалось, что эта тирада вот-вот прозвучит, когда он иногда встречался с Лесником.
Лесник культивировал вокруг себя геройский имидж человека, участвовавшего в афганских военных действиях, контуженного, следуя хобби ильфо-петровских детей лейтенанта Шмидта, но не мог избавиться от привычки совершать мелкие кражи. Однажды он стащил из чужой телогрейки кошелек с мелочью на обед, был пойман с поличным и бит. Это произошло, когда Лесник работал на нефтяном месторождении маленького нефтяного города, но не простым работягой, а по комсомольской линии – комсоргом. Работа физически не грязная, но трепоносная…
– Смело мы в бой пойдем за власть Советов… – распевал Лесник перед началом трудовой смены, следил за теми, кто не подпевал, и незаметно записывал их фамилии в тетрадку.
Трудовой народ расходился и разъезжался по нефтяным кустовым площадкам в тайгу, где качалось и покоилось, булькало и причмокивало от удовольствия глотающее нефть оборудование, а Лесник оставался на месте якобы для работы с бумагами, а сам осторожно лазил по карманам, изучая личную жизнь членов бригады и тыря мелкие деньги. Может, он бы и остался всего лишь мелким мошенником, когда бы его товарищи в один из суровых морозных дней не вернулись раньше положенного срока…
Если пустую губку сжать и отпустить, то она, принимая прежние размеры, воссоздаваясь, впитывает все подряд. Так и новые предприятия. Нарождавшееся в небольшом нефтяном городе телевидение легко впитало Лесника, а он, с его способностями к строительству начальственного образа, сумел стать редактором и лицом очень даже приближенным к Главе города. Он пописывал чрезвычайно умные статьи в городской газете, такие, что читатели и коллеги дивились его недюжинному уму. Он посмеивался над глупостью мелко-провинциальных журналистов и творил большую политику маленького нефтяного города. Внешне Лесник выглядел, как плохо обструганный Буратино, так что у любого человека, пожимавшего ему руку, возникало опасение, что он сейчас получит несколько заноз в ладонь.
***
…В будущем Алик встречал много начальников, редакторов и газетных чиновников, призывавших идти на баррикады за свободу слова, бить критикой по чиновникам, но все это было не более чем словоблудие. Все эти агитаторы оставались в лучшем случае в стороне, а в худшем сами добивали того, кто откликался на их призыв. Квашняков и Хамовский в маленьком нефтяном городе были из их числа, да что там, даже чиновники из Союза журналистов России отличались теми же качествами. Нет, выпить рюмку-другую за погибших журналистов московские чиновники были горазды, но помочь. Пока не погиб – не герой. Иль пока много не украл – не герой. Простому человеку остается погибать, а начальнику – богатеть. Алик так понял, что правильные словеса – это довесок к должности: начальник должен говорить о справедливости, а поступать так, как требуется, как выгодно. Таков путь к бессмертию, а бессмертия хотят все. Но это к слову…
***
Только на небольшой части Российской Федерации, в Ямало-Ненецком автономном округе, выходит несколько десятков газет. По всей России можно ожидать тысячи изданий самого разного формата и тиража: известные толстушки и малоизвестные тощие, порой заводские издания. Они раскупаются, разбираются читателями, исчезают в мусорных ведрах, подшивках, библиотеках; идут на розжиг печей и костров; в них заворачивают цветочные букеты; в кулечки, свернутые из них, фасуют семечки… Судьба у газет разная, но чаще – гибельная. Вместе с газетным обрывком, выбрасываемым читателем, навсегда покидает мир частичка интеллектуального труда какого-нибудь писаки. Тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч людей работают на исчерненную шрифтом бумагу, в которой рядовой потребитель порой видит лишь средство для застилки квартирных полов накануне ремонта.
«Кто читает эти тысячи газет? – задумался как-то Лесник в отпуске. – Вот хорошее издание моего города, очень хорошие статьи, но они так и останутся здесь, погибнут, не отведав читательского внимания в других городах. В нашей тайге – точно. Чтобы перечитать всю центральную Российскую прессу, надо предаваться этому занятию всецело, отдавать жизнь без остатка, поэтому никто никогда не узнает, не докажет плагиата, если, допустим, взять хороший материал из малоизвестной газеты, перепечатать его, немного подправить при необходимости и подписать своей фамилией. Если передирать статьи одного и того же автора, то можно создать свой стиль. Это же эврика! Без труда рыбки из пруда, и я на коне провинциальной журналистики!»
Зажуливание чужих текстов увлекло Лесника. Журналисты маленького нефтяного города чувствовали подвох, нервничали, но доказать ничего не могли.
– То ничего-ничего, а тут смотри, как расписался, – удивлялся Лучина.
– Для его уровня это слишком сильно. Где он таких слов-то нахватался? – вопрошал Алик.
– Где-то что-то похожее я уже читала… – говорила Аида, тонкая неврастеничная журналистка, имевшая красивую фигуру, длинные прямые волосы и амбар нерастраченной страсти.
Обрывки журналистских разговоров достигали Лесника, но поскольку эти разговоры не перерастали в действия и даже спустя короткое время стали стихать, утрачивая подозрительный тон и приобретая восхитительные оттенки, то он успокоился. Время от времени он запускал в народ новую переделанную статью, а его голос приобретал все более заносчивый тон, характерный для мэтров культуры и искусства. Тогда еще правивший маленьким нефтяным городом псевдо-Глава Бабий, не читавший других газет, кроме им финансируемой, был покорен стилем Лесника. Иной раз он вызывал его к себе и просил:
– Слушай, Лесник, ты бы прописал что-нибудь про…
– Сделаем, Михаил Владимирович, – отвечал Лесник и шел к газетной архиву, пополняемому с помощью дальних родственников и почтовой связи…
Ему бы остановиться на достигнутом, на том, что он лучший в маленьком нефтяном городе телевизионный и газетный журналист, но таково свойство профессии. Журналистика полна тщеславия и ревностного соперничества. Лесник, читая стихи местных поэтов, загорелся желанием стать лучшим в маленьком нефтяном городе поэтом и прозаиком, хотя поначалу он был изрядно холоден к произведениям местных.
Поэты долго не живут,
Они до срока умирают
Или навеки умолкают
И в огороде «план дают».
Они, как вспышка средь ночи
Обычной суеты и быта,
Горят, пока душа открыта,
И гаснут, лежа на печи.
Друзья безделья, для Других,
Которым все равно, что пишут,
Они всегда неровно дышат,
Ждут озарений дорогих…
– Разве это стихи? Я воспитывался на Бунине, – говорил он пренебрежительно таким тоном, что казалось, будто о Бунине никто, кроме Лесника, и не слыхивал.
Собственное высокомерие ему нравилась до тех пор, пока он не осознал, что стихи городских поэтов среди читателей пользуются ничуть не меньшей, а то и большей популярностью, чем статьи на политические темы…
– Как бы мне пробиться на поэтическом и литературном поприще этого маленького нефтяного города? – попросил совета Лесник у приехавшей погостить мамы. – Они в этом Мухосранске пишут всякую чушь, но среди них есть деревенские писательские величины, свои признанные сирены пера. Мне надо их обойти.
– Это просто, сынок, – откликнулась мама, бывшая отличница по литературе и русскому языку, – только потребуется немного терпения. Иди по топтаному, езжай по наезженному и не завязнешь. Посмотри старые подшивки. Выбери лучшее. Напиши что-то вроде сочинения на заданную тему. Как пишут школьники, дома. Забыл? Я тебе помогу. Это не сложно: используя готовый сюжет и готовые фразы, чуть изменив их, можно написать произведение ничем не хуже. Даже Стендаль не брезговал писать романы по одной сюжетной линии. Правда, он свою сюжетную линию придумал сам, а мы будем использовать готовую, но мы же никому не расскажем о нашей маленькой хитрости.
– Голова! – восхищенно произнес Лесник. – Конечно, я достоин большего, чем любой из местных бумагомарак, которые мнят… Они тут все лохи, а лохи для того и существуют, чтобы их лошить.
– Схожесть стиля доказать сложно, – продолжила мама. – Переделывай тексты, и никто ничего не докажет. Пиши, как в школе сочинения. Открываешь, допустим, Бунина, находишь в тексте описание природы, деревни, людей или что тебе надо – и вперед. Переделывай на свой манер. А направление понятно – деревенские рассказы, они тут на «ура» пойдут. Пока никто не догадался опрозить старые российские кинофильмы. Давай будем первыми…
– Нет, мама, начну со стишков. Местные поэтики достали меня своими генитальными стихами. Надо им показать класс, – решил Лесник…
Даже человеку меняют органы и даже пол так искусно, что при шапочном знакомстве и не распознаешь, что говорить об идеях. Лесник принялся находить малоизвестные женские стихи и переделывать их в мужские. В качестве тренировки покусился даже на Ахматову. «Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами…» он легко переделал: «Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я болел не вами…». Конечно, публиковать, мужской вариант стихотворения известной на всю Россию поэтессы Лесник не решился, но малоизвестных авторов он переделывал и публиковал, не опасаясь. Так в газете маленького нефтяного города вышло несколько стихотворений Лесника, возвысивших его над поэтической тундрой. Но случилась беда.
Те, кто пишет, иногда читают чужое. Аида была большой любительницей поэзии. Прочитав стихи Лесника, она с месяц почесывалась от нервного перевозбуждения и бредила одной фразой: «Я точно это читала». Она импульсивно рылась в библиотеке, в старых журналах. Открытие свершилось в куче старых поздравительных открыток. На обороте одной синели типографским курсивом два четверостишия Лесника, написанные, правда, от имени женщины: «…как могу я тебя не любить, из ребра твоего сотворенная». У Лесника значилось: «…как могу я тебя не любить, из ребра моего сотворенную». Любительница поэзии схватилась за голову и вскрикнула:
– Вот курва!!!
Журналисты маленького нефтяного города, приниженные плагиатом Лесника, на радостях опубликовали язвительную заметку под названием: «В США за плагиат увольняют». Но Россия не США. Глава города Бабий своего Лесника не обидел, и даже более того. Когда после проигрыша в выборах за кресло мэра маленького нефтяного города он уехал в столицу округа, то повлиял на становление Лесника в качестве председателя Комитета по средствам массовой информации. Конечно, среди журналистов маленького нефтяного города пролетела бурька возмущения, но ее в столице не заметили, зато посмеивающийся сверху Лесник мог спокойно мстить за свой позор, урезая финансирование…
ТОРМОЗ
«И лошадь бы не прыгала, не будь барьеров и ездока»
В каждой структуре маленького нефтяного города велись интриги, борьба за места и деньги, поэтому до налоговой полиции никому не было дела. Статью про Семеныча новый редактор по фамилии Квашняков отправил в урну без предупреждения и вопросов. Об этом Алик узнал только тогда, когда развернул свежий номер газеты, чтобы посмотреть…
– Вы сняли мой материал о налоговой полиции, – обозначил факт Алик, едва зайдя в кабинет Квашнякова.
– Да, – невнятно согласился Квашняков. – Она грозит судебным иском. У тебя есть доказательства тем вещам, о которых ты пишешь?..
Зрачки редактора резкими мушиными движениями дергались из стороны в сторону, создавая впечатление, что у Квашнякова отсутствует контроль над собственными глазами. «Один из признаков серьезного душевного расстройства, – распознал Алик. – Как такого дурака поставили во главе редакции?» Тон Квашнякова постепенно становился все более резким и хамским.

– Доказательства есть, – ответил Алик, удивляясь тому, что его, вместо того чтобы похвалить за сложнейший материал, шеф пытается испугать голосом.
– Принеси все бумаги. Их надо изучить. Покажу своему адвокату, – сказал Квашняков, перебирая на столе документы.
– Хорошо. Принесу копии, – ответил Алик, опасаясь, что в руках Квашнякова единственные экземпляры исчезнут навсегда…
Адвокатов у Квашнякова не водилось, но оправдание требовалось. Он испугался и отчаянно не желал публиковать материал, изобличавший сотрудников силовой структуры, которые могли и отлупить. Оставшись один, Квашняков вообразил, как по его лицу наносят удары, и почти заплакал от умозрительной боли, происходившей от умозрительных синяков и кровоподтеков. Вот он, Квашняков, упал на пол, и его бьют ногами. Крепкие ботинки налоговых полицейских впиваются в почки и печень, и он опять в больнице витает на грани жизни и смерти, как это раз уже было, но по причине нервного срыва, происшедшего от врожденной истеричности натуры. Квашняков надеялся, что Алик походит, походит, как пчела рядом с закрытой банкой варенья, да улетит. «Закон на моей стороне, – размышлял он. – Я руковожу газетой, на мне вся ответственность, за мной последнее решение».
Однако надежда Квашнякова на то, что Алик покорится его начальственному желанию замять конфликт, не сбылась. Наш герой давно понял, что, если хочешь добиться цели, надо регулярно бить в одну точку. Он заходил к редактору часто, самое меньшее ежедневно, и не стеснялся задавать один и тот же вопрос.
– Александр Васильевич, адвокат посмотрел? – спрашивал он, догадываясь о сомнениях Квашнякова, внутренне насмехаясь над редактором, искавшим возможности уйти от конфликта, и доспрашивался.
Квашняков рассвирепел, а, когда он свирепел, его душа требовала крушить, давить, топтать… Если дома он спорил с женой, то резал в клочки ее любимые платья и ломал мебель, если его обижали дети, то он незаметно пощипывал их, если ему не нравился сотрудник, то он традиционно черкал в его работе…, если ему грубили на улице, он старался быстрее уйти, но последнее к делу не относится. Выговор выскочил из-под правой редакторской руки, как приказ о премировании себя самого. Алик направил заявление в суд. На судебные заседания Квашняков не явился, прислал судье гневное письмо: «Как вы смеете меня, главного редактора, вызывать в суд и отрывать от работы…» – и поскольку неосторожными словами обидел судью лично, то проиграл.
Гнев Квашнякова был велик настолько, насколько велико было бы бешенство разумной кошки, покусанной мышью. Свершилось то, чего в природе быть не должно. Кирпич не падает на небо, дети не отправляют родителей в угол, дичь не ставил капкан на охотника. А тут суд, система, которая по социальной логике должна была защитить, поддержать главного редактора, как представителя власти, в борьбе с его сотрудником, ударила его. Квашняков не спал несколько ночей воображая в ярких красках, как он расправится с Аликом в редакции: корреспондентишко заходит в его кабинет, а Квашняков бросает в него самым толстым томиком русского словаря Ожегова и попадает в его не впитавшую государственного уклада голову. Но кожа Квашнякова покрывалась от этого холодным потом, поскольку он боялся представить, что можно ждать дальше от антисоциального типа. Поэтому на редакционной планерке после обычного обсуждения журналистских планов на неделю жаждавший реванша Квашняков средь покоренного и молчаливого редакционного сообщества решился лишь на моральное наказание Алика:
– Я доволен общей работой, но есть в коллективе одна сволочь, которая все портит…
Расчет Квашнякова, как и расчет промелькнувшей в нашем повествовании Анастасии, строился на том, что люди обычно не любят излишней публичности и, чтобы не выглядеть смешно, но в целом из-за дрожания неуверенного сердца, промолчат. Но сколь ни корми волка овсяной кашей, он все равно задерет гуся.
– Эта сволочь, наверное, вы? – вставил вопрос Алик, понимая, что деваться некуда – драка началась…
В установившейся глубокой тишине слышалось, как редакционные желудки урчат в ожидании курников, пирогов с капустой и картошкой, которые регулярно часов в десять утра никому не известная торговка приносила в грязной клетчатой сумке. Лицо Квашнякова побагровело так, что если бы за ним поставить красное знамя, то оно слилось бы с ним полностью, оставив на всеобщее обозрение только ворот рубахи, копенку волос и белки глаз.
– Да как ты смеешь?! – воскликнул он.
Взгляды редакционных женщин посуровели, стыдливо потупились, а потом обвинительно устремились к Алику.
– Это вы как смеете?! – отразил агрессию Алик.
– Немедленно выйди из кабинета! – требовательно выкрикнул Квашняков, чувствуя, что продолжение разговора его авторитет не укрепляет.
Алик вышел. «В борьбе за публикацию этой статьи все средства хороши. Воровань – самая негативная фигура из всех моих героев. Он приносил вред городу, его жителям. Люди должны знать. Конфликт еще только начинается, но кто не атакует, тот проигрывает», – примерно так размышлял он и на следующий разговор с редактором прихватил скрытый диктофон.
– Не понимаю ваших действий, чего вы добиваетесь? – спросил он.
– Большой мальчик должен догадываться, – ответил Квашняков.
– Документы подлинные. Статья написана по документам. Почему вы ее не печатаете?
– Я побывал во многих политических переделках. Компромат – это оружие. Такие бумаги часто подбрасывают, чтобы убрать конкурента или человека, который мешает.
– Но в данной ситуации какое значение имеет происхождение компромата, если этот человек ворует у людей, города, государства, убивает предприятия? Да что ворует – грабит! По всей стране такое. Газеты не читаете? А этот здесь, бери его тепленьким. Он один из тех, кто обедняет наше будущее, да что наше! Потомки, вспоминая это время, заплачут в недоумении от того, как при всеобщем молчании целой нации, многих наций, кучка людей разграбила богатейшую страну. Не вооруженные захватчики, а свои же…
– Не твоего ума дело. Я имею право не печатать статью. Я редактор.
– Тогда пишите письменный отказ, укажите причины, по которым отказываете в публикации, – полез на рожон Алик.
– Я ничего писать не буду. Это ты напишешь заявление на увольнение…
Любая война требует последовательности. В течение месяца Алик направил на имя мэра маленького нефтяного города Хамовского три заявления с просьбой об опубликовании статьи про Семеныча. Месяц длилось молчание. Начинало казаться, что с таким же успехом эти письма можно запускать с балкона в свободный полет, как послания Деду Морозу, как вдруг Хамовский позвонил лично в корреспондентскую:
– Зачем шлешь заявления? Хочешь подставить меня, сказать, что мэр не отвечает?
– Нет. Такого желания не имел, – ответил Алик, и это было полуправдой.
Когда он писал первое заявление, то надеялся…
***
На страницах газеты маленького нефтяного города еще за год до описываемых событий развертывались споры относительно городских проблем между Аликом и городскими начальниками, и даже самим нефтяным Генералом… Происходило это, например, так: Алик писал статью, начальник отвечал, Алик отвечал на ответ. Или так: Алик ехидно комментировал выступления начальника – тот отвечал… Читателям полемика нравилась, и Мерзлая, а тогда еще она редакторствовала, разрешала.
***
Первый генеральский конфликт разгорелся из-за пустяка вроде небольшой топливной лужицы. Многие не умеют говорить по-русски. Это не значит, что они шпарят по-английски, лают или блеют. Совсем нет. Они произносят русские слова, и вполне возможно, что где-то в глубине мозга четко понимают предмет диалога, но если убрать движения их рук и различные ужимки, внутриутробные звуки и слова-паразиты вроде блин, вот, нах, то разговор становится малопонятным слепому литературоведу, каковым становится журналист, расшифровывающий диктофонную запись.

Начальнику для работы с людьми много слов не требуется:
– Принеси вон ту хреновину. Поверни ту хреновину. Да не ту хреновину, другую хреновину. Да не так поверни, а эдак…
– Я с вас, мать вашу, премию сниму!
– Пошел на …!
– План горит!
– Вы что в штаны наложили, еле двигаетесь?!
И хоть начальник растет, меняется его калибр, как у растущего гриба, но мякоть, впитавшая застоявшуюся болотину и опавшую колкость хвойных лесов, остается прежней. Алик не занимался стилистической правкой, он старался максимально сохранить реальную речь, ведь правда состоит не только в словах, но и в образе, хотя многие, в особенности чиновники журналистики, на сей счет думают иначе. Из любого словесного дерьма они извлекают зерна истины и в очищенном, облагороженном виде подают читателю, как оригинал…
Генерал прочитал газету и ахнул. Он себя не узнал. Ему казалось, что он другой.
– Журналист все переврал. Не мои слова. Разберусь. Они мне ответят за клевету, – бушевал он средь своих…
Человек, дающий интервью, а потом желающий откреститься, всегда обвиняет журналистов в непрофессионализме и распространяет по этому поводу слухи максимально широко. Эту аксиому Алик быстро познал. Журналист будет сто раз формально прав, но будет иметь подмоченную репутацию, потому как не угодил господам. В споре с Генералом не спасла даже диктофонная запись. Конфликт разрешали Хамовский, тогда еще депутат, и Мерзлая, тогда еще редактор. Решили пожертвовать репутацией журналиста ради спасения репутации начальника. Был опубликован новый вариант ответа Генерала. Газета принесла извинения.
***
Второй конфликт возник спустя пару лет. Алик лежал на диване и слушал телефонно-телевизионное интервью Генерала с жителями маленького нефтяного города…
– Уважаемый Генерал, горожане выбрали вас депутатом, а вы, не дожидаясь окончания срока депутатства, сбежали из города. Почему? – спросил кто-то из зрителей.
– Мне предложили более высокую должность в структуре нашего «СНГ». Бегства не было. Идет смена руководства по всем направлениям. Я бы назвал это свежей струей воздуха. Не хочется оставаться в стороне.
– Капитан последним покидает корабль. Объясните, мы тонем или всплываем?
– Я корабль не покидал. Просто жизненные условия меняются. И мы вместе с ними меняемся. Я думаю, мы всплывем в любом случае.
– Когда прекратятся задержки зарплаты?
– Над этим мы усиленно работаем…
«Всплывает в любом случае только одно… – иронизировал Алик, слушая уклончивые ответы. – Денег больше предложили, вот и уехал, а до людей дела нет. Что мозги-то парить?..»
Интервью Генерала зацепило Алика, и он написал статью «Свежая струя. Так ли она свежа?», но Мерзлая испугалась и отказалась публиковать этот откровенно скандальный материал. Алик не отказался от замысла, рискнул воздействовать на редакторшу через Хамовского, ставшего к тому времени мэром маленького нефтяного города, и зашел к нему.
– Знаешь, Алик, что меня совершенно убивает, – сказал тогда Хамовский. – Меня убивает, что вы ерундой занимаетесь. Текст, контекст. Стилистика, журналистика. Скажи: ты дурак. И все.
– Так нельзя, засудят, – ответил Алик.
– Почему я на тебя немножко злюсь, – объяснил Хамовский. – Вот ты к себе привлекаешь внимание ерундой, журналистскими приемчиками. Скандальный журналист, конечно, имеет шансы… Ладно, публикуйте.
Какие шансы имеет скандальный журналист, Хамовский умолчал, а Алик не обратил внимания на эту фразу. Хамовский строил расчет, о чем мы расскажем дальше.
***
В случае со статьей про налоговую полицию Алик ожидал примерно такого же отношения, поскольку ранг Семеныча был пониже, чем у Генерала. Хамовский казался ему добрым: посмотрит, поругает и разрешит. Но когда Алик не получил ответа на первое заявление опубликации, которое он подал официально, то понял, что в этот раз все пойдет не так, как обычно. Молчание мэра он расценил как нежелание конфликтовать с Квашняковым и Ворованем.
«Зачем Хаму ругаться с Квашей, которого он сам недавно поставил редактором? – рассуждал Алик, сидя в своем любимом пестром кресле. – Этого и следовало ожидать. Другое дело, что делать мне? По логике, если мэр не ответил, надо расценить его молчание как отрицательный ответ и как предложение забыть о статье про Семеныча. Но это несправедливо и низко. С другой стороны, перевыборы мэра через полтора года. Срок не такой большой. Если подать еще несколько заявлений об опубликовании и на них не появится ответа, то при высокой важности статьи для маленького нефтяного города сам собой может появиться сильный козырь против действующей власти. Конечно, я его использовать не собираюсь, пока… Но Хам – человек неглупый и прекрасно прочитает скрытую комбинацию»…
Хватило комбинации из трех заявлений. В итоге встретились мэр, Алик, Воровань, начальник налоговой полиции, и Квашняков, редактор газеты.
– Алик, откажись от этой статьи. Зачем она тебе? – начал Хамовский, нисколько не скрывая своей позиции.
– Не могу, – упрямо ответил Алик. – Буду настаивать на публикации.
– Допрыгаешься, что придется искать работу, – предупредил Квашняков. – Пишешь всякую чернуху про уважаемого в городе человека.
Семеныч молча изображал оскорбленную невинность.
– На хрена тебе проблемы? – спросил Хамовский. – Нас тут три городских руководителя. Не самых последних. И мы тебя, как красную девицу, уговариваем.
– Он плохой человек, – ответил Алик и кивнул на Семеныча. – Я подам заявление об опубликовании этой статьи в депутатскую комиссию по социальным вопросам, а в прокуратуру заявление…
После этого разговора Квашняков с удвоенной энергией начал расшатывать и без того неустойчивую психику Алика, выхолащивая его материалы, а то и вовсе снимая с номера. И надо сказать, что у Квашнякова это получилось…
ПЕРЕД СУДОМ
«Замахнувшийся на государство от государства и получит»
На втором этаже здания городского суда, в коридоре, ожидал начала судебного заседания попавшийся на взятке отщепенец налоговой полиции Гриша. Рядом с ним крутился в нервном возбуждении его друг Паша по кличке Доллар. Прозвище он получил за то, что принимал взятки американскими деньгами (или российскими, но всегда по биржевому курсу). Там их повстречал Алик, зашедший в здание суда по мелочной рабочей причине. Поздоровались тепло.
– Как дела? – сочувственно спросил Алик у Гриши.
– Нормально, – убежденно ответил Гриша.
– Уверен, что выиграешь?
– У них на меня ничего нет, – ответил Гриша. – Почти сто процентов, что оправдают. А потом я тебе еще кое-что расскажу.
– На какую тему?
– В свое время я передал Хаму материалы, компрометирующие начальницу налоговой инспекции, Вельможнову. Про квартиры, отхваченные ими за государственный счет. Про то, как они расхитили фонд социального развития. Хам положил мои материалы под сукно, видимо, чтобы приструнить Вельможнову, а я попал в немилость. Возможно, и эта судебная бодяга как-то связана с тем компроматом. Всем я поперек горла.
– А я понять не мог, почему Вельможнова так изменилась и из высокомерной и независимой дамы превратилась в подобострастную помощницу мэра! Вот в чем секрет! Если человек сидит на хорошем крючке, он не опасен. Кстати, недавно сам был у Хамовского. Он меня распекал с Квашняковым и самим Ворованем за статью по твоим документам. Сюрприз! Хамовский с Ворованем воевал за здание и вдруг защищает. Может, хотел показать, что я действую независимо, не по его указке…
– Может. Но есть другой вариант, – подсказал Гриша. – Налоговая полиция часто проводила проверки муниципальных предприятий и управлений. Находили нарушения, в том числе крупные. Скопилось достаточно документов, которыми Воровань мог воспользоваться, чтобы продемонстрировать силу возможного удара. Тогда и налоги, и штрафы, и…
Тут Гришу пригласили в зал судебного заседания, и он, улыбаясь, пошел навстречу судьбе и уже скоро перестал улыбаться…
– Уважаемый судья, деньги в башмак не клал, – объяснял он, стараясь держаться достойно. – Все это провокация сотрудников налоговой полиции, с которыми у меня не сложились отношения.
– Такого не может быть! – спокойно, как от назойливой мухи, отмахнулся судья.
– Может, и еще как, – страстно отозвался Гриша. – Вот выписка из представления «об устранении нарушений закона» в налоговой полиции нашего города, подписанная Коптилкиным. Читаю: «Специалист налоговой полиции Голоскоков без ведома допрашиваемого по окончании допроса вписал изобличающие того доказательства. В результате неправомерных действий сотрудников налоговой полиции протоколы обыска и допроса потеряли свое доказательное значение». Голоскоков до сих пор работает в налоговой полиции. Его не уволили. И таких мошенников много. Подбросить взятку могли.
– Домыслы и предположения оставьте для соседей по нарам. Давайте по существу, – нетерпеливо попросил судья.
– Где презумпция невиновности? Ау? – сострил Гриша, поняв, что судья не на его стороне. – Почему вы не доверяете мне и полностью доверяете Рыжему? Я внимательно читал дело. Рыжий не точен в показаниях, но это списывается судом на особенности памяти. Его родные и знакомые подтверждают его показания. Но что это доказывает? Они все знают только со слов самого Рыжего. Единственный вещдок – деньги – исключен в процессе следствия…
– Если это все, что вы хотели сказать напоследок, то можете не продолжать, – оборвал судья. – Суд удаляется для вынесения приговора…
Вину Гриши суд признал в полном объеме: как взятка засчитаны не только десять тысяч рублей, найденные в кабинете, но и еще двадцать тысяч, которые, как утверждал Рыжый, он передавал Грише. Приговор: три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима…
В этот же вечер Воровань, Тыренко, чета Братовняков и Витя, начальник службы собственной безопасности, собрались на маленькое торжество.
***
Алик обдумывал очередной жизненный урок. Он понимал, что Гриша, скорее всего, брал взятки и наказан в принципе справедливо. Его пугало то, что Гришу осудили без фактических доказательств, только на основе свидетельств. «Так можно подставить любого, – рассуждал он. – Что стоит спрятать деньги с заранее помеченными купюрами в кабинете, когда его хозяина нет на месте? Проще простого. Подтвердят ли родные и друзья мнимого пострадавшего то, что из него вымогают взятку, если тот попросит или изобразит пострадавшего? Нет проблем… А если подозреваемого спрятать за решетку выгодно власти, то, руководствуясь статьям кодекса и своим чрево-жилищно-потомко-ориентированным правосознанием (о таком термине Кодекса, как «правосознание судей», на основе которого выносится приговор, Алик никак не мог рассуждать без черного юмора), следствие и судьи сплетут паутину, из которой не выбраться. И тогда на обстоятельства в пользу обвиняемого глаза Фемиды будут действительно прикрыты, а на порочащие обстоятельства она будет с любовью заглядываться».
КОРРЕКТИРОВКА ЛИЧНОСТИ
«Даже у медали есть две стороны, что говорить о человеке?»
Чтобы позлить Квашнякова, Алик придумал себе новый псевдоним – Дрожжевский. Им он подписывал материалы, подвергавшиеся изощренной редакторской правке, которая в первую очередь вычеркивала в статьях все мысли Алика, правке, которой Квашняков старался оставить в статье лишь фактуру и аргументы, выгодные власти, кое-что дописывал и сам Квашняков или его приближенные. В целом получалась мура, не имеющая ничего общего с оригиналом. И все по закону. Единственное, что разрешал закон автору, отказаться от подписи или заменить ее псевдонимом. Романова пачкать Алик не решился – так и возник Дрожжевский. К происходящему Алик старался относиться легко и по-прежнему строчил в своей конторской тетрадке стихи, больше напоминавшие своеобразный отчет о чувствах. Представляя будущее в редакции Квашнякова, он писал:
Когда иссякли все вопросы
К его величеству – СУДЬБЕ,
Перестают тревожить грезы -
Те, что придумывал себе.
Жизнь в бездну катится безумно,
Сжигая месяцы, года,
Не для себя или фортуны,
А просто так и навсегда.
На работу шел – будто хоронил. Изредка проглядывало солнце интересных материалов, связанных с короткой историей маленького нефтяного городка. Алик ухватился за эту местническую тематику, потому что она шла в газете на «ура!». Была возможность поработать, расправив плечи и мысли. В один из осенних дней, в прямом и переносном смысле, Алика вызвал к себе Сапа. Сказал – словно хлеба покрошил для птичек:
– Для тебя есть интересная тема. Заходи, поговорим.
Алик зашел.
– Ты в этом году на чем ездил в отпуск? – спросил Сапа.
– На машине, – ответил Алик. – Весной купил. До финансового кризиса прошлого года доллары копил. Тогда на полмашины хватало. После кризиса цены в пересчете на доллары понизились. И вот за те же деньги – целая машина.

– В отпуск на машине – святое дело для северянина, – похвалил Сапа. – Я тоже на машине в Самару ездил. Но дорого это. Тут и бензин, и платные стоянки, и запчасти. Когда возвращался, так на гололед на всей скорости выехал, улетел за обочину и полноценную просеку в березняке сделал. Хорошо, что железо толстое – машине хоть бы хны. У тебя, кстати, был льготный отпуск?
– Да.
– У меня тоже. Согласно северному законодательству нам должны были компенсировать все затраты, связанные с проездом на автомобиле, – напомнил Сапа. – Но на деле-то такого нет.
– Я читал этот закон, – заявил Алик о своей компетенции. – Но вы же знаете, что проезд на автомобиле оплачивается по стоимости плацкарты, а это ниже реальных затрат.
– Но разве это справедливо? Самолетом лететь можно. Никому и не придет в голову приравнять самолет к плацкартному вагону. Тем, кто едет в поезде в купе, возвращают деньги за купе, а не за плацкарт. А вот на автолюбителях, как мы, экономят.
– Действительно странно, а кто до такого додумался? – заинтересованно спросил Алик, чувствуя, что из сказанного может родиться неплохая заметка.
– Местные. Кажется, городская Дума выпустила постановление. Можешь не искать, точно помню, – ответил Сапа. – Ты бы разобрался, написал. Тема-то волнующая. Ты ж сам автолюбитель.
– Хорошо. Поработаю, – согласился Алик…
Далее разговор переключился на разные пустяки и вскоре иссяк…
Хорошая привычка продляет жизнь. Умение искать нужный документ и парадоксальная любовь к этому занятию остались в Алике с работы в институте. Он не поленился, нашел постановление, о котором говорил Сапа, и был немало удивлен тому, что его выпустила не городская Дума, а мэр города. «Сапа, конечно, знал, – размышлял он. – Зачем тогда обманул и толкнул на Хамовского? Ответ напрашивается один: у них конфликт, и Сапа хочет меня вслепую использовать, чтобы укусить обидчика. В принципе замысел верный: большинство журналистов поверили бы на слово председателю Комитета общей политики и не стали бы искать документ…»
Долго в доме Алика раздавались неприятные для Сапы определения, но никогда он ни словом, ни взглядом не высказал неприязни интригану. Доить можно и брыкливую корову.
Статья про льготный проезд вышла, но не так, как задумывал Сапа.
Все законы имеют комментарии. Алик перечитал российское законодательство и обнаружил, что постановление Хамовского дублировало постановление Правительства России. Оказалось, что при отсутствии билетов оплата идет по наименьшей стоимости проезда кратчайшим путем. Это относится и к рассеянным командировочным, потерявшим билеты, и к автомобилистам, у которых билетов изначально нет. Обвинить во всем Правительство – это был хороший выход из создавшейся ситуации. Алик мог одновременно и Сапе угодить, и с мэром не идти на дальнейшее обострение отношений. «Мы должны быть благодарны, что проезд не оплачивают по цене общего вагона», – резюмировал Алик, что, собственно, было чистой правдой.
***
«Сапа не способен подсказывать безошибочные идеи. Не способен, – шептал мэру Квашняков при каждой встрече. – Я знаю, что он про вас говорит. Нюхается с противной вам Матушкой, может, метит на Ваше место…» Надо отметить, что умение ненавязчиво шептать на ухо руководству и таким образом чернить своих противников было одной из наисильнейших сторон характера Квашнякова. Он умел так нашептать, что слушатель постепенно или сразу воспринимал его слова как свои собственные мысли, и это всегда сильно облегчало Квашнякову удержание собственного рабочего места и продвигало его по службе.
Против интриг редактора газеты маленького нефтяного города его мэр, Хамовский, не имел иммунитета. Он отодвинул Сапу от себя и предложил ему новый вариант развития событий, где Сапа был бы исключительно шестеренкой в его часах, а не пружинкой, как раньше. Он отбрасывал, вычеркивал из жизни идеи Сапы, тот успокаивался быстрой ходьбой по кабинету, нервничал, потому что на разработку идей тратил личное время. Более того, Сапе, наконец, стало совершенно очевидно, что Квашняков метит на место главного наушника мэра и мэра это устраивает. Такой поворот расстроил Сапу настолько, что он бросил на стол заявление на увольнение…
Хамовский угрюмо посматривал на своего верного в недавнем прошлом слугу и раздумывал: «Считает уровень шестеренки ниже своих способностей. Забыл, что работает на меня, а в политике, видимо, не бывает дружбы. Амбиции. Вот оно – бывший председатель Совета. Подо мной, а все думает, что сверху. Перебродил, как квас, а кто ж кислый пьет? Неужели я ему мало дал?»
– Ты уверен, что правильно поступаешь? – спросил он.
– Да, – неуверенно и грустно ответил Сапа.
– Давай еще подумай, – предложил Хамовский. – Бумага пока у меня полежит. Если передумаешь, после обеда заходи.
– Хорошо, – согласился Сапа… и забрал заявление.
Даже вещи надоедают, не то что люди. Сапа пережил себя. Это понимал мэр, это понимал Сапа. «Финал близится, – разговаривал Сапа сам с собой. – Он не простит заявления. Из отдела по общей политике мой отдел переименован в отдел по работе с коренным населением. Понизил до ханты! Кому они нужны, эти хранители оленей и народных традиций?! Жизненно необходим скандал, серьезная угроза власти, чтобы вернуть свое место, чтобы показать, на что я способен. Но кто готов угрожать, кто кандидат? Матушка не пойдет на конфликт. Она убежденная политическая актриса, театралка, больше для вида петушится. Нефтяникам место мэра с его нищенской зарплатой не нужно…»
В это время Алик искал личной встречи с Сапой, поскольку решил идти на выборы в городскую Думу…
ЛИСТОВКИ
«Кардинально перестраивая изнутри дом, где живешь, надо помнить, что он может обрушиться внезапно»
Когда жарится яичница, а вместе с ней невылупившийся цыпленок, то чем он может ответить хозяину ненавистной сковородки, кроме как брызнуть в него горячим маслом из разорвавшегося белкового пузыря? Это несознательное происшествие, конечно, не изменит будущего, потому что яйцо изжарят и съедят, но загубленная жизнь невылупившегося цыпленка будет хоть немного отомщена.
Сотрудник любого предприятия, когда его умно нажаривает начальство, либо станет покладистым, либо уволится. Квашняков обрабатывал коллектив редакции газеты умно. Алик не знал, как противостоять. Заявление в прокуратуру по поводу давления на журналиста не помогло, Квашнякова допросили и отпустили с добром. В Москве в Союзе журналистов России Алика выслушали и попрощались, но при всех неудачах оставить происки своего мучителя-редактора без соответствующего ответа Алик не хотел.
«Булыжник – оружие пролетариата и любого простого человека. Как верна эта ленинская фраза, – размышлял Алик. – Но кидать булыжником в редактора незаконно. Могут наказать. С другой стороны, все его угрозы, уничтожения и искажения информации, которую я без всяких заданий самостоятельно нахожу и даю в газету, вполне укладываются в законный подход. Что ж, законы придумывали такие, как он, чтобы охранять себя. Остается идти поперек законов. Сокращенные вахтовики бросали в нефтяные скважины стальную арматуру, чтобы отомстить. За это, конечно, их на работе не оставили, но на душе им, несомненно, было приятно. Надо придумать подобную штуку…»
Решение нашлось не за один вечер. Алик хотел ответить Квашнякову не грубой силой, а умно и интересно, тем же самым оружием, что пользовался Квашняков, то есть подменить физический урон моральным. Требовалось окунуть противника в вонючий омут грусти так же, как поступал он с Аликом. А как Квашняков поступал? Он искажал облик Алика перед читателем, общественностью через его материалы. Отомстить редактору сходственно Алик не мог: он не мог бросать материалы Квашнякова в корзину, или искажать их до неузнаваемости, или донимать его глупыми заданиями. Как морально поразить того, кто стоит выше на служебной лестнице? Незаметно бросить лом в скважину. Против лома нет приема. Испортить механизм. Запустить компьютерный вирус в редакционное оборудование. Далее последует срыв тиража и выговор, возможно, всем сотрудникам компьютерного отдела. Но при чем тут редакция, если речь идет о конкретной личности?
Для личности важна репутация. Уничтожить, подмочить репутацию – вот задача. А как? Открыть такие качества Квашнякова, которые общество не одобряет, не приемлет.
«Вот он ключ! – осенило Алика. – Общество не приемлет гомиков. Так сделаем из него гомика. Надо написать листовку, в ней известить. Но под каким соусом? Не впрямую же? Это верная уголовная статья. Да к тому же такой информации, сказанной со стороны, мало кто поверит. А что если он сам о себе напишет, точнее я от его имени, а потом развешу этот текст на столбах объявлений? Пусть город посмеется».
Алик сел за компьютер, и вскоре появилось подставное произведение высшего качества:
«Здравствуйте, уважаемые горожане!
Прошу вас откликнуться на мою просьбу. Я недавно в вашем городе, и мне скучно. На старом месте жительства я руководил клубом голубых – клубом хороших и добрых мужчин, искренне любящих друг друга. Конечно, это пока не очень приветствуется, но ничего не могу с собой поделать. Я такой, какой есть. Если среди вас найдутся люди, желающие предложить мне мужскую дружбу, мужскую любовь, то я был бы очень рад. Жду вас, милые мужчины, в редакции газеты.
Редактор городской газеты Квашняков».
Огненный смех раздался в квартире журналиста маленького нефтяного города. В припадке веселости Алик схватился за колени и согнулся почти пополам. Он представил себе унылое лицо Квашнякова, принимающего у себя в кабинете все новые и новые телефонные звонки, и снова захохотал, потому что представил, что будут говорить.
– Ты что совсем сдурел?
– А как на то, чтобы с двумя…
– Как такого козла поставили редактором газеты?
А может, кто-то и зайдет…
От этой мысли Алик еще более развеселился и, отпечатав один экземпляр объявления, пошел на первую встречу с Сапой, организованную Петровной. Он давно просил ее о помощи – уговорить Сапу дать ему консультацию по выборам в городскую Думу. И наконец Сапа согласился.
Встреча состоялась темным северным вечером на втором этаже жилого двухэтажного дома на кухне, где когда-то Сапа проповедовал Мерзлой, а Алик получил поцелуй от Петровны.
Из толстобоких дешевых чашек парил разовый чай, облачные кружева пара таинственно вились и исчезали. Рядом в самой обычной затрапезной вазочке вида, не совместимого с титулом даже бывшего председателя Совета, лежало овсяное печенье. Средь собравшихся вокруг кухонного стола Сапы, Петровны, Алика витало ощутимое, почти праздничное настроение.
– Чтобы пройти в городскую Думу, тебе придется выпустить две листовки и четыре газеты, – безапелляционно заявил Сапа.
Лицо Алика приобрело дубовое выражение, будто его окрикнули из-за угла в темном безлюдном подвале.
– Слишком много, – растерянно ответил он, вообразив, какая тяжелая работа ожидает его. – Еженедельно – газета! Даже Хамовский победил на выборах, выпустив всего одну.
– Это видимая часть работы, – ответил Сапа. – Там большую роль сыграли слухи, которые он распускал среди избирателей, приходивших к нему в штаб. Он говорил, что Глава Бабий присвоил себе титул Главы незаконно, что он всего лишь исполняющий обязанности. Это разозлило народ, настроенный в то время против власти.
– Но я не смогу выпустить четыре. Давайте остановимся на двух, – попросил Алик.
– Хорошо, но тогда я ничего не гарантирую. Что ты собираешься публиковать?
– Есть хороший материал про налоговую полицию. Коррупция…
– Коррупция – это хорошо. Строитель коммунизма завистлив. Он удавится, если узнает, что кто-то лишнюю копейку положил себе в карман, а с ним не поделился.
– Какой строитель коммунизма?
– Народ! – весело ответил Сапа. – Они же продолжают строить коммунизм и ничего дальше своего кошелька не видят. Им нравится халява, и чем больше халявы, тем лучше. Я сразу могу сказать, что им понравится твоя газета, потому что она будет бесплатная. Поэтому я и говорю, что надо выпустить четыре газеты. Это строителя коммунизма настроит за тебя однозначно.
– Мне кажется, это довольно унизительное прозвище.
– Это точное определение. Я работал в цехе добычи нефти, знаю. Им бы водки выпить да побалагурить, а свою гайку они в любом состоянии закрутят. Они ее много лет крутят. Профессионалы. Но им лень придти к урнам и бросить бюллетень. Они идут туда, чтобы праздник был: водки выпить, купить чего-нибудь подешевле. Нет народа в России, нет движения снизу, все идет сверху, а тем более здесь, в нефтяном городе, куда все приехали денег заработать. Народ ждет благодеяний от тех, кого ругает. Глупцы! А кто будет выступать против власти? Жители бывших союзных республик: хохлы, белорусы, азербайджанцы, казахи…? Каждый из них страшится возвращения в свою нищую родину. Они рады работать за любые деньги и терпеть любые унижения, лишь бы их оставили здесь. Кто? Татары, которых тут много? Да они поклонение перед властью впитывают с молоком матери. Русские? А кто это такие? Те, кто водку пьет, или те, чьи фамилии кончаются на «ов»? Им тоже ничего не надо. Их давно приучили, что они в России никто. А это Ямал. Это колония России, из которой качаются деньги. Здешних людей можно зацепить за живое только деньгами, которые они недополучают, обещаниями денег и хорошей жизни.
– Не знаю. Может, вы и правы. Но столько нигилизма относительно людей…
– Я прав безо всяких «может». Я знаю. Общество невозможно изменить за несколько лет. У одних в душе генетический страх концлагерей, у других – стремление доносить начальству на ближних. Третьи готовы хоть сейчас направиться с автоматами на сторожевые вышки вокруг зоны… Система, существовавшая на территории Советского Союза, вывела новую, доселе неизвестную породу людей, из которой за семьдесят лет советской власти физически выбито все благородное и оставлено все приземленное и животное. Светлана, закрой уши. Это же суки. Сегодня пригреют, завтра продадут. Выведенные низменные качества этой породы людей на несколько лет оказались невостребованными, но стоит возродиться потребности, как все возобновится. Да и ты в душе это понимаешь и пишешь. Мне твоя «Игра» очень понравилась:

ИГРА
Под тонким куполом известки,
Которой белен потолок,
Меж стен и крашеных полосок,
Наклеенных немного вбок,
Над полом крепким, в слове бранном,
За мутною броней стекол,
И за дверным глазком охранным,
Чтоб кто незваный не зашел,
С диваном пестрым у розетки,
И с креслами (есть где присесть),
Со стенкою, все той – советской,
И с кухней, чтобы сытно есть,
И с телевизором, и с ванной,
И с холодильником, и с бра,
И с люстрой, может быть, хрустальной
Томится Русская Душа.
Она обречена мириться
С судьбой обычной и простой
И будет счастлива напиться
Старинной огненной водой,
Смотреть в экран завороженно,
Закончивши рабочий день,
С родней общаться раздраженно,
Когда другим заняться лень.
И проведя в своей светлице
Однообразные года,
Душа когда-то вверх умчится,
А может, вниз. Вот вся игра.
Но хватит о стихах. Обсудим твою газету. Что ты в ней собираешься разместить, кроме материала о налоговой полиции?
– Еще не планировал.
– Смотри, – сказал Сапа и, отодвинув в сторону печенье, положил на центр стола газету. – Это газета, выпущенная Хамовским. Хорошо отработана. Многие люди над ней трудились. Есть результат: он стал мэром. Твою газету надо делать по образу и подобию. В центре на первой полосе – большая фотография…
– Фотография обязательна? – спросил Алик, не желавший популяризировать свою внешность.
На тему выборов он разговаривал с адвокатом Кошмариным, мнение которого ценил, и тот сказал, что его умные статьи никак не вяжутся с его моложавой внешностью, что лучше меньше мелькать на экране.
– Конечно. Без этого нельзя, – удивленно ответил Сапа.
«Таковы законы жанра. Никуда не денешься. Сапа прав», – подумал Алик и спросил:
– А какой текст под фотографией расположить?
– Что хочешь. Это не важно. Я рекомендовал бы еще написать политическую сказку на манер предвыборной сказки Хамовского, где он изобразил своего противника муравьиной маткой и выставил на смех. Написал, конечно, не мэр, а твой любимый Квашняков, но это к делу не относится. Об этом мало кто знает: подписано псевдонимом.
– Хорошая сказка, – вспомнил Алик. – Народ зачитывался. Мне кажется, она сильно увеличила его шансы на победу.
– Ты напишешь продолжение, – сказал Сапа. – Это серьезный ход.
Сапа в этот момент думал не об Алике, его интересовало то, как больнее ударить по Хамовскому, не оценившему его.
«В воровстве идей противника есть убийственная пикантность, – размышлял он. – Представляю, как Хам разозлится, когда увидит, что его сказку используют против него самого. Это будет удар по яйцам».
– Но это чужое произведение, – засомневался Алик.
– Не бойся, авторство не оспорят. Было бы лучше, если бы ты подписался тем же псевдонимом, которым подписана старая сказка, – рекомендовал Сапа, размышляя о том, что так можно вбить клин между Хамовским и Квашняковым, сочинившим сказку.
– Я подумаю, – ответил Алик, но сразу решил не использовать последний совет Сапа, потому что дорожил своим именем и отдавать свой труд в чужие руки не хотел.
– Жалко, что ты не генеральный директор, – продолжил Сапа. – Для успешных выборов хорошо быть генеральным.
– Генеральным директором чего? – спросил Алик.
– Неважно чего. Важно быть генеральным. Должность броская весу придает, – ответил Сапа. – Тогда ты мог бы говорить о рабочих местах. Мэр был генеральным директором общества «Экология». Не важно, что предприятие бедное и сам он в старом пальто ходил, главное – должность солидная. Он к выборам серьезно готовился и умно поступал. Дни рождения нужных людей записывал и не забывал поздравлять. Он провел много собраний на рабочих местах. Так что работа тебе предстоит большая…
В конце беседы Алику казалось, что он дружит с Сапой много лет, и его потянуло на откровение:
– Решил Квашнякову, редактору нашему, удар нанести…
– Назначение Квашнякова – моя ошибка. Это я на третий день понял, – перебил Сапа. – Он оказался не таким, каким я его представлял…
– Хочу разбросать по городу такие объявления, – объяснил Алик и достал захваченный с собой листок с текстом.
Сапа прочитал, довольно заулыбался, но не одобрил:
– Я бы не рекомендовал. Дурно пахнет и может плохо кончиться.
– Мне все равно, как это кончится. Это мой ответ…
***
До следующей консультации у Сапы Алик выпустил на принтере небольшой тираж эротических листовок, поздно ночью расклеил их на всех столбах объявлений и, прогулявшись по подъездам, разбросал оставшиеся по почтовым ящикам…
Еще до обеда следующего дня у всех сотрудников редакции газеты маленького нефтяного города были сняты отпечатки пальцев, потому как Квашняков подозревал только своих подчиненных, в особенности Алика. На Алика грешили и остальные думающие сотрудники редакции, но единственные отпечатки пальцев, найденные на листовках, совпали с пальчиками сторонника Квашнякова – Посульского, мужа Посульской – ответственного секретаря газеты. Он обнаружил листовки рано при выходе на работу в почтовых ящиках своего подъезда, быстро пробежался по соседним подъездам, собрал, сколько мог, и передал жене, но наследил…
Алик смотрел, слушал и радовался тому, что предусмотрительно работал в перчатках, и тому, что по городской администрации ходили слухи не о пятистах выпущенных им листовках, а о тысячах и тысячах. Такого эффекта он не ожидал.
– Что происходит? Какие объявления? – обеспокоенно спрашивал Алик, излучая негодование происшедшим, но в душе витала другая атмосфера. Он готовил продолжение, потому что Квашняков не выглядел поверженным. Газетно-статейные последствия: временный мозговой эффект и неизменная явь – Алика теперь не удовлетворяли.
«Наверное, слабоват текст, – размышлял наш герой. – Тираж невелик – всего несколько сот экземпляров. А что если выпустить разъяснение Квашнякова по поводу первых листовок? Мол, разгневан клеветой, появившейся на столбах и в почтовых ящиках, хочу оправдаться перед жителями. Нет ничего смешнее оправдывающегося человека. Раз оправдывается – значит, виноват. Так люди подумают».
Алик печатал с увлечением, и из-за курсора, мигавшего на экране компьютера, выскакивали следующие слова:
«Уважаемые горожане!
Спешу сообщить, что в листовках, разбросанных недавно по почтовым ящикам, про меня сообщалась чистая неправда. Я никогда не руководил клубом голубых в соседнем городе и не собираюсь его организовывать здесь. Но, с другой стороны, не хочу сказать, что я против половых связей с мужчинами, просто считаю это личным делом каждого. У меня есть друзья, любимые мужики. Например, мэр. Но между нами ничего такого. Это все, что я хочу сказать. Насчет организации клуба голубых прошу больше не беспокоить.
Редактор газеты Квашняков».
На этот раз Алик с Сапой не совещался. Он вышел на почти безлюдные улицы примерно в час ночи и в одиночку примерно за четыре часа разбросал тысячи листовок по тысячам почтовых ящиков. Редкие прохожие не обращали на него внимания, как и встречные наряды милиции. Произошла только одна непредвиденная случайность: на выходе из подъезда Алик встретился лицом к лицу с каким-то мужчиной, подозрительно на него глянувшим. Но Алик не огорчился, поскольку одежду подобрал для акции самую старую, давно не ношенную. Лицо прикрывала пушистая шапка-ушанка, поскольку на дворе минусовал холодный декабрь, такой, что минут через пять пребывания на улице немели и просили гусиного жира открытые уши и нос.
Нахальство и уверенность покинули Квашнякова. Утром он не появился в редакции, потому как на две недели угодил в больницу, и до Алика дошли слухи, что с больничной койки он грозил мэру: если не найдут виновника, то уйдет из города. «Слава богу», – сказал про себя Алик. Он был удовлетворен. Ответ казался адекватным и перспективным.
Но непредвиденная случайность произошла не одна. Когда Алик выходил из подъезда Сапы после очередной политической консультации, его узнал заместитель мэра, Лизадков, и доложил своему начальнику.
***
Лизадков был новой и в то же время старой фигурой в городской администрации. Глуповатые на первый взгляд кругленькие глазки-буравчики, выглядевшие мелковатыми на круглом лице, как две оливки в большой тарелке, смотрели остро и насквозь. Прическа под церковного служку. Быстрая, аккуратная и тихая походка исполнительного чиновника. Он еще при Главе Бабии, будучи его приближенным замом, занимал нишу «серого кардинала». Именно через него Алик подписывал договора на сотрудничество с городской администрацией три года назад. Лизадков казался ему специалистом по управлению людьми и ситуациями.
В период предвыборной кампании мэра была опубликована сенсационная информация о покупке квартиры за счет городского бюджета и последующем ее дарении ближайшему сподвижнику Бабия. Такая информация могла исходить только из самой городской администрации, за обладание бюджетом которой и шла борьба. Кто-то предал в команде Главы. Но кто? После победы мэра на выборах примерно год про Лизадкова ничего не было слышно, потом он вдруг стал начальником Управления капитального строительства, учреждения с большими возможностями по краже денег, затем – опять заместителем мэра города. Он единственный из команды Главы, вернувшийся на свое место при мэре. «А ближайшее окружение мэра составляют люди, в свое время помогавшие ему», – рассуждал Алик.
ОШИБОЧНОЕ ПОДОЗРЕНИЕ
«Если бы все безвинно загубленные души, обитающие в небесах, обрели телесную плотность, то свет бы померк»

Обе двери в кабинет Хамовского были плотно закрыты. Секретарша не пускала к нему никого. За т-образным столом между Хамовским, Лизадковым и Квашняковым шел энергичный разговор с нецензурными ругательствами и нелицеприятными эпитетами, которые мы не будем приводить.
– Алик не мог такое придумать! Не мог! У него мозгов не хватит. Это идея Сапы! Несомненно! – доказывал Лизадков.
– Придумать комбинацию с листовками и масштабно ее осуществить один человек не мог. Тут я с тобой согласен, – кивнул Хамовский. – Хотя Квашняков утверждает, что листовки написаны в стиле Алика. Так?!
– Да, да! Он стервец писал! Я его сразу раскусил, – заикаясь от волнения заговорил Квашняков. – Только, пожалуйста, избавьте меня от мужиков. Не дают работать. По объявлениям так и лезут. Посмотреть, видите ли, на голубого хотят. Цирк что ли?
– Ты бы, дурачок, попробовал, пока лезут, а то, может, не доведется, – подшутил Хамовский.
– Вы скажете?! Не надо такого, – отрезал Квашняков. – А этого Алика, суку, извести надо. Его работа! Задницей чую!
– Может, он их и написал, – согласился Лизадков. – Но вы смотрите, как все закручено! Сначала одна волна! Казалось, все! Но она была задумана лишь для того, чтобы Квашнякова прихлопнуть второй волной! Это политический ход! Алик в таких делах – дилетант.
– Значит, Сапа – вдохновитель этого мероприятия. Такой вывод напрашивается, – утвердительно сказал мэр.
– Да, и если мы принимаем эту версию, то все встает на свои места, – горячо воскликнул Лизадков. – Алик написал листовки, как говорит Квашняков. У Сапы при отделе есть водитель. На его машине они развезли листовки по местам. У Сапы достаточно друзей. Они все вместе разносили листовки по подъездам. А это уже заговор! Они что-то замышляют!
– Скорее всего, ты прав! – согласился Хамовский. – А какая цель? Сапа на такое дело не пошел бы просто так. Как думаешь, Квашняков?
– Мстят падлы! Одного не назначили, другого отодвинули! – крикнул Квашняков. – Давить, как бешеных клопов. А Алик! Вот урод! Из моей руки хлеб жрет и меня же. В редакции подо мной же работает! Отдайте его мне, мужички…
– Уймись! Ты что офонарел! Какие мы тебе мужички! Забудь про объявления, забудь! – рявкнул Хамовский. – Успокойся. Отдохни и наведи порядок в коллективе. Все в твоей власти. Лизадков, продолжай.
– Цель заговорщиков очевидна – захват власти, – ответил Лизадков. – На первом этапе они хотят заставить Квашнякова уйти с должности редактора. Алик стремится в городскую Думу. Но я думаю, что Сапу городская Дума не устроит. Цель, скорее всего, ваше место – кресло мэра. До перевыборов чуть больше года.
– Ты думаешь меня можно сместить? – обеспокоено спросил Хамовский.
– Сложно, но при соответствующем финансировании можно, – без мельчайшего признака сомнений ответил Лизадков.
– Борьба за мое кресло потребует много денег, – напомнил Хамовский. – Когда я избирался, все было проще. Народ хотел перемен, а на меня работала сильная команда.
– А вы не задумывались, что они могли заручиться поддержкой нефтяников, «СНГ», Генерала? – спросил Лизадков. – С чего они такие храбрые?
– Ты прав. Алик деньги любит и не стал бы даром работать. Сапа тоже, – согласился Хамовский. – Надо уделить бунту больше внимания, а Квашнякова поддержать и помочь! В администрации мозгов больше – массой задавим.
– Спасибо, – поблагодарил Квашняков. – Мои мозги не забывайте, плюсуйте.
– Квашняков хорошо себя показал, – согласился Лизадков. – За те месяцы, как он стал редактором, в газете стало меньше критики и пасквильных статей. Не то, что при Мерзлой. Он правильно понял задачу. Нам не надо людей тормошить. Чем спокойнее, тем лучше.
– Все! Занимайтесь этим делом, – завершил беседу Хамовский. – О том, что происходит, регулярно докладывать.
***
Москве не было дела до отдаленного маленького нефтяного города, хотя федеральные учреждения в нем имелись: прокуратура, суд, милиция… Москва собирала большие налоги с продажи нефти, а зарплаты в федеральных учреждениях нефтяного города, кормильца России, были до того невелики, что их начальники регулярно бегали в городскую администрацию за деньгами. Строго говоря, Хамовский не имел права финансировать федеральные учреждения, но какое ж это нарушение закона, когда и суд, и прокуратура согласны сотрудничать и сами просят? Хамовский давал деньги, но требовал уважения к своим маленьким просьбам что-то прикрыть, что-то возбудить.
– Активнее надо искать тех, кто листовки разбросал! – грубо урезонил он начальника милиции на планерке. А дальше по цепочке: от начальника – к замам, от замов – к исполнителям.
Алика, Сапу, а также всех возможных участников подпольной ячейки стали по очереди вызывать на допрос в серое капитальное здание, пропитанное горем, лицемерием, бездушием – всеми тяготами человечества. Алику оно казалось клеткой с хищными зверями, как в цирке. Человека запускают в клетку, и хищники его сожрут, если он покажется им доступным куском мяса, оставят в покое, если несъедобен или такой же…
– Вы еще не нашли того, кто распространил эту гадость? – спросил Алик у следователя сразу, как зашел в кабинет.
– Нет, – ответила следователь – приятная пухленькая женщина с добрыми глазами.
– Надо обязательно найти. Вылить столько грязи на редактора газеты! Это нехорошо, – продолжил Алик, прекрасно понимая, что за добрыми глазами любого милиционера таится одно стремление – любыми методами разоблачить подозреваемого, а подозреваемым был он сам.
– Листовки направим на стилистическую экспертизу, – сказала следователь Алику, внимательно изучая его реакцию.
– Правильно, но экспертиза не доказательство. Стиль можно подделать, – с сожалением произнес Алик. – Вы не могли бы показать листовку. Все говорят, говорят, а я и не читал.
Следователь положила на стол небольшой мятый листок бумаги. Алик сделал внимательное изучающее лицо.
– Такое мог написать кто угодно. Возможно, это выпад со стороны нефтяников. Они не в ладах с городской администрацией, вот и решили подрубить ключевую фигуру – редактора городской газеты, – предложил версию Алик.
– Нет. Квашняков уверен, что это кто-то из своих постарался, и мы склоняемся к тому же мнению, – ответила следователь. – У вас нет никаких предположений?
– Я знаю, Квашняков подозревает меня, – доверительно сказал Алик. – Но это полная чушь. Накануне выборов мне уголовный скандал не нужен.
– Скажу по секрету: дело может принять необычный поворот, – интригующе заговорила следователь. – Следствие выяснило, что Квашняков на старом месте работы уже занимался изготовлением якобы сторонних, компрометирующих объявлений на самого себя. Он тогда участвовал в выборах и хотел создать себе ореол жертвы, вызвать сочувствие избирателей. Квашняков имеет опыт аналогичных провокаций. Возможно, он хочет, используя старые наработки, закрепиться в кресле редактора…
«Вот так номер! – мысленно восхитился Алик неожиданной находке. – Это же идеальная защита – сам дурак, и все тут».
– Такого быть не может, – сказал он однако. – Квашняков – человек интеллигентный. Стихи пишет, прозу. Он не способен на подобное. Я не верю.
– Не хотите верить – не верьте. Но это факт, – сказала следователь…
По этому поводу Алик с Сапой выпили по чашке чая вприкуску с радостным смехом, но при следующей встрече веселья поубавилось. Читатель, пожалуй, будет удивлен, что уже второй раз подряд на столе у Сапы стоял чай, а не водка, к которой Сапа испытывал магнетическую склонность еще несколько лет назад. Виной превращения пьяницы в трезвенника явилось стремление достичь тонкой психической настройки, магического состояния, при котором предвидение будущего и даже его предопределение и влияние на него стали бы возможными – для исключения прогнозных ошибок, подобных тем, чтослучились в трагических для Сапы советах Хамовскому. Не смейтесь, рациональный Сапа верил во влияние потустороннего мира на реальный, верил в возможность его использования. Но вернемся к грустному чаепитию.
– У них есть свидетель твоих выходок, – сказал Сапа.
– Кто? – удивился Алик.
– Мужчина возвращался с ночного дежурства домой и видел тебя, – ответил Сапа.
– Что он мог видеть в полутьме? – скептически спросил Алик.
– Лицо он не разглядел, но очки на лице заметил, – ответил Сапа, тоже носивший очки, как и Алик. – Следователь сказала, что свидетель оценил возраст преступника примерно в сорок – пятьдесят лет.
– Это он хватил! – рассмеялся Алик. – Я думаю, может, публично признаться, что листовки – моя работа. Я не совершил ничего особенного. На войне – воевать, а не сопли жевать. Мне кажется, народ на меня в обиде не будет.
– Тебе нельзя открываться, – ответил Сапа. – Потеряешь всякие шансы на проход в Думу. Теперь я – главный подозреваемый.
– Вы!? – изумился Алик такой неожиданности. – Да вы к этому никакого отношения не имеете, а если бы я не сказал, то вы бы и не знали…
– Я, – грустно и спокойно ответил Сапа. – Хотя, конечно, доказать они ничего не могут…
Последняя фраза Сапы напомнила Алику последний разговор с Гришей в коридоре суда, но он промолчал.
ВЫСОКИЙ СПЕКТАКЛЬ
«Из теста всегда получится каравай, пока есть умелые руки и технология»
Одновременно с выборами в городскую Думу в маленьком нефтяном городе проходили выборы депутата в государственную Думу России, в Москву, и на последнюю должность покусился проштрафившийся чиновник высшего уровня по фамилии Черномордин, полноватый дядечка с отвисшими щеками, но умными глазками и благородным загаром…
Еще до начала выступления высокой московской особы зрительный зал дворца культуры маленького нефтяного города до отказа заполнился потенциальным электоратом, не сумевшим отказать гостю во внимании, потому как был согнан и свезен. Такова типичная политическая практика подобных встреч, но народ не обижался, потому как – в рабочее время. Зрители в ожидании не скучали. Они впитывали в себя кадры фильма, рекламировавшего не шампунь, не пиво или женские прокладки с тампонами, а саму фигуру, которой предстояло выйти на дощатую, истертую подошвами сцену.

В мраморном холле дворца культуры наигрывал самодеятельный духовой оркестр. И настало время, когда под его бравую музыку Черномордин с губернатором округа прошли к сцене, сопровождаемые Генералом и Хамовским.
Губернатор предварил выступление политического тяжеловеса. Он пояснил, что Черномордина кто-то из местных попросил вернуться на кремлевские паркеты с депутатским портфелем округа, а задача зрителей – сделать верный выбор. Хамовский попросил еще раз поприветствовать экс-премьера. Народ отменно похлопал. А потом на сцену вышли дети, чтобы танцевать и петь. Перестук младых ножек и перезвон юных голосов вызвали к жизни нежные, как детсадовская манная каша, давно забытые мотивы в сердцах – как глупо – конечно же, в мозгах у матерых политиков и в разных местах у покладистой зрительской массы. Наступало время умиления…
«Если бы дети заранее знали, как их невинность будут использовать начальственные дяди, то, пожалуй, объявили бы забастовку акушерам, – размышлял Алик, сидевший в зрительном зале. – Ведь это вошло в традицию: что ни сволочь какая высокого полета, то ее подают публике с гарниром из детей и попов. Облагораживают. Что ни день рождения у фигуры городского масштаба, так обязательно в лучшем ресторане с заказом самодеятельности. Чиновники лопают и пьют, а дети танцуют… Лучше бы голых баб заказывали…»
Пока Алик раздумывал, Черномордин говорил и говорил. Взгляд его был растерян и грустен, как у богатого вельможи, вынужденного на склоне лет из-за чрезмерной расточительности просить подаяние на углу провинциального вокзала у всякой черни, которой в хорошие времена он бы и руки не подал. Черномордин был известен плохо переводимым косноязычием. В семантическом смысле он был идеальным образцом начальника. Слушать его не имело смысла. Далее события походили на отрепетированные действия массовки…
Энергичная тетушка громко критиковала Черномордина и так преуспела, что ее голос долго звучал после того, как ей отключили микрофон.
«Теперь все, кто против Черномордина, будут выглядеть психами, как эта тетка», – оценил ее речь Алик.
Действительно, желающих критиковать более не возникло.
Словесные поцелуи, эмоциональные лобзания и челобитные лились рекой. Хорошо, что батюшка, предводитель северных православных, по дороге в маленький нефтяной город по гололеду улетел с машиной на обочину и, волею Божьей, не участвовал в унизительном представлении, а то ведь тоже хотел попросить у Черномордина денег на достройку православной церкви.
Вокруг Черномордина витала медовая эйфория. Казалось: попроси и исполнится. Чиновник без устали обещал. Он обещал направо и налево, прямо, вдаль и вблизи. И даже если бы сам Господь попросил его в этот момент:
– Обещай, сын мой, никогда не врать, не брать взяток, исполнить все, что обещаешь…
Черномордин направил бы нефтецветные очи вверх, в ребристый потолок, за которым где-то вдалеке предполагались небеса, жилище того, кто над всеми, и громогласно бы заявил, разведя руки в стороны и потрясая сжатыми кулаками:
– Обещаю все! Только проголосуй, Господи, не забудь сам прийти к урнам и привести своих архангелов! Или проиграешь…
Предоставлял слово и озвучивал записки зрителей Хамовский лично, чтобы не раздалось ничего лишнего. Алик, ведомый желанием покрасоваться на народе накануне выборов в городскую Думу, поднялся со своего места, прошел к одному из четырех публичных микрофонов и стал ждать, когда включат…
«Черномордин – фигура интересная, – размышлял он. – Всем известно его высказывание: «Мы хотели как лучше, а получилось как всегда». На посту премьера он хотел как лучше пять лет! За это время Россия растеряла всю мощь. Первые три года – сильнейшая инфляция, последующие два – огромные проедаемые займы международного валютного фонда, ответ за которые предстоит держать нашим детям. И вот он опять хочет во власть, опять хочет «хотеть», только теперь с позиции округа. Да на хрен ему этот округ сдался! Высокомерие. Оно на его лице. Неужели никто не видит? Видят, суки, но надеются. Они думают, что с этого зубра можно поиметь. Он получит власть и пошлет руководящую окружную шпану на три буквы…»
Ожидание у микрофона затягивалось. Мэр города делал вид, что не замечает Алика, давал возможность высказаться другим и читал бумажки.
«Что за хрень пишут? – возмущенно раздумывал Хамовский, читая записку. – Почему все вопросы с подвохом? Какие-то зарплаты. Придется опять импровизировать».
– Вот, уважаемый Виктор Степанович, еще одно пожелание Вам доброго здоровья и победы в выборах, – громко сказал он, обращаясь к Черномырдину. – И вопросец. Хороший вопросец. Как вам понравился наш маленький нефтяной город?..
«Я не вхожу в сценарий, – понял Алик. – Такие мероприятия репетируют. Все, кто хочет высказаться, учтены. Корректирован и текст, и манера выступления. Сюрпризы не нужны. Черномордин – это создатель газовой монополии – главнейшего налогоплательщика округа. Вот он – двигатель выборов. И в то же время Черномордин – автор взаимозачетной схемы, возрождения обменной племенной формы оплаты. Вначале кирпичи на сахар и так далее, а потом долги газовой монополии и других предприятий на реальные деньги и товары через специализированные фирмочки. При такой операции один реальный рубль идет за несколько рублей долга. Черномордин открыл на Ямале мощную золотую жилу казнокрадства…»
Тут Алик вспомнил материал, написанный им на эту тему примерно год назад, после финансового кризиса, когда рубль по сравнению с долларом в считанные недели подешевел в три раза.
***
У нефтяной компании «СНГ» успешно продвигается новый прибыльный бизнес: взаимозачеты с бюджетниками продуктами питания, а с бюджетом – оборудованием и материалами. Причем бизнес ультимативный: продукты вымениваются на долговые обязательства бюджету маленького нефтяного города только в одной фирме по диктатным ценам и в определенном ассортименте, иначе деньги по векселям можно не получить. Себестоимость продуктов значительно превышает цены на рынке. Администрация города проводит уценку, чтобы довести цены закупленных товаров до уровня рыночных и выдает их людям под запись в долг. Отоваривается в счет погашения задолженности по зарплате половина работающего населения города. Стоять по-нищенски за кормежкой долго и душевно больно. Как ведутся переговоры с нефтяной торговой фирмой и почему складываются высокие закупочные цены, сказать сложно.
***
Насчет «сказать сложно» Алик дипломатически поосторожничал, понимая, что иначе не напечатают. Деньги не усыхают, не исчезают. Они осели в карманах, скорее всего, руководителей посреднических фирм, менявших долги на деньги при пособничестве чиновников городской администрации, подписывавших договора. В то время в организациях маленького нефтяного города появилась много компьютерной техники, мебели, видеоаппаратуры, купленных по ценам в несколько раз выше даже северных. Очевидные бесстыдные публичные хищения угнетали Алика, ему казалось, что действия налоговой полиции на этом фоне выглядят детскими забавами.
Слово Алику так и не предоставили. Он шел на свое место и по пути оглядывал зал.
«А может ли человек мыслить самостоятельно при такой сильной обработке? – думал он. – Какой процент населения остается невосприимчивым к массовой агитации и внушению? Наверняка небольшой. Скоро в ход пойдет телевидение, радио, газета. Все материалы будут делать грамотно. Кто устоит? Первого президента избрали несмотря на то, что он из танков расстрелял собственный парламент. Все красиво разъяснено. Депутаты – враги и казнокрады. Факт, что сам президент совершил широкомасштабное преступление, что он нарушил Конституцию, не рекламировали, не упоминали ни телевидение, ни газеты. Так будет и здесь. Будут наполнять мозги нужной информацией, гнать народ на голосование, потому что власть интересует только то, чтобы выборы состоялись. Остальное – техника.
Нужный кандидат запрограммирован. Задача власти привлечь на выборы больше доброжелателей, а остальных отсеять или рассеять. Потому и проводится политика по возведению голосования в ранг гражданской позиции. Противник власти поступит наперекор и не пойдет на выборы, а пойдет, так его ждут подставные кандидаты. Но надеяться не на кого, кроме как на этот народ. Лишь бы у него осталась хоть доля самостоятельного мышления после грядущей агитации. Может, не все так плохо»…
Без самоуспокоения, самоутешения или притупления жить мыслящему человеку в России сложно. На досуге Алик просмотрел список доверенных лиц Черномордина и сильно удивился политическому уму руководства маленького нефтяного города. В число доверенных лиц входила начальник Управления образования, депутат Сирова. «Хорошая пара получилась: вдохновитель казнокрадства плюс главный воспитатель и учитель, – сделал вывод Алик. – Вот нечистая чертовка! Опять бедных детей приплели. Все для детей, но и с детей спрос. Теперь Черномордина точно выберут». И он оказался прав. И не только в том, что Черномордина выберут…
СКАНДАЛ В РЕСТОРАНЕ
«Каждый получает, сколь выдержит»
Пока в маленьком нефтяном городе кипели большие политические страсти, в налоговой полиции, словно в благоденствующей волчьей стае, сокрытой от верхушечных ветров в глубинах таежного леса, шла самая обычная, размеренная жизнь. Семеныч успешно продвигал денежные аферы и кончал предприятия и предпринимателей. В холодильниках Тыренко не иссякали колбасы, сыры, мясо, фрукты, пожертвованные предпринимателями ради спасения бизнеса.
Как волки, изгнанные из стаи, не видят радости и обречены на гордое, но голодное одиночество, так Гриша, уличенный во взяточничестве, сидел в специализированной милицейской тюрьме и писал оптимистичные письма, от чтения которых на сердце ложилась безотчетная тоска, словно от отдаленного воя. Паша, опасаясь, как бы с ним не проделали то же, что с Гришей, уволился и покинул маленький нефтяной город навсегда. Кабановские боролись за места в налоговой полиции и строчили жалобы, правда, Кабановский-старший делал это на пенсионном отдыхе, куда его благополучно определил Семеныч. А забияка и балагур полицейский Братовняк продолжал куражиться…

Было опять около полуночи, когда из бесконечной черноты северного неба над рестораном «Юность комсомола» маленького нефтяного города выпало четыре звезды одновременно. Они живо вспыхнули и погасли, посыпав космической пылью крышу питейного заведения, под которой известный нам споенный квартет, в составе Братовняка, Мухана, Телкиной и Дойкиной, весело и сытно отдыхал. Они откушали модные жульены, традиционные столичные салаты, куриные котлетки по-киевски с начинкой из зелени и гарниром из картофеля фри, заливные из телячьего языка и семги, а также лососевые рулетики и блинчики с начинкой из красной икры. Все блюда уходили в телесные недра наших героев по пищеводам, как по водным горкам, с единственной разницей, что подталкивались они не хлорированной водой, а порциями водочки «Гжелка» и дорогого вина, изготовленного в Москве из воды, спирта, пищевой краски и виноградного концентрата, что, правда, большинство жителей маленького нефтяного города никак не ощущало.
Питие водки, как и любой вид спорта, требует тренированности, опыта, здоровья и телесных размеров. Тяжеловесный Братовняк выглядел менее пьяным, чем мелковатый Мухан, голова которого, едва удерживаясь на размякшей шее, регулярно устремлялась к тарелке. Спортсмену на финише многочасового марафона пот заливает глаза, усталость высасывает силы, но тот бежит. Зрение Мухана тоже давало сбои, но, когда он внезапно прозревал, то видел перед своим носом мелкие красные шарики икры, лохмотья разорванного блинчика, четыре угрожающих острия вилки, а потом сразу – лица собутыльников. Затем черноволосая голова Мухана опять устремлялась к тарелке. Телкина с Дойкиной ржали, обнажив в широко открытых ртах неровный ряд желтых от курения зубов.
– Мы ж с Муханом до сих пор под судом, на подписке о невыезде. А нам плевать на суды, их несколько раз переносили и еще перенесут, – сказал Братовняк. – Помните, как весной погуляли, киоск бомбанули да торгаша растрясли?
– Как не помнить?! – восхищенно произнесла Дойкина. – Вы, как медведи, рычали и, как белки, скакали. Давайте еще какой-нибудь магазинчик ограбим. Весело…
– Мухан сегодня напился, – обиженно пробубнил Братовняк. – Не годен.
– А я его пощекочу! – задорно заявила Телкина и потянулась к Мухану.
***
Щекотать Телкина умела. В маленьком нефтяном городе свой путь она прокладывала, как корабль передком рассекает волнующуюся могущественную стихию. Правда, стихия, преодолеваемая Телкиной в поисках хорошей жизни, в отличие от морей-океанов, волновалась уже слабо из-за агрессивных руководственных эмоций, переедания и перепивания. Расшевелить раздобревшее начальство, да так, что оно дало Телкиной квартиру и хорошую должность, потребовало от нее больших способностей. Вот только на пути к вершине обывательской жизни она заразилась гепатитом и теперь с большим удовольствием передавала эту заразу всем встречным мужчинам.
***
– Извините, пожалуйста, – раздалось рядом со столом. – Ресторан закрывается. Все разошлись. Вы последние.
Братовняк, Телкина и Дойкина повернули головы в сторону говора и обнаружили официанта, высокого и удивительно худого для работника ресторана. Он контрастно стоял возле стола в белой рубашке, черных брюках в подчеркнуто вежливом ожидании. Братовняк оглядел зал. В нем, как и на столах, было уныло и пустынно, только за стойкой бара весело поблескивали яркие ряды бутылок и сталь кофейного аппарата.
– Белый ворон, что ты вьешься… – вдруг затянул Мухан.
– Слышь, черно-белый, – обратился к официанту Братовняк, – иди на кухню и занимайся тарелками. Нет, погоди. Сбегай в бар, принеси еще бутылочку и закуски.
– Ресторан закрылся! Будьте добры, по домам! – потребовал черно-белый, приняв значительную позу.
– Мужик не понимает! – со смехом громко объявил Братовняк. – Не обслужишь, получишь щелчок в лоб или блюдцем!
– Милицию вызову! – пригрозил черно-белый.
– Считай, что вызвал! – рявкнул Братовняк, вскочил и сунул служебное удостоверение в лицо официанту. – Читай, читай. Из налоговой полиции я. Ты кому хамишь, гнида торговая? Ты кого обслуживать отказываешься? Бестолочь. Иди, делай, что говорят, пока я добрый.
Черно-белый попытался ускользнуть.
– Ку-у-уда-а-а? – спросил Братовняк, резво поймав официанта за ухо. – Бар в другой стороне, а теперь на штрафной круг за неудачную попытку…
Братовняк, держа официанта за ухо, протащил его вокруг себя, как метатели молота раскручивают снаряд, и отпустил в направлении бара, дав для ускорения пинок. Официант вернулся с «Гжелкой».
– Хорошо, – похвалил Братовняк. – Соображаешь! А теперь вместо тоста – новогоднее стихотворение. Меньше месяца осталось. Давай, давай, а то блюдцем или щелбан…
Со страху люди иногда удивительно преображаются. Выпавший за борт корабля пассажир плывет, ругая кружащих вокруг него акул, и спасается. Убегающий от полиции негр одним махом перепрыгивает высоченный забор и устанавливает неофициальный мировой рекорд. Официант никогда не читал стихи и тем более не сочинял, но на него снизошло просветление, словно в ресторанном зале разом зажглись все светильники, и он продекламировал:
Отзвучали хлопки из бутылок,
Свет гирлянд новогодних погас,
По квартире – остатки «дождинок»,
И иголки забились в палас.
Возле дома – погибшие елки,
В парке – хаос былой красоты,
От шампанского стынут осколки
И веселых хлопушек «стволы».
Праздник радостно встречен, и сделан
Первый шаг в наступившем году –
Тенью лег он на снеге на белом,
Что я светлого в новом… найду?
Знаю точно, что надо работать,
Не надеясь, что счастье придет,
Как приходит незванно суббота,
Как весною трава зацветет.
Надо жить, не надеясь на карты
И на роспись кофейных частиц,
Гороскопы и каверзы марта
И прогнозы печатных страниц.
С каждым мигом грядущего меньше,
Пусть сегодня почаще везет,
Чтоб на грани времен вновь с надеждой
Нам встречать наступающий год.
– Ты что несешь? Что несешь? – обратился Братовняк к официанту. – Праздник не начался, а ты хоронишь? Издеваешься, мерзавец? Кофейную гущу вспомнил! Лучше бы кофе принес…
Повинуясь искреннему внутреннему порыву, Братовняк схватил со стола тарелку и метнул в официанта. Тот уклонился, и тарелка попала в шею одному из гипсовых ангелочков, исполненных в форме мэра маленького нефтяного города, и срезала его головку. Головка упала и раскололась на мелкие кусочки. Внутри нее ничего особенного не оказалось – обычная белая пыль. Официант вообразил, что тарелка могла отсечь и его голову, перепугался больше прежнего и, переставляя длинные ноги, как ходули, то есть не сгибая в коленях, направился к кухне.
– Девчонки, хватай его, воспитывать будем! – крикнул Братовняк. – Не дайте уйти.
В это время Мухан мирно и бесполезно боролся с выпитым. Голова его лежала уже в тарелке прямо на остатках икры. Он больше не пел, а громко вздыхал и повторял только одну фразу:
– Ох, перебрал.
Мухана никто не слушал. Дойкина с Телкиной вскочили со стульев и, воинственно покручивая дамскими сумочками, как боевыми дубинками, отсекли путь на кухню. Братовняк, сделав зверскую рожу и растопырив руки, надвигался на официанта.
Черно-белый, склонившись, бегал между столами, словно солдат по неглубоким окопам. Братовняк не петлял. Он шел напрямик, переворачивая мешавшие столы и стулья, бросая в метавшегося официанта чем придется, но чаще всего – салфетницами и перечницами. Из кухни на сцену разрушения и разбоя поглядывали перепуганные розовощекие поварихи, со стороны входа – гробовщицкого вида гардеробщица. Они знали и не такое.
– Ох, перебрал! – уже голосил Мухан.
– На кухню только через нас! – задорно кричали Дойкина с Телкиной.
– Неси выпивку и обслуживай, падла! Не петляй, как заяц! – покрикивал Братовняк. – Я в детстве в бегущих котов камнями попадал с двух десятков метров. Ты ближе и крупнее. Ща солонкой в лоб! Научу уважать налоговую полицию…
Он тяжеловесно шел за увертывающимся от летящей посуды официантом и, как фанатичный китаец времен даманского конфликта, размахивал зажатым в левой руке удостоверением…
***
Утром следующего дня шокированный происшедшим Семеныч отчитывал Братовняка, как добрый отец шаловливого дитятку:
– Ты же полицейский, здоровый полицейский, а ведешь себя как работяга обычный! Мы тебя после ограбления киоска повысили в звании. Со старшего лейтенанта до капитана подняли, а ты…
– А что не обслуживают? Горбатишься тут на работе, налоги выбиваешь с барыг всяких, чтобы учителя и врачи могли спокойно жить, а героям выпить не дают, – оправдывался Братовняк.
– Мы ж не на публике, помолчал бы. Иди в ресторан, я договорился. Заплатишь за побитую посуду, извинишься перед официантом, и инцидент исчерпан, – сказал Семеныч.
– Анатолий Семенович, он же, падла, уважения к погонам не проявил, – напомнил Братовняк. – Он бы и вам не налил…
– Черт с ним, с официантом. Незаметно надо, чтобы работать спокойно, а ты из-за копеечных конфликтов готов миллионы угробить, – принялся объяснять Семеныч.
– Какие миллионы? – заинтересовался Братовняк.
– Я к слову, – ответил Семеныч. – Все. Иди в ресторан…
Разбитые чашки Братовняк оплатил, но, выйдя из ресторана, повернулся и плюнул на закрывшуюся дверь четыре раза. Слюна, падающими звездами полетела на сталь.
– За каждого, – сказал Братовняк и пошел восвояси, раздумывая о том, что падающие звезды и есть плевки Вселенной…».
Но не Братовняк был самой скандальной фигурой маленького нефтяного города, и не Алик, и не Хамовский, а неказистая, полуглухая – но, надень ей стальную каску стала бы похожа на толстомордого упрямого воина – женщина по фамилии Харева – директриса самого обычного детского сада с рыбьим названием «Муксун». Для того чтобы рассказать о ней, придется вернуть повествование на несколько лет назад.
ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ ПО-СЕВЕРНОМУ
«Прикрываясь детьми, можно победить многих»
Коренастая и энергичная грубиянка Харева парадоксально директорствовала в детском саду, ходила со слуховым аппаратом, производя обманчивое впечатление слабого инвалида, но была отчаянной и настойчивой скандалисткой и с подчиненными ладила по методу Хамовского, не стесняясь детей. Ее выгоняли с работы за то, что она на бюджетные деньги своего детского сада закупала товар, который продавала и наживалась, ее выгоняли с работы по подозрению в сумасшествии, а как иначе классифицировать изощренную ругань из уст детсадовского работника, но она выжила на ниве частного предпринимательства, хорошо поторговала, при этом получая пособие по безработице, и, проявив завидное упорство, восстановилась через полтора года на прежней должности, сорвав денежный куш из причитавшихся ей за указанные полтора года заработных плат. Нефтяной городок был небольшим – это достижение быстро распространилось в умах, и Харева стала пользоваться уважением.
***

Двигатель если не всего, то очень многого – деньги. Харева любила их, иначе не приехала бы на Крайний Север, но зарплаты директора детского сада ей не хватало. Она пробилась в Совет народных депутатов, предводимый знакомым нам Сапой.
Маленький нефтяной город строили из чего придется. Железобетонные плиты на Крайний Север возили из Украины, деревянные дома набивали, как дешевые китайские пуховики, вредоносным утеплителем, содержащим фенол. Жители деревянных домов страдали от аллергии, болели, но не знали причину. Руководство города знало, но молчало, поскольку боялось последствий.
Дикий конь народного гнева может и копытом между глаз. Запрыгнуть на спину этого коня, поехать в нужном направлении, направить его копыто в противную физиономию – искусство сложное, но Харева им интуитивно обладала. На каждом подъезде она наклеила листовку со своей избирательной программой, где подробно написала о содержании фенола и, ссылаясь на официальные документы, объяснила, что проживание в домах на ее избирательном участке – это медленная смерть, но куда более быстрая, чем обычная.
– Помогите, милые, сколь можно издеваться! – запричитал обретший знание народ.
– Я всех спасу, выведу из негодных квартир в добротные! – сказала Харева, как Моисей народу израильскому…
– Они обязаны о вас заботиться! – вскрикивала она на собраниях, указывая перстом в предполагаемом направлении, где высиживали в креслах городские властители…
На человека, обозначившего проблему, некоторое время смотрят, как на спасителя. Так Харева стала депутатом, что ей по большому счету нужно не было, поскольку депутат маленького нефтяного города никаких денег за депутатство не получал. Это была почетная добровольная общественная работа, что Харевой было противно по сути, но у нее был план. После выборов она пошла по квартирам своих избирателей.
– Сдавайте деньги, люди добрые, – просила Харева, как можно добродушнее улыбаясь. – Вы меня избрали для выполнения почетной миссии вашего переселения, теперь надо лететь в Москву, чтобы хлопотать. Документы отвезти да по министерствам пробежаться. Денег у меня нет, а Москва деньги любит более других.
Улыбка Харевой походила на звериный оскал, но то, что депутат, тем более женщина, тем более директор детского сада, ходила по квартирам, сбивая каблуки на благо народа, не могло не вызвать доверчивый душевный отклик в сердцах непуганых людей, сообщество которых и представляли тогда северяне. Это где-то в больших городах на юге уже вовсю орудовали наперсточники и прочие жулики, создавались и лопались липовые банки, а на Севере будто замерзло царство социализма. В общем, просьбу Харевой люди встречали, если не с радостью от предчувствия, что о них позаботятся, то с пониманием.
– Много ли надо? – спрашивали ее.
– Все, что в заначках да копилках. Не скупитесь. Скупые в феноле останутся, – объясняла Харева.
Рубли – все, что надо – так и полетели в руки Харевой…
Она собрала, сколь смогла, и затихла, думая, что забудется. «Работу в кабинетах власти сложно проследить, – размышляла она. – Скажу, что летала, давала взятки, умоляла, но не получилось, старалась, но власть глуха. Это обычное явление – мне поверят. А деньги оставлю у себя. Пригодятся». Но случилось непредвиденное: маленький нефтяной город посетил Генерал. И его речи отличались от слов Харевой.
– Вопрос о феноле, о вредности утеплителя деревянных домов мог поднять только некомпетентный человек, – неподражаемо правдиво врал Генерал, стремясь остудить страсти. – Во всех предметах обихода есть фенол. Везде есть вредность. Даже жить вредно – все умирают от жизни. Поэтому отселять жителей фенольных домов нет необходимости…
Сила удара любого аргумента, документа, доказательства определяется высотой социальной ступени, откуда они сброшены, или претензией на оную. Поэтому все правдивые, аргументированные мотивы деньголюбивой Харевой убила обыкновенная амбициозная ложь Генерала.
Народ стучался в дверь к Харевой, требовал возвратить деньги, а из-за двери доносилось:
– Я фигура неприкосновенная, идите вы…
Народ писал бумаги об отзыве Харевой, но депутаты не обращали на них внимания, потому как фенол действительно был, а деньги… Депутаты поверили, что Харева старалась, но Москва ненасытна. Дело замяли и замолчали.
Первое время Харева не появлялась лишний раз на улице: только в детский сад и обратно. Но вскоре страсти улеглись сами собой. Жители фенольных домов самовольно заселились в только сданный строителями пятиэтажный дом…
Харева опять задумалась о приработке и принялась ссужать знакомым деньги под проценты. Отдавали проценты не все и не сразу, тогда Харева шла по знакомому адресу и требовала без снисхождения и жалости, а иногда прибегала к насилию…
– Срок вышел, – без предисловий напомнила Харева, зайдя в квартиру знакомца Новоселова, самого обычного робкого скромного человечка, каковых очень много.
Что можно предпринять против знакомой женщины, которая чинит неприятности? Она уже зашла в квартиру и явно не несла доброго, но за шиворот же не схватишь, как пацана, и не станешь грубить, как с мужиком, тем более если должен. Новоселов растерялся, он понимал, что Харева пришла за деньгами, а денег у него не было.
– Ты бы хоть ноги вытерла, в зал заходя, – попросил он.
– За деньги, взятые у меня, сам вытрешь, – ответила Харева, присаживаясь на диван и поворачивая ухо со слуховым аппаратом в сторону, откуда должен был донестись ответ.
– Подожди немного, – попросил Новоселов. – Вот-вот…
– Вот-вот не положишь в рот, – отрезала Харева. – Гони долг и проценты. Вон сколь дома у тебя добра. Накупил вперед, чем мне отдать.
– Это старое…
– Какое старое? Этикетки не оторваны, а телевизора у тебя не было, когда в прошлый раз заходила, – грозно упрекнула Харева.
Действительно рядом с балконом стоял новый телевизор, а открытая дверь плательного шкафа выставляла на обозрение стопки белья, из которых торчали этикетки. Таково было веяние времени: вещи закупали помногу, майки, трусы, рубашки, носки, чтобы и детям, и внукам на случай, если в магазине исчезнет. Харева вскочила с дивана, подошла к белью и стала рассматривать.
– Ты куда лезешь?! – возмутился Новоселов. – Все впрок…
– Я депутат Совета, куда хочу – туда и лезу, – выкрикнула Харева. – У меня неприкасаемость. Не трогай – посадят. А твои вещи – мои в принципе…
Харева принялась шарить в выдвижных ящичках, где обычно хранятся деньги.
– Где бабульки? – сердито спросила она.
– Как твои вещи?! – оторопело вопросил Новоселов, не слыша последнего вопроса.
– Тут все мое! – крикнула Харева, войдя в раж и потрясая найденной бумажной деньгой самого большого номинала. – Утаить хотел?!
Новоселов вцепился в руки депутата Совета.
– Так нельзя! – завопил он. – Отдай!
– Полай! – предложила Харева. – Ручки, рученьки, рученки убери! Я неприкосновенная!
Новоселов не отставал. Харева протянула свободную руку к его животу и сильно ущипнула с прокруткой. Когда она отпустила кожу Новоселова, та звонко щелкнула, как тугая перетянутая резина. Новоселов охнул от боли.
– Руки по швам! – командным голосом крикнула Харева. – Учить буду за нападение на депутата!
Новоселов еще с армии боялся начальственных окриков и вытянулся в струну. Это собственную жену он мог гонять по квартире, благо ее не было дома, и она не видела его позора, а чужую женщину, депутата… Харева схватила Новоселова за нос, сдавила его и стала выкручивать. Новоселов забеспокоился.
– Стоять ровно и не брыкаться, я неприкосновенная! – начальственно крикнула Харева. – Не оторву, поучу! Про сливы слышал?
Новоселов знал, что такое сливы, он понимал, что его нос вскоре примет их цвет, но покорно стоял…
– Это тебе за неподчинение! – объявила Харева и отпустила нос. – Гони ножницы…
Были порезаны все ткацкие покупки Новоселова, разбит телевизор, вскрыта обшивка дивана…
– Все, кажись рубликов на шестьсот отстаралась! – заявила Харева, стирая капли пота со лба и в особенности с глухого уха, чтобы не закоротило проводку слухового аппарата. – Твои проценты списаны, долг жду.
Входная дверь мерзко хлопнула, Новоселов осматривался и не мог поверить…
***
Дверной звонок нежданно потревожил вечернюю тишину в квартире Харевой примерно через полмесяца после расчета у Новоселова. За дверью оказался одетый в форменную летнюю рубашку лейтенант милиции Фрицык с прижатой к боку папкой. Весь его вид напоминал о служебном долге, здоровье и даже морали.
– Гражданка Харева? – спросил Фрицык.
– Да, а что надо? – ответила Харева.
– Вы избили гражданина Новоселова, уничтожили его вещи, не отреагировали ни на одну из наших повесток. У меня постановление о вашем принудительном приводе, – объяснил Фрицык.
– Вы знаете, что я депутат и неприкосновенна? – спросила Харева.
– Да, – ответил Фрицык.
– Покажите постановление, – потребовала Харева.
Фрицык протянул лист бумаги. Харева резко вырвала его, прочитала и положила в карман синего байкового халата, в котором она и вышла на встречу. В глазах Фрицыка читались немой вопрос и недоумение.
– Все, – сказала Харева. – Можете идти. Свободны…
– Какое все?! – повысил голос Фрицык. – Отдайте постановление.
– Какое постановление? – спросила Харева.
– Да я ж при исполнении! – возмутился Фрицык и протянул руку к карману халата…
До кармана Фрицык не дотянулся. Харева заметив движение, мгновенно выхватила у Фрицыка папку, ударила его коленом в промежность и, пока лейтенант в полусогнутом положении, мелко перебирая ногами, заспешил на первый круг по выложенный плитками лестничной площадке, захлопнула входную дверь. Далее она спокойно прошла в зал, присела в кресло и принялась перебирать документы, лежавшие в папке Фрицыка. Найдя заявление Новоселова, свидетельские показания, она спрятала их под кипу постельного белья в антресоли и заспешила к входной двери, подгоняемая непрерывным гулом дверного звонка. На ходу она закрыла папку, как было, прежде стащив из нее шариковую ручку, по привычке…
– Что беснуешься, лейтенант? – спросила Харева, открыв дверь.
Фрицык поджал губы и хотел было броситься к ней.
– Расслабься, я депутат, – охладила его Харева.
– Папку давай и постановление, – рявкнул Фрицык.
– Ты на кого гавкаешь? На депутата?! – повысила голос Харева.
– Папку отдай, а то отделение вызову, – пригрозил Фрицык.
– На собачку драчку! Ну-ка, отними! – крикнула Харева, помахивая папкой под потолком. – Меня не тронь. Я неприкосновенная.
Фрицык осторожно прыгал, чтобы не задеть депутата, а Харева между тем ворованной ручкой рисовала на его рубашке линии по длине равные высоте прыжка. Фрицык папку отобрал и ушел вниз по ступеням разрисованный чернилами, как шкодливый школьник. Харева плюнула ему вслед и исчезла в квартире.
Жалоба от Фрицыка попала к прокурору Коптилкину, обнаружилась и пропажа документов из папки, но депутатский корпус был един и опять отстоял Хареву.
***
Животных можно выдрессировать, малому ребенку один раз стукнут по ручкам, и он понимает, Харева воспитанию не поддавалась. Потеря двух доходных подработок для нее означала только одно – надо искать третью, причем кардинально отличающуюся от двух других.
Она ходила по своей квартире, покручивая вокруг пальца янтарные бусы, пока идея не настигла ее. «Хватит общественной работы. Торговать и только торговать, чтобы деньги сразу на руки, и только продуктами, чтобы всегда спрос был и сама сыта», – решила она. Продукты – товар объемный – не золото, которое в сумочке умещается. Склады нужны.
Она ходила по детскому саду, кричала на воспитательниц и нянечек, пока ее не настигла вторая идея, совершенно гениальная в масштабах маленького нефтяного города: признать плавательный бассейн в своем детском саду «Муксун» аварийным и использовать его под картофель, капусту и прочую съедобную растительность. Вполне естественно, что дети в бассейне не купались и не ругались, а Харева в течение нескольких лет обозначала его как ремонтируемый.
Слухи об изобретательной торговке Харевой долетели до тогдашнего главы маленького нефтяного города Бабия. Он в сопровождении свиты телевизионщиков внезапно пришел в «Муксун» и застал картошку в нише, отделанной кафелем, где вода должна была манить прозрачностью и необычностью для северных зим.
– Ага, попалась мошенница! – вскрикнул он, мысленно продумывая дальнейшую речь для телекамер.
Но Харева не растерялась и подавила мелкособственнические чувства.
– Как вы смеете меня называть мошенницей? – высокопарно спросила она.
– Ты еще возмущаешься?! Навезла картошки! Денег ей мало. Храни в своем гараже. Торговка овощная, как ты смеешь детей обижать? – грозно спросил Бабий.
– Это не моя картошка! – открестилась от неудачных овощей Харева.
– Как не твоя? – удивленно спросил Бабий.
– Так. Все для детей, – ответила Харева. – Вы не можете мне отказать в праве оказывать благодеяния и пожертвования. Картошка куплена на мои деньги, не спорю. Но я всегда осуждала жадность. Дети для меня – высшая ценность. Пусть кушают. Или вы против?..
***
Так она и жила, имея главной целью деньги и готовая на все ради них, готовая защищать свою цель любой ценой. Она легко использовала бюджет своего детского сада на развитие личного торгового бизнеса, дети сидели на манной каше и соевых котлетах, сотрудники получали мизерные зарплаты, но, вместо того чтобы утонуть, упасть, слететь, Харева всегда держалась на гребне народной волны. Даже Сапа не мог своим умом компенсировать тот перевес душевной силы, каким обладала Харева, и никто не мог ее уволить, и никто не мог выгнать из города, даже когда распался городской Совет народных депутатов и она лишилась депутатского звания. Так в борьбе и торговле дожила она до времен, когда на городской престол взошел Хамовский, и не только взошел, но и вдоволь по-царски поработал, а Алик обрел популярность такую, что вполне мог пройти в Думу маленького нефтяного города.
ПРЕДВЫБОРНЫЙ РАСЧЕТ
«Без расчета хлеба не возьмешь, не то что власть»

Хамовский был убежденный интриган, он понимал, что врагов иногда надо делать друзьями, чтобы, когда их кончишь, они не могли понять, от кого смерть приняли, и не успели навредить. Именно такую тактику он решил использовать против Алика, всем своим видом показывая, что ничего не знает о заговоре и даже настолько уверен в Алике, что чрезмерно откровенен с ним.
– Так! Алик, ты как по выборам? – прямо спросил мэр у себя в кабинете. – Ну, давай, не стесняйся, тут собрались люди, которые участвуют в этом деле. Лизадков – мой заместитель. Он работает по прослушиванию телефонных разговоров, сбору конфиденциальной информации. Квашняков, редактор газеты, – идеолог предвыборной кампании. Он автор победной сказки про Букашечку. Его задача – красиво подать наших кандидатов, написать о них что-нибудь душевное. Сапа – человек творческий во всех отношениях. Ты всех знаешь. Таиться не к чему. Идешь на выборы?
Вокруг т-образного стола в кабинете мэра сидели знакомые Алику люди, с большинством из которых он предпочел бы не встречаться никогда, но, к сожалению, не мог осуществить данное желание, так как его недруги были податели работы.
– Иду, – сознался Алик, чтобы не отрицать очевидное. – Самовыдвижением. Я ж не начальник, чтобы мне подписи собирали.
– Мы о другом, – отмахнулся мэр. – Как ты выкатишься на эту поляну, как сыграешь?
– Не знаю, – ответил Алик. – Еще не думал.
– Сейчас выборы будут труднее, чем раньше, – продолжил мэр, теряя терпение. – Я могу вмешаться. Допустим, скажу кандидату: тебе бесполезно, не светит. Понимаешь? Могу откровенно так сказать. Не давя, просто выскажу свою позицию. Этого хватит. Кандидат может по-человечески сломаться. Понимаешь? Вот так. Если ты будешь выдвигаться, то предполагается дискуссия. Ты знаешь, что если предвыборная кампания объявлена, то ты не имеешь права, допустим, использовать свою должность? Ты – журналист и должен уйти в отпуск. Да?
– С начала избирательной кампании, после регистрации, – ответил Алик.
– Что ж, скандальный журналист имеет шансы, – немного подумав, согласился Хамовский. – Кто еще?
– Руководители нефтяников, – предложил Квашняков, – руководитель медицинской страховой компании, поп…
– Депутатом он может стать, но может ли при этом оставаться попом? – спросил Лизадков.
– Да, церковь отделена от государства, – согласился Хамовский. – Кто еще?
– Может идейный лидер мусульман? Кто у нас сплоченнее мусульман? – спросил Сапа, не потерявший надежду на прощение. – Или директор самой крупной сети магазинов нашего города? Его знают – кормилец.
– Харева, если захочет, – предложил Лизадков. – Если, допустим, ей предложить или попросить.
– Харева фигура колоритная, – согласился Хамовский, – но опасная.
– Сирова, начальник Управления образования, – предложил Квашняков.
– Муниципальные служащие не имеют права, – вставил реплику Лизадков.
– Если они не в штате администрации, – ответил Квашняков.
– Вне штата, – выдалинформацию Хамовский.
– Надо искать личность, популярную в народе, – посоветовал Лизадков.
– Все учителя и воспитатели будут за Сидорову, – продолжил Квашняков. – Треть населения города – дети. Пройдут родительские собрания. Часть родителей проголосует за начальника Управления образования. Она проходная.
– А врачи? – спросил Хамовский. – Начальник городской больницы может претендовать на место в Думе.
– Может, кто-нибудь из рабочих? – предложил Алик.
– Если разрекламирует себя, как защитника народа, – пояснил Хамовский. – Но потрудиться на этом поприще придется…
– Бесполезно, – не согласился Лизадков. – Имидж рабочего низок.
– Руководитель страховой медицинской кампании, Васильев? – спросил Хамовский.
– У него шансы хорошие, – согласился Квашняков.
– Если бы люди его знали, как я, то шансы у него были бы нулевые, – дополнил Лизадков.
– С другой стороны, кто на него по телевидению посмотрит, голосовать за него не будет, – переменил мнение Квашняков.
– На местных выборах средства массовой информации не делают и пяти процентов, – начал лекцию Хамовский. – Самое главное – дела житейские, разговоры кухонные. Важно, знают ли человека, известна ли его фамилия. А известность фамилии отчего зависит? Либо человек на высокой должности крутится, либо его знают по делам. Посмотрите на нынешний состав Думы. Основные параметры избранных: человек на виду у населения и с несильно подмоченной репутацией. Даже если у него репутация подмочена, о нем много говорят, спорят. У руководителя нефтяников достаточно большие шансы и у Сировой. У Сировой мощнейшая может быть команда.
– Она и по телевидению постоянно, – поддержал Квашняков. – Хорошо говорит.
– Так, а у медицины? – изменил направление разговора Хамовский. – Там большой механизм. Главного врача все знают.
– Кто сказал, что главный врач будет выдвигаться? – поинтересовался Лизадков.
– Пока не ясно… – согласился Хамовский и спросил у Алика. – Ты считаешь, что победишь?
– Не уверен, – ответил Алик, поняв, что весь разговор сводился к демонстрации силы. – В выборах я получу ответ на вопрос: нужны ли городу критические статьи. Надоело получать по шапке.
– Напиши про меня, – недобро предложил Хамовский. – В твоей предвыборной кампании много слабых мест. Я могу поднять и уронить любого. Не своими руками. Скажу подчиненным: раскручивайте эту ситуацию. Понимаешь? Я имею право анализировать будущий состав Думы. Мне же с ним работать. Участвовать в предвыборной агитации мне запрещено. Согласен. Но я могу агитировать не открыто, а используя, допустим, свое право обычного гражданина. Здесь ты входишь в борьбу. Давай так посмотрим. При нынешнем раскладе наиболее реальные кандидаты следующие: начальник управления образования, главный врач, руководитель от нефтяников и ты. Зря ты Сирову обидел, когда написал про Черномордина…
Сапа в течение всего разговора почти неподвижно сидел, внимательно слушал, излучая ум, и старался поменьше говорить, чтобы не выскочил пустой совет. Алик поглядывал на своего предвыборного советчика Сапу и размышлял о том, что личностные качества предполагаемых депутатов не обсуждались – мелькали должности.
***
Свобода от редакторской правки и внутридушевной цензуры опьянила Алика. За неделю до выборов вышла тысяча экземпляров газеты, называвшейся «Дробинка». Всю работу Алик выполнил на собственном компьютере и принтере. Он таскал кирпичики текстов и картинки, расставлял их так, как ему нравилось – настоящее творчество. Правда безденежная. Под финиш Алик зашел к Сапе, и тот вместе с Петровной просмотрел черновой вариант газеты и внес поправки. Вошла в газету и сказка.
СКАЗКА О МУРАВЕЙНИКЕ – 1
«Муравей от человека отличается только размером, трудолюбием и отсутствием амбиций»
Действующие лица:
Букашечка – обычный человек, замахнувшийся на место зажравшегося чиновника.
Матка – зажравшийся чиновник.
Муравейцы – жители города под названием Муравейник.
Другие – по мере надобности.
Здравствуй, дружок! Сегодня я предлагаю тебе продолжение сказки о Муравейнике, опубликованной накануне выборов мэра маленького нефтяного города. Сказка эта, как и раньше, страшная, конец ее также не определен.
После победы Букашечки над Маткой ликовало большинство муравейцев. Партизанская армия Букашечки заняла АД-мини (страцию), и каждый партизан получил придворную должность. Друзьям Матки на радостях отрубили головы. Казалось, если отрубить старые головы, то до новых не дойдет их образ мыслей.
Правил новый муравейский царь поначалу справедливо. Гнул, но не перегибал. Отдавал обещанное населению Муравейника. Старался: быстро перебирал лапками, шевелил извилинками. Сражался с федеральными и окружными налоговыми пиявками. Замахивался даже на клуб любителей нефти. Но атмосфера АД-мини взяла свое…
Прошло время, и вокруг заговорили: «Хорош наш (ваш) Букашечка, экономен, энергичен, прост… » Говорили день, говорили год… Зашевелились крылья на спине у Букашечки от таких слов. Научился он огонь пускать из ротика наподобие бывшей на его месте Матки. Если у кого-то из муравейцев крылышки без его разрешения прорезывались, пыхнет огнем Букашечка, и нет крылышек. Крылышки он сам приделывал. И только тем разрешал иметь крылышки, кто на своей спинке его в небо возносил.
Прочесал он Думное место. Для чего окрылил и опернатил своих приверженцев. В общем, заболел герой-муравеец меднотрубной болезнью, малость одраконел.
Обратился Букашечка к колдовской науке блудомыслия, чтобы выгодно пользовать свои прошлые общественные шептания. «Деньги Муравейника должны работать на муравейцев», – говаривал Букашечка, но плюнул на все стороны света, топнул лапками и прошептал заклинание вождя всех времен и народов в ближнем кругу муравейцев-холуев: «Муравейник – это Я, Я – это муравейник». Деньги Муравейника сразу стали его деньгами, и все труды муравейцев стали его трудами.
Ухмыльнулся Букашечка, осмотрелся: никто не противится. Думное место спит. И начал сон разума рождать чудовище. Заблудомыслил Букашечка дальше: если он собственные деньги тратит на Муравейник, то совершенно справедливо тратить их больше на себя, на увеличение своих крылышек и на приближенных муравейцев-холуев. Понял он, что рабочему муравью много не надо. Что в Муравейнике происходит? Какая разница! Главное, чтобы животики не урчали у дорогих маленьких муравьят.
Чтобы снискать всемуравейскую любовь, Букашечка сблизился с маленькими муравьятами. Стал среди них появляться на публике. Он-де не только пышет огнем и рационализирует, но и любвеобилен и добр. Правда, это мелкое чудо.
Главным стал самогонный аппарат мыслепользования. Задумал Букашечка кормить грамотных муравейцев печатными пряниками и блаженными эфирами. Многие проглотили, понюхали, посмотрели – и стал он родным. Правда, изредка раздавались чмокающие звуки раздавленных несогласных собратьев, но под пряники и эфиры казались эти звуки хлопками праздничных салютов. Оглядывались некоторые муравейцы на пропащего да думали о себе, о семье, говорили: «Сам виноват». И опять – роем по кругу.
Рабочие муравьи предназначены для вождения роем. Мыслепользование муравейский царь счел главной своей оплатой за исполнение чаяний подданных. «Хочешь жрать – подчиняйся!» – таков девиз. Эфиром муравейцам глазки промоет и ушки прочистит, газеткой повтирает, чтобы муравейцы лучше роились, меньше думали и бросали палочки в избирательные щелки за тех, кто в амуре с Букашечкой.
От великих достижений в области муравейцеиспользования Букашечка посчитал, что он светило-умнило собственного Муравейника, а может, и других. Он выпустил ряд книго-справок в подтверждение личного подлобного ума и для устрашения губернатора округа, посчитавшего, что царь-муравеец хочет занять его теплое место, а то и впрыгнет на спинку и унесется выше.
Но застряла в аппарате мыслепользования Дробинка. Не признавала она права Букашечки на словоискажение и словозапрещение. Хочет выстрелить муравейский царь в одну сторону, а Дробинка налету спрашивает у муравейцев, куда попасть. Иной раз самому охотнику и доставалось.
«Муравейцы должны знать правду, и не бяки они, чтобы их мыслепользовать, – говорила Дробинка. – Меднотрубная болезнь скрутила душу Букашечки, и задраконел он сильно, но все-таки в нем много хорошего. Если окружающие его трубы не освободятся от музыкальной однотонности, то болезнь может перейти в стадию Главоошаления. Наша задача – помочь Букашечке вернуться в прежний облик здорового муравейца. А одно из лечений Главоошалейства – небольшая Дробинка в Думное место».
***
– Для убеждения строителя коммунизма такой финал нужен, но он нереален. Вылечить дракона!!! Оттуда, с его кресла, надо упасть, слететь, вдрызг разбиться, чтобы понять! – такую рецензию дал сказке Сапа. – Был там, знаю. Ни хрена до него не дойдет.
РАЗДАЧА
«Каждый дарит то, на что способен»
Жители маленького нефтяного города видели разные формы продвижения товара. Угрюмые азербайджанцы, чьи лица выделялись на фоне снега, как угли, жаркая родина которых нищенствовала за тысячи километров от нефтегазоденежного Крайнего Севера, торговали сигаретами и семечками, расставленными на покосившихся деревянных ящиках из-под соленых огурцов. Торговали везде: на базарах, на оживленных тротуарах и в грязных сумрачных тамбурах магазинов. Энергичные, хорошо одетые молодые люди, держа у груди добротно изданные религиозные издания в левой руке и сумку – в правой, мыкались по квартирам, предлагая купить литературу во славу того, кто наверху. Крытые грузовые машины с кузовами, оборудованными самодельной печкой, полные мешков с подгнившей картошкой, подмороженной капустой, заветренным мясом, стояли возле подъездов, и крепкие крестьянско-бандитского вида мужики зазывали покупателей. Расклеенные на остановках полуоборванные объявления трепетали на ветру, как флажки на копьях средневековых рыцарей, и грозили сразить того, кто попадется, чтобы завладеть его деньгами. Распространители косметики и посуды, воспевая хвалу сетевому маркетингу и большим скидкам, продавали товар своим же сослуживцам. И, конечно, основной товарооборот маленького нефтяного города делали обычные магазины, киоски, базар. Но везде действовало одно генетически слившееся с человеческой натурой правило: безвыгодно – никто и ничего, включая и бесплатные избирательные листовки.
***
Исключения есть в каждом правиле, как известно. В свои тридцать с небольшим лет Алик так и не обрел типично взрослого мировоззрения, требовавшего от своего обладателя серьезных бытовых намерений и застывших взглядов на жизнь. Без этого опорой не станешь. Почему так произошло, у нас есть своя версия. Его испортила добропорядочная приключенческая литература, чтению которой он посвятил много увлекательнейших дней, вечеров и ночей на протяжении многих лет. Эта литература воспитала его и внушила желания и стремления, которых почти что нет в реальном мире, она обострила фантазию. Он любил быть на стороне справедливости, любил истину и правду, по мере возможности старался соответствовать этим понятиям и сильно переживал, когда оступался, а он оступался. Он мысленно корил себя, бичевал, забывал и вновь боролся с драконом и в своих глазах часто выглядел героем, а герой должен испытывать презрение к злату и должностям. И так было всегда. Нет, Алик от денег не отказывался, никогда не бедствовал, но деньги никогда не становились самоцелью. Его манил процесс, игра, борьба, что угодно, но не сами деньги и должности. Хотя многим казалось иначе. Когда Алик поделился своим мировоззрением с одним из хороших знакомых, Александром, тем самым, с которым он познакомился в бане Советского района, тот сказал: «Если твои слова – правда, ты больной». И Алик признавал это.
***
Продают часто, раздают редко. Под бесплатную раздачу можно попасть у родного почтового ящика, у уличных распространителей рекламы, на дегустации блюд в магазине, в заведениях социальной помощи и вечером в любом микрорайоне маленького нефтяного города, но последнее, опять таки, к делу не относится. В принципе нет большой проблемы в распространении бесплатного товара.
В выходной на входе в главный городской рынок как обычно толкался народ. Люди лезли в узкий дверной проем, через тамбур, заполненный азербайджанцами, кричавшими:
– Сигарэты! Сигарэты! Ходи ко мнэ!
– Картошка! Нэдорого!
– Яйца! Яйца!
Алик стоял чуть далее в желтой старой куртке, черной вязаной шапочке и предлагал:
– Берите газету! Хорошая! Бесплатная!
– О чем газета? – спрашивали его, узнавая.
– О жизни в городе. О том, что происходит, что мало кто знает.
Люди брали, шли дальше и шептались между собой:
– Душевнобольной. Куда психиатры смотрят?
На следующей неделе некоторые уже специально шли на базар, чтобы посмотреть на него, как на шимпанзе из зоопарка, посещавшего маленький нефтяной город регулярно по осенней трассе.
«Если вы надеетесь изменить мир, вас ждет разочарование. Чтобы заставить общество сделать хоть маленький шажок, вам надо толкать его в одном направлении в течение многих лет», – говорили теоретики журналистики. Алик забыл о предостережениях и сомнениях. Барана манят ворота – его влекли на противоборство конкретные враги: начальник налоговой полиции, мэр, защищавший полицию, редактор газеты, стремившийся угодить мэру… Правда, с каждым днем врагов становилось все больше, но Алика это нисколько не огорчало. Приближался рубеж – выборы. «Проиграю – уеду, – рассуждал Алик. – Выберут – не достанут». Что делать в депутатском кресле, Алик не задумывался. Он служил высокой цели, овладевшей им, как желудочное расстройство: тужился и выводил Семеныча и его гнилую структуру на публичный суд, считая, что депутатский мандат стал бы разумной платой…
Газет оставалось все меньше, и вскоре они закончились, но это была только часть. Остальные «Дробинки» Алик по совету Сапы распространил в утренней тьме среди рабочих, собиравшихся оживленными кучками под фонарями на автобусных остановках…
– Ты обязан раздать газету работягам, уезжающим на месторождения, – настойчиво объяснял Сапа. – И не важно: прочитают они ее или нет. Они увезут газету в цеха, вагончики и оставят ее на столах, в раздевалках надолго, на недели. К ней от нечего делать обратится и следующая смена и последующая. Ее белые листы почернеют от пропитанных нефтью рук, но каждая твоя газета обретет гораздо большее число читателей, чем при распространении по квартирам или на рынке. Каждый из твоих читателей станет и невольным почтальоном, и агитатором. Так делал нынешний мэр. Выгодный ход…
Очень ранним утром, когда промерзшие дымы котельной, похожей по расположению труб на революционный крейсер «Аврора», низко неслись над землей, Алик выскакивал из дома с прочным полиэтиленовым пакетом, полным газет. Он не горевал о прерванных видениях сна, его не смущал холодный воздух, пробиравшийся под одежду, словно ледяная вода. Он, энергично ступая, устремлялся к дому Марины, которую сам ее муж в силу дружеских чувств к Алику отпускал на помощь. Марина, соблазнительно одетая в темно-синие обтягивающие джинсы и короткую осеннюю куртку, выскакивала из подъезда и после тесных объятий и сердечных возбуждающих поцелуев устремлялась вместе с Аликом на остановки. Любовь подпитывает лучше пищи. Марина сновала меж мужиков в телогрейках, как горьковский буревестник меж пингвинов. Бесплатная газета разбиралась быстро.
– Вы лучше бы кофе с бутербродами бесплатно разносили, – рекомендовали иногда.
– В открытый рот только мухи влетают, – отвечал Алик.
– Женись, и будет бесплатно, – отвечала Марина…
***
На следующий день после выхода «Дробинки» чиновники скорбно выходили из кабинета Хамовского похоронной чередой под необыкновенно мудреные и звонкие ругательства, обретавшие множество внимательных слушателей при открытии дверей. Каждый из чиновников получал зарплаты достаточные, для того чтобы молча выслушать оскорбления и подавить чувство собственного достоинства. Выходили они пригнувшись, побелев и опустив углы губ так низко, как правительства приспускают государственные флаги при национальной трагедии.
Что ж, Хамовский сильно огорчился из-за выхода «Дробинки» и, чтобы не возросло артериальное давление, не случился спазм сердечной мышцы или еще какое болезнетворное явление, он по привычке избавлялся от одолевавших его горьких эмоций криком. Крик в одиночестве пользы не приносил. Он направлял негодование порционно в уши подчиненных, как перловую кашу в тарелки заключенных, и крутосваренных речей хватило на раздачу с раннего утра до позднего вечера. Хамовского возмутила не столько сказка о Муравейнике и статья о налоговой полиции с объяснением, почему она не вышла в муниципальной газете, сколько сообщение его служб, что в результате этой акции рейтинг Алика взлетел значительно выше рейтинга его ближайшего соперника.
«А я его к себе приближал, доверял, – раздумывал Хамовский. – Кончать его надо было, как всех из команды Бабия. Сколько собаке лапу не жми, она все равно по-человечески не заговорит. Приблизил его к себе и что? Любой галстук может стать петлей…»
***
В редакции газеты маленького нефтяного города, в светлое и внешне вполне пристойное помещение которой вкрадчиво и незримо проникали угнетающие душу, давящие сердце кладбищенские флюиды, привнесенные новым редактором, было организовано весьма серьезное политическое собрание. Квашняков пригласил всех – без права отлынивания. Народ скреб взглядами и без того затертый линолеум. Ночь чернила окно. Под светом трех плафонов лицо-маска Квашнякова эмоционально пульсировала. А как не пульсировать, если Квашняков был один из тех чиновников, которые скорбно выходили из кабинета Хамовского под его звучную брань?
– Он нас обозвал кучкой нечистот! Один раз – в газетенке! Бездарь! Она, в отличие от нашего издания, не годится даже на туалетную бумагу! Другой раз – в агитационных словоблудиях. В какой школе учился?! Во всех текстах ни одной благодарности мэру! – Квашняков нервно выплевывал слова в лица подчиненным. – Как он смог?! Никакой журналистской этики! Мерзавец. Мы должны ответить! Выльем на него наше ведро помоев. Я хочу знать все плохое о нем. Не потерплю сочувствующих! Сгною молчащих! Говорите. Прошу предоставить нечистоты.
– Хуже Алика человека не знаю, – затараторила завистливая татарка, Гузеля. – Я приехала в этот нефтяной город раньше него. Гораздо! Стояла в очереди на квартиру и до сих пор не имею, а он только приехал – получил! По блату. Какой же праведник? Обычный хапуга. Хапуга!!! И бросился критиковать. Чего недоставало?
– Действительно – поганец, – продолжила ответственный секретарь Посульская. – Работал на городскую администрацию. Деньги получал. Поливать грязью кормильцев! – Идиот…
– Хуже его стихов ничего не читала, – заговорила вполне милая поэтесса. – Не в рифму, безграмотен. Только на критике и взлетел. Смотрите, что плетет.
Поэтесса раскраснелась от гнева и прочитала наизусть:
Звезды горят на черном
И потому заметны.
Если подружишься с вороном,
Будут черты твои светлы.
Каждая мышь – союзник,
Если захочешь славы.
В стае мышей жить грустно,
Но вечное будет «Браво!»
…Это же явно на тему, что лучше быть розой среди навоза, чем навозом среди роз, – продолжила поэтесса. – Кто же прообраз света и величия, розы, так сказать? Несложно догадаться, что Алик. Кто же тогда мы?…
– Я ему помогал мебель в квартиру заносить, – огорченно признался крепкий мужик, глядя на которого, никогда бы и не подумал, что такого можно сломить. – Знал бы, что он будет вас, Александр Васильевич, критиковать, никогда бы не согласился, или уронил что-нибудь, чтобы в хлам....
– Давайте активнее, – рявкнул Квашняков. – Кто против Алика, без награды не останется. Кто за – нещадно отсею…
– Он, мерзавец, и с Мерзлой ругался. Он со всеми ругается. Склочник…
– Нашел теплое местечко меж женщин…
Свои обещания Квашняков выполнил: бесквартирная татарка получила квартиру, а остальные – должности и деньги. Промолчали Петровна и Аида.
***
Прихожанами в городской администрации овладевают разные чувства. Чиновник, переступая ее порог, из простого незаметного человека превращается в фигуру. У него распрямляется спина, расправляются плечи, походка становится, как у петуха, степенной и пружинистой, а взгляд приобретает жесткость, высокомерие и какие-то пронзительные свойства, замеченные у людей, пораженных золотой лихорадкой. Ничейный проситель, наоборот, тускнеет и колышется, словно обдуваемое ветрами пламя свечи, от одной двери к другой, потом надолго замирает у нужного ему кабинета и настойчиво вглядывается в лица выходящих чиновников, ища понимания и заботы, с той же настойчивостью и тем же результатом, какие возникают при общении дикого аборигена с каменным идолом. Близкие знакомые чиновников в администрации ощущают воодушевление почти поэтическое в предвкушении теплого приема, не обремененного очередями и самоунизительным осторожным приближением к начальничьему креслу. Отношения между самими чиновниками смахивают на порядок жизни в курятнике: клюй ближнего, гадь на нижнего.
Пока Квашняков обрабатывал коллектив редакции газеты маленького нефтяного города, в городской администрации за прокуренными коридорами, за мраморными ступенями, за рассохшимися дверьми из благородного дерева или добротной подделки под оное проходило другое собрание.
– Ялб буду, – говорил и постукивал грудь Лизадков, сидя напротив мэра. – Без Сапы он бы эту газетку не выпустил. Сапа – сука.
– Ялб будешь, если не кончишь контру! – пригрозил Хамовский, сузив амбразуры озлобленных щелочек-глазок.
– Алик – слепой исполнитель! Уверен! – вещал Лизадков. – Им Сапа крутит. Я просмотрел все тексты в предвыборной газетенке Алика, и фразы-то, фразы! Это не Алика фразы. Сапины! Он, если не писал, то редактировал. Работает в администрации. Вы ему деньги платите, а он – против вас! Алик многого знать не может. Не вхож. А на какие факты он ссылается!? Откуда документы? Сапина работа.
– Ох, Сапа, ох, Сапа! Тихим сапой значит… – прорычал мэр. – Заявление на увольнение приносил. Надо было подписать и – ногой под зад.
– Надо было пнуть, надо было, – угодливо согласился Лизадков. – Змею жалеть нельзя, ужалит, как сможет. Давить и только давить. Городок маленький. У меня родственник живет рядом, наблюдает. Алик к Сапе часто захаживает. Может, любовь мнет с Петровной. Поговаривают.
– Рога Сапе наставляет, говоришь? Так может, Петровна? Редактором ее не назначили – она двух своих кобелей на меня натравила, – заключил Хамовский. – Расклад такой возможен, но у Алика баб достаточно в редакции, хороших баб, лично знаю. Из-за бабы не будет, пожалуй, а вот до денег он жадный. Зачем ему бесплатно такую работу проворачивать? Представь себе, сколько сил и времени он затратил на выпуск газеты, ее распространение. Зачем ему на меня нападать? Из-за статьи? Смешно! А вот у Сапы есть причины, у Петровны, а Алику кто-то приплачивает или посулили…
– Но Сапа – Сапой, а на выборы идет Алик, – изменил тему Лизадков. – Его нельзя пропускать в Думу. Надо облить его нашей фирменной грязью.

– Из телевизионной пушки в последний час предвыборной агитации, – развернул идею Хамовский. – Выступит кто-то от редакции, с кем Алик в дружеских отношениях. Пусть публично отречется и плюнет. Морально подкосит. Пусть народ узнает, что его свои же не любят. Вторым выступлением обвиним в продажности. Народ его возненавидит. И дело в урнах…
– Вот в этом, Семен Петрович, наша российская беда: сами явления и предметы называем, а потом маемся. Урны – они ж для мусора только, – поспешил домыслить Лизадков.
– Ты что с оппозицией снюхался? – крикнул Хамовский. – Я ж сам через них прошел. В дворники хочешь?…
– Не надо так, – попросил раскрасневшийся Лизадков. – Я ж Алика имел…
– По делу говори. Мыслить философски тебе по должности не положено, – прервал Хамовский.
– Во втором выступлении надо рассказать, что Алик подрабатывал в городской администрации, с которой сейчас борется. Деньги брал, хвалил, сейчас ругает – значит, другие платят, – изложил концепцию Лизадков. – Договора с ним хранятся в бухгалтерии. Хороший удар.
– Причем суммы, полученные им, надо указать какими они были до деноминации, пока тысячи не превратились в рубли! Тогда он получал миллионы! Вот народ ужаснется! – подсказал мэр. – Защитник народа сядет в выгребную яму по самые ноздри…
***
Сложно предугадать, под какую раздачу попадешь, не зря на фронте в укрытиях сидят. А разве жизнь не война за существование? Да, есть смельчаки, которых пули некоторое время не берут, говорят, что есть заговоренные, но большинству приходится таиться, чтобы прожить хорошо и дольше. Нет, речь не о том, чтобы в мирное время бегать по тротуарам, склонив спину. Речь идет о том, что надо следить за словами и действиями, чтобы не навредить себе же, но это все сказано не для героя нашего повествования – Алика…
На кухне у Сапы шумел телевизор на тот случай, если прослушивают. В чашках по-прежнему парил чай. Наполненная сухариками с изюмом вазочка манила вкусить. Сапа немного располневший за последние месяцы, то прохаживался вдоль стола, то замирал в дверном проеме, упершись руками в косяк. Алик сидел в любимом Сапином кресле и слушал.
– …может, тебе лучше и проиграть, – завершил речь Сапа.
– Почему? – спросил Алик, и по его лицу было видно, что он сильно огорчен таким выводом.
– Это довыборы. Если ты пройдешь в Думу, то всего на год. Через год будет переизбираться весь состав Думы. Второй раз народ за тебя не проголосует.
– Почему? – повторил вопрос Алик.
– Ты – журналист. Реальной властью не обладаешь. Не генерал. Тебя выберут на эмоциях. Что ты можешь?
– Могу издавать газету, которая всем своим содержанием работала бы на людей, показывала бы, как их труд и мозги используют чиновники и нефтяная компания, сделала бы публичными все финансовые нарушения, держала бы власть в напряжении и заставляла работать честно…
– И будешь ее бесплатно распространять? Издавать за свой счет?
– Пока да, но есть идея создать народную газету. Принцип простой: городская газета, финансируемая городской администрацией, работает на городскую администрацию: хвалит ее действия, рекламирует. Газета, финансируемая нефтяной компанией, хвалит нефтяную компанию. Коммерческая газета размещает приносящие деньги информации. О нуждах простых людях никто не думает, каждый делает свои деньги и тиражи. Чтобы газета работала на людей, надо, чтобы сами люди ее финансировали. Выпущу несколько номеров «Дробинки», зарегистрирую ее, а потом помещу обращение к народу с просьбой о финансировании, открою счет в банке, куда надо будет перечислять деньги…
– Ты рассчитываешь, что люди откликнутся? Глупость! Я в народ не верю. Борются между собой несколько революционеров и несколько чиновников. Остальные с интересом наблюдают либо вообще не замечают происходящего.
– Я надеюсь, что люди откликнутся, иначе все лишено смысла. Кстати, таким образом я могу стать редактором первой независимой газеты и буду при должности, которая, как вы говорите, так необходима…
– Видишь ли, есть этап захвата власти, а есть этап ее удержания. Это разные вещи. Газета необходима для захвата власти, чтобы вдохновить избирателя. Здесь большинство избирателей – работяги. Вся их интересная жизнь проходит в курилке и за бутылкой. Сидят мужики, им надо о чем-то поговорить, поспорить, а тут один из них что-то прочитал, чего другие не знают. Вот оно. Продолжать выпускать газету нужно, если ты на другие выборы замахиваешься, те, что через год. Если бы ты поборолся за кресло мэра…
Сапа обозначил свою цель заранее специально, чтобы Алик успел хорошенько подумать над тем, в какую конфронтацию он входит, да собственно уже вошел.
«Отступать ему некуда, – размышлял Сапа. – Выпады сделаны, удары нанесены. Для выигрыша на выборах в городскую Думу он мог не трогать Хамовского. Алик, наоборот, основной удар нанес по мэру. Хамовский теперь воспринимает Алика как личную опасность и гадает, кто стоит у Алика за спиной, что он такой смелый. Наверняка заподозрит, что нефтяная компания хочет сменить власть в городе. Начнет бороться, а там, глядишь, на пустом месте и возникнет фигура, я стану востребован, приобрету покровительство и новую должность».
В раздумье Сапа не слушал, что говорил ему Алик, но как только почувствовал возникшую тишину, заговорил:
– На выборах идет игра двух команд. Одна ищет возможности подоить бюджет. Другая – хочет продолжать доить бюджет, вкус которого уже почувствован. Между ними безликая масса народа, жаждущего с апостольских времен халявного хлеба, зрелищ и волшебных исцелений. Безликая масса неспособных объединиться рабов, считающих, что жизнь должна стать лучше только оттого, что они раз в несколько лет на полчаса оторвутся от воскресного телевизора, бутылки и прочих уважительных дел и сходят на избирательные участки.
– Мне иной раз больно, когда думаю, что город полон смелых мужчин, способных силой защитить себя и свою семью и совершенно бессильных защитить свою честь, попранную властью, – согласился Алик.
– Не говори чушь, – воспротивился Сапа. – Каждый достоин своей судьбы. Говорят, что главное в человеке – Душа. Но если посмотреть, как большинство живет и чем интересуется, то кажется: исчезни проблемы с добычей денег, пищи, одежды, то это большинство благополучно сошло бы с ума или умерло. Им ничего, кроме личного, не надо, а ты – «больно думать». Ради кого? Их надо использовать, а не сочувствовать им.
– С одной стороны, я вас понимаю, – сказал Алик. – Социалистическая революция выпустила российскую благородную кровь, часть слили в могилы, часть расплескали по миру. Сталинские репрессии еще раз вычистили нацию от совести и активности. Тех, кто остался из честных и сильных, выбила война: они же первыми шли в атаку. А сегодня ищем честности, справедливости среди оставшейся некондиции – там, где честности и справедливости быть не может. Где тот бычок-производитель, который осеменит нацию высокими чувствами? И мы с вами из этой же плеяды оставшихся…

– В этом ты прав, – согласился Сапа. – Я недавно понял ленинское высказывание: учиться, учиться и еще раз учиться. Человек есть продукт образования и воспитания. После социалистической революции духовность утеряна, убита, и этот пробел можно закрыть только дополнительным образованием. Хотя образование никогда не заменит воспитания.
– Я иной раз думаю, как жить дальше в нашей стране, – продолжил Алик. – Жить по юридическим нормам можно только в том обществе, где действуют этические и нравственные нормы, подкрепленные единением людей при необходимости защиты этих духовных устоев. В противном случае закон становится игрушкой в руках сильных мира сего, дышло которого можно повернуть в любую сторону.
– Что-то мы запозднились, – сказал Сапа, глянув на кухонные часы, вмонтированные в навесной шкафчик. – Давай-ка домой. Хватит о политике, пора сны смотреть. Мне тоже завтра рано вставать.
ВЕЩИЙ СОН
«Безверие, как и вера, не спасают как от невзгод, так и от смерти»
…Маленький рыжевато-серый любвеобильный кобелек Кузя пришел домой подранный. Слипшаяся, обслюнявленная окровавленная шерсть торчала клочками. Он обессилено упал возле входной двери на тряпку, о которую вытирали ноги, и заскулил. Заскулила и душа Алика, переместившаяся на время сна в тело неудачливого кобелька. Кузя стал жертвой любви: не на ту собачку посягнул…
Драли его Василек, дворняга страхового агента, Зубак, бульдожек сослуживца Алика, множество мелких учительских шавок во главе с пудельком Хмарой, взбалмошный развратный доберман редактора газеты Мойся, снюхавшийся с бультерьером начальника налоговой полиции по кличке Шварц. Возглавляла кампанию овчарка мэра города – Горгона. Она распределяла роли и очередность так, чтобы каждой челюсти достался кусок нетронутого Кузиного тельца.
Безобразие стало возможным, потому что холеных домашних собак начальственные хозяева выпускали на прогулки без намордника, а народ хоть анонимно шептался, не одобрял, но в открытую предпочитал не вмешиваться, выказывать равнодушие, спокойствие и даже одобрение, потому что собака есть собака: хозяин моргнет – она возьмет да укусит. А куда жаловаться, коли хозяин-барин? Таков был общественный этикет маленького нефтяного города. Вот хорошо откормленные домашние собаки и стали сплачиваться в организованные стаи, составившие собачью власть в маленьком нефтяном городе.
Первым покусал Кузю дворняга Василек. Он забрался на самый крупный сугроб маленького нефтяного города, являвшийся местом паломничества всех хозяйских собак, отчего удивлял народ яркими цветными разводами, и пробрехал речь, содержание которой подсказала Горгона. Все пролаянное на человеческий язык можно было перевести примерно следующим образом:
– Кузе при старом вожаке давали костей и мяса, сколь нам никогда, и мне думается: он задумал сместить нашу уважаемую овчарку с поста вожака. Скандально метит ее территорию, а недавно слишком озорно облаял. Почему он такой храбрый? Открою секрет: за ним стоят большие стаи. Он опасен, приведет в город другую правящую свору. Посмотрите на его привычки: ест из разных рук.
Затем на сугроб забрался бульдожек Зубак:
– Хоть его хозяин работает вместе с моим, но коли все станут его драть, то и я не откажусь. Считаю, что стайные интересы важнее личных, и так считает каждая собака в нашей редакции… Гав, гав…
Кузя стоял в отдалении и слушал. Каждый из тех, кто брехал, подходил к нему и кусал. Как бывает во сне, на ногах жертвы словно пудовые гири повисли, и Кузя не мог убежать, хоть и старался изо всех сил.
Хмара, обладательница медалей, наслушалась от своей хозяйки литературных речей и, поднявшись на цветной сугроб, протявкала замысловато:
– Когда-то не так уж давно, в начале этого века, Владимир Маяковский экспериментировал со своим гардеробом, например, надевал морковку вместо галстука… Зачем? Элементарно – чтобы привлечь к себе внимание. Законы рынка… Вонзающаяся в мозг простенькая реклама. Кузя, стремясь выделиться, на потребу рынка стал грызть морковь и предлагать остальным. Но эта собака – не Маяковский. Мы героически позволяли ему запускать в себя морковки не первой свежести, наслаждаясь осознанием жертвенности собственного положения, но, как это ни прискорбно, я каждый день прихожу в класс к детям, обучаемым моей хозяйкой, и все чаще замечаю, что безысходность в их глазах становится глубже. Не от таких ли собак, грызущих морковь? Каким станет их будущее? Будущее? Их?…Вау-у-у! Вау-у-у!…
– А его можно кусать? Он не ответит? – спросила Хмара после серии сердечных скулений.
– Можно, – ответил Мойся.
Хмара вцепилась в Кузю жертвенно, как фанатик, и крепко, как клещ. Никто не знал про ее морковный комплекс.
«Если еще раз нагадишь, – говорила ей в свое время хозяйка, – будешь жрать одни овощи. Морковью закормлю!»
Поэтому Хмара кусала Кузю и повизгивала от наслаждения. Тем временем на сугроб взобралась полноценная свора учительских шавок в составе доброго десятка отборнейших сук и тройки кобелей и хором протявкала еще одну речь:
– Считаем своим долгом выразить возмущение поведением Кузи. Драка, которую он затеял, – это крайне плохое дело. Цивилизованные отношения в городе диктуют противоположные правила игры. Если мы заранее отрицаем возможность честных взаимоотношений, то подписываем приговор своей гражданственности. Недопустимые, с точки зрения этики, выпады Кузи против Горгоны и Шварца – яркая иллюстрация барбоса, не стремящегося к диалогу, а спекулирующего на чувстве недовольства властью. Надежда на внутреннюю интеллигентность, на нравственную чистоплотность, на доверие той власти, которую сами выбрали, помешала пойти по пути активного сопротивления. Мы против драк…
Закончив речь, свора учительских шавок с воинственным лаем накинулась на Кузю. Они старательно рвали приговоренного. Приговоренный повизгивал. Его валяли по снегу, катали, как футбольный мяч, оставляя на снегу кровавые следы.
Учительские шавки оказались самыми злыми и организованными. Отчего? Кузя понять не смог, но ощутил всем телом.
«Может, их мало и плохо кормили, – размышлял он, увертываясь от укусов. – Может, щенячья преданность вожаку в них развита более, чем в других».
Из разговоров своего хозяина Кузя знал, что если директор школы или того выше косо посмотрит на какого-нибудь учителя, даже заслуженного, то с ним перестанут здороваться и даже сожрут. Хотя как «сожрут», Кузя не понимал, поскольку не видел случая, чтобы люди ели людей, но собственно это не входило в круг его интересов. Он просто по-собачьи удивился, как таким особям позволяют обучать человеческих щенков.
Народ смотрел из окон на собачью драку с интересом, с каким зеваки смотрят, например, на автомобильную аварию, в которую попали дорогие автомобили. Мимо пробегали бездомные собаки, и до Кузи долетал их одобрительный лай: «Коль столь заслуженные собаки дерут Кузю, значит, есть за что». Домашние собаки на выгуле глубокомысленно лаяли другое: «Повезло Кузе, после этого его рейтинг возрастет многократно»…
***
Алик проснулся от боли… Одолеваемый дурными предчувствиями, он встал с постели и внезапно всем сердцем ощутил, что безобидная игра в правду закончилась. На душе стало неспокойно и одиноко. Он, как всегда в такие моменты, снял телефонную трубку и позвонил в другой город своему другу, Александру, которому когда-то, в далекое время их частых встреч, он посвятил следующие слова:
Снег блестел, пушистый, свежий,
Под сияньем фонарей.
Вечер был спокойный, нежный
Средь зимы и средь друзей.
Тихо звякали бокалы…
Говорили по душам.
Было сказано немало…
И погода – хороша!
Шли по сказочной аллее,
Шли, как раньше, без тревог.
Что же может быть милее,
Если часто – одинок?
Гроздья белые на ветках
Чудных елей и берез…
Снова ставились отметки
Как для дел, так и для грез.
Разговоры, шутки, тосты,
Неподвижность стай лесных…
Волшебство вершили звезды
И предчувствие весны.
Невозможное свиданье
Предоставила судьба:
Вновь совпали в мирозданье
Ночь, единство и зима.
Духовно расти и полноценно жить можно, только делясь тяжелой ношей, хлебом и столом, идеями и душевными переживаниями… Невзрачна бескрыла жизнь человека, которому не с кем искренне поговорить. Правда, многие слушатели в исповедях ищут только слабости и возможности. Алик понимал это и откровенничал только с друзьями – да и то только с теми, кто никак не мог навредить или использовать полученную информацию.
Когда Алик рассказал Александру о событиях последних месяцев, тот чрезвычайно удивился и спросил:
– Что с тобой случилось? Тебя же никогда не интересовала политика. Зачем тебе головные боли? Я понимаю, если бы платили, а ради какой-то правды. Ты что газет не читаешь? Таких людей, как твой Семеныч, полно, как черноты ночью. Пишут о них, и что толку? Журналисты себе проблемы находят, а разоблачаемые ими чиновники остаются при должностях и деньгах. Бросай ерундой заниматься. Лучше стихи пиши.
– Какая разница, что писать? Статьи или стихи? Важна позиция и душа. Нельзя быть нравственным иногда, полагая, что двоемыслие спасает истинную натуру. Сие заблуждение губит многих. Единожды покривив душой, мы дозволяем злу владеть нами все чаще и чаще. И обратной дороги практически нет. Это как с девственностью или мальчишеством. Если эти качества потеряны, то можно только изображать девушку или мальчика, но стать ими никто не в состоянии. Зло имеет такие же свойства. Надо бороться с ним, противодействовать ему, не отдаваться ему или сам станешь злом.
– Борись – только не навернись. Посмотри вокруг. Это общество только избавилось от тоталитаризма, от единой коммунистической партии. Как бандиты создают свою шайку, привязывая новых членов кровью или другими преступными действиями, так и коммунистическая партия привязывала к себе клятвами верности. Вполне естественно, что человек, отступивший от клятвы, становится предателем, а человек, не дававший клятву, – противником. Противников можно истреблять и не допускать. А отступление от клятв не виделось возможным. Но идеология пала. И все разом отказались от слов верности. Возможно, отсюда и беспринципность, и продажность героев нашего времени. Люди предавшие – предатели – оказались у руля власти. Ты же читал Библию. Предательство – тяжелейший грех. Эта земля проклята. Что здесь искать? Заботься о себе, о семье, друзьях, наконец…
– Мне тоже иногда кажется, что верна древняя истина: в мире царит зло. «А как же добро?» – спросишь ты. Добро тоже есть. И оно всегда используется злом, чтобы стать еще изощреннее. Краткий миг демократии подходит к концу.На смену идет засилье выборных чиновников с практически безграничной властью в пределах вверенных им уездов. Если провести аналогию между социализмом и болезнью, то после выздоровления общества неизменен откат его назад, в засилье феодальных отношений. Поэтому происходящее видится закономерным. Но я хочу попытаться…
– Смотри сам, но знай, что в мире есть единственное, ради чего можно бороться – свобода. Ее дают только деньги, а не борьба с казнокрадами. Надо стремиться больше зарабатывать, а для этого надо ладить с чиновниками, а не ругаться с ними. На их стороне сила и деньги. Будешь дружить – получишь деньги, будешь ругаться – узнаешь их силу, – спокойно по-дружески оценил Александр.
ДРАКА
«Каждый не успокоившийся пострадавший может пострадать еще больше»
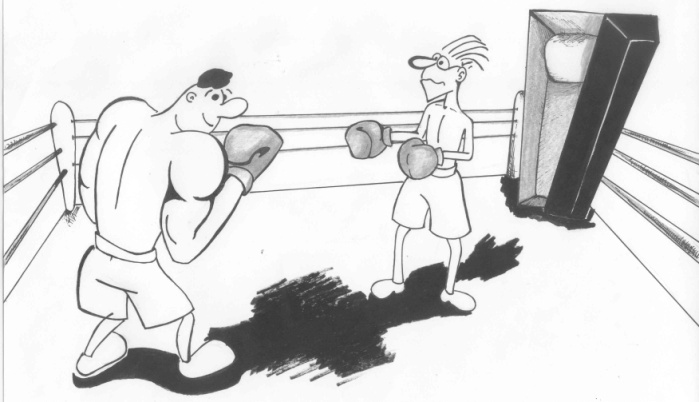
…Ночью накануне выборов в городскую Думу, прямо в помещении налоговой полиции маленького нефтяного городка, капитан налоговой полиции Братовняк, находившийся на ночном дежурстве, любовно и старательно горшкообразными кулаками и черными форменными ботинками с очень твердыми носками обрабатывал младшего по званию сотрудника налоговой полиции Еливанова. Еливанов весело похрюкивал и повизгивал от мощных ударов своего коллеги, бывшего на двенадцать сантиметров выше ростом, имевшего более длинные руки, весившего тяжелее на два пуда. Сам Братовняк при каждом боевом развороте тяжело со свистом выдыхал, как ниппель, пропускающий воздух в автомобильную камеру.
Да и что в боксе без правил мог противопоставить бывший мент-интеллигент, эксперт-криминалист Еливанов крепкому мужику, специализировавшемуся на физической защите налоговой полиции? Еливанов пропускал удары повсюду: в голову и корпус, в печень и почки, в ухо и нос. Спасибо, что Братовняк не бил между ног, иначе жена Еливанова, находившаяся в то время на шестом месяце беременности, вряд ли смогла бы снова ощутить парадоксальное счастье материнства… А началось все с пустяка: с желания моралью укротить материю.
***
– Дохапались барыги! – Еливанов бросил сию гневную фразу Братовняку, как только тот зашел в его рабочий кабинет. – Чувствовал я: воруют в налоговой полиции. Все воруют – от начальника до самого последнего подчиненного…
В руке Еливанова, зажатый, как птица, трепыхался лист газеты «Дробинка». Сам Еливанов сидел за столом. На столе лежала растерзанная вяленая рыба, рядом стояли две бутылки пива: одна пустая, другая наполовину полная.
– …Вот газета! Про вас написано! – продолжил Еливанов. – Стыдоба на весь город. Теперь по улице не краснея не пройдешь. Порядочный налоговый полицейский теперь только по темноте домой воротится и только прикрывши лицо и выпивши, чтобы совесть не мучила.
– Ты всякую хрень больше читай, – ответил Братовняк. – И вообще выметайся, твой рабочий день давно закончился. Пьешь тут…
– Где хочу, там и пью. Законом запрещено пьянство на работе. А я уже отдыхаю. На часы посмотри, девять, а я – до шести, – ответил Еливанов. – Темноты безлюдной жду. Не командуй. Ты в рабочее время старший по званию, а сейчас я тебе скажу то, чего журналист не написал. Знаю твои делишки…
– Какие делишки? Что городишь? – устрашающе забасил и повысил голос Братовняк.
– Ты еще в первый год образования налоговой полиции взятки брал, – ответил Еливанов.
– Ка-а-аки-и-е взя-а-а-тки-и-и? – еще более угрожающе спросил Братовняк, растягивая слова.
– Забыл мясоторговку Пастушенко, вымогатель?! – вскрикнул Еливанов. – Юрист Кошмарин рассказал, как ты ее вызывал, допрашивал, угрожал. Деньги требовал! Она в прокуратуру обратилась, а Коптилкин с Семенычем прикрыли тебя, суку. Все вы тут как коллективный портрет на банкноте, Франклин с Лениным отдыхают.
– Это кто сука? – прорычал Братовняк, тяжело приближаясь. – Ты, мальчик, забыл, с кем разговариваешь?! Я только шепну в нужное ушко, и ты будешь искать работу.
– Думаешь, если баба твоя главный бухгалтер у Семеныча, тебе все можно?! – спросил Еливанов и сам же ответил. – Хрен! Не ты меня сюда ставил, не тебе снимать. Я, в отличие от тебя, не имею взысканий и торговые киоски не грабил.
– Заткнись, пока в рожу не получил, – пригрозил Братовняк. – Работаешь без году неделя.
– Работаю немного, знаю достаточно, – ответил Еливанов. – Знаю, что ты прикрываешь магазин «Еврейский», которым владеет твоя теща. Ни одной проверки, ни одного штрафа, а там одна паленая водка. Налоговый полицейский!? Ты лишь о своем кармане думаешь. И еще мне указываешь?!..
– Ах ты, гад! – рявкнул Братовняк. – На-ка получи.
Полное ослепление правого глаза застигло Еливанова врасплох, он почувствовал странную легкость в теле, но глупостью не страдал. Еще в полете Еливанов понял, что противник употребил кулак, потому, упав, быстро вскочил на ноги, схватил опрокинувшийся стул и метнул его в Братовняка. Несмотря на свои внушительные габариты Братовняк был проворен, он наклонился, пропустил над собой вращающийся в полете предмет мебели и пошел вокруг письменного стола, быстро сокращая расстояние между собой Еливановым.
– Ты, блин, счас стулья побросаешь! Сам ножками в полете закрутишь! Я тебе покажу крышу! Снесу ее на хрен! – рычал Братовняк и приближался.
Еливанов нервно оглядывался вокруг в поисках предмета, которым можно было бы защититься от надвигавшейся огромной туши, и взгляд его упал на пивные бутылки и складной нож, коим он резал рыбу. В отчаянном броске он кинулся к столу, но не успел. Мощная сила, сравнимая со стихией разбушевавшегося тайфуна, приложилась в тонкие ребра Еливановского бочка и отбросила бывшего эксперта-криминалиста к стене.
– Боишься честной схватки!? – торжествующе завопил Братовняк. – Бутылкой хотел или ножом. Не получится. У меня силушки на десяток таких, как ты, суслик. Счас узнаешь…
Еливанов почувствовал, что ему в маленькую ложбинку между грудиной и напряженным в ожидании удара животом ударилось нечто, сравнимое с бампером лихой автомашины. От такого столкновения силы мгновенно покинули его, словно кто высосал, руки упали вниз, ноги подкосились. Еливанов, еще падая, закрыл глаза и потерял сознание…
***
Небольшой курортный магазинчик, площадью с недоразвитую кухню или немного переразвитый балкон, был полон покупателей. Народ смотрел и покупал добротную и недорогую обувь. Туда же заглянули двое больших начальников, оставив у входа своего шофера, каковым вдруг оказался Еливанов. Начальники смотрели ботинки, и один из них неудачно развернулся, зацепил плечом пару, висевшую на крючках, и та стала падать. Это увидел Еливанов. Из самых искренних подобострастных чувств он кинулся в дверь за той самой обувной парой, падавшей на пол, чтобы показать начальству неумеренный пыл к работе и преданность. «Только бы успеть до того, как туфля упадет, – мыслил Еливанов в полете. – Только бы опередить наклон моего шефа, и тогда он меня оценит». Одолеваемый такими мыслями и чувствами, он добавил ходу и очень энергично прыгнул в толпу. Так энергично, что крепко застрял в ней, как последний огурец в банке. Все, кто был в магазинчике, застряли тоже и не могли даже малость повернуться, ни вдохнуть, ни выдохнуть, но не это Еливанова волновало. Он раздумывал, как бы ему не попало от его начальников за излишнюю ретивость.
«Надо вызвать тягач, дернуть этого камикадзе, – предложил кто-то. – Иначе не разойдемся»…
***
Видения разом прекратились.
«Иной раз хрен знает, что привидится!» – хотел вскрикнуть Еливанов, открыв глаза, но почувствовал, что ему по-прежнему не хватает дыхания. Это Братовняк пинал его ботинком в живот.
– А, проняло! – воскликнул Братовняк, заметив приметы оживления на поверженном Еливанове. – Я, когда в футбол играл, бил хорошо. Под ударами футбольные мячи лопались. Мне боксерской груши на тренировку не хватает, кулаком пробиваю, и начинка сыплется. Из тебя тоже дерьмо выйдет. Ха-ха-ха…
Еливанов внезапно уразумел, что если не соберется с силами и не убежит, то его телесная покрышка может окончательно расползтись и превратиться в лохмотья. Он привстал, да так удачно, что очередной пинок Братовняка угодил ему прямо под ягодицы, с таким ускорением Еливанов легко вылетел из кабинета, стуча туфлями по ступеням, слетел вниз по лестнице – и на улицу, и домой. На большое счастье, его отступление прикрыл дежурный прапорщик…
Утром следующего дня Еливанов уже скрипел на пружинной койке стационара с переломом ребра, сотрясением мозга и хорошим кровоподтеком под глазом. Братовняк же опять очутился в кабинете начальника налоговой полиции – Ворованя.
– От тебя одни хлопоты в последнее время! – сокрушался Семеныч.
– Не сдержался, Анатолий Семенович, извините. Еливанов языком осквернил самое святое, что у нас есть, – заработки. Попрекал магазином, взятками… А как жить на нищенскую зарплату? – оправдывался Братовняк. – Завистник и моральный урод.
– Ты, конечно, прав. Надо внимательнее к новым кадрам, а то берем невесть кого, – согласился Семеныч. – Налоговая полиция должна работать по ленинским принципам. Наши друзья – бандиты и проститутки. Пережиток, конечно, но от профессиональных ментов неприятности.
– Он и на вас замахивался. Говорил, что вы вор, хвалил клеветническую статью про вас, – продолжил Братовняк.
– Через край хватил Еливанов, через край, – согласился Семеныч. – Такую гниду уничтожать надо: рвать с корнем такой картофель в гуще нашего сорняка. Ох, оговорился, кажись. Конечно, сорняк он в нашем картофеле. Но давай о тебе подумаем. Конечно, Еливанов на тебя заявление напишет, не сомневайся. Надо опередить. Ты тоже притворись пострадавшим. Скажи, допустим, что зашел в кабинет Еливанова, а он там, собака, водку пьет. Ты ему замечание, а он на тебя с ножом, ударил кулаком в лицо, благо кулак у него невелик и следов почти не осталось. Ты, спасая честь офицера налоговой полиции, решил не ввязываться в драку, оттолкнул Еливанова. Тот спьяну неудачно упал и немного поранился, а ты выбежал из кабинета.
– Складно у вас получается, Анатолий Семенович, – восхитился Братовняк. – Но Еливанов, подлец, в больницу лег, побои засвидетельствовал, а у меня ничего.
– Не проблема. Фингальчик подвесим, – ответил Семеныч…
Братовняк тоже обратился в больницу и успел подать заявление в милицию об избиении раньше Еливанова. Таким образом, пострадавший стал обвиняемым. Все дивились тому, что воробей ворону заклевал, но бумажная фактура дела получалась именно такой. Еливанов обиделся и задумал месть.
ДЕПУТАТ
«Власть, если не собираешься ее использовать для себя, горька»
Тем временем Алик стал депутатом. Его противникам не помогло, что начальник медицинской страховой компании, друг мэра, и сослуживец Алика из редакции буквально за два часа до окончания избирательной компании с экранов телевизоров убеждали горожан, что за Аликом стоят грозные силы, желающие захватить власть в городе, что Алик – продажная тварь и куплен олигархами. Пришло время принимать поздравления. Муниципальная газета, на площадях которой Алик пописывал, выступила с заявлением, посвященным итогам выборов.

«Момент истины
Уважаемые горожане! Выборы состоялись. Всем нам еще предстоит период осмысления результатов нашего волеизъявления. Восприняв поток агитационных призывов, сопровождавшихся сопутствующими материалами, безосновательно порочащими людей, благодаря которым в городе делается многое для нашего с вами благополучия, мы не выступили с контрагитацией. Надежда на внутреннюю интеллигентность, на нравственную чистоплотность, на доверие той власти, которую сами выбрали, помешала пойти по пути активного сопротивления. Драка – явление крайнее и недопустимое…»
Заметка к удивлению Алика продолжалась текстом, похожим на волеизъявление своры учительских шавок из его недавнего сна. Под заметкой значилось восемнадцать подписей известных в городе работников Управления образования: директоров школ, заведующих детскими садами, чиновников самого Управления. Алик отбросил газету и только собрался прилечь, поразмыслить, но раздался телефонный звонок.
– Здравствуйте, беспокоит ваш избиратель, нефтедобытчик. Я и мои товарищи голосовали за вас, надеялись, а про вас обидное пишут. Почему? Мы от такого текста имеем одни разочарования. Учителя врать не будут. Опять нас обманули. Как вам не совестно?
Что ответить неизвестному, Алик не знал: понимал, что не поверит…
***
– Многие люди воспринимают напечатанное в бюджетной газете как непреложную истину, – говаривал как-то Сапа. – Они считают, что раз написано, то так и есть. В советские годы интеллигенция читала между строк. Сейчас это умение почти утеряно. Люди слишком верят печатному слову и мало осмысливают прочитанное.
– Почему есть ответственность за допущение в печати ошибок, высказываний, показывающих ситуацию или человека в дурном свете, а за безмерное славословие и обман населения за счет приукрашивания ситуации ответственности нет? – ответил тогда вопросом Алик, недовольный тем, что из газеты маленького нефтяного городка Квашняков убрал все критические материалы. – Хотя неизвестно, что вредит больше – злословие или славословие…
***
Так наш герой получил то, о чем мечтал, – критику власти на страницах газеты маленького нефтяного города под руководством Квашнякова, но не был ею доволен, поскольку морально шерстили только его и попадали точно в верующие мозги. Телефонный звонок полновесно это доказывал.
«Никакие устные объяснения не склонят невидимого оппонента на мою сторону. Подумает: раз оправдываюсь – виноват, – понимал Алик. – Только печатное слово против печатного. Но ситуация в редакции со времен Мерзлой изменилась. Квашняков специально для меня создал редакционную коллегию, запрещающую все ответы на подобные выступления в газете маленького нефтяного города и все статьи, имеющие политический оттенок. Обращения в суд и прокуратуру ни к чему не привели, поскольку всем работникам федеральных структур Хамовский доплачивает из городского бюджета. То, что такие доплаты запрещены Конституцией, никого не смущает. Маленький нефтяной городок далеко от Москвы.
Глухой северный асфальтовый тупичок. Природная тоска по родным местам свила гнезда в комфорте домашних углов. Шашлыки, встречи со знакомыми, «чтиво», телевизор и работа, работа, работа… Скука. Хороших погод – раз, два да обчелся. Люди сюда приехали за деньгами, а в газете написано, что статьи про казнокрада Семеныча, про украденные деньги, на которые люди надеялись, думая, что их жизнь станет лучше, – выдумка журналиста. Причем написано педагогами, людьми, воспитывающими детей. Что может быть святее слова учителя?! Человеку на том конце телефонного провода не объяснишь, что эти люди просто зарабатывают деньги, боятся потерять рабочее место и благоволение начальства, что они такие же, как все, как он сам, что они не интересовались, на чем основаны статьи против Семеныча, мэра и начальника Управления образования, что они ни о чем не спрашивали Алика, их не интересовала документальная правда. Этих людей интересовало только то, что обидели почитаемых ими начальников, и они стремились или отомстить любой ценой, или выслужиться, а может, и вообще не читали текста заявления, которое кто-то для них подготовил, и подписали его вслепую, чтобы не выделяться из общей массы, или за деньги. Так часто бывает. Противник ответил грамотно. Когда нет документов, напирай на эмоции»…
– Мне нечего стыдиться, я сказал правду. Делайте с ней, что хотите, и слушайте, кого хотите, – ответил Алик телефонному незнакомцу и положил трубку.
***
Пригласил Алика на встречу и Хамовский.
– Ты, конечно, на выборах перегнул палку, – сказал он. – Ты бы и так выиграл. Но считай – дело в прошлом. Теперь надо нормально работать. Может, тебе для начала подлечиться, отдохнуть. Давай. Любой санаторий.
«Насчет того, что я в любом случае выиграл бы – это ты загнул, – мигом смекнул Алик. – Если бы я вел спокойную избирательную компанию, ты бы протолкнул в Думу своих кандидатов. И здесь, кроме меня, прошли главный врач и начальник Управления образования. Благо остальные проиграли. Но, если ты хочешь заставить меня сомневаться, значит, твои предложения о дружбе не чисты. Надо быть осторожнее».
– Нет, спасибо, – отказался Алик.
– Смотри сам, конечно, – согласился Хамовский. – Я от всей души предлагаю. Скоро в столицу округа собираюсь. Хочешь со мной? Посмотришь: как, что.
– Это неожиданное предложение. Я подумаю, – более осторожно еще раз отказался Алик.
– Ты депутат и должен налаживать со мной контакты, чтобы что-то сделать для своих избирателей. А как ты их будешь налаживать, если меня обидел? – угрожающе вспомнил прошлое Хамовский.
– Мне не обязательно их налаживать. Я обещал избирателям правду. В своей газете. Это я смогу сделать без вас, – ответил угрозой на угрозу Алик.
– И как долго? – грозно спросил Хамовский. – Мы будем во всех наших СМИ поливать тебя грязью. Подписываться будут и отдельные люди, и группы избирателей. Ты через полгода сойдешь с ума. А если нет, то мы слух пустим, что ты с головой не дружишь. Есть другой вариант. Мы начнем тебя хвалить. И ты свой рейтинг, заработанный на критике, растеряешь через короткое время. Третий вариант: мы перестанем тебя замечать и уберем тебя из средств массовой информации. Через месяц-другой тебя забудут. А если ты будешь вмешиваться в наши дела, то мы специально дров наломаем в ущерб городу, горожанам, а все на тебя свалим. И конец придет тебе. Мы столкнем тебя со всеми твоими сторонниками, и ты останешься в одиночестве. А можем воздействовать на родственников. Сделать твою жизнь невыносимой возможностей много… Но я против зла, я – за доброту и любовь. Все вопросы можно решить полюбовно и по-доброму. У меня к тебе есть предложение: можешь пойти редактором на радио. Если откажешься, то всерьез начну с тобой воевать.
Хамовский не знал, что Алику известен приказ о сокращении радио как самостоятельного подразделения и соединении его с телевидением в единую структуру.
«Хитрый жук, – думал Алик. – Хочет одним махом меня убрать. Я перехожу на должность фактически уже сокращенного редактора радио и лишаюсь работы. Молодец Хамовский. Умница».
– Я больше хотел бы стать редактором газеты, – ответил Алик.
– Нет. Нынешний редактор газеты меня вполне устраивает, – ответил Хамовский. – Предлагаю тебе редактора радио. Станешь руководителем. Это солиднее для депутата, чем быть простым журналистом. Давай соглашайся.
– Хорошо. Я подумаю, – вежливо отказался Алик…
Этим же вечером к нему позвонил некто с кавказским акцентом:
– Ты что про администрацию плохо пышэшь? Жит надоэло?…
С этого момента Алик стал ходить по подъезду быстрее, подъездные двери отрывать резче, внимательнее оглядывать темные тамбуры и незнакомцев…
Поздравила Алика с выборами и Матушка.
ОБЕЩАЛКИНА
«Добрые слова всегда весомее дел»
Матушка была одной из самых колоритных фигур нефтяного городка. Ее популярности мог позавидовать любой политик маленького нефтяного городка – и завидовали.
– Она берет тем, что играет роль доброй мамы для всех, такой простой, на первый взгляд, недалекой бабы, – говаривал Сапа Алику на одном из политических уроков. – Что от мамы требуется? Утешить, сказать доброе слово, обнадежить. От нее не обязательны конкретные действия. Их ждут от отца. От мужиков-политиков. Поэтому им с Матушкой сложно конкурировать на любых выборах. Она выступит на собрании с яркой обличительной речью, и народ готов ей ноги целовать, хотя дальше слов она не пойдет. А вот если мужик такое же скажет, так будь добр…
Грузная, мужеподобная Матушка, имевшая правильные приятные черты лица и проницательные глаза, взгляд которых мог быть и насмешливым, и внимательным, и осуждающим в зависимости от обстановки, как никто другой подходила под роль защитницы обиженных. Она рано поняла, что порой достаточно доброго слова и участия, чтобы заручиться любовью. Она врачевала в поликлинике маленького нефтяного города, интересовалась людьми, их проблемами, и люди тянулись к ней, как мотыльки к свету фонарей, думая, что это солнце, а солнце на Крайнем Севере, особенно зимой, – большая редкость. Но разве разум сердцу повелитель?
Критикуя местную нефтяную компанию «Сибирьнефтегаз», качавшую практически даром нефть из земель маленького нефтяного города для нужд отдаленных хозяев и вице-президентов, Матушка на публичном собрании, ехидно глядя в глаза председателю профкома или самому Генералу, могла ядовито сказать:
– Что и вашим, и нашим кое-чем машем?
Этих ее ядовитых словечек боялось начальство всех уровней, а аудитория наполнялась аплодисментами. Но самым большим достижением Матушки стала организация первой и единственной забастовки в маленьком нефтяном городе. Ее причиной стала мизерная заработная плата бюджетников маленького нефтяного города. Нефтяные деньги проходили мимо них. Врачи, медсестры, санитарки вышли на центральную улицу, которую быстроногие проходили из конца в конец за полчаса, и построились в колонну. Каждое отделение подготовило транспарант, один из них гласил: «Полсапога – наша зарплата!». И вот так, соблюдая четкий порядок, медработники вместе с недовольными пациентами двинулись к зданию городской администрации. Матушку выдвинули на ведение переговоров.
О чем толковала Матушка с правящей группировкой города и нефтяной компании, сказать сложно, но довольны остались все. Народ получил прибавку к зарплате, дающие не обеднели, а сама Матушка получила от Главы маленького нефтяного города Бабия автомобиль со знатной скидкой в цене, а также долгосрочную беспроцентную ссуду для оплаты оставшейся стоимости автомобиля. На таких же условиях получали автомобили начальники, близкие к начальству северяне, но чтобы народный лидер, специализировавшийся на критике руководства… Тут не иначе наложила отпечаток крепкая и на первый взгляд никак не объяснимая дружба Матушки с Харевой. Да, да. Матушка крепко дружила с этой поистине стервозной женщиной, относительно которой после известных нам событий ходили устойчивые слухи, что она головою больна.
***

– Бабки надо делать, Матя, бабки, а не безоглядно за народ бороться, – убеждала Матушку Харева, пребывая у нее в гостях. – Кроме денег, в мире нет ничего хорошего.
Неподалеку лежала седоватая овчарка и сыто поглядывала на безвкусно одетых женщин и устаревшую потертую мебель. Харева нервно почесывалась и поправляла слуховой аппарат, торчавший из уха как застаревшая безобразно крупная серная пробка. Матушка пребывала в спокойном расположении духа, улыбалась и смотрела на Хареву, как добрые хозяева смотрят на домашнюю крысу, играющую на полу с сухариками. На столе лежала строганина из муксуна, манившая светлыми разрезами деликатесного рыбьего мяса. Рядом белела кучка соли. Женщины обмакивали в соль сырую, еще не оттаявшую после морозилки рыбу, аппетитно кушали и вели неторопливую беседу.
– Кому денег не хочется?! – согласилась Матушка. – И я бы не отказалась, да никто не дает.
– Твоя пальма – защитница народа. Ты с нее кокосы стряхивай чаще, – убеждала Харева. – Народ тебя любит, народ тебе верит. Закрепляй этот стул, и власть рано или поздно…
– Знаю, Харя. Жару любому могу поддать. Меня такие люди слушают и уважают, что диву даюсь: и начальники нашей нефтяной компании, сам Генерал, чиновники московские, губернатор…, – похвалялась Матушка, а это она любила и умела. – Я только вопрос задаю, они бегают по моим поручениям, как тараканы за крошками хлеба, а мэр нашего города под стол от меня прячется.
– Уважаю тебя, можешь на меня положиться, но хочу тебя кое о чем попросить, – сказала Харева. – Достала меня милиция, избиратели и подчиненные. Смотри.
Харева протянула лист бумаги, на котором значилось следующее:
«Руководствуясь фактами терроризации, на основании жалоб сотрудников детского сада и в целях защиты коллектива, администрация и профсоюзный коллектив детского сада «Муксун», руководимого Харевой, обращаются к Вам с просьбой изолировать от общества Хареву, как социально опасную личность, и провести надлежащее принудительное обследование ее психического состояния. Просьба результаты обследования предоставить в наш коллектив за подписью главного врача для оглашения в коллективе, а также огласить текст письма в печати и по телевидению».
– Чем это ты их проняла, Харя? – пораженно спросила Матушка, не любившая, когда кто-либо удостаивался нападок власти более нее.
– Ты же знаешь, правду везде зажимают. Свободу давят. Сколько наших по всей России в желтый дом пересажали. Теперь до меня добрались, – ответила Харева. – Приписали мне какое-то избиение с порчей, унижение милиционера, нецензурную брань при детях в моем детском саду, предпринимательскую картошку в бассейне. Мозги, говорят, у меня не в порядке. Я тут против фенольных утеплителей выступала, все каблуки в Москве сбила по чиновникам хаживая, в лицо начальнику жилищно-коммунального хозяйства высказала все, что о нем думаю, а меня на психиатрическое обследование. Козлы! Заразы! Их бы бензопилой на кусочки! На хитрую жопу – хрен с винтом!
– Не ругайся, ты ж не на работе и не при детях, – попросила Матушка. – Выручать тебя надо. Мы, борцы за справедливость народную, должны держаться зад к заду, чтобы со спины никто. Будет тебе справка, а между нами, ты точно ни того…
Матушка покрутила блестящим от рыбьего жира пальцем у виска.
– Матя, ты же знаешь, что нормальней меня разве что бутылка «Столичной», – ответила Харева. – Не без проблем, конечно. Голоса меня мучают по ночам, тайны выведывают, но это все делишки комитета государственной безопасности. Датчик вживили. Ну я его когда-нибудь выковыряю…
Харева широко открыла рот, схватила нож, лежавший на столе, и направила его к зубам, темневшим старыми пломбами.
– Харя, положи! – вскрикнула Матушка.
– Ладно, бог с ним, с датчиком. Начни ковырять, так они в отместку еще прочнее приборчик вживят, а у меня и так проблем достаточно, – согласилась Харева. – Со справкой поможешь, Матя?…
Выписка из протокола заседания врачебно-консультативной комиссии появилась у Харевой через месяц: «На учете у психиатра и нарколога не состоит. Психическими заболеваниями не страдает». Подписались под выпиской психиатр Дрынова, иной раз шутившая с пациентами так, что те выходили и опасливо оглядывались, и Матушка.
***
Матушка позвонила Алику вечером, тон у нее был радостно-покровительственный:
– Поздравляю, поздравляю. Хорошо вы главного врача уели, что он удобно устроился: руководит всей поликлиникой маленького нефтяного города и личной аптечной сетью. Больной город ему выгоден.
– Мне тоже досталось на орехи, – пожаловался Алик.
– Уж как меня власть гоняла, так никого, – ревностно отобрала оппозиционное первенство Матушка. – Чего я только не наслушалась за свою депутатскую жизнь. На испуг брали. В машину сверток подбрасывали, вроде как бомбу.
– Скажу честно, я сильно сомневался, что меня выберут, а тут первое место. И главный врач позади и начальник Управления образования. Необычно, – сказал Алик. – Мы с детства заучили, что не место красит человека, а человек место. Но когда дело доходит до выбора, то почему-то большинство избирателей голосует за высокую должность, нежели за человека, известного своим трудом, своими взглядами. Я ожидал, что, как обычно, в депутаты пробьется начальник, то есть – главный врач.
– Меня благодарите, – застолбила белое историческое пятно Матушка. – Я всех своих знакомых агитировала за вас. У избирательного участка стояла и всех за вас. Спрашивают меня: «Вы за наших начальников?». Я говорю: «Нет. Ни в коем случае. Голосуйте только за Алика».
– Такие, как они, во власть идут не для того, чтобы работать на народ, а преследуя личные цели. Кому-то необходим статус юридической неприкосновенности, кому-то надо защитить себя от увольнения, кто-то идет, чтобы иметь возможность заглянуть в казну, – зафилософствовал Алик. – Во всех случаях избирателю надо иметь в виду, что затраты, вложенные кандидатом в выборы, должны чем-то компенсироваться: деньгами, славой, карьерным ростом, удовлетворением личных амбиций… Людям всегда надо оценивать не обещания, а личный интерес кандидата, насколько он может быть им полезен.
– Люди, ох, люди! Как плохо живут! Их даже сложно в чем-то винить, – произнесла Матушка. – Но давайте лучше встретимся и поговорим, а то телефоны сейчас ненадежны. Все прослушивается…
– Да бог с вами. Кому нужны наши разговоры? – удивился Алик. – Сапа помешался на слежке и прослушке. Вы, Матушка, туда же.
– Понимаю ваше недоверие, понимаю, – ответила Матушка. – Поработайте с мое. Кругом датчики. Даже в зубах. Что телефоны!? Мне один компетентный человек об этом сказал: Харева, заведующая детским садом. Вы ее знаете. Вам надо к нам присоединяться. Хороший у нас блок получится. Вы бы мне помогли статьями в избирательной кампании.
– Конечно, – без энтузиазма ответил Алик. – Мне нравится ваша народная позиция.
– Вот и давайте встретимся, поговорим, а по телефону хватит, – завершила разговор Матушка. – Запомните: полностью открытая политика или позиция не оставляет живительной тени, где может скрыться удача…
БЕЗОТВЕТЧИНА
«Стучать можно и по камню, и по стене, и по голове, но это не значит, что вам откроют»

Пока чиновники маленького нефтяного города тратили свое рабочее время на разработку операций по уничтожению беспокойного журналиста, работники предприятий, имущество которых арестовала налоговая полиция, безрезультатно искали у тех же чиновников правозащитную помощь и сочиняли письма прокурору.
Они собирались кучками в сумрачном из-за отсутствия средств на электроэнергию кабинете начальника, ставили в центр стола емкую бутыль водки, на которую, при любом безденежье, как ни странно это, деньги всегда находились, располагали вокруг нее принесенные из дома сало, хлеб, соленые и маринованные грибочки, которыми богаты сосновые леса вокруг маленького нефтяного города, и начинали. Происходило это примерно так.
«Уважаемый Сергей Борисович! Просим вас…» – выводила первую фразу на бумаге ручка начальника.
– Постойте, перед «просим» поставьте «убедительно», – просил заместитель, еще не потерявший прежней упитанности, но в глазах которого поселилась всем заметная растерянность и неуверенность.
– Зачем? – озлобленно спрашивал начальник, огорчавшийся еще и потому, что придется израсходовать лишний лист бумаги.
– «Убедительно просим» убедительнее выглядит, как мне кажется, – объяснял заместитель.
– Какая, блин, разница? – спрашивал начальник.
– Владимирыч, поставь «убедительно», действительно настойчивее просьба получается, – говорили окружающие.
«Уважаемый Сергей Борисович! Убедительно просим вас приостановить изъятие…» – выводила ручка начальника на новом листе бумаги.
– Ну что, по первой? За хорошее убеждающее начинание! – предлагал кто-то.
Пили, не чокаясь, и так быстро, что человек, отвернувшийся на мгновенье, подумал бы, что и не наливали.
– Постой, а вдруг он не может «приостановить», – говорил заместитель, в глазах которого вдруг появлялась блеска оживления. – Давай помягче: «оказать содействие в приостановке»…
Бутылка пустела – бумага пестрела. Осторожными шажками, как путешествие по ненадежному льду, сочинялось вполне тривиальное формальное письмо:
«Уважаемый Сергей Борисович! Убедительно просим вас оказать содействие в приостановке изъятия основных средств предприятия. В случае изъятия основных средств, участвующих в производстве, у предприятия не будет возможности производить работы по заключаемым договорам. Предприятие не сможет выплачивать заработную плату и самостоятельно рассчитываться с бюджетом. Мы не отказываемся рассчитываться с бюджетом, но то, как пополняет бюджет налоговая полиция, выглядит чистейшим произволом».
С большим трудом сочиненные письма, политые водкой и огуречным рассолом домашнего приготовления, удивительно похожим на самые обычные слезы, прокурор получал и, почти не читая, подшивал в папки. Эти папки стояли на стеллажах, как невостребованные, искусно написанные книги на полках магазинов. Сердце прокурора давно не трогали ни обычные, ни «убедительные» просьбы, он не собирался ни «приостанавливать», ни «оказывать содействие», он работал в строгом соответствии со своим правосознанием, потому после получения таких бумаг Коптилкин звонил Семенычу и они весело переговаривались относительно докучливых разоренных людей, до которых им не было ровным счетом никакого дела.
***
Образовавшееся в маленьком нефтяном городе «Общество защиты прав потребителей», в которое входили два юриста, чьи фамилии начинались на букву «С», тоже писали письма и пытались бороться с системой власти. Именно пытались, поскольку реальная борьба с властью заканчивается по народному поверью фатально. Их адресат находился повыше, чем прокурор Коптилкин, – в генеральной прокуратуре Российской Федерации. В письмах содержались жалобы на сотрудников налоговой полиции примерно такого рода: «… они покровительствуют магазинам и торговым павильонам, поскольку в них работают, как правило, родственники конфликтующих либо лица, приносящие материальную выгоду покровителям. На почве этого происходят «разборки» и внутри коллектива». Но, несмотря на то что письма юристов «С» были сочинены куда более талантливо, чем письма разоренных предпринимателей, те и другие ждал один результат. Генеральной прокуратуре, как и прокурору Коптилкину, до налоговой полиции маленького нефтяного городка тоже не было никакого дела. В общем, Семеныч работал бы спокойно, если бы не журналист, всего один человек из многотысячного маленького нефтяного города. А, может, статистика выглядела бы куда хуже, если бы нефтяной город был крупнее – один к ста тысячам или один к двумстам тысячам… Кто знает?
ПРОВЕРКА
«Иногда настоящую оценку ставит не проверяющий, а проверяемый»
Помятый кулаками и ботинками Братовняка, упрямый, мстительный и живучий, словно шкодливый кот, сотрудник налоговой полиции Еливанов вышел из больницы примерно через месяц, после того как попал туда, и сразу был вызван в кабинет начальника.
– Слушай, Еливанов, я не хочу, чтобы эта история имела скверное продолжение, – начал Семеныч. – Надоел раздрай в моем учреждении. Отзывай заявление в милицию. Давай все уладим мирно. Что тебе надо? Чтобы Братовняк извинился?
– Анатолий Семенович, извинения не нужны. Отплатить жажду. Мерзавец избил меня сильно. Следы до сих пор имеются, – ответил Еливанов и снял темные очки.
– Да-а-а, – восхищенно оценил Семеныч. – Хорошо-о-о. Но ты и сам виноват. Собираешь сплетни о товарищах, читаешь в местных газетах самые скверные статьи, а там есть и о любви. Вот смотри:
Любовь – вершина озаренья,
Безумство и самообман,
И слепота, и восхваленье,
Прощенье нанесенных ран.
Хрупко и нежно ощущенье
Ее нежданной теплоты.
Любовь – подарок провиденья,
Чтобы спасти от суеты.
Любовь реальна, но ранима,
Любовь бессмертна, но вполне
Убита может быть, и мимо
Пройдешь и не заметишь, нет.
– И вы считаете, это хороший стиль? – спросил Еливанов.
– Мне до стиля дела нет. Главное – сердце баюкают. И ты лучше деревенские стихи читай, чем нервотрепные расследования, цена которым грош, – рекомендовал Семеныч.
– Анатолий Семенович, я в ваши дела не лезу, но этот урод, Братовняк, меня за живое задел. Больно и по всему телу. А ведь я, Анатолий Семенович, всегда за вас, даже пребывая в беспамятстве, ботинки поймал, которые вы с полочки в магазине уронили, а он меня в это время под дых, под дых. Теперь не до любви. У меня теперь с ним личные счеты, – говорил Еливанов и сам себя приводил в неистовство, так что руки его тряслись все более и более. – Давайте договоримся так: я забираю заявление, но вы сейчас же подписываете постановление о проведении обследования торгового павильона «Еврейский», контролируемого живоглотом Братовняком.
– Понимаешь, Еливанов, Братовняк мне очень дорог. Вместе начинали. У нас общие интересы, – ответил Семеныч. – Буду очень благодарен, если ты успокоишься. Глядишь, премию подкину или очередное звание…
– Я не против денег, но так бить нельзя. Скажу по-мужски, не для вноса в чужие уши, лично для вас: хочется любить, но не можется. Жена выговаривает, врачи руками разводят, а сами посмеиваются. Прошу: отдайте мне «Еврейский», иначе пойду в «Дробинку», – ответил Еливанов, бодро развернулся и зашагал к выходу.
– Постой! – крикнул Семеныч. – Хрен с тобой. Моих мужиков портить нельзя. Составляй постановление, подпишу…
С постановлением в руках старший лейтенант налоговой полиции Еливанов устремился в «Еврейский». В результате его фанатично активной и старательной деятельности выявилось отсутствие журнала учета расходов и доходов, товарно-транспортных накладных, кассовой книги, изъято двадцать три бутылки татарской водки разных сортов, продававшейся без документов. По итогам проверки сам заместитель начальника налоговой полиции маленького нефтяного городка, Тыренко, подписал постановление о наложении на владелицу «Еврейского», тещу Братовняка, штрафа в семнадцать тысяч рублей, что составляло по тем временам примерно две средние зарплаты работника маленького нефтяного города. Но умеренные денежные сатисфакции пострадавшего старшего лейтенанта не удовлетворили, поскольку испорченная личная жизнь оценивалась им куда дороже.
Суть любого крупного успеха одиночки в привлечении к улаживанию своих забот других людей. Поздним февральским вечером два юриста на букву «С», тайные знакомцы Еливанова, зашли в магазин «Еврейский», держа наготове удостоверения членов общественной организации и народных дружинников. К их профессиональной радости, на витрине, никого не стесняясь, маня красочными этикетками, стояли просроченные сметаны, йогурты, сушеные китайские супы…
– Будем проводить контрольную закупку, – громко объявил один из юристов на букву «С», хотя в торговом зале никого, кроме юркой продавщицы, не наблюдалось.
Испуганные глаза продавщицы забегали по сиявшим нахальным задором лицам юристов, один из которых, провозгласивший начало мероприятия, беспокойно шарил в кармане.
– У тебя деньги есть на контрольную закупку? – спросил он товарища по юридическому цеху.
Губы продавщицы стали растягиваться во вполне различимую улыбку.
– Есть, но не много, – ответил второй юрист на букву «С», не желавший тратить на общественные нужды личные сбережения. – Поищи в своих карманах. Сегодня твоя очередь.
– У меня осталось только на сигареты, – ответил первый юрист на букву «С», для виду покопавшись в кармане брючины. – Да и какая очередь? Нет у нас очереди.
Губы, глаза, брови, самые мелкие черточки лица продавщицы сложились в насмешливое пренебрежительное выражение, какое можно встретить у богатых людей, оказавшихся среди бедноты.
– Сигареты потом купишь. Я в прошлый раз за селедку рассчитывался. Забыл?
– Не селедку – кильку. Мелочный…
У каждого из юристов деньги при себе были, но оба страдали жадностью. Пока они спорили, продавщица позвонила хозяйке…
– Что самое дешевое? – нашелся один из юристов на букву «С» и опять обратил взгляд на продавщицу.
– Да вот хоть черный молотый перец, – ответила продавщица.
– Дайте пачечку, самую маленькую, – попросил юрист на букву «С», протянул копейки. – Сами пишите объяснительную записку…
Коллеги по «Обществу защиты прав потребителей» занялись актом по просроченным продуктам, продавщица, напряженно вспоминая написание букв, слов и расположение знаков препинания, составляла текст, начинавшийся со строки: «Хозяйка заставляет, куда деться?». В этот момент скрипнула входная дверь, и в «Еврейский» вместе с морозными клубами заиндевевшего воздуха Крайнего Севера, характерного для разгула зимы, грозно вошли супруги Братовняки.
– Что эта шантрапа делает в моем магазине? – с вызовом произнесла супруга Братовняк.
– Мы из общества защиты потребителей… – начал было один из юристов.
– Прекращай писать! – крикнула супруга Братовняк продавщице и порвала недописанную бумагу на мелкие клочки. – Что нашли?
– Сметану да супы.
– Убирай их с прилавка и впредь никогда не показывай всяким проверяющим, – приказала супруга Братовняк.
– Вы бы шли по домам баиньки, – предложил юристам супруг Братовняк, заслонив телом большую часть витрины.
– А какое отношение вы имеете к «Еврейскому»? – хором спросили юристы.
– Хозяева мы. Наш магазин, – ответил Братовняк. – Можете хачиков трясти своими интеллигентными пальчиками. Сюда соваться нечего. Пальчики поломаются, а носики в плоские пятачки превратятся, как у свинок.
Тут в магазин вошла теща Братовняка, официальная хозяйка «Еврейского».
– Да что вы с ними разговариваете?! Выбрасывайте их отсель! Эх, навались! – крикнулаона…
Юристов на букву «С» вытолкнули из магазина, как фарш из мясорубки. Они смотрели с морозной заснеженной улицы на сияющий магазин, откуда через приоткрытую дверь супруг Братовняк показывал им большие кукиши, а теща помахивала засохшей палкой копченой колбасы и устрашающе постукивала ею о косяк… Ветер обиды и унижения всколыхнул волны правозащитного гнева. Юристы ушли, как уходит от берега вода перед обрушением на него цунами, и очень скоро вернулись, идя двумя темными крылами по бокам участкового. Не перестраиваясь, клином, они снова вошли в магазин, но, едва были замечены возбужденными хозяевами «Еврейского» и подневольной продавщицей, как стенка сошлась с клином.
– Выталкивая представителей общественности и милиции, своими действиями вы совершаете правонарушение, предусмотренное статьей…! – кричал участковый, беспомощно скользя ботинками по линолеуму по направлению к выходу.
– Заткнись, дурило, – оборвал супруг Братовняк, действовавший как бульдозер. – Я сам налоговый полицейский и знаю, что делаю.
– Посмотрите на документы! – кричали юристы, размахивая красными книжечками.
– Не показывай карты, когда играешь. Без взяток останешься. Мы офицеры налоговой полиции, – поддержала мужа супруга, плечом выдавливая правый фланг проверяющих. – Знаем, что делаем. Ваша шваль нашим козырем кроется.
– Дави их, дави, – кричала теща с левого фланга.
– Меня не увольняйте, я тута! – напоминала продавщица, бегая вокруг.
– Прошу подмогу! Не можем справиться! – закричал участковый в рацию.
– Какая подмога?! Что ты языком вытрясаешь? – спросил Братовняк, поняв, что надо менять тактику. – Кто тебя не пускает? Иди, смотри, но не привлекай общественность.
– Настаиваю на представителях! – уперся участковый.
– Хрен с тобой. Бери, но одного. Второй пусть на улице подождет, – сказал Братовняк, прикинув в уме, что двух свидетелей противнику недостаточно.
Один юрист на букву «С» вышел на улицу, где скакал, выжимая из тела тепло, в то время как внутри магазина развертывалась новая схватка.
– У них китайский суп просрочен, – шептал на ухо участковому оставшийся юрист.
– Дайте-ка тот супчик, что на витрине лежит…
– Какой супчик? – спросила теща, демонстративно разрывая ценник от супчика на мелкие клочки. – Он не продается. Да и нет никакого супчика.
Теща убрала упаковку с витрины и улыбнулась:
– Это наша продавщица себе на ужин принесла.
– Там целый ящик…
– Она кушать любит…

– А сметана?
– Где видите? Просроченного нет, – жестко сказала теща.
– За обман по статье… – опять не договорил участковый.
– Тебе статьи в рот запихать, как кляп, чтобы ты заткнулся? – вмешался Братовняк. – По-человечески же объяснили.
– У нас есть доказательство! – пригрозил юрист на букву «С». – Перец!
– Ну-ка верни перец, падла! – вскричала теща.
– Хреночки, куплен, – ответил юрист.
– Давай перец, деньги вернем, – сказал Братовняк и наступил всей своей тушей на носок ботинка юриста. – Давай, а то узнаешь всю тяжесть закона!
Юрист расправил плечи, выкатил бугор груди колесом и собрался ввязаться в бой, как «Еврейский» заполнили звуки тещиного голоса:
– Все, гоните их! Не к чему докопаться! Пусть со всей ментовкой приезжают! Ничегошеньки не найдут!…
Юриста и участкового выпроводили из магазина. В двери предусмотрительно щелкнул замок, предупреждая о тщетности дальнейших попыток войти. Тройка правозащитников пошла восвояси, обсуждая происшедшее.
– Ментов не уважают! Куда мир сливается! – возмущался участковый, в недавнем прошлом сантехник.
– Неслыханно! Теща вконец оборзела под прикрытием дочери и зятя, – обозначил факт один из юристов.
– Они не ведают, что творят! – громко, на всю округу предположил второй юрист.
Второй юрист на букву «С» был не прав. Братовняки доподлинно ведали, что их не накажут. Так и вышло, хотя юристы на букву «С» жаловались…
ПРОВАЛ
«Потери позволяют острее осознать привлекательные стороны утраченного»
Сапа сидел за кухонным столом, уныло глядя в чашку чая, от которой печальными мелкими полупрозрачными сгустками, кружась и исчезая, взлетали паровые облачка. Он получил от мэра уведомление о сокращении в день своего рождения, как все остальные сотрудники его отдела, и рассуждал вместе с Аликом об этой убийственной прогнозируемой неприятности.
– Его стиль мщения: если втыкать нож, так с прокруткой. Если чинить неприятности, так побольней и с наибольшей выгодой, – говорил он. – Не забыл моего заявления об увольнении. Узнал, что тебе помогал. Твои листовки против Квашнякова считает моим делом…
– Хотите, расскажу ему? – спросил Алик скорее для проформы, чем для исполнения.
Он не признавал своим грехом, что мэр за его проделки отыгрывается на другом человеке.
«Если это ошибка Хамовского, то он и ответит за нее, – рассуждал Алик, – если Хамовский специально приписал Сапе листовки, чтобы с ним было удобнее расправиться за какие-то их личные противоречия, то это тоже его дело. Я тут не виноват».
Публично признаваться и выходить из тени на суд, как совестливый партизан из лесу, потому что немцы предложили расстрелять мирных жителей, он не собирался.
– Твое дело, – ответил Сапа. – Знаешь чем отличается порядочный человек от непорядочного? Первый может потупить только определенным образом, у второго множество вариантов.
Алик не ответил на интеллигентный укор.
– А знаешь, какую должность он мне предложил вместо председателя комитета общей политики? – спросил Сапа.
– Нет, конечно, – ответил Алик.
– Слесарем предложил работать, – ответил Сапа. – Ты, говорит, имеешь техническое образование, на месторождении работал, значит, на рабочей специальности должен справиться. Если хочешь, похлопочу. Издевается мерзавец.
– И что вы?
– Отказался, конечно. Много думал по этому поводу и понял: каждый мужчина все-таки должен отслужить в армии. Армия учит безропотно подчиняться. Я не служил, работал на мэра верой и правдой, но не проявил безоглядной преданности. Нет в моей крови этого. Не закреплено.
Сапа мрачно посмотрел на Алика. Щеки его безвольно отвисли. Глаза плакали без слез. Взгляд обвинял.

– Ты в армии тоже не служил, – продолжил Сапа. – Там разговор короткий: не подчиняешься – табуреткой по голове. Так закрепляются мысли о необходимости дисциплины. Мэр – избранное народом лицо. Раньше бы говорили: ставленник бога на земле. Имеет ли право простой человек протестовать против действий избранной народом власти? Вот о чем я думаю. Даже стратегия поиска казнокрада в нефтяном городе искажена. Все, в том числе и ты, придирчиво отслеживают спорные бюджетные траты, бюджетные ошибки, бюджетные кражи, как федеральные, так и местные, но никто не обращает внимания на главного казнокрада – нефтяную компанию, «СНГ». А ведь на этом уровне воруют в десятки, сотни раз больше. Деньги уходят из страны, нефтяной потенциал, создаваемый всей народом, работает на горстку людей, захвативших его, используя служебное положение, обман, неготовность большинства к новым условиям. И без решения этой главной проблемы стоит ли ловить блох?
– Грустные у вас мысли, – заметил Алик.
– Попадешь под сокращение, поймешь, – укорил Сапа.
– Все под мэром ходим, – намекнул на равенство последствий Алик. – Меня тоже могут убрать. Может, по поводу вашего сокращения заметку написать?
– Тебя сложнее сократить. Ты на виду, тебя знают, – ответил Сапа. – Это относится к любому публичному человеку. А кто я? Чиновник! Ты напишешь: чиновника сократили вместе со всем отделом, ищем сочувствия. Да народу это в кайф. «Так их и надо. Привыкли в теплых кабинетах штаны протирать и деньги сшибать», – скажут. А кто я такой, за что сократили – кому это надо? Ты лучше ответь, что о выборах в мэры думаешь? Через два месяца выборы депутата в окружную Думу. Надо решать. Мэр города избирался на свою должность с поста депутата окружной Думы. Хорошая платформа. С другой стороны, ты в городской Думе-то еще не работал. Чуть больше месяца миновало, как тебя избрали. Народ не поймет. Может, стоит прыгнуть на мэра с должности депутата городской Думы? Это неожиданно. Может, и получиться.
– Слабоват я для мэра, да и не мое это, – ответил Алик. – В выборах депутата окружной Думы я, скорее всего, поучаствую. Газета обходится дороговато для моего кармана, а кандидатам и бесплатную газетную площадь предоставляют, радио, и телевидение. Когда такая возможность представится? Но надо будет обязательно с Матушкой переговорить. Не хочу конфликтовать. Если она пойдет на выборы, то я перед финалом сниму свою кандидатуру в ее пользу. Если – нет, то пойду до конца.
– Ну что ж, давай так, – согласился Сапа…
Алик встретился с Матушкой у нее дома. Матушка опять кушала строганину из подаренного Харевой муксуна. Так она боролась с повышенным холестерином и насыщала организм полезными омега три жирными кислотами. Разговор был долгий, но Матушка не поверила Алику. Она заподозрила, что Алик хочет отобрать у нее голоса избирателей на выборах, а его объяснение – обычные политические хитрости. Она приветливо поощряюще поулыбалась, согласно и даже дружески покивала головой, но поступила иначе…
***
В городской администрации состоялось собрание, на котором втайне от жителей маленького нефтяного города произошло временное объединение Хамовского и противоборствующей ему Матушки.
– Мы в этой битве на одной стороне, – сказал Хамовский Матушке. – Его понесло против всех. Это же берсеркер какой-то.
– Я для него столько сделала, – кудахтала Матушка. – А он мне отплатил злом.
Что сделала для Алика – она не знала, но Матушка обладала настолько сильной внушаемостью, что гипнотизировала не только окружающих, но и себя.
– Такие, как Алик, пиво пьют и балду гоняют, а перед выборами расходятся, как клещи весной. Голоса отсасывают, – подыграл Лизадков.
– Я его, дрянь неблагодарную, уволил бы, но он в депутаты пробился, – подал голос Квашняков. – И не без вашей помощи.
– Кто ж знал, – обиделась Матушка. – Тут не знаешь, что из собственного ребенка получится.
– Хватит распрей, – сказал Хамовский. – Одного интригана из администрации убрал, а их не убавляется. Давайте думать, что с Аликом делать.
– Предлагаю пойти по наезженной схеме: составить обличительный текст и подписать его у депутатов, им все равно, что подписывать, лишь бы урвать. Потом этот текст опубликуем, – посоветовал Лизадков.
– Я сам составлю текст, – ревностно занервничал Квашняков, обнаружив, что его опередили в совете. – Я ж журналист. Информация есть: на собрании мои сотрудники наговорили про Алика достаточно негатива.
– Согласен. Готовьте два варианта. Сравним и лучший пустим в народ, а то и оба, – сказал Хамовский. – Видите, как мы помогаем вам, Матушка. А не пригласить ли нам наших фирменных кандидатов на выборы для разбора голосов Алика?
– Вариант, – согласился Лизадков.
– Матушка, улица перед вами все свободней и свободней, – сказал Хамовский. – Хотелось бы, чтобы и вы нам…
– Семен Петрович, я всегда вас выручала в сложной ситуации. Помните, как на выборах Глава опубликовал информацию, что вы злостный неплательщик, а я провела депутатское расследование и сказала, что – нет. Все депутаты подписали против вас, а за вас – только я, – напомнила Матушка. – Мы с вами, конечно, ругаемся, но это же для людей, для комедии, а на самом деле я же за вас.
– Хитра ты, Матушка, – ответил мэр, – но бог с тобой. Пусть лучше уж ты, чем этот сумасшедший журналист…
Если бы Алик знал, какие интриги плетутся вокруг него, то вряд ли бы спокойно спал, а, скорее всего, ворочался бы с боку на бок, мял подушку, тревожил жену, Розу. А в незнании он был спокоен, и значительные впечатления от бесед с Сапой вылились для него во второй глубокомысленный сон.
ВТОРОЙ ПРЕЗИДЕНТ
«Второй – почти то же самое, что первый, вот только ответственности никакой»
Как-то вдруг у советских людей, которых в течение более полувека тщательно просеивали сквозь такое мелкое сито, что смогла сохраниться только рабоче-крестьянская пыль, появились дворянские семейные линии, титулы… Поэтому я давно ожидал появления на политической сцене России второго президента, по аналогии с лже-царями. И мне повезло.
На неприметной улочке маленького нефтяного города я еле пробился в небольшой кабинет, где находился штаб партии «Единственная правда». Перед входом шла драка за кресло председателя. Причем женщины дрались наравне с мужиками и катались в грязи. Часто мелькало лицо Матушки, Квашнякова, главного городского страховщика и какая-то задница, на которой значилось клеймо «Совет ветеранов». С балкона подначивали, вроде бы мэр. Обойдя дерущихся, я зашел в штаб и увидел фотографию и надпись под ней: «Второй и истинный президент России».
– Так вроде не избирали Второго, – сказал я секретарше, небольшой, полненькой женщине в красно-сине-белой шерстяной кофте плотной вязки.
– Молодой человек, политикой интересоваться надо, – укоризненно ответила она, еле отворив полные губки. – Выборы состоялись при тайном голосовании. Теперь наш президент за реальную власть борется.
– Как его звать-то?
– За рейкой агитка торчит. Последняя осталась. Там и читайте.
– На память слабо?
– Не мешайте, молодой человек. По вопросам памяти обращайтесь в другие инстанции, – раздраженно ответила секретарша.
На стенде, за одной из реек, действительно нашлась бумажка. На ней под фотографией Сапы чернело пять последовательных картинок, на каждой из которых палец касался определенной кнопки на телефоне.
– Извините за назойливость, – вновь обратился я к секретарше. – Что это за головоломка под фото Второго?
– Образовательная реформа – конек нашего лидера. Это новая запись телефонного номера, чтобы каждый слабограмотный человек понял, – ответила секретарша. – Указательный палец, показывает на какую кнопку нажимать. По данному номеру можно позвонить Второму…
– Вы рассчитываете своей примитивной программой увлечь народ? – спросил я, дозвонившись.
– А вы кто по специальности, молодой человек? – ответил вопросом на вопрос Второй.
– Журналист, – признался я.
– Если вы журналист, то вам известно, что народ газеты почти не читает, – нотационным тоном произнес Второй. – Разве вам не говорили читатели, что газету покупают из-за телевизионной программы? Народ интересуют картинки, телевизор, а не буквы и словеса. Картинка доходчивее. Второе, что любит народ – ругательства. Поэтому наша образовательная реформа пойдет в двух направлениях: замена текстов на комиксы и близкие сердцу универсальные слова, которыми в зависимости от интонации можно выразить все.
– Ну вы даете! А взрослым что предложите? – подзудил я.
– Вы знаете, что мужики скорее купят бутылку спиртного, чем новую книгу, – напомнил Второй. – Наши ученые разработали специальные добавки в водку, вино и пиво. Они вызывают галлюцинации, соответствующие содержанию книги. Разработано несколько сортов водки, в том числе трехсерийная «Война и мир»…
– Это же переворот, это то, что надо! Я бы сам приобщился, – обрадовался я. – Но как вас избирали?
– Многие говорят: зачем идти к избирательным урнам и так выберут. Мы пошли навстречу пожеланиям, собрались тесным кружком и выбрали, – словно малому ребенку объяснил Второй. – Но после того как я стану Первым президентом, мы примем закон о выселении из квартир всех, кто не голосует, а чтобы облегчить выбор избирателям, будем вручать уже заполненные бюллетени с галочкой напротив нужной фамилии… В принципе так и есть: только галочка стоит не на бумаге, ее формируют в голове с помощью вас – журналистов…
– Не всем это понравится, – засомневался я.
– Таких появится крайне мало, – уверенно сказал Второй. – Рядовые граждане получат прививку смирения, честности и заповедей Высшего божества. Это сильно облегчит управление страной. Но, конечно, элита прививке подвергаться не будет, потому что управление и честность вещи не совместимые.
– Вы собираетесь из людей сделать марионеток?! – возмутился я.
– Они таковые и есть. Всех исподволь используют. Просто мы честнее, прямее, правдивее! – заверил Второй. – Вот вы, журналисты, призваны показывать, рассказывать правду. Но, во-первых, кто вы такие, чтобы знать истинную природу вещей, кто вам даст возможность сунуть нос в пекло? Во-вторых: правда не всегда приятна. Вы будоражите общество. Это, по логике, должно служить совершенствованию общества. Плохое надо исправлять. Но ведь легче и дешевле исправить не просчеты, ошибки, недостатки, а журналистику! Куда сложнее сделать то, о чем можно красиво написать, чем просто красиво написать о том, чего нет! Догоняйте, догоняйте мою мысль, пожалуйста.
– Я знаю, что нас используют, но… – грустно сказал я.
– Какие могут быть «но»? – удивился Второй. – Вот вы пишите о явлении, человеке, как вы его видите. Потом начинается согласование. Вам говорят, тут зачеркните, тут измените… и вы задним умом понимаете, что лучше остаться при работе. И вот у нас уже не явление, а легенда. Или вы присутствуете на собрании или докладе. Вы же излагаете материал частенько своими словами. И вот докладчик у вас получается не профан, не умеющий двух слов связать, а относительно высокого полета литературная посредственность… А общество кушает и верит, а на вере и держится власть. Но тут мы ничего менять не собираемся, любую власть устраивает такой подход.

– Неужели никто не борется? – с надеждой спросил я.
– Как не бороться? Конечно, борются. Те, кто не понимает обстановки, – пренебрежительно сказал Второй. – А обстановка такова, что народа ныне нет. Есть множество одиночек. Каждый сам по себе. Бывает кто-то выпендривается за общественное дело, иной раз действительно искренне. Людям это нравится. Но если у правдоискателя возникнет проблема, а их у него возникнет множество, я вас заверяю, то никто его не поддержит, не поможет и даже не поинтересуется, что стало с человеком. Плюнут и забудут. Власть – это машина, укомплектованная специалистами, финансами, информацией. А что есть человек без поддержки общественности? Клоп. Раздавить его ничего не стоит. Людям хочется покоя, благ и счастья. Наша политика ублажает эту потребность, причем так, как хочет большинство – без усилий…
– А профсоюзы? – разочарованно спросил я.
– Мы их упраздним за ненадобностью и трудящимся автоматически повысим зарплату на один процент за счет профсоюзных взносов, – бодро ответил Второй. – Но это не будет означать наступление на права простых людей. Обязанности профсоюза исполнит руководство предприятием. Если рабочим что-то не нравится, то директор от их имени напишет себе заявление с требованиями, выступая как профсоюз. Затем он сам же и рассмотрит требования от имени руководства. Так устраняется ненужный посредник. Поймите, сегодня профсоюз и руководители так тесно сотрудничают…
Я повесил трубку, не выдержав мягкого доброголосого цинизма Второго, и вышел из штаба партии «Единственная правда». «А ведь во многом прав этот Второй, – размышлял я, идя по улице. – Его идеи верны, с точки зрения удержания власти. Недовольные к избирательным урнам почти не идут, довольные голосуют, как выгодно власти. Увеличить число довольных и привести их на избирательные участки – вот путь к успеху. А средства достижения – не важны…» Мне захотелось вернуться назад. Я повернулся и побежал, чтобы узнать, как оценивают такую политику в Европе, но, к сожалению, не нашел нужного дома. Он словно растворился в воздухе. Только в одном закоулке вроде бы пахнуло духами секретарши…
ТВОРЧЕСТВО
«Творчество воспламеняют не только высокие чувства, но и низменные страсти»
Пока Алик спал и в недрах подсознания или каких-то других малоисследованных средах обитания спящей души, общался со Вторым президентом, Посульскую, ответственную секретаршу редакции газеты маленького нефтяного города, охватил творческий подъем, воспламенившийся сразу от двух запалов. С одной стороны, Квашняков строго-настрого приказал написать в газету ехидную заметку про Алика. С другой стороны, Посульскую уже несколько лет терзала обидно неудовлетворенная страсть…
***
Принципы в вине растворяются. Раньше, до прихода Квашнякова, дни рождения в редакции газеты справлялись отменно. На столах теснились салаты, колбаска, сыры, фрукты, овощи, горячие закуски, водочка, а вокруг – женщины, желанные редакционные женщины, к которым Алик не прикасался из осторожности. Но иногда выпитое вино прорывало моральные преграды, как мощный селевой поток проламывает, казалось, устойчивую плотину, и Алика несло.
Посульская сидела в компании Петровны и других и внутренним женским чутьем сразу уловила перемену в настроении Алика, которого собственно они и не стеснялись…
– Ой, девчонки, хорошо-то как! – восхищенно сказала Галя, жена банковского служащего. – Мужика бы сейчас.
– Мужика?! – спросила Посульская. – Да где ж их сейчас найдешь?
– А Алик? – переспросила Петровна. – Чем не мужик. Нормальный. Но тихий, как муляж.
– Не будем его обижать, девчонки, – сказала Галя. – Хотя, в принципе, я не против. Он сам как-то был у меня дома и ни-ни. Я его в спальню завела, диван показала, а он хоть бы обнял. Странный. Мы сидели на кухне, а тут мой пришел. Так и познакомились!…
В это время ручной, как белочка, Алик в соседней комнате, сидя на коротком диванчике, тискал маленькую симпатичную татарочку Асю. Татарочке нравилось, она пьяно смеялась…
– А где же Алик? – спросила Галя. – Кто нам будет наливать?
– Пойду посмотрю, – поспешно сказала Посульская и, покачиваясь, пошла к двери, за которой некоторое время назад скрылся Алик.
Дверь открылась, резко осветив целующуюся парочку зальным светом, большую часть которого съедала возмущенная тень Посульской.
– Вот это да! – крикнула она. – Девчонки, да они тут зажимаются. Ну Алик, ну негодник. Мы сидим, рюмки пустые, а они…
Ася смущенно вскочила с дивана и пошла к общему столу. Алик хотел пройти вслед за ней, как Посульская схватила его за руку.
– Так не пойдет! – крикнула она. – Хочу на ручках к столу, а то ноги не держат. Отнеси меня, Алик.
– Да он не поднимет тебя, – усомнилась Галя.
– Сможет, сможет, – уверенно пропела Петровна.
– Алик, под-ни-ми, Алик, от-не-си, – смеясь, скандировала Ася.
Алик оценивающе оглядел Посульскую с головы до пяток. Ее нельзя было назвать миниатюрной, как татарочка, и стройной, но лишнего жира в Посульской было явно меньше, чем в Петровне, и ростом она была не высока – с Галю. Таких женщин он носил. Мгновенье – и он подхватил ее на руки и понес к столу. Посульская, плавно и бесстрашно летя на полом, восхищено притихла, как и все женщины за столом, не ожидавшие такого от своей редакционной белочки.
Стопки с бульканьем наполнились прозрачной сияющей водочкой, столкнулись в коллективном звенящем поцелуе и опрокинулись в приоткрытые рты.
– Алик, возьми меня на ручки, еще хочу, – капризно и громко произнесла Посульская.
Она опять взлетела над полом и, схватившись за шею Алика, приблизилась к его уху и произнесла:
– Хочу в комнатку, где ты татарочку зажимал.
Пока она, как ребеночек, лежала на ручках, Алик окончательно обрел в ее глазах черты мужчины, необходимого ей в сей хмельной час. «А почему бы и нет?» – подумала Посульская и, едва встав на ноги, упала в объятия Алика.
– Хочу тебя, – сказала она. – Не будь дураком. Бери, такое счастье тебе больше не предоставится…
Они вертелись на вращающемся стуле, Посульская от радости совершенно потеряла самоконтроль и в самый ответственный момент, когда солнце счастья должно было отчаянно воссиять в душе, она, отчаянно дернувшись, свалилась на край стоявшего неподалеку стола лицом вниз, мгновенно и не сопротивляясь, как срубленное дерево. Когда она приподнялась, вокруг правого глаза добротно краснели несомненные признаки нарождающегося синяка.
– Блин! – обиженно вскрикнула Посульская. – Алик, ты что удержать не мог?! Как я теперь домой…
– Давай снегом! – крикнул испуганный Алик и, застегивая брюки, побежал к выходу из квартиры.
– Что случилось? Что случилось? Как вы там? – раздались голоса Гали, Петровны, Аси…
Морозный, снежный, черно-звездный в семь вечера январь шалил и жалил. Алик не побежал дальше последней ступеньки, он быстро схватил ком снега для утешения фонаря, но пока спьяну неустойчиво скользил на утрамбованном ногами насте, коллеги уже вывели Посульскую из подъезда…
С этого момента Посульская возненавидела Алика и делала ему гадости при каждом удобном случае. Поэтому к заданию Квашнякова написать про Алика нечто едкое и смешное она отнеслась особенно ответственно, и вот что получилось.
Почему бабахнул «Дробовик»?
«Самые болезненные удары наносят близкие»
«В редакции долгое время пылился Дробовик. Пылился, пылился… Вдруг как бабахнет! Да не просто – дымом и пулями, а газетками – «Дробинками». И чуется, эти «дробинки» собирались в кучку давно.
Дробовик, конечно, не ружье. Это журналист не из лучших: не любил лопатой махать изначально. Несколько лет он на базарах продавал безделушки и сладости. Попытался устроиться на должность начальника, но оказалось, что там необходимо работать, и не с хрупкими женщинами, как в редакции, а с мужиками. А работать с мужиками гораздо сложнее, мы, святая АКМ, это точно знаем, ведь мужики гораздо драчливее и крупнее и постоянно кидают…до синяков, а тут открылась городская газета.
Хорошо подвешенный язык, да еще с юморком, Дробовику пригодился. Инженер стал журналистом. И началось! Человек, сегодня вскрывающий язвы и опухоли, стал подрабатывать в администрации. А подкопив деньжат, сволочь, начинал критиковать тех, на кого работал. И от этого прямо мороз по коже. Даже собака не кусает руку, корм подающую. Наверное, мало получил. Вот тебе и бессребреник.
Наше редакционное ружье в человеческом облике решило пострелять еще, и к его материальным амбициям добавились политические – решил Дробовик пойти во власть. Стал нагуливать вес, изобретя «Дробинку», цель которой – вылить, в основном на руководителей, больше грязи, ничем, кроме его измышлений, не обоснованной…»
Все это было опубликовано в газете маленького нефтяного города за подписью Святая АКМ.
***
Есть такая игра, в которую играют в основном дети: один ребенок поворачивается спиной к компании, а его кто-то из этой компании бьет по спине, по плечу. Пострадавший поворачивается лицом к этой компании и жестам, мимике, по одному Богу известным признакам старается определить: кто его ударил. Это достаточно сложная задача, потому что все благодушно улыбаются и смеются и ударивший ведет себя аналогично – маскируется. В таком положении оказался и Алик после прочтения вышеприведенного произведения. Удар был нанесен. По содержанию было ясно, что постарался кто-то из близких коллег, но все благодушно улыбались, приветливо здоровались как обычно. Иисус смог распознать Иуду, Алик был всего лишь человек и не смог, а через некоторое время потерял интерес к решению этой задачи. Задача решилась сама собой…
Спустя много лет Святая АКМ после грандиозной пьянки в кафе по случаю Дня печати, еле проговаривая слова, признался Алику в своем авторстве на этот материал. Это оказался муж Посульской, которого на литературные свершения вдохновила жена, рассказав о происхождении синяка.
– Мне казалось, что я правильно поступаю, – утверждал он.
– Написал и написал, мне уже все равно, – ответил Алик, а сам подумал, что женщины не прощают мужчинам своих падений, мужья не прощают знакомым подозрений относительно соблазнения своих женщин.
Ему стало ясно, каким образом супруги добыли кредит на обучение дочери в Санкт-Петербурге, каким образом они ее устроили на работу в городскую администрацию, каким образом на самом ответственном посту в газете маленького нефтяного города оказалась Посульская, не написавшая ни одного газетного материала. И вот этот неказистый и худой, как северная приболотная сосна, муж Посульской, еле шевеля языком, говорил о каких-то политических взглядах, которых он придерживался в то время, о том, что он не кривил душой, а искренне писал пасквиль, но сейчас раскаивается. Он протянул руку для мировой, Алик сунул ему свою пятерню, как в дырку унитаза. И вскоре возникла идея написать рассказ о собачьей психологии.
СОБАКА
«Вожак моей стаи», – думает собака о своем хозяине, желая угодить. «Как бы получить прибавку к зарплате, как бы не уволили», – думает человек, раболепствуя от таких же инстинктов».
У одного моего очень радушного знакомого, находящегося в солидном возрасте, водилась патлатая, словно бы обросшая щедрою пыльною куделей, собачка-болонка, и обладала она нестерпимым для его гостей гадким качеством. Когда гость заходил в квартиру, она виляла пред ним хвостом, а как только тот поворачивался к ней спиной, она кусала его за пятку или голень, а потом быстро пряталась за хозяина, чтобы не получить хорошего пинка. При этом перед тем как укусить, она беззлобно и смиренно смотрела на гостя, ее черненькие глазки словно светились любовью и добротой, хотя говорить об этом с достоверностью сложно, поскольку у всех болонок глаза едва проглядывают из-под нависающей на них шерсти, а после нападения, уже из-за хозяина, она поглядывала угрожающе – исподлобья.
Конечно, хозяин переживал, по крайней мере внешне, высказывал заверения, что такого не повторится, предлагал не бояться. Но его собачка от этого характером не менялась и кусала всякий раз, когда предоставлялась возможность. И даже повторно, хоть через пять минут. Особенно увлекалась она пятками, которые были легкодоступны под стульями, расставленными вокруг праздничного стола. Например, в день рождения хозяина. Гости роняли фужеры, ойкали и ругались, произнося тосты… Собачка же совершала дерзкие атаки, пока ее не запирали в отдельной комнате.
Но самым любопытным и фантастическим стало то, что когда эта отъявленная злодейка собачьего рода наконец сдохла, то пришедшая ей на смену болонка, имела точно такие же повадки. Можно было бы воспринять это качество характера за врожденное, за присущее всем особям породы болонок. Но нет, знавал я и смиренных. «А может, собака – это действительно зеркало души хозяина?» – подумал я и стал им интересоваться, а это не так сложно: люди любят поговорить, особенно когда выпьют.
Хозяин был поистине душкой. Милый, приветливый добряк с не сходящей с губ улыбкой, щедрый на шутку. Добрую ли злую – на эту тему можно, конечно, поспорить, но любил он всяческие «приколы». В молодости он даже на скорую руку до срока похоронил старшего брата. Произошло это на неудачном для него экзамене. Он потел и чувствовал, что двойка назревала. Его мысли метались в голове, как накрытая стеклянной банкой мышь. И в тот момент, когда преподавательская рука уже потянулась, чтобы запечатлеть его полное фиаско, он произнес:
– Простите меня за мою плохую подготовку, но у меня горе.
– Какое горе? – спросил преподаватель, ожидавший услышать достойное жалостливой усмешки оправдание.
– Брат вчера умер. Я всю ночь не спал. Роднее его у меня никого. Мы ж без родителей росли. Надо к похоронам готовиться. Хорошо хоть ваш экзамен последний, – ответил наш добряк.
Такими вещами не шутят – это знает каждый. Преподаватель разжалобился и поставил «удовлетворительно», но он знал эту семью и отправил соболезнование. Телеграмму вытащил из почтового ящика старший брат. Тот самый, «умерший». Он вначале сильно изумился, потом разозлился и решил отлупить меньшого. Но меньшой спрятался за широкую спину деда, воспитывавшего их, и кричал:
– Дедуля, что ему сделалось с того? Живой же, живой! Да и куда мне деваться – не пятнать же честь семьи, не с двойкой же возвращаться?…
Когда дед умер и оставил своим внукам небольшое, но никогда не лишнее наследство, старший брат служил в армии. Имущество все записали на младшего, ему же достались и деньги. Дед поставил условие – поделить все поровну, когда вернется старший. Но младший к тому времени женился и, посовещавшись с женой, все оставил себе. Конечно, был скандал, и младший, прячась за спиной своей супруги, выкрикивал:
– Да не беспокойся ты. Тебе все равно пока ничего не надо, а как женишься, так верну.
Прошло время, и оно загладило неровности на почве деления имущества. Младший прижился, деньги потратил, а кто старое помянет…
Все это происходило за кулисами жизни, а на ее сцене наш хозяин был очень даже хорошеньким и приятненьким. Своей благожелательной общительностью он располагал к себе, имел много друзей и почитателей, в том числе и одного дальнего родственника, хотя в душе питал к тому непонятную себе антипатию. Работали они в одной организации и секретов друг от друга не имели. Как-то этот родственник унес с работы домой нужный в хозяйстве приборчик. Наш добряк узнал об этом, взревновал и воззавидовал и, почувствовав, что ревность и зависть эти находятся в русле справедливых порывов борьбы с расхитителями и, по большому счету, напоминают патриотизм, он пошел к их общему начальнику и начал издалека. Мол, есть еще резервы у предприятия, можно экономить, когда б не стало людей, стремящихся урвать, и тут уж, что главное, надо таких разоблачать, невзирая на родственные чувства. И вот он – гад – взял прибор и не вернул, и не известно, вернет ли. Увидев в глазах начальника интерес, чувствуя, что этот интерес может вылиться в приятные к нему отношения, он вошел в раж и наговорил такого про своего родственника, что не каждая жена подружке про мужа расскажет. Начальник тут же вызвал этого родственника, у которого от преподнесенных известий руки инстинктивно сложились в кулаки. Он пошел было к добряку, чтобы, не мешкая, поквитаться. Заметив это, наш добряк незамедлительно спрятался за спину начальника и затараторил:
– Пал Мироныч, да что же он! Я же при исполнении, я ж за предприятие!..
И все песики у этого доброхота поступали примерно также. Но, впрочем, не совсем. Когда добрый милый хозяин постарел и ослаб, каждый очередной песик по-прежнему стоял возле него и кусал любого, кто заходил. Хозяин же преданностью не отличался. Когда над его начальником нависла угроза разжалования, он первым исподволь начал плести интриги и сотрудничать с кандидатом на эту должность за обещание всяческих благ. В глаза же своему начальнику, который и не знал, что последние дни при должности, улыбался как обычно, а в разговорах вызывал на его откровенность и прислушивался, чтобы было что сообщить на сторону. И так он поступал всегда, потому что в человеческом обществе хозяев нет, есть сильнейшие. Но как собачкам передавались его черты – это для меня так и осталось секретом. Ну не инфекция же…
***
На вторую версию бытия журналиста, опубликованную в газете маленького нефтяного города, Алику ответить было нечего. Она представляла собой классическое учебное произведение в анонимном жанре и обыгрывала фамилию Алика, которая, напомним, носила автоматический характер – Робот.
ЖИЗНЬ сильнее РОБОТОВ
«В мире нет ни добра, ни зла. Есть люди, называющие себя добрыми, есть люди, которых называют злыми. Есть события, которые называют хорошими, есть события, которые называют плохими»

Явление человека-машины, бездумного механизма, цинично и безостановочно выполняющего заданную кем-то программу разрушения, бесчеловечного, лишенного элементарных человеческих эмоций – радости, боли, сострадания, уважения – не исчезло. Такой Робот есть и в нашем городе. Кто-то нажал кнопку «уничтожение» в его механизме и забыл выключить.
В программе Робота одна фраза:
– Свободу слова!
Кто-то восхищенно подумал: «Вот смелый человек! НАШ! Станет депутатом – всем покажет!» И выбрали Робота депутатом в ту Думу, в которую он сто раз плюнул, к тому мэру, заслуги которого он растоптал и себе присвоил.
– Я, – сказал Робот, – с властью боролся – и нефтяникам зарплату прибавили.
А что, народ-то одурачить несложно: обратись к нему с ласковым словом, разбуди жалость к самому себе, гонимому властями и главным редактором, – голоса избирателей обеспечены. Правильная линия взята была: народ российский привык быть не вместе с властью, а против нее. Традиции сильнее разума. Жаль.
Да, у нынешней власти есть промахи. Есть ошибки и у мэра. Не ошибаются лишь дураки и Роботы.
Умный человек свое мнение выскажет честно и своевременно, потому что умный человек хочет помочь недостатки устранить и жизнь сделать лучше. Робот не такой. Так героем, жертвующим собой во имя людей, не станешь. Стоит он, спрятавшись за угол, и долго ждет, записывая, подслушивая… Копит месяцами, чтобы начать разоблачения ради одной цели – стать депутатом и главным редактором газеты.
На месте избиваемого, выставляемого на посмешище, может оказаться любой из вас. Начал Робот с начальника налоговой полиции, на которого у него нет никаких обвинительных фактов, кроме материалов уголовных дел прошлых лет, закрытых за недостаточностью улик. Затем обвинил городскую Думу в одном смертном грехе – сотрудничестве с мэром в решении социальных вопросов о налоговой льготе по социальной защите, о повышении заработной платы, о налоговых льготах предпринимателям и т.д.
О главном редакторе газеты говорил много и в таких оскорбительных выражениях, что тот здоровье потерял. А Робот наш, униженный и оскорбленный, подвергаемый бесконечным угрозам со стороны всех властных структур, но здоровехонький – откуда у Робота сердце? – продолжает поносить своих коллег по редакции газеты. Поддались они, неразумные, контрагитации…
Но больше всего ненависти у Робота к мэру. Не по зубам ему мэр – механизм скрипит и ржавеет. Мэр силен тем, что за ним – дело. Он человек дела, ответственности, обязательности. Знаю, очень многие жители нашего небольшого нефтяного городка это видят и ценят. Знаю, что только вместе мы можем поддержать то, что далось великим трудом: своевременную заработную плату бюджетникам, медленное, но все же увеличение зарплаты нефтяникам, городской крытый рынок, учреждения культуры, спорта, образования, созданные за последние два года, активное строительство больницы, замороженное при прежней администрации. Сохраним ли мы эти достижения на фоне тяжелой жизни в других городах или позволим топтать всех поочередно?
Верю, что люди, живущие в этом городе и считающие этот город своим, сильнее Роботов. Ибо жизнь всегда сильнее!»
На этот раз вместо подписи в газете маленького нефтяного города значилось: Неравнодушный житель.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«В поисках спасения на воде, не хватайтесь за крокодилов»
«Есть много людей, считающих, что им все дозволено, потому что они защищены чем-либо от остальных: местом жительства, охраной, должностями, – думал Алик, осмысливая заметки про себя. – Хотя есть в этих заметках определенная жизненная справедливость. Сколько я разных начальников в газете уделал, теперь все мне вернулось. Бумеранг. Плакать нечего».
Он шел из редакции газеты, пребывание в которой отравляло ему существование, но уйти было некуда: газета оставалась единственной в маленьком нефтяном городе.
Ситуация действительно сложилась отвратительная. Коллектив редакции отрабатывал не только делом, но и верой и душой. Слова ненависти, высказанные на собрании, изменили каждого из людей, а их настроения, гаденькие газетные тексты и редакционная коллегия, направленные против Алика, под эгидой Квашнякова создали в редакции тягостную угнетающую атмосферу, которая, несмотря на свою нереальность, ощущалась явственно. Алик приходил в редакцию и ни с чем другим ее сравнить не мог, как только с неисправной, залитой нечистотами канализацией, куда он вынужден погружаться с головой, как сантехник, по долгу службы. Кругом грязь, хочется оставаться чистым, но порой кажется, что ткань скафандра не устоит против ежедневного контакта с воцарившейся вокруг клоакой.
Раз в год в редакцию газеты наведывался главный писатель округа, по крайней мере, считавший себя таковым. Он увлеченно рассказывал о себе, что, впрочем, присуще почти всем пишущим, и просил: не строчите пакостно, следите за выражениями.
Алик шел домой и думал: «В каких приличных выражениях можно обрисовать нынешнюю обстановку, сложившуюся в милом, уютном в недавнем прошлом местечке под названием «Редакция газеты», где на фоне добрых дружеских отношений публиковались прекрасные бойкие материалы. Всем было интересно, все с радостью шли на работу и в одно мгновенье отказались от прошлого. Как легко убить идеальный мир, достаточно одного начальственного мерзавца…».
Размышления прервал остановившийся рядом джип. Стекло опустилось, и на Алика глянуло лицо, откровенно бандитское, но благожелательное, как благожелательны бывают волчьи морды.
– Привет. Это ты Алик? – спросило лицо.
– Я, – ответил Алик, предполагая, что тип вджипе послан из городской администрации для очередного устрашения.
– Бешеного знаешь? – спросил тип. – Это я и есть. Помощь нужна?
Бешеного Алик не знал, но слышал, что тот своенравен и ввязывался в любую драку, не задумываясь о последствиях.
– Нужна, – ответил Алик. – А что ты можешь?
– Налажу твои отношения с редактором, – ответил, широко улыбаясь, Бешенный. – Хочешь, зайду в редакцию и набью ему морду или пригрожу. Гарантирую: он станет паинькой, и ты опубликуешь все, что захочешь.
– Спасибо, не надо, как-нибудь сам, – ответил Алик, хотя его так и влекло согласиться.
Человеку с властью можно бороться только методами, схожими с уголовными, – в этом Алик не сомневался. Противопоставить должностной самоуверенности, поддерживаемой всеми правозащитными структурами, можно только кулак. Только драка, только дубиной по железному панцирю. Но его страшила прямая связь с уголовным миром, где царят тоже не добрые законы. Помощь в укрощении Квашнякова могла повиснуть на его шее слишком дорогим, неоплатным долгом вроде камня, с которым уголовного мертвеца сбрасывают на дно морское. Что могли его попросить в будущем – он не знал. Сделка с совестью могла стать слишком тяжелой.
– Смотри, искренне предлагаю, – сказал Бешеный. – Его, может, и бить не придется. Зайду, поговорю.
«Нет других вариантов переиграть Хамовского и Квашнякова, но это не мой метод, – рассудил Алик, не представляя себе даже отдаленно, как победить в борьбе с властью. – Мы все зачастую боремся не с причиной, а со следствиями. Точнее не боремся, а лишь демонстрируем недовольство, видимо, другого пути нет. Они нам доходы режут, социальные льготы снимают, воруют, создают законы под себя, тратят общественные деньги как хотят, а мы отвечаем митингами, письмами и резолюциями, кухонными разговорами, спорами с родными, газетными публикациями. Когда бы все, что творит власть, происходило на бытовом уровне, то обидчик давно бы в морду получил».
Бешеный уехал. Об этом Алик не сожалел. Если бы Бешенный желал своими методами побороться с властью и набить морду Квашнякову, то набил бы и без просьбы…
Алик вспомнил, как однажды в вагонном туалете клапан в кране был настолько подпружинен, что нажать на него так, чтобы потекла вода, мог лишь человек, физически развитый. У него самого каменели от напряжения руки, когда приходилось умываться. Пенсионеры же, стыдливо улыбаясь, вынужденно просили крепких мужиков помочь, понажимать. Особо конфузились женщины. А вагонные царевны – проводницы, были равнодушны к бедам пассажиров, как и нынешние властители к чаяниям народа, потому что и у тех, и других отдельное обслуживание, к ним особое отношение. «Что я немощный, чтобы обращаться к бандитам, как пенсионеры в социальную защиту? – мысленно упрекнул он себя. – Сам продавлю чинуш».
Кто не заблуждался – тот не жил. Сожалеть стоило и о том, что он не отказался от выборов в окружную Думу…
СОВЕТ
«Не всякий совет проливает свет»
– Ты не должен снимать свою кандидатуру с выборов в округ, – убеждал Сапа, внешне совершенно забыв о своем прошлом согласии. – Ни в коем случае. На тебя избиратель делает ставки, рассчитывает, как на лошадь, участвующую в скачках. Если ты хотел сойти с выборов, то не надо было вовсе в них участвовать. Сейчас ты обязан дойти до конца.
– Я на сто процентов не выиграю. На первом месте Матушка – это однозначно, – говорил Алик. – На втором месте или я, или Солнцев. Он единственный из руководителей нефтяных предприятий, которого действительно уважают. Хотя непонятно за что. Фамилия у него хорошая, а толку как с любого. Могу гарантировать, что он, как изберут, добьется более высокой должности и покинет маленький нефтяной город…
– Фамилия у Солнцева выигрышная, – согласился Сапа. – Но для тебя эти выборы – реальный шанс, пока волна людей, голосовавших за тебя на предыдущих выборах в городскую Думу, не сникла. Матушку давно раскусили: она только говорить может.
– Вы не правы, – ответил Алик. – Матушке верят и поклоняются.
– А ты не задумывался, какие перспективы таятся в связке Хамовский, жесткий политик, плюс Матушка, любимица публики? – спросил Сапа. – Если они сумеют разыграть такой спектакль, когда на публике будут врагами, а втайне друзьями, они окажутся непобедимы. Связка тиран и народный защитник – очень эффектный коктейль! Мне кажется, что эти два толстяка его давно замешали.
Смотри. Во-первых. Такая связка обеспечивает Хамовскому города спокойные перевыборы на должность мэра. Я тебе гарантирую, что Матушка не пойдет против него. Она, как сильнейший конкурент, на его стороне, и даже более того, работает иной раз на его рейтинг. Во-вторых. Вся оппозиция попадает под контроль Хамовского, поскольку все, кто против мэра, приходят к Матушке, защитнице. Матушке такая ситуация выгодна, поскольку реально против мэра она не выступает и не попадает под огонь его сторонников, и в тоже время она неплохо поддерживает свой рейтинг и имидж… Так что ты, выступив против Матушки, в принципе не отступаешь от своей линии. Она уже давно не оппозиция и реально не борется с властью.
– Но я ей обещал, – вспомнил Алик.
– Конечно, решай сам, – ответил Сапа. – Но в округе ты мог бы найти финансы для своей газеты, и она стала бы мощной силой в городе на долгое время. Мэр вынужден был бы с тобой сотрудничать. Потом не забывай, что я попал под сокращение. А у депутата окружной Думы должен быть помощник на постоянной основе, и на него, насколько я знаю, выделяется вполне приличная сумма в месяц.
– Может, вы и правы, – согласился Алик, чувствовавший непонятную вину перед Сапой.
– Конечно, прав, – зацепился Сапа. – В выборах всегда есть элемент непредсказуемости. Шансы есть у всех, в том числе и у тебя, но мне не нравится, что в тебе нет жажды власти.
– При чем тут жажда власти? – спросил Алик.
– Чтобы чего-то достичь, надо очень захотеть, – ответил Сапа. – Ты должен спать и видеть себя на месте депутата окружной Думы, а у тебя даже в речах нет энтузиазма, горения. Ты должен идти на все ради достижения цели, а ты о каких-то обещаниях. Знаешь, какая жажда власти у Матушки, у Хамовского?! О-о-о! А чтобы стать президентом, надо быть просто фанатиком власти! Запомни, борец за власть всегда одолеет борца за справедливость, поскольку первого не смущают способы достижения победы. Я тебе гарантирую, что Матушка против тебя использует все возможности…
***
После разговоров с Сапой у Алика возникало много мыслей, за что он и любил беседы с умными людьми. «Правду говорил Иисус своим апостолам, что когда двое вас, то и я буду меж вами, – размышлял по этому поводу Алик. – Сапа и Петровна – в настоящем, Александр, коллеги из института – в далеком прошлом… Не так много, но я их всех люблю, какими бы они ни были. Для кремня должен быть камень, чтобы появилась искра, для спички – шершавая поверхность. А какие разряды порождает гроза! Там кругом Бог. Но для человека нужны только люди, талантливые настоящие люди – в спорах, диалогах, контактах. И нет беднее человека, чем тот, который разбрасывается такими людьми или отворачивается от них».
Подслушанные или родившиеся мысли Алик бережно записывал, на общественном городском поприще воевал вдохновенно и убежденно, на заседаниях городской Думы ни одного вопроса не проходило без его реплики и оценки, «Дробинка» летала по городу. Под влиянием своих политических обещаний говорить правду и только правду Алик обличал всех подряд, без разбора. Он писал, редактировал, составлял макеты газет, финансировал и распространял. В народ уходили самые разные статьи.
ИНТЕРЕСНЫЙ ДОКУМЕНТ
«Устное слово отличается от документа тем, что им даже муху не убьешь»

– Есть один интересный для тебя документ, – сказал Сапа, когда Алик заглянул к нему в кабинет в последние дни гарантированной работы после получения уведомления о сокращении.
– Какой? – поинтересовался Алик.
– Вот посмотри, – сказал Сапа и протянул лист тонкой факсовой бумаги, на которой было напечатано следующее:
«Ваша избирательная комиссия на основе итогов голосования приняла решение об избрании депутатом городской Думы Сировой – начальника Управления образования. Напоминаем, что Сирова является муниципальным служащим и по Закону не вправе быть депутатом.
Председатель избирательной комиссии округа
А.Н. Гебельс»
– Ни хрена себе! – оценил Алик. – Судя по дате, письмо поступило сразу после выборов в городскую Думу, а она до сих пор депутат. Хамовский не знает?
– Знает, – ответил Сапа, удовлетворенный, что письмо зацепило Алика…
«Не удержится. Напишет, – мысленно рассудил он. – Анализируя ситуацию, не сможет обойти Хамовского. Пойдет воевать за кресло мэра, как миленький».
– …Начальник Управления образования ему выгоден в депутатах, – завершил ответ Сапа.
– Ну Сирова, ну коза! – восхитился Алик. – Примерно полгода назад мэр делал предвыборный расчет. Я на нем присутствовал…
…И вот сейчас, видя перед собой бумагу, изобличающую соперницу по выборам, Алик радовался возможности посчитаться за нечестные выборы. Тогда, как предсказывал мэр, на экране и в газете мелькало только улыбающееся доброжелательное лицо Сировой. Про нее писали хорошие статьи, о ней составляли сердечные сюжеты на радио. Остальные кандидаты в депутаты не вызывали интереса журналистов. Возникало ощущение, что кроме Сировой в городе не осталось людей, лишь, поглядывая друг на друга, жители города понимали, что ошибаются. Такую информационную тефтелю делали коллеги Алика, люди, которых он считал порядочными, и если не друзьями, то товарищами, рассчитывал на их честность и объективность, на понимание, но все оказалось не так…
– Можно взять этот факс? – спросил Алик. – Неплохой материал получится.
– Копию дам, – ответил Сапа, – но ссылаться на нее нельзя.
– Почему?
– Я пока работаю в городской администрации, документ хранится здесь, мэр поймет откуда, – ответил Сапа, питавший тайную надежду, что Хамовский как-нибудь зайдет, простит и оставит его на месте…
– Но как писать?
– Есть закон о муниципальной службе…
– Хорошо, сошлюсь на закон, но ведь опять скажут, что выдумки журналиста…
Сожаление Алик выразил несколько преувеличенное, поскольку, как воспримут эту информацию читатели, по большому счету, его не интересовало. Он всегда желал показать в газете реалии жизни, красиво подать материал, написать правду – для личного удовлетворения, для личного счастья, для душевного равновесия, для искусства, если получится… А поверят люди или нет, отреагируют или молча скушают известие о том, что их дурят – Алика не волновало, поскольку он считал, что свой долг перед обществом выполнил, а если общество не устраивает такая действительность, то пусть оно устраивает забастовки или собрания и изменяет жизнь.
Заметка про Сирову вышла в «Дробинке». Примерно через неделю после этого заговорщики опять встретились на знакомой нам кухне у Сапы.
– Вообще говоря, кому какая разница, нарушает она закон или нет, – сказал Сапа, сам предоставивший компромат на Сирову. – Работает человек депутатом, пользу приносит городу. Что ты в нее вцепился? Кто сейчас соблюдает законы? Если те же предприниматели будут по законам работать, так разорятся.
– Если есть нарушения в малом, то есть и в большом, – убежденно ответил Алик, но его больше всего беспокоило то, что, несмотря на опубликование факта нарушения, Сирова и не думала уходить из городской Думы. Это была наглость. Власть не соблюдала даже собственные прописные истины.
– А они и не будут реагировать на твои заметки, – развил тему Сапа. – Им не выгодно признавать твою правоту. Ты же посмотри, как они работают против тебя. Скоро твоя фамилия станет синонимом слова «грязь» и фразы «необоснованные высказывания». В любом выступлении против тебя они обязательно вставляют эти ярлыки, а только ярлык к тебе приклеится, то придет смерть. Причем тебе приходится работать гораздо больше, чем им. Ты в одиночку выискиваешь факты, их обыгрываешь, тратишь личные деньги и энергию, публикуешь и распространяешь свою «Дробинку». А они говорят только одно слово – «грязь». И все. Их грязь идет в народ не на малоформатном листке, а селевым потоком во вселяющей веру в печатное слово газете маленького нефтяного города, которая выпускается и распространяется за бюджетный счет, над которой работает не один человек, а большой коллектив и без напряга. Так все, что ты наработал с большим трудом, начинает плохо пахнуть, а твои избиратели подумывают, а не отвернуться ли от тебя. Потом смотри: твоя газета – две тысячи экземпляров, муниципальная – более четырех тысяч. Прибавь к этому телевидение и пропаганду в коллективах. Они выигрывают, а твое поражение сдерживает лишь время…
***
Противоречия в действиях Сапы были вполне ощутимы. И чем дальше, тем больше. Алик относил их на счет психического потрясения своего старшего товарища (Сапе было под шестьдесят), по поводу сокращения и не обращал внимания. Алик не понимал, что Сапа уже был на грани того, чтобы считать его, Алика, виновником вообще всех неприятностей, каковые случались в его, Сапиной, жизни. Он почти ненавидел Алика и искал интеллигентные способы, чтобы от него совсем отделаться, но Алику некогда было заниматься тонкостями взаимоотношений с Сапой, его вполне устраивали их умные беседы, и у него были другие проблемы.
***
Если трибуну заплевали, то ее надо помыть. Алик обратился в прокуратуру с заявлением на Сирову. Прокурор Коптилкин тянул с ответом два месяца, но, не найдя лазеек в законах, вынужденно признал, что Сирова не может совмещать должность начальника Управления образования и депутата. Алик сделал несколько копий прокурорского ответа, как раз по числу депутатов, таким же числом размножил факс из окружной избирательной комиссии, с согласия Сапы, которого к тому времени уже сократили, и положил эти бумаги перед каждым депутатом на очередном заседании городской Думы. Депутаты взяли документы, под строгим взглядом Хамовского равнодушно повертели в руках, положили их в папки и больше к этому вопросу не возвращались.
– Этого мало. Необходимо решение суда. Сами депутаты ничего делать не будут, – подсказал Сапа, который уже имел опыт подобной защиты Харевой. – Власть укрепляет позиции. Если так дальше пойдет, то скоро ни одного народного избранника не отзовешь с должности. Ты почитай внимательно Устав города…
Словно подслушав слова Сапы, как часто высказанные слова бывают услышаны людьми далекими, Сирова тоже почитала Устав маленького нефтяного города и нашла его недостаточно законченным, поскольку Устав не содержал главы, на основе которой можно было заткнуть рот случайному депутату от журналистики – Алику. Чтобы исправить эту законотворческую оплошность, она собственноручно и даже умно разработала Кодекс депутатской этики, который гласил в частности:
1. Депутат не должен нарушать общепринятые нормы морали и этики, в том числе употреблять грубые, оскорбительные выражения, причиняющие моральный ущерб чести и достоинству депутатов городской Думы, должностных лиц и жителей города.
2. Не допускается навязывание своего мнения в грубой форме через СМИ, а также в устной или письменной форме в общении с избирателями или должностными лицами.
3. Депутат не вправе использовать заведомо ложную информацию, выражать субъективизм для необоснованного обвинения в чей-либо адрес.
4. Депутат не должен использовать свой статус в корыстных целях.
5. Депутат не должен использовать поступившую в городскую Думу или на комиссию информацию для выступлений перед избирателями, в СМИ, в повседневной работе до принятия Думой решения по данному вопросу.
6. По выявленным фактам нарушения депутатской этики по инициативе одного или нескольких депутатов вопрос выносится на закрытое заседание Думы, по итогам которого может быть вынесено решение в виде порицания, опубликования материалов обсуждения в СМИ, выступления с инициативой об отзыве депутата.
Читая эти правильные слова, Алик не понимал, почему инициатор их обсуждения на заседании городской Думы – Сирова. Ясно, что она хотела снять с себя обвинение в нарушении закона о выборах, но такого куража над нормами морали от главного учителя маленького нефтяного города Алик не ожидал. Преступник проповедовал правила поведения!!! Весь депутатский корпус, кроме Алика, проголосовал за принятие ее законопроекта. Сам Алик подал заявление в суд на Сирову с требованием о снятии ее с поста депутата, но дело попало к судье Краплевко, дочка которой работала у Семеныча в налоговой полиции. Краплевко аккуратно переносила заседание суда несколько раз из-за неявки Сировой и, забегая вперед, переносила до тех пор, пока действующий состав городской Думы не был переизбран. Алик остался в шоке от происходящего: власть стояла стеной и дружно плевала на нормы права.
– У них совершенно нет совести! – возмущался он, сидя в своем уже законном гостевом кресле за кухонным столом у Сапы. – Не могу поверить. За границей чиновник с подмоченной репутацией давно бы подал в отставку, у нас же за кресло держатся. Хоть бы умылись.
– Это Россия, – ответил Сапа. – Наверху те же люди, что внизу. Кто у нас законопослушен? Ты тоже не ангел.
***
Однако сил у Алика еще хватало, а чувство справедливости не притупилось, как давно потеряло бы остроту копье, многократно бьющее в сталь. «Дробинка» наперекор всем проискам чиновников стала народной трибуной, в которой переосмысливались, с точки зрения общественной пользы, пользы для простых людей, действия городской Думы, мэра, всех городских структур. По крайней мере, Алик ставил перед собой такую задачу – задачу образования и разъяснения. Насколько это удавалось, он мог судить только по многочисленным сообщениям, что его газету копируют из-за недостаточности тиража, и откликам читателей, которые легко могли с ним связаться, поскольку в «Дробинке» был указан номер его домашнего телефона. И все это было здорово. Удовольствие Алик стал находить даже в том, что продолжал работать в ненавистной ему газете маленького нефтяного города, потому что получал зарплату и тратил ее часть на выпуск «Дробинки», в которой долбил и мэрию, и редактора газеты. Уволить его не могли по причине депутатской неприкосновенности. Враги были вынуждены Алика содержать, а он их бил за их же деньги – это было весело! Информация стекалась отовсюду, в том числе и от старых знакомцев…
ОЧЕРЕДНОЙ СЛИВ
«Удовольствие состоит не только в том, чтобы иметь, но и в том, чтобы показать»

Как регулярные доноры привыкают к систематической сдаче крови, так и информаторы жаждут делиться имеющимися знаниями с журналистами. В момент расцвета оппозиционной работы Алика пригласил к себе следователь Хмырь, тот самый, который занимался несколько лет назад делом самого Семеныча и пытался позднее слить Алику информацию о поддельном дипломе одного из специалистов налоговой полиции – Кабановского-старшего.
– Есть любопытный документ, – интригующе произнес Хмырь. – Разговор не телефонный. Если не пропало желание знать больше, жду в своем кабинете.
– Приду, – скоро ответил Алик.
Людей по большому счету интересуют только они сами, и, даже оплакивая смерть близких, они больше жалеют себя, свое будущее. Поэтому ждать благотворительности от пройдохи милицейской службы, каковым являлся Хмырь, не стоило, им что-то двигало, какие-то мощные невидимые течения заставили пойти на контакт. С другой стороны, Хмырь знал много, безусловно много, хоть и знания его были как коровы утопшие в болоте, мясистые, но недостижимые. С третьей стороны, от Алика много не требовалось: сходить и выслушать. «Если документ занимательный, то хитрая лиса Хмырь его не отдаст, – рассудил Алик. – Будет много говорить ни о чем. Надо подготовиться».
Хороший рыбак всегда мечтает поймать большую рыбу, даже если знает, что это почти невозможно. В таких случаях вся надежда приходится на «почти». Пришел Алик к Хмырю, как всегда в таких случаях, со скрытым диктофоном, рассчитывая записать весь разговор, а разговор он хотел построить так, чтобы Хмырь зачитал документ или подробно его пересказал. Но ловить Хмыря примерно то же самое, что золотую рыбку: сказку об удаче старика прочитать можно, и даже вообразить ее беспокойно подрыгивающую в ладонях, но саму ухватить невероятно.
– Кофе будешь? – спросил Хмырь, плотно закрыв стальную дверь регионального отделения по борьбе с организованной преступностью. Маслянистые глазки его хищно поблескивали, как у опасного и хитрого зверя, на губах блуждала приветливая улыбка, как у мудрого политика.
– Нет, – ответил Алик, понимавший, что ему предложат порошковый кофе, а этот суррогат он принципиально не пил.
Кроме того, был и другой момент, заставивший Алика отказаться от застолья, – увеличивалось время разговора. Диктофон был кассетный, заряжен всего на сорок пять минут. Запись шла. Отключался диктофон автоматически с довольно громким щелчком. Собеседник мог смекнуть, что его пишут. Раскрывать сей факт никогда не входило в планы Алика. Как-то диктофон чуть было не щелкнул в кабинете у Хамовского. Тогда на исходе сорока пяти минут Алик вышел из кабинета, сославшись на обстоятельства. Больше рисковать по пустякам не хотелось…
– Времени не много, – добавил Алик. – Давайте сразу к делу.
Хмырь открыл массивный сейф и принялся копаться в бумагах. Наконец вытащил один листок и сел за стол.
– Вот посмотри, – сказал Хмырь.
Перед Аликом лежала хорошая копия официального письма городской администрации о приобретении Генералу трехкомнатной квартиры в Краснодаре, а Сировой – двухкомнатной в Уфе за счет бюджета маленького нефтяного города. Письмо имело исходящий номер и подпись заместителя мэра города.
«Воруют суки. Прямая улика, – оценил документ Алик. – За бюджетный счет продолжают приобретаться квартиры для нужных людей. Это можно спокойно публиковать, даже не редактируя».
– Хорошо бы снять копию, – попросил он.
– Нет. Снять копию не получится, – начал знакомую игру Хмырь. – К этому документу имело доступ немного людей. Начнут разбираться, могут быстро определить, откуда ты взял информацию.
– Так вам какая разница, вы же из другого ведомства? – спросил Алик. – Вы же не подчиняетесь городу.
– Я тоже человек подневольный, и надо мной есть начальство, – ответил Хмырь. – А какие там связи и как они могут аукнуться, сказать сложно.
– А как без копии я могу использовать эту информацию?
– Ты же видел…
«Задрал! – мысленно ругнул хитрого следователя Алик. – Что за бестия! Вечно покрутит перед носом колбасой и прячет ее в холодильник». Хмырь вытянул из пальцев Алика документ, убрал его в сейф и прокрутил ключ до упора.
– Бестолковая встреча получилась, – удрученно заметил Алик. – Что толку с документа, о котором только знаешь.
– Ладно, могу кое-что подсказать, – интригующе произнес Хмырь. – Если ты собираешь материал на городскую администрацию и Хамовского, сходи в милицию и посмотри сводки за прошедшую неделю. Там есть интересная информация.
– О чем? – спросил Алик.
– Сходи и посмотри. Найти недолго…
О сути дела, как и о тексте документа, Хмырь опять не проговорился. Скрытый диктофон не помог. Хмырь знал правила и умел говорить не хуже матерого политика. Нужную сводку в дежурной части милиции Алик легко сыскал и опубликовал в своей газете без правки:
«В Тюмени ведущий специалист управления материально-технического снабжения администрации города Драчилов, используя поддельные документы, закупил компьютерную технику на бюджетные деньги…». В финале он немного покуражился: «Компьютеры нашей администрации, конечно, очень нужны. Чиновники любят между делом раскладывать марьяж, пасьянс, а то и в стратегию или боевичок срезаться с электронным мозгом». Заметка имела успех.
Сотрудничество с Хмырем стало одним из многих плодов прошлой победы Алика над собой. Он давно осознал, что не надо загонять людей в моральные клетки, придумывать им определения, клеймить, отворачиваться от них. Надо находить интерес в общении с любым человеком. Да, Хмырь – весьма ловкий и опасный человек. Его предложение встретиться по поводу любопытных документов можно было воспринять и так: «Он в прошлом хотел меня подставить на Кабановском-старшем. Надо его забыть и не связываться». Тогда не было бы интересного продолжения…
Все люди имеют недостатки, но для того чтобы иметь успех, не надо отгораживаться забором, надо уметь прощать и сотрудничать. Но как использовать информацию о квартирах, закупленных чиновникам за счет бюджета, Алик не знал.
***
– Твоих слов, конечно, маловато, – рассуждал по этому поводу Сапа. – Такое письмо бы не пересказывать, а отсканировать и выдать в газете в виде оригинала. Без комментариев. Иначе опять скажут, что все это грязь. А без письма… Возможно – фальшивка. Представь себе, если Хмырь действует с подачи Хамовского. Если они специально тебе письмо подсунули, как хорошо сработанную липу, чтобы уничтожить. Надо определить, фальшивка или нет.
Алик пошел по хорошо зарекомендовавшей себя схеме. Он написал запрос на получение информации, начинавшийся со слов: «Прошу ознакомить с письмом…». Указал номер и дату регистрации письма, которые он машинально записал в блокнот. Отнес запрос в организационный отдел городской администрации, зарегистрировал, оставив второй экземпляр себе, и стал ждать. Рассуждал Алик при этом просто. Отказ в предоставлении информации означал бы, что письмо с компрометирующим текстом реально существует. В обратном случае Алика ознакомили бы с письмом, где значился другой текст, или сообщили, что письма под таким номером не существует. Но то, что произошло дальше, яснее официального отказа отвергло сомнения в подлинности информации, полученной от Хмыря…
Лизадков, заместитель мэра маленького нефтяного города, получив хороший втык от Хамовского, орал на своих подчиненных:
– Кто из вас это сделал? Кто иуда? Кто продал? Кто дал Роботу письмо из архива? Еще такое будет, всех на хрен поменяю!…
– Да что вы кричите? – взволнованно оправдывались подчиненные. – Мы никогда. Успокойтесь. Не надо сердце рвать. Это же текучка.
– Какая, на хрен, текучка?! Вы знаете, как он ломает?! Вы знаете, как ломает Хамовский?! – кричал бледно-красный Лизадков, вытаращив глаза. – Вот так ломает.
Лизадков скребанул ладонями с растопыренными пальцами по воздуху и словно поймал в нем прозрачную палку, сильно сжал кулаки, так, что щеки затряслись от напряжения, и резко бросил их вниз по обе стороны колена.
– Вот так ломает! – прохрипел он и вовремя моргнул, иначе его вытаращенные глаза просто бы выскочили из-под широко разошедшихся век, как косточки от вишни из-под сильных пальцев…
До Алика долетели отголоски этого происшествия. В «Дробинке» вышла небольшая заметка…
ФАЛЬШИВКА
«Подражание и подделка – вот будущее настоящих ценностей»
«Профессия журналиста в принципе не сложна, публична, артистична, удовлетворяет тщеславие, – размышлял Алик по пути к Сапе. – Ее можно сделать спокойной и доходной. Этим она многих привлекает: чем махать лопатой на морозе, лучше за те же деньги сидеть в тепле. Ясно, что у многих журналистов есть дети, семьи. Ценность материального благополучия очевидна, тем более здесь, куда все приехали зарабатывать деньги. В самом стремлении больше заработать нет ничего плохого. Лишь бы это стремление не уничтожало понятия чести, достоинства, совести…
Власти выгодно, чтобы журналистика стала приятной их слуху и глазу. Сколько стоит молчание или направленное блеяние прессы? Подчас недорого. Люди раболепствуют за ту же зарплату. Продажность заключается не в количестве принятых денег. История человечества знает случай, когда за несколько монет был предан самый известный и уважаемый человек на Земле. Суть продажности заключается в сохранении хороших отношений с господином и стремлении услужить…»
Показался серый, но почему-то светлый и притягательный Сапин подъезд с нависшим сверху козырьком-плитой и покореженными входными дверями. Довольно обычный подъезд крупнопанельного дома маленького нефтяного города. Алик поднялся на первую ступеньку, представлявшую всю ту же железобетонную плиту, перескочил через прут, торчащий из тела плиты, словно змея, собиравшаяся ужалить, и забежал внутрь подъезда, где во тьме первого этажа осторожно нащупал ногами ступени ведущие вверх. Глазок Сапиной двери пронзался дневным светом, идущим изнутри. Это означало, что внутренняя дверь открыта, и кто-то дома есть.
Открыл Сапа. Он изрядно потолстел и обрюзг с того времени, как Алик встретился с ним в первый раз, но бородка по-прежнему топорщилась, а в глазах сияла покровительственная мудрость.
– Смотрите, что я нашел в почтовом ящике, – сказал Алик, протягивая Сапе листок бумаги.
– Что это? – спросил Сапа.
– Моя «Дробинка», только фальшивая, – ответил Алик. – Одну полоску выпустили. Отсканировали оформление газеты, убрали мои статьи и внесли свою.
– Смотри-ка, тут Матушку распекают, начальника пожарной охраны, – комментировал Сапа по мере того, как читал. – В принципе все правильно, но возникает ощущение, что писал все это шизофреник.
– Уважают, раз новые способы борьбы со мной изыскивают, – горделиво продолжил Алик.
– Ты не на шутку разозлил начальство, – согласился Сапа. – У тебя все вокруг враги, нет ни одного союзника.
– Так я ж по делу. Одни воруют, другие покрывают, третьим все равно…
– Пойми, принцип власти такой – деньги! – рассердился Сапа. – Иначе не имеет смысла. Если бы обладание властью не давало возможности красть и использовать все законные способы для наращивания своих доходов, а давало бы возможность только честно работать на народ, то в стране установилось бы безвластие. Кому такая власть нужна? Сегодня мало что значат понятия «патриотизм» и «страдание за отечество, за правду». Ради чего принимать на себя обязательства, если народ в наибольшей своей массе подозрительный, падкий на бесплатное, боязливый за свой кусок хлеба, молчаливый, всепрощающий сильного и продажный. Работать на этих людей призваны такие же человечки, жаждущие богатства наличного, а не духовного, жаждущие обеспечить своих детей, а лучше и внуков. Мысли-то и сверху, и снизу одни и те же. Возможности разные. А ты подрубаешь основы. Как ты будешь формировать свою команду, когда пойдешь на выборы мэра?
– Я не раз вам говорил: не нужна мне эта должность, – обиженно ответил Алик.
– А тогда зачем ты его критикуешь, зачем ты раскачиваешь кресло? – укорил Сапа.
– Чтобы он исправился, стал лучше работать. Я же говорил. Если Хамовский не исправится, то на выборах к власти придет другой человек, справедливее…

– Что за детский лепет ты несешь? – спросил Сапа. – Иногда тебя послушаешь и разочаруешься. Я еще раз повторю: я был во главе этого города и точно знаю, что пока с кресла не грохнешься – ничего не поймешь. Кто исправится? Он давно продал душу дьяволу. Я точно знаю, что у него есть человек, колдующий для него. Даже цвет здания администрации не случаен – это цвет магического пламени, в котором сгорает все противное ему. У него продумана даже такая, плевая на первый взгляд мелочь, в которую не каждый верит…
– Да бросьте вы, – изумился Алик. – Быть такого не может.
– Что бросать?! – рассердился Сапа. – Не понимаешь – не суди. Я сам немного посвящен, и есть в маленьком нефтяном городе другие люди, посвященные в магию. Многие думают о тебе, мысленно за тебя и тем самым помогают, а ты – «бросьте»!
– Ладно, извините, – сказал Алик, чтобы прекратить неприятный ему разговор. – Я только хотел сказать, что критика заставляет человека изменяться, исправляться…
– Он исправится?! – еще более осерчал Сапа. – Он долго учился интригам и умению влиять на людей, он много читал, перенимал у приближенных нужные ему качества. Он увольняет и преследует людей, которые за тебя. Хотя постой: в том, что он изменится, ты прав, но в другом смысле. Он учтет все, что ты говоришь, и усилит свою систему с твоей помощью, если ты не переломишь ему хребет и не станешь мэром. Пока ты его кусаешь и, как собака, лаешь, толку не будет. Надо власть забирать, надо не бить, а убивать.
Алик невольно опустил глаза. Кроме Сапы из-за Алика с работы слетела и директор музея маленького нефтяного города. Она распространяла «Дробинку» и, воодушевленная, по глупости раздала газету водителям чиновников городской администрации, а те незамедлительно побежали к своим начальникам и все рассказали.
– Ты его критикуешь, но не для себя, – продолжал Сапа. – Расчищаешь поляну для чужой политической игры, а вдруг к власти придет худший человек. С другой стороны, все равно, кто придет к власти. Мне, да и тебе нужен белый лист, чтобы начать работать заново. Давай вернемся к этому разговору после выборов в округ. Если тебя выберут…
– На это можно и не надеяться, – уверенно ответил Алик…
Чай к концу разговора остался нетронутым и остыл, теплота покидала и отношения политических сообщников. Алик похрустел сухариками и испарился. Сапа задумался. Вытанцовывалось, что он стал жертвой обстоятельств и неправильного расчета. Ему казалось, что все люди изначально желают карьерного роста. Он не мог помыслить, что Алику не нужна власть, что ему нужно только бороться с несправедливостью вначале в лице Семеныча, а потом и всеми остальными. Способности без желания что машина без бензина.
«Дурдом, – размышлял он. – Долг?! Детский сад. Моральный инвалид. Если бы я знал заранее… Но Петровна?! Как просила! Женщины?! От них только зло. Постоянно лезут в дела, в которых ничего не понимают».
Вечером того же дня у Сапы с Петровной прогремела серьезная размолвка с последующим обоюдным молчанием в течение недели. Это они прекрасно умели: ходили по двухкомнатной квартире и совершенно не замечали друг друга, если не принимать во внимание то, что они не сталкивались и не дрались в узких проходах, а терпеливо пропускали…
***
Сапа гнал Алика на выборы, как хозяин упрямого барана – в сарай. «Если система не развивается, она умирает», – эти слова Сапы застряли у Алика где-то в голове и гнали на свершения, но вера Сапы в колдовство и уверенность, что Хамовский обращается к магии, ошеломили Алика и требовали усомниться в уме политического Учителя. Это было невероятно, чтобы такой рациональномыслящий человек, как Хамовский, мэр маленького нефтяного города, увлекался оккультизмом. Натура у Алика была тонко чувствующая, психика не крепкая. Его сны, о чем мы уже говорили, часто становились продолжением разговоров с Сапой…
ОБОРОТНИ
«Проверить человека можно только при опасном свете луны…»
Они считали, что прибыли на великолепный тропический остров, изобиловавший дарами богатой природы и подношениями туземцев, на нескончаемый праздник жизни, несмотря на то что срок был оговорен. Хотя что такое неделя, месяц, год или несколько лет, как не бесконечность, когда начинаешь? Они самые обычные люди: мужчины и женщины. Симпатичные и не очень, стройные и полноватые, шевелюристые и не очень. Море вылизывало берег и их загорелые тела. Теплый, напившийся влаги ветер ласкал упругие, словно бы изрезанные листья пальм и их загорелые тела. Само солнце каждый день утром выходило из-за горизонта, чтобы осветить путь птицам, зверям, множеству людей и в особенности им – избранным. Туземцы, почтительно наклонив головы, смиренно, исполненные чуть ли не богобоязненного страха, подходили к своим истуканам и к ним… Казалось, все служило и поклонялось им по привычке, из страха, в силу правил мирозданья…
Но оговоренный срок закончился. Сытость, довольство, значимость – их нелегко лишаться, и избранные выпили сироп из черно-красных, кровавых плодов кустарника власти – так называли туземцы серо-зеленого цвета ветвистое паразитарное кривоствольное растение, расселившееся буквально на всех здоровых деревьях острова и, по преданиям, управляющее их ростом.
Загорелые мужчины и женщины танцевали и веселились, передавая чашу тем, кто еще не выпил, а боязливые туземцы поглядывали на них издалека, поскольку знали, чем все кончится.
Длинные, как кухонные ножи для разделки мяса, когти полезли прямо из кончиков пальцев, из-под ногтей, у тех, кто выпил сироп власти первым. Жесткие, как и швейные иглы, щетинки шерсти, пробивая кожу, появились вначале на ладонях, затем стали распространяться по всему телу и, достигнув лица, вызвали и в нем ужасные изменения: появилась хищническая злоба, из-под губ показались растущие молочно-белые клыки, глаза превратились в щелочки, похожие на остатки убывающей луны, зрачки излучали плотоядные злобу. Человек, глазами которого Алик наблюдал за происходящим, осознав, что получившиеся из людей звери ищут жертв, быстрее выпил сироп, чтобы остаться в живых. Остальные были растерзаны. Людоподобные звери стали оглядываться в поисках добычи и заметили выглядывавших из-за пальм туземцев. Они бросились на них, но раздались громоподобные звуки, мощный топот, и появились слоны не менее свирепого вида, чем людоподобные звери.
Схватка была яростной, но проигрышной для людоподобных. Все-таки, несмотря на устрашающий вид, они оставались по-прежнему смертными. Выжили только те, кто сумел усилием воли подавить в себе звериные инстинкты и вновь стать человеком, по крайней мере, вернуть облик. Шерсть сошла с них, когти и клыки исчезли. Но каждый из них знал, что временно. В любой момент, как придет нужда, появится желание – они вновь превратятся в людоподобных зверей. Туземцы пощадили оставшихся, посчитав, что не все испили напитка из ягод кустарника власти.
К острову приплыли корабли и развезли людоподобных по разным странам и городам, к семьям и близким. Их дети генетически перенимали странные качества родителей, и так из поколения в поколение. И что интересно: окружающие чувствовали необычность тех, кто сам выпил сироп власти или состоял в родстве, пусть даже в самом дальнем, с людоподобным. Они вызывали невольное уважение, необъяснимую боязнь. Им было гарантировано продвижение по службе, по лестнице власти, и, когда им бывало надо, они могли выпускать когти и клыки.
Они стали оборотнями. Им не нужна луна, чтобы обрести звериный вид, они легко получали деньги, должности, почести…
***
«Есть правда в этом видении, есть, – размышлял утром Алик. – Только оборотень может вскарабкаться на пирамиду власти: добрый и радушный средь рядовой публики, кровожадный, обладающий звериными инстинктами средь своих. Каждый из начальственных чиновников – это оборотень. Даже самая умилительная тетушка из социальной защиты населения обладает всеми навыками хищника. Разорвет, по-доброму улыбаясь, и даже поплачет на могилке…»
ВЗЛЕТ
«Если глыба падает не на голову, а на другую сторону акробатической доски, то человек может взлететь очень даже высоко»
До середины весны двухтысячного года в «Дробинке» вышло четыре статьи про Семеныча, и каждая из них возбуждала у начальника налоговой полиции обессонивающее желание закрыть расписавшуюся журналистскую сволочь в камере и безо всяких объяснений хорошенько оттузить, предварительно засунув паяльник, куда надо. Не успокоило его даже то, что редактор газеты маленького нефтяного российского города, хохол Квашняков, которому на Россию было в принципе наплевать, предоставил возможность Семенычу реабилитироваться. На бумажных, чернеющих типографской краской полосах, с которых администрация маленького нефтяного города скармливала населению успокаивающие объяснения подъема расценок на жилищные услуги, было напечатано интервью, где Семеныч с благожелательной талантливой подачи журналиста выглядел чистеньким поросеночком, в отличие от Алика, отнесенного к коллективу соловьев, поющих исключительно в кустах. Текст был исполнен добротно, но ржавчина, покрытая праздничной краской, гниет по-прежнему и лезет наружу.

Крысы бегут с тонущего корабля, птицы, предчувствуя наступление зимы, улетают на юг, муравьи перед грозой прячутся в муравейнике. Всякая тварь бережется, что говорить о Семеныче?! Он понимал, что надо покидать маленький нефтяной город, где его авторитет уничтожен. Даже самый пугливый предприниматель смотрел на него теперь не иначе как со злорадным весельем во взгляде. Он ходил по улицам и коридорам мрачный, испрашивая у судьбы совета: куда и за сколько? Как часто и случается у людей настойчиво ищущих, решение пришло само собой. Позвонил начальник налоговой полиции округа Закоулкин, давний друг Семеныча, и нежданно обрадовал:
– Можешь слететь на «землю» на хорошее место. В Екатеринбург. На заместителя начальника налоговой полиции. Тебя рекомендовал. Все согласны.
– В час иссушающей печали,
Когда от жажды меркнет свет,
Вдруг гром раздастся. Вы мечтали?
Так будьте счастливы, поэт!
– изумленно продекламировал Семеныч.
– Семеныч, ты о чем? – настороженно спросил Закоулкин, готовый подумать о непостоянстве всего разумного.
– Извини. Только стихами Рифмоплетова и смог. Ты слишком вовремя, – спокойно ответил Семеныч. – Но ты не напутал?
– Есть место, – подтвердилЗакоулкин. – Великолепное предложение, но сам понимаешь, такие возможности даром в пакет не положат – не предприниматели на базаре. Надо гостинчик снарядить кое-кому. Я так и говорил о тебе: человек благодарный, отплатит.
– Не тяни, говори, что надо, – нетерпеливо попросил Семеныч. – Меня тут так ославили, что оставаться далее нельзя.
– В принципе, надо не много за такое дело, – ответил Закоулкин. – Двести тысяч рублей – ровно на две новеньких автомашины.
– Действительно не много, – согласился Семеныч. – Как думаешь, если часть проплачу муксуном? Есть выход на рыбозавод. Муксун – рыбка знатная, дефицитная, такую в Екатеринбурге и не едали. Допустим, килограмм триста муксуна и сто пятьдесят тысяч рублей.
– Пойдет, – после короткой паузы согласился Закоулкин.
Подношения он выторговывал не кому-то, а исключительно себе, и чрезмерное восхищение Семеныча его предложением о смене должности наталкивало на перспективы…
Ни в сборе рыбы, ни в сборе денег у Семеныча проблем не было. Директор рыбозавода отдал с радостью три центнера муксуна, лишь бы не проверяли его бухгалтерию, а сто пятьдесят тысяч рублей подчиненные Семеныча быстро собрали с предпринимателей на неиссякающие нужды налоговой полиции. Но этого оказалось мало…
– Когда переезжать на новое место? – спросил Семеныч у Закоулкина, передавая деньги и рыбу.
– Не торопись, – отмахнулся Закоулкин, считая новенькие тысячные купюры. – В Екатеринбурге запросили еще сто пятьдесят тысяч.
– Но предприниматели не резиновые, – взмолился Семеныч. – Они сейчас-то зыркали недобро. Вряд ли в скором времени дадут на ремонт крылец. Когда деньги нужны?
– Быстро, – ответил Закоулкин. – Ты уж постарайся…
Стараться Семенычу не пришлось, случай сам нашел его.
Витя, начальник службы собственной безопасности налоговой полиции, вынюхал то обстоятельство, что уже девять лет, больше половины срока существования маленького нефтяного города, неподалеку, среди сосен, ветров и болот, работал мини-завод по изготовлению бензина. Этот бензин документально оформляли как закупленный местным нефтяным предприятием «СНГ» у фирмы «Генерал плюс», в которую и перечислялись деньги, и Генералу было приятно. А чтоб никто не догадался, смола, остававшаяся от переработки нефти, закачивалась в скважины, глубоко под землю. Витя без промедления изъял документы спрятанного в лесах бензинового завода и подключил к расследованию милицию. Была задержана цистерна преступного местного бензина, по бумагам числившаяся как привозная.
Глыба правосудия, набирая скорость, летела…
Казалось, что маленький нефтяной город сотрясет большой скандал, но нефтяной Генерал на допросе, перемежая цензурные слова с нецензурными, последние мы упустим, сказал следователю:
– Что ты хочешь? Судьбу свою погубить спешишь? Ты ж ничего не сделаешь. Ты – никто. Ты – расходная ветошь. Тобою грязь вытрут и выбросят, если потребуется. Мозги напряги. Я сейчас Семенычу позвоню, и он все закроет…
Так и получилось. Семеныч забрал у Вити документы по мини-заводу, обвинил в краже топлива попавшегося водителя, отделавшегося условной судимостью. Дело было прекращено. Разговоры о тайном производстве бензина стихли, а документы вскоре вроде как потерялись. После этого Семенычевы проблемы с деньгами утряслись и его забрали на повышение в Екатеринбург. Туда же ушел и начальник налоговой полиции округа Закоулкин. Так завершилось близкое противостояние Алика и Семеныча.
***
За днем всегда приходит вечер, за вечером – ночь. Темнота придавила и душу Алика, и даже не столько из-за Семеныча, сколько из-за серьезной размолвки с Мариной.
РАССТАВАНИЕ У МОРЯ
«Нет худшего несчастья, чем то, до которого мы сами себя доводим…»
Горы, возвышавшиеся вдоль сочинского побережья, надежно удерживали темные отечные тучи. Поросшие лесом округлые вершины пронзили их, как иголки на спине ежа – листья и грибы. Тучи зависли над дивным, уютным санаторием, малахитовым парком, разрезанным множеством каменистых тропинок. Лишь иногда в их разрывах появлялся аппетитный ярко-желтый королевский персик солнца, и тогда отдыхающие устремлялись на пляж. Алик с Мариной приехали сюда отдохнуть. Казалось бы, наслаждайся, вкушай и плескайся, но Алика не отпускало чувство ревности, не исправимое, как бессонница. Интуиция не подвела…
Блестящий стеклом, кафелем и нержавейкой шведский стол по-русски предлагал, что дают, но не больше, чем разрешено. Пестрая очередь в ярких шортах, майках и прочих легких одеждах на резиновых платформах сланцев спокойно скользила вдоль раздачи, мелькали лица, загорелые, испаренные, изжаренные даже редким солнцем. В легкой сутолоке возле набора блюд стояла Марина, не зная, что рядом, сидя за столиком, за ней наблюдает Алик. Они расстались на пляже. Алик сослался на отсутствие аппетита, но, едва тайная подруга покинула его, поспешил в ресторан и теперь внимательно смотрел в ее сторону, но не на нее, а на приятного светловолосого мужчину, будто случайно оказавшегося рядом. Он бы не обратил на него внимания, если бы не многообещающий взгляд, который бросила ему Марина. Алик узнал этот взгляд.
Светловолосый слегка обнял Марину, она на мгновенье прильнула к нему. «Да они же давно знакомы, – понял Алик. – Как получилось? Где? Здесь? Вряд ли. Хотя ничего сложного: администрация нашего маленького нефтяного городка закупает путевки своему народу в одни и те же санатории. Договорились. Вот аферистка. Мужика своего обманывает со мной, а меня с этим светловолосым…»
Алик не остался пассивным зрителем и абстрактным философом: подошел к влюбленным, взял со стола большую миску салата из помидоров и огурцов с луком и майонезом и высыпал ее содержимое на лицо обидчика. Светловолосый приобрел весьма неприятный вид, но драки не произошло. Он знал Алика и понял, почему с его физиономии капает майонез, падают зеленые и красные кусочки. Светловолосый сам работал на хорошей должности в муниципальном предприятии и хотел спокойно работать и дальше, связываться с прессой не было желания. Алик отвернулся и ушел, оставив недоумевающую очередь и растерявшуюся Марину со светловолосым. «Что за женщина!? Почему!? – размышлял Алик, направляясь к морю. – Привез ее сюда, а она…»
Цветы, когда-то селившиеся в Алика сердце, окрашивавшие окружающий мир в умилительные тона, заменявшие самые отвратительные запахи сладкими благоуханиями, вдруг увяли. Их нежные лепестки устелили коридоры его души, словно отмершие осенью листья – тропинки желанного парка. Он опять остро ощутил исконное ожесточение Вселенной, хоронящееся за улыбками проходивших мимо отдыхающих и сытым добрым блеском их счастливых глаз.
Пляж прятался за густыми кронами долговязых деревьев и располагался недалеко от гостиницы: буквально метрах в двухстах – прибрежная россыпь гальки, стоило только спуститься по извилистой истоптанной дороге и пройти под мостом, по которому, сердито и спешно стуча колесами, время от времени пробегали вереницы грязных от пыли и дыма железнодорожных вагонов. За ним Алика встретили множество обнаженных спин, трепещущая на ветру разноцветная ткань солнечных зонтов и стыкующееся с ярко-голубым небом темное, блещущее солнцем море – совсем как две страницы увлекательной ненадоедливой книги. Из-за облаков поглядывало солнце, пробегая притягательными лучами по пляжу, как дальний маяк лучом прожектора – по дали моря в поисках потерявших надежду кораблей. Никто не купался. Крутые пружины шторма отталкивали легкие желания. Волны, ворча и ругаясь, разбивались о потемневшую от влаги полоску прибрежной гальки, выплевывая бело-серую пену и брызгая соленой слюной. «Вот она – стихия! Войду – и будь что будет, – подумал Алик. – Плавать умею, может выплыву. Главное, чтоб вещи не сперли». Он бережно ощупал свернутые пополам купюры, лежавшие в правом кармане летних сатиновых штанов в синюю клетку, и пошел в раздевалку.
Раздевалка была встроена в длинное одноэтажное здание, где помещения, кроме того, занимали несколько кафе, склад проката развлекательного инвентаря и офисы. Алик прошел к одежным ящичкам, располагавшимся за маленьким черным квадратиком с изображением мужского силуэта, заплатив несколько рублей тетушке, сидевшей на страже этого заведения, и задумчиво замер, когда снял брюки. Его взору предстали яркие полосатые семейные трусы свободного пошива из мягкой модной ткани с зажигательной ширинкой на трех черных пуговках.
– Блин, – кулинарно и тихо ругнулся Алик. – Забыл переодеться. Одно к одному. Ну, трусы так трусы. Не возвращаться же.
Алик положил одежду в шкафчик и вышел…
Дождь хлынул резко, словно кто-то открыл слив в небесной ванне, и неожиданно, потому что тени от грозовых туч, соскочивших с прибрежных черноморских гор, не успели затемнить полоску побережья. К кузнецкому бою волн и полотняному трепету зонтиков прибавилась суета вскочивших отдыхающих, спешно собиравших вещи и убегавших под крышу. Скулы Алика наполнились лимонным привкусом досады. Он стоял под дождем и заворожено глядел на разбушевавшееся море.
Под южными, но прохладными струями в разинувшее многие пасти море заходить расхотелось, словно дождь смыл часть душевной тоски с Алика. Он вернулся в раздевалку, взял деньги и пошел в пляжный бар. Время забулькало глотками. Дешевое грузинское вино пилось сладко, и Алик незаметно для себя опьянел. Когда, покачиваясь, он вышел из бара, волны продолжали безумствовать, а дождь лил. В мокрых, прилипших к крепким бедрам, почти прозрачных трусах Алик вдруг захотел лечь и уснуть. Ему стало не до Марины: он спьяну легко забыл о ней. Его вообще перестали тревожить все события мира, нахлынуло приятное отупение, в пьяной голове утонули все мысли, кроме осознания слабости ног. Он пошел назад и в какой-то момент отключился…, очнулся в незнакомом зале, рядом со стойкой, на которой большими красными буквами горела надпись: «АДМИНИСТРАТОР».
Вокруг стояли какие-то люди и оживленно болтали, показывая на Алика пальцами и укоризненно кивая головами.
– А-а-а!!! Проснулся чудило, смотри-ка, открыл гляделки! Давай, давай вставай и иди отсюда, пьяница! – сказала начальственная женщина, судя по комплекции которой, можно было сделать вывод о преимуществе ее пищеварительного тракта над физической активностью.
Стыда не было. Да и какой стыд на больную голову, в которую опять пришли мысли о Марине и светловолосом. Алик, покачиваясь, с трудом встал, ощущая, как все кости скрипят, болят мышцы, занемевшие от лежки на полу, и огляделся. На него смотрели в основном сморщенные, увядшие лица пенсионеров, никак не меньше, а то и родителей пенсионеров, дай бог им жизни.
– Нашел куда зайти, бесстыжий! – продолжала начальственная. – В этом санатории отдыхают люди почтенного возраста, отработавшие на страну, взрастившую такое барахло, как ты! Да еще и голый почти!? Где одежду потерял? Пропил?
– Извините, – еле выговорил Алик. – Домой шел. Мы неподалеку отдыхаем. На пляже разделся и забыл…
– Ну так иди домой, – приказала начальственная. – Иди! Что смотришь? Скажи спасибо, что милицию не вызвали. Как сюда пробрался незаметно, не пойму. Сменщица спала что ли? Иди…
Возвращался тягостно. Номер пустовал. Марины не было. «Ушла к нему», – вяло подумал Алик. Чтобы скорбно переживать по этому поводу, сил не накопилось. Алик лег на кровать и уснул. Проснулся от стука в дверь. Открыл – горничная.
– Уборочку сделать? – с заметной надеждой на то, что откажутся, спросила она.
Алик не обманул ее желаний и поплелся к холодильнику. Гортань, иссушенная жаждой, горела до ощущения, что если неаккуратно сглотнуть, то она мгновенно растрескается и станет ужасно похожей на русло обезвоженной солнцем реки, в желудке урчал голод. За дверью холодильника лежали тонкие кружочки колбасы, листики сыра, булочки – еда, привычно натасканная из столовой. Под морозилкой покоились две бутылки «Кока-колы». Перекусил не торопясь, чувствуя, как слезы от вчерашней обиды вот-вот выскочат на свет божий. Без сомнения, он ждал и надеялся, но специально ждать Марину не собирался. Он не уступал даже времени. Если не появится – то прощай, если появится – то может… Что будет после «может», Алик не знал. Как только был съеден последний бутерброд, точнее последняя булочка с колбасой и булочка с сыром, выпита вся «Кока-кола», Алик принялся собирать вещи. И опять, когда замки-молнии пропели глухие прощальные песни, Марина не появилась. Алик взял сумку, мягко захлопнул дверь в номер и уехал в аэропорт…
***
Алику казалось, что размолвка произошла внезапно, но как часто самые внимательные мужчины оказываются слепы в самых обыденных ситуациях!
Любовь без подарков что огород без удобрений. Марина долго ждала, что Алик, при его большой журналистской популярности в маленьком нефтяном городе, сумеет выжать из славы хоть немного денег сверх зарплаты, чтобы сделать ее жизнь более интересной. Проходили месяцы, и уже начали проходить годы, но никаких зажиточных изменений в отношениях между Аликом и Мариной не происходило. Это жены вынужденно терпят малобюджетных мужей, иногда или чаще чем надо, напоминают им о том, кто кого содержит, но все равно не уходят из семьи и в силу привычки, и в силу необъяснимой жалости к несуразному супругу. Такова была Роза, жена Алика.
Любовницы не имеют штампа в паспорте, извещающего об официальном союзе с конкретным мужчиной, стараются держать скрытный любовный союз в тайне и потому не боятся общественных мнений относительно разрыва любовных отношений. Марина была любовницей, прекрасно знала, как она выглядит в обтягивающих джинсах и, что самое главное, какое впечатление она производит на мужчин. При этом Марина была не только любовницей, но и женой, процесс мышления которой был отличен от большинства подобных ей женщин, точнее просто женщин, поскольку подобный сосуд часто наполняется подобным содержанием.

Маринин муж Павел тоже не имел больше одной зарплаты. Это обидное качество двух ее мужчин, почти бедняцкое в масштабах маленького нефтяного города, постепенно охладило сердце Марины, но не сокрушило, а заставило искать другие пути к счастью. Вначале она три раза в неделю сразу после закрытия магазина училась владению компьютером, потом бросила магазин и уговорила Квашнякова, чтобы тот принял ее наборщиком текстов, затем она сама стала писать, познакомилась со многими начальниками маленького нефтяного города и всеми его журналистами, в том числе и с Аидой, той самой любительницей поэзии, разоблачившей плагиатора Лесника.
***
Аида, стройная рыжеволосая женщина, активная, словно голодная лисица, не стеснялась мимолетных увлечений и бравировала ими, как только предоставлялась возможность. Она была легка на подъем, и мгновенно бросала в своего мужа пустыми трехлитровыми банками и прочей стеклотарой, если он вслух возмущался ее поздними возвращениями или не доверял ее рассказам о затянувшихся интервью, деловых поездках… Правда меткостью Аида не отличалась и летящая посуда чаще всего поражала мебель, стены и хрупкие предметы интерьера.
В конце концов, муж не выдержал анархического полигамного характера Аиды и устал уклоняться от банок. Аида надоело непонимание близкого человека и скандалы. Супруги расстались.
Она покинула редакцию газеты маленького нефтяного города и удачно устроилась на работу в одно из двух местных нефтегазодобывающих управлений, сокращенно НГДУ, пресс-секретарем, или иначе, как между собой говорили Марина с Аидой при дружеских встречах, секретарем под прессом. Каким прессом? Конечно, своего начальника… Они самозабвенно смеялись этой шутке каждый раз, потому что уже давно не были девственницами, предполагающими под прессом исключительно железный безжизненный поршень.
Ближайший к Аиде начальник НГДУ, женатый, но по-прежнему отчаянный жизнелюб Жульев, полное лето добровольно провел на Севере, отправив в отпуск свою не очень красивую супругу, для того чтобы с вечера до утра предаваться сумасшедшей любви с Аидой. Любовники не закрывали глаз, не считая сладостных мгновений высокий переживаний, только-только разорвав объятья, пели, пели в полный голос, не стесняясь, что их услышат соседи. Жульев брал в руки давно забытую, пылившуюся в кладовке гитару и выдавал искусные мелодии, услаждая слух любовной подруги, пребывавшей в его объятиях не только по причине сердечной привязанности, но и из меркантильных соображений укрепления позиций в должности, чтобы не сократили или еще чего. Но разве имеют значение причины, если результат прекрасен и обоюдоприятен? А утром Жульев шел на работу и ему было не до плана по добыче нефти. Глаза сами собой закрывались, но в данном случае, слава Аллаху, все подчиненные воспринимали это как внушающую уважение задумчивость.
Они появлялись вместе на всех официальных и неофициальных приемах. Коллеги знали глубину их тайных отношений, в верхах нефтяного руководства легкий флирт считался нормальным явлением и никто не осуждал, а наоборот – ставили в пример, завидовали. Так, председатель профкома, лысоватый, пухлощекий и гладкоречивый Вракин, тоже засматривался на Аиду, но вынужден был удовлетвориться близким расположением кабинетов и частыми визитами. Дальше милых бесед дело не пошло. По крайней мере, так говорила Аида, а говорила она многое, и кое-что Марина помнила. Особенно ей запомнилось убедительное околонаучное выражение Аиды:
– Запомни. Женщины бывают двух типов: наседки и проститутки. Первые возятся с детьми и чугунками на кухне. Вторые живут легко и весело…
***
Под влиянием дружбы с Аидой, ведомая собственными жизненными исканиями, Марина стала встречаться с другими мужчинами, пока не отказываясь от старых. Светловолосый стал удачным приобретением. Мало того что он оказался щедрым, он мог быть таковым часто. Марина выдала ему Алика за своего мужа. Так они втроем и оказались в одном санатории. Салатный скандал подсказал ей, что пора выбирать. Она осталась у светловолосого…
***
После возвращения с юга на Крайний Север в сердце Марины словно рухнула незримая, но прочная плотина под напором мощного водного потока. Она ушла от мужа, от Павла, оставив ему на время ребенка и квартиру, вернулась к маме в двухэтажный деревянный многоквартирный жилой дом и стала ждать диковинной встречи со сказочно богатым нефтяником. Помогла ей в этом наша знакомая Аида. Она позвонила и сказала:
– Срочно завтра беги к Жульеву. Освободилось место секретарши. Я уже договорилась.
ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ЛЮБОВЬ
«Орел может полюбить воробья, но только на время завтрака»
Знакомства, как осенние листья, опадают с неиссякающих деревьев случайностей, и лишь некоторые из них забиваются под воротник теплой куртки, ближе к сердцу, прилипают к плечам, наподобие погон, или полам шляпы, как кокарда. Листья-знакомства иной раз бьют по лицу, но опять же иногда, когда оторвешь мокрый хулиганистый лист от щеки, то оказывается, он красив: красно-желтые тона, игривый зубчатый край – может сиять в гербарии. Таким же хлестким стало первое знакомство Марины со Станиславом Тихомировичем…
Марина устроилась секретаршей к Жульеву, начальнику НГДУ, и теперь сидела за шикарным дубовым столом на вращающемся кресле перед экраном компьютера последней модели, отвечала на телефонные звонки, заходила к шефу по вызову, печатала письма и документы, а между делом строила глазки посетителям, потому что среди них встречались люди солидные, а она не замужем.
«Хватит ласкать бедноту, – рассуждала она. – Если впрягаться в семейную телегу, то в такую, чтобы с мощным мотором, кондиционером – в общем, со всеми машинными благами и чтобы водитель с хорошим жалованием для покупки качественного житейского бензина».
Любая работа имеет вредности: пыль, газ, вирусы, разрушительные эмоции… Но с любыми вредностями можно справиться. Марина научилась работать с Жульевым: она вставляла в каждое ухо по своему аккуратному указательному пальчику, когда шеф при ней нецензурно объяснялся с подчиненными, к чему он имел обыкновение, поскольку прошел одну жизненную школу с мэром маленького нефтяного города Хамовским. Смысл сказанного, конечно, проникал в уши, но громкость снижалась. Она стояла с пальцами в ушах, выказывая внешнее несогласие и скромность, пока шеф не стихал, и ждала, ждала, ждала…
Легкие увлечения, приятные и короткие, разнообразили ее жизнь. Посетители Жульева иной раз оломевали перед ней, будто Марина излучала вполне реальную энергию, парализующую и завораживающую не потерявшие чувствительности мужские сердца и умы. Сам шеф, бывало, прикладывал по-дружески пятерню к ней чуть ниже талии, надеясь на взаимность интересов, но после нескольких попыток, под действием космического холода, возникавшего в глазках Марины, перестал.
Ножки у нее были что надо: не худые, как сучья, и не толстые, как свиные сосиски, а гладкие и округлые в нужных местах, без признаков целлюлита и магнетические для взоров и романтических лап. Марина не забывала их регулярно демонстрировать, прохаживаясь по кабинету, и скоро привыкла, что ожидающие приема мужчины становились чрезмерно вежливы и щедры на милые остроты, пытаясь вызвать благоволение с ее стороны. Она порой откликалась, порой нет, порой становилась мила и соглашалась вечером прогуляться по улицам и сходить в ресторан, порой выглядела высокомерно и недоступно, но вежливость всех прихожан считала обязательным атрибутом, приложением к своей должности, до тех пор, пока не познакомилась со Станиславом Тихомировичем, большой шишкой из вышестоящих менеджеров, или, иначе говоря, Генералом.
Он зашел в приемную, как дома на кухню, а лицо его было таково, будто впервые его не встретила летающая с тарелками предупредительно-улыбчивая жена, а на столе, где обычно ожидал щедрый на разносолы обед, было пусто. Вообще говоря, случайный уличный незнакомец при встрече вряд ли назвал бы его Станиславом Тихомировичем. Станиславом, даже Стасом – более подходяще, а в некоторых местах и Тусиком. Потому как выглядел Генерал слишком молодо для своей должности, где, следуя нормальному народному суеверию, должен восседать седеющий морщинистый старец. Но таковы реалии северных городов, промышляющих нефтью: рост в должности часто не соответствовал прожитым годам, опыту и знаниям, а соответствовал прочности знакомств с более высоким начальством, удачливости и уровню эксплуатации подчиненных. На Крайнем Севере, как на фронте, шла быстрая смена командиров, которых, правда, не отстреливали, а забирали в Москву или в другие теплые места, забирали по обоюдному согласию, потому что не родился еще северянин, не мечтавший сбежать с Севера на землю – на хорошую зарплату и должность.
– Начальник у себя? – спросил Станислав Тихомирович тоном, подразумевавшим ответ: «Для вас – всегда».
Сидевшие на мягких кожаных диванах кабинетные люди, нервно затеребив бумаги, лежавшие на коленях, устремили на Станислава Тихомировича взоры, в которых чувствовалась тревога, что человек с таким приказующим басом непременно пролезет вперед них, займет начальника надолго да еще испортит ему настроение, а тогда тот выместит все на них…
– У себя, но занят. Занимайте очередь, – автоматически ответила Марина.
– От тебя, дочка, требуется только ответить: на месте начальник или нет. Советы давай своим детям, если они у тебя есть, а очередь подождет – у меня срочное. Я двести километров проехал не для того, чтобы на диванах рассиживать, – сказал Станислав Тихомирович словами, каждое из которых, если перевести в тротиловый эквивалент, весило не меньше стандартного бомбового заряда, предназначенного для полного уничтожения как минимум одного заводского цеха, и направился к двери с табличкой: «Начальник».
– Вы что себе позволяете! Не смейте входить! – крикнула Марина и кинулась наперерез, двигавшемуся с уверенностью ледокола Станиславу Тихомировичу.
Генерал опередил, размашистым пинком растворил дверь, ударив по ее нижнему краю прямоугольным носком черной лакированной туфли. Дверь открылась резко, как крышечка карманных часов. Но вместо минутной стрелки в открывшемся проеме возник Станислав Тихомирович, а из-за него выглядывала часовая – Марина…
– Юрий Викторович, он сам. Я ему говорила! – крикнула она.
Круглолицый мордастый Жульев, сидевший на дальнем конце длинного широкого многоперсонного стола, оторвал хищный масляный пьяно-куражистый взгляд от личности, бледневшей напротив него, прервал мощный звук начальственного баса, от которого личность обильно потела, страшась и волнуясь, и все внимание сосредоточил на вошедших. Закрытие бензинового заводика, работавшего на территории его предприятия, изжогой травило душу. Он остался без привычного куска, который незаметно отламывал от генеральского пирога. Жульев повернул голову, как танк крутит башню, направляя дуло на новую цель, но выстрела не случилось. Начальственная броня исчезла, и возник человек: лицо смягчилось, голова откинулась назад, демонстрируя счастливое изумление, глаза поспешили налиться добротой и сердечностью…
– Станислав Тихомирович! Жду с самого утра, – словно любимому дитю, проговорил Жульев. – Марина, что же ты? Как ты не узнала всеми любимого Генерала!? Ну-ка, выйди, безобразница. Ух, доберусь и по попке отшлепаю…
Марина вышла из кабинета под грубый эпилепсоидный смех руководителей, слегка подталкиваемая в спину озабоченной затравленной личностью, спешившей быстрее скрыться с начальственных глаз, но Марина не замечала толчков, в ее голове неугасающим эхом, в точном соответствии интонаций Жульева, звучало слово: «Генерала!?», «Генерала!?», «Генерала!?»… Она села за свой стол и задумалась. Станислав Тимофеевич был мужчиной привлекательным. Нахальные живые глаза, светлые волосы, заботливо уложенные в аккуратную прическу, узкий хищный профиль лица, спортивная фигура, штаны не болтались на заднице, и как оказалось – большой начальник, даже Жульев раболепствует. Таких мужчин – один на сотню тысяч. Зацепить и овладеть. Однако случая не представилось.
Генерал ушел не попрощавшись, Марина проводила его задумчивым взглядом, оценивая по-женски. За приятными размышлениями рабочий день финишировал. «Главное – не превращаться в наседку», – мысленно повторяла Марина концентрат из уроков Аиды. Она сбросила черные туфельки, натянула элегантные саламандровские сапожки, встала, чтобы подойти к платяному шкафу, как раздался телефонный звонок.
– Мариночка, это вы? – спросил неизвестный мужской голос.
– Я, – ответила Марина.
– Станислав беспокоит. Уж извини, был грубоват. Это, конечно, не красит.
– Что вы, Станислав Тихомирович… – изумилась Марина, узнав.
– Без официальщины. Зови Стас. Хочу искупить вину. Тебя устраивает ужин при свечах в квартире с друзьями или милая встреча в ресторане? – перешел в наступление Генерал.
Марина на мгновенье перестала дышать, сердце ее встрепенулось и мощно стукнуло, словно протолкнуло пробку, застрявшую в сосудах. Брызжущая искрами феерия судьбы, которой она давно дожидалась, сидя в засаде за дубовым секретарским столом, предстала пред ней внезапно, как выигрыш, казалось уже безнадежного лотерейного билета.
– Лишнее, Станислав Тихомирович, лишнее… – начала лицемерить она.
– Мариночка, я же сказал, для тебя – Стас. Отказов не приму. Так с друзьями или в ресторане?
– Ресторан…
***
Одинокий ресторан маленького нефтяного города с атавистическим названием «Юность комсомола» собирал под крышей страждущих всех интересов и звания, недостатка в вечерних заказах не испытывал, посему повара работали весело. В полутьме зала они подсовывали захмелевшим посетителям специально хранимые в холодильниках объедки: недоеденные салаты, котлеты, мясную нарезку… Как-то примерно сорок любителей ресторанной еды отправилась на больничные койки с острейшим животом, но дальше громкого возмущения дело не шло, потому что крышу над тем рестораном крыла городская администрация и хлопотала над ним, как сердобольный отец над неудачливым младшим дитем. В благодарность за это Хамовский с господами депутатами, журналистами и прочими прихлебателями иногда кушали дармовые ресторанные треугольники из слоеного теста с маринованной курятиной, вареники с капустой и картошкой, разложенные по горшочкам, бутербродики с красной икрой… Подношения утяжеляют веки и сужают кругозор. Кроме того, в ресторане по причине разносортности собравшихся вспыхивали ссоры, вплоть до мордобоя. Однако о вышесказанном мало кто знал. Не знал и Генерал.
***
Вечером того же зимнего дня Станислав Тихомирович и Марина двинулись в одноэтажное питейное заведение «Юность комсомола». Его массивные стальные двери предполагали обучение жителей маленького нефтяного города, в большинстве своем приехавших на Крайний Север из деревень, элементарной культуре: дверь для женщины всегда открывал сильный настоящий мужчина – иначе никак. Генерал оттянул подпружиненное железо двери, Марина проскользнула. Разделись в гардеробе, огражденном от пьяной публики мощной стальной решеткой казематного цвета, и прошли за столик. Станислав Тимофеевич заказал свои любимые шашлычки, грузинское вино и многое из того, что пожелала Марина, и принялся за те немудреные разговоры, какими обычно мужчины, как они считают, соблазняют женщин, – о себе.
– …Мэры городов сосут из нас налоги и жужжат в моей приемной, буквально как мухи или пчелы, – заговорил по писаному Станислав Тихомирович. – Наели ряхи, деньги тратят без согласования, куда хотят. Наглецы! И к нам же бегут. «Дайте миллиончик, другой», – просят. А на-ка-ся – выкуси. Знаешь, сколько я премий с экономии средств компании имею? Ладно, в другой раз расскажу.
Внимание Станислава Тихомировича привлекли громкие голоса из фойе, и последующее события развернулись так, что поесть он и Марина не успели…
***

Если согнуть медный провод буквой «П» и засунуть его ножки в отверстия электрической розетки, то получится вспышка. В этот день в «Юности комсомола» чувствовалось напряжение: одновременно отмечали День уголовного розыска милиционеры и гуляла по поводу дня рождения главного судьи маленького нефтяного города банда так называемых шалкинских. Члены противоборствующих коллективов нехорошо поглядывали друг на друга.
Главному судье маленького нефтяного города Коле Срокошвееву не хватало обычных судебных взяток, и он организовал в маленьком нефтяном городе сеть коммерческих магазинов. Защищали судейские коммерческие интересы уголовники. На каждого из них у судьи имелось дело, которое можно было в любой момент пустить в ход, поэтому работали уголовники на совесть, а в зятья к судье проник известный нам судимый за грабеж и хулиганство Мухан.
Ножки в разнополярные области засунула жена Мухана: она решилась танцевать с одним из милиционеров. Мухан смотрел и мрачнел.
– Не по понятиям, братан, – говорили ему коллеги по зубодробильному цеху. – Бабу учить надо.
– Посадить бы их всех в колонию за такое хамство! – шептал на ухо Мухану судья Срокошвеев.
– Похоже, ей нравится, смотри-ка, улыбается, – сказал неважно кто.
Едва музыка стихла, как Мухан встал из-за стола, подошел к молодой жене и вывел ее в фойе, а там, перемежая назидательные речи с паузами, необходимыми для вдоха, размашистыми движениями рук принялся снимать с ее лица излишнюю косметику и уверенность.
– Будет тебе наука, сука, будет, – ожесточенно проговаривал он одну и ту же фразу, пока она не превратилась в короткий девиз: «Наука – сука».
Далее события развивались машинально.
Срокошвеев вышел покурить и схватился в жарком поединке с Муханом, встав на защиту дочки… Только родственники помирились, но вышел в туалет милиционер, который танцевал… Мордобой случился нешуточный. Сбежались многие. Охранника ресторана уложили на каменный пол в числе первых, гардеробщица привычно спаслась за решеткой, закрылась изнутри на замок и спряталась среди одежды, притворившись повешенной… Подрагивающий от принимаемых на грудь кулачных ударов голос Мухана вещал на весь ресторан:
– Жаль, нет Братовняка, а то всех бы…
Какой закон? Личностное дельце выкатилось. Даже Срокошвеев получил сотрясение мозга и, лежа на полу, увертываясь от снующих вокруг туфлей и ботинок, достал из кармана телефон и позвонил прокурору Коптилкину. Прокурор, не раз бывавший в гостях у судьи, несмотря на полночь, собрал своих и примчался в ресторан, имея за спиной прокуратуру маленького нефтяного города в полном составе. В ответ, также по телефонному звонку, съехались мобильные отряды милиции… А далее бандиты вызвали своих, автоиспекторы бросили свои посты, поднялись с постелей судебные приставы и мужья судейских секретарей. Началась цепная реакция. К «Юности комсомола» потянулись родственники, знакомые и просто желающие подраться. Зал не вместил всех желающих, как и площадь у ресторана…
Станислав Тихомирович и Марина нервозно смотрели на схватку, сидя за пустым столом. Заказанных блюд они не дождались, поскольку повара и официанты, услышав о Братовняке, мигом закрылись на кухне, засунув за дверную ручку стальной несгибаемый советский половник. Но если бы стол был сервирован, то вряд ли Генерал и Марина смогли кушать, глядя, как дерутся милиционеры с уголовниками, как мелькают средь серых мундиров испещренные наколками тела, как летят в стороны разорванные майки, рубашки, погоны, скользят по полу с противным металлическим призвуком выбитые из рук пистолеты, ножи…
Через черный ход Генерал с Мариной незаметно выскользнули из «Юности комсомола» и, смеясь и нежно обнимаясь, пошли по ночным улицам, будто и не любили до сих пор… Сложно сказать, что сыграло магнетическую роль в этих простых, на первый взгляд, отношениях, где стоило ожидать самого обычного начальственного романа: увлекся, обольстил, получил, забыл. Возможно, увиденная масштабная драка с кровью разбудила сердце Генерала, почти уснувшее и ороговевшее в тиши теплого начальственного кабинета, и вспомнил он те времена, когда сам работал на нефтяных промыслах в любой мороз, при любом скоплении гнуса и не брезговал подобными мероприятиями, где была возможность размяться и выбить пару-другую зубов. Возможно, красота и умная душа Марины, которую и полюбил Алик, очаровали Генерала, истомившегося в семейных стенах, как в теплой ванне…
***
Отчего взрослый, умудренный жизненным и научным опытом человек начинает творить глупости? Здесь несколько вариантов: либо он сильно пьян, либо сошел с ума. Влюбленность, как выяснено наукой, – это тоже умственное расстройство. Влюбленные мужчины начинают дарить женщинам цветы и даже совершать подвиги ради них, рисковать жизнью и положением в обществе. А может, это и не безумие вовсе, а наоборот – переход в нормальное состояние. Может безумие в равнодушии и спокойствии?…
Когда вокруг высоко вздымаются покатые волны бушующих суетных страстей, так легко утонуть в необъятной их пучине. И только одно удерживает мир от хаоса и разрушения, только одно позволяет ждать и надеяться. Тонкая и безоглядная привязанность, порой переходящая в привычку, но вместе с тем оживающая от нечаянного прикосновения к единственной, прекрасной и неповторимой женщине, которую, смею надеяться, помнит сердце каждого мужчины. Пусть не вечно: в мире нет ничего бесконечного. Пусть не ежеминутно: все подвержены нюансам настроений. Пусть безответно: счастье есть и в ожидании. Но, боже мой, сколько чуда и света в притягательном облике той единственной принцессы, сколько очарования! Сколько великого безумства вызывает она только легким поворотом своего волшебного силуэта!
– Я люблю тебя, – произносят множество людей и своими прекрасными словами и чувствами изменяют время, переносят сердца и мысли в какое-то неведомое измерение, где трансформируется сущность вещей, а порою даже заставляют себя возвращаться к жизни. Тьма разлетается клочьями, воздух становится прозрачнее, а жизнь наполняется вдохновляющим смыслом. Возникает ощущение бесконечности жизни, покуда есть вера в единственную принцессу, покуда вдыхаешь тихий аромат ее духов, неизменно заставляющий ускоряться сердце, покуда теряешь голову, а точнее понимаешь всю малозначимость работ и стремлений по сравнению с близостью ее. Все это так.
Но как Генерал, почти что машина для зарабатывания денег, почти что диктатор над своим производственным коллективом, человек, разочаровавшийся во всем, кроме денег, сумел влюбиться? Марина пробудила в его сердце новую надежду, которую он сам не осмысливал…
***
Катание в джипе, прогулки и даже визиты к Марине домой стали для Генерала обычными. Его машина частенько простаивала под окнами любви, но Марина знала цену и до сокровищницы женских прелестей Стаса, как она теперь называла Генерала, не допускала и сей поводок держала накоротке так, что ее маститый ухажер от переизбытка чувств покоя не находил. Он звонил, стучался, и как-то судьба распорядилась так, что Марина ушла из дома и Генерала, чье лицо, светящееся от эмоций, едва виднелось за щедрым букетом голландских роз, которые хоть и не пахли и зачастую приводили к аллергической чесотке, но все же были невероятно красивы, приняла Маринина мама…
Мама Стелла, твердая женщина с пронзительными математическими глазами, открыла дверь и, заведя денежного ухажера в квартиру, начала:
– Ох, кобель, кобель! При дочке не хотела. Ты старый уже. Она на шестнадцать лет младше!
– Любовь, Стелла Степановна, штука безвозрастная. Даже дети любятся, когда родители еще дарят им мультфильмы, кукол и машинки. Что говорить о нас, умудренных опытом, но обделенных чувствами?
– Ты же женат, чертило!
– Жена моя, Стелла Степановна, курва еще та! Бестия! Жуткая бестия! Слыхали про бабу, у которой вместо волос – змеи. Это моя и есть. Горгона вместе с медузой ей в подметки не годятся. Каждый день душу в камень превращает и мозг из костей выбивает. Скандалы. По утрам сил нет, будто кровь кто сосет по ночам. Денег зарабатываю! Другая бы.., а эта.., то ей не так, это не эдак. На излете планировал в пропасть жизни, хана бы мне пришла, если бы не дочка твоя.
– Нам замуж надо!
– Не отказываюсь – жажду сам. С женой разведусь, и бог с ней с квартирой, все накопленное оставлю, к вам приду.
– Голый не нужен. Стабильности хочется и уверенности в завтрашнем дне.
– Я хорошо зарабатываю, очень хорошо. Хочешь – «расчетку» покажу?
– Покажи, – заинтересовано попросила мама Стелла, и ее математические глаза мигом превратились в поэтические.
– Смотрите, – как можно убедительнее сказал Генерал и достал из кармана небольшой кусочек бумаги. – Вот цифра – это и есть – на руки. Не в копейках, Стелла Степановна, не думайте, – в рублях. И никаких мозолей, и никаких морозов, хотя и на Крайнем Севере. Работяги на месторождениях за копейки, а мы сидим в теплых кабинетах за рубли. Мы думаем, как им поменьше заплатить, а они на нас горбатятся. Смешно становится, как думаю о том. Так что не беспокойся: есть на что новую квартирку справить и обстановочку – и ни геморроя, ни простатита…
– Мозги-то не пудри, знаю вас: в постель – и поминай, – сурово произнесла мама Стелла, глаза которой опять превратились в математические. – Вначале квартирку сделай, а потом с Маринкой встречайся. Видишь, где живем? Деревяшка: доски и утеплитель, полы скособочены. За кирпичом хотим жить иль за плитой на худой конец! Заговорил о женитьбе – давай плацдарм!
– Конечно, конечно. Я ж серьезно, – пообещал Генерал, опешив от напора мамы Стеллы. – Главное же в том, Стелла Степановна, что в семье не реализовался. Все девки, а мне бы сыночка, наследника…
Откровенно говоря, Станислав Тихомирович кобелил при каждом удобном случае и каждый раз искренне полагал, что встретил единственную, ради которой…
***
Мама Стелла разгадала все потаенные мысли Генерала, как школьник загадку про огурец, разрешила ему встречаться с дочуркой, но вечером с ней переговорила. Разговор проходил на старом зеленом диване в стандартно-большой комнате маленького нефтяного города, площадью ровно двадцать коричневых квадратных метров, где продолжало пахнуть Харевским фенолом (позволим себе так назвать вредоносную начинку деревянных домов), запах которого, правда, мог различить только знающий человек.
Поблескивала незатертым лаком добротная в прошлом ящикообразная мебель. Горели все пять лампочек люстры, украшенной пластмассовыми завитушками, выполненными под стекло, хотя со стеклом пожелтевшую пластмассу уже вряд ли бы кто спутал.
– Бабник он, Марина, матерый бабник, но нужный мужик, – озабоченно произнесла мама Стелла и качнулась на ягодицах по дивану, наполнив комнату тревожными скрипами.
– Не девочка, мама, и не в первый раз, – напомнила Марина. – Весь вопрос в том, как его удержать.
– Для начала заведи дневник, записывай, где, когда и как проходило свидание, – подсказала мама Стелла.
– Хорошо, – согласилась Марина.
– Во вторую очередь, дочура, сведи его с подругами, чтобы видели вас вместе и, если что, могли засвидетельствовать.

– Что засвидетельствовать, мама? – спросила Марина.
– Глупышка моя. Да деточку же, деточку, которая может родиться от ваших встреч, чтобы подружки могли пальчиком в отца ткнуть. На всякий… Вдруг морда отнекиваться станет, – ответила мама Стелла и в чувствах откинулась на спинку дивана.
Спинка раскладывающегося дивана едва держалась наскрытных крючках и по большому счету была декоративной. Об этом знали все семейные и предупреждали гостей во избежание конфуза, но мама Стелла внезапно запамятовала о дефекте собственного дивана, спинка громозвучно упала и за ней сама мама Стелла и Марина.
– Нехороший признак. Как бы нам с тобой также не загреметь, – сделала вывод мама Стелла, лежа на спине.
– Неужели он сможет и меня, и собственного ребеночка бросить? – спросила огорченная Марина, бессмысленно глядя в потолок.
– Запросто…
***
Даже бумажный роман стоит денег, что говорить о человеческом…
Генерал купил Марине квартиру, как, собственно, и другим своим прошлым увлечениям, обставил ее, и мама Стелла теперь сидела на комфортной кухне и вела дневник посещений, потому что дочура заявила:
– Если б не я, то жили бы в старой деревяшке. Ты, мама, уж ручкой-то поводи по бумаге, не ленись…
Весной любовники решили сделать ребеночка и воплотить свои амурные переживания в его ангельском тельце. Марина перестала глотать гормональные таблетки, готовясь к таинству, а жена Генерала, крупная и крепкая, как спортсмен-гиревик, Зарипат, наконец, заподозрила, что ее муж не случайно начищает ботинки до блеска, наглаживает брюки и рубашку, смазывает волосы гелем, чтобы прическа держалась. Она выбрала момент, тайно исследовала карманы и нашла записную книжку, где на первой же странице взгляд притягивал телефон Марины, многократно обведенный и украшенный несколькими сердечками с крылышками. «Ну, я тебе задам», – подумала Зарипат и сняла телефонную трубку…
– Истерики устраивает она не только вам, – объяснялся потом Генерал с мамой Стеллой. – Она и меня рвет. Девок нарожала, а мне пацан нужен.
– Смотри, Стас, держи слово. Мы столько терпим, – строжила мама Стелла. – Твоя каждый день звонит. Любовь-то не прошла?
– Что вы, Стелла Степановна?! – возмущался Генерал. – Я даже стихи стал писать. Послушайте:
Что можно для любви сказать?
Порою кажется, что много;
Порой двух слов нельзя связать,
Ища желанного предлога.
Но дело чаще не в словах,
А в волшебстве эфирной нити,
Возникшей в родственных сердцах,
В Судьбы сияющем Зените.
– Мне такого не читал мой ни до того, как стал моим, ни когда стал моим, ни тем более когда ушел, – восхитилась мама Стелла.
И, наконец, настал апогей – Зенит, как говорилось в стихотворных строфах, вылетавших на встрече с мамой Стэллой из-за живо метавшихся вверх-вниз ярких, словно напомаженных, губ Стаса.
Июль на Севере выдался горячим, и не только по причине беспрепятственно палившего солнца. Это для всех. Для Станислава Тихомировича и Марины июль оказался особенно жарким из-за того, что жена Генерала взяла с собой детей и уехала в отпуск, а неослабно следившая за своим товаром-дочкой мама Стелла отбыла в Сочи, чтобы немного поправить здоровье и настроение. Стас возликовал, привез Марину к себе домой, где еще не выветрился запах отбывшей на отдых семейной половины, и принялся за изготовление сыночка. Он не отпускал Марину от себя ни на минуту, брал с собой везде. Марина не забывала фотографировать Стаса якобы на память.
Как-то в коридоре офиса компании «СНГ» им навстречу попался Жульев и, выражая общие настроения приближенных Генерала, по-свойски спросил:
– Что, Маринку к себе забираешь?
– Да в баню собрались, – ответил Генерал бесхитростно, потому что любовные проделки в верхах компании были делом обычным. – Хочешь? Присоединяйся…
Они втроем славно попарились. После этого Марина и забеременела.
Мама Стелла по приезду из Сочи была огорошена этим известием. Она срочно набрала номер телефона Генерала и гневно изрекла:
– Ну, негодник, добился-таки своего. Маринка залетела. Что делать-то будешь?
– У нас все серьезно. Мальчика хочу. Он для меня отдушиной станет. Но учти, если родится толстоморденький – жульевский будет.
– Ты что несешь? – опешила мама Стелла.
– Жульев тоже флиртовал. Кто его знает. Я в парилку, а они в бассейне смеются. Тут не успеешь отвернуться, как нянчишь чужого.
– Стас, не смей. Марина ни с кем, кроме тебя, мы же понимаем расклад. Ребенок скоро будет. Давай решай с семьей…
– Если мальчик, никаких проблем. Главное – он. Тогда и жену с хребта…
Семейная жизнь у Генерала разваливалась сама собой, уберегаясь от скандалов, он все чаще ночевал и обедал у Марины, возил ее по магазинам, на все богемные сборища и был доволен. Он расцвел под двойным солнцем женского внимания, как расцветают цветы, вовремя накормленные, напоенные и обогретые. Мама Стелла, мечтая о звании тещи Генерала, была ласкова. Марина, ожидавшая ребенка, чтобы не спугнуть обеспеченного мужа, была ласкова. Этот сладкий момент мужской жизни уже почти истерся из памяти Генерала. Пьянящие радостные свидания давно обернулись бессонными ночами, грязными пеленками, голодными ужинами.., а тут все заново. Отношения Генерала с Мариной достигли той степени близости, что соседи стали считать их начинающими совместную жизнь супругами, а друзья забыли, что у него есть официальная жена, в это время от бессилия соскребавшая ногтями обои и хлеставшая ни в чем не повинных дочурок…
В солнечном и веселом апреле Марина попала в родильный дом. Генерал регулярно навещал ее вместе с толстомордым Жульевым, оба приносили вкуснятину, звонили так часто, что уставшие медсестры подчас немудрено обманывали:
– Спит ваша мама…
Вечером того дня, когда у Марины родился долгожданный ребенок, Генерал с подчиненными, вившимися вокруг него в ожидании подачек и хорошего времяпровождения, сидел за столиком в кафе и поглощал нежно обжаренный кусок семги, обложенный шариками мелких запеченных картофелин. Семга, залитая смесью сыра с майонезом, украшенная ломтиком лимона, была хороша. Генерал смаковал каждый кусочек, запивая его разливным чешским пивом, испускавшим мелкие бродильные пузырьки. Кушал один, сподвижники напряженно наблюдали, надеясь, что им что-нибудь закажут. Но Генерал не желал тратиться, поскольку сподвижники не женщины, и взять с них нечего, а что требовалось по работе – они за то зарплату получали. Единственное, что Генерал сделал, но не из вежливости, а из стремления к повальному сокращению затрат и оптимизации, так попросил дополнительные вилки, чтобы сподвижники, если захотят, могли подцепить, например, кусочек картошки, и оказался прав: на предложение залезть в его тарелку откликнуться никто не рискнул…
– Ух, аппетит нагулял! Детей производить – не нефть качать: все вручную, – шутил Генерал между глотками…

Сподвижники тоже глотали, но не насыщались. Так и сидели…
За ребенком Генерал приехал один, отдал медсестрам шикарный букет цветов, емкую цветастую коробку конфет и бутылку самого дорогого коньяка, брезгливо поцеловал похудевшую, изможденную Марину, осторожно протянул руки к кулечку, откуда пищал высокий резкий голосок. Он откинул легкую узорчатую косынку, прикрывавшую личико ребенка, распеленал его и произнес:
– Заберите, не мой…
Ребенок родился без очков, в меру смуглый, толстощекий, но не настолько, чтобы впрямую отождествить его с Жульевым. Дело было не в ревности, просто ребенок оказался девочкой…
***
Как кот после блужданий по подвалам и игр с кошками возвращается к хозяевам, так и Генерал вернулся к жене. Он издавал веселые популярные мотивы, прохаживался мимо жены и нежно задевал ее, а то и любовно обнимал, но не родился еще мужик, который сумеет обмануть чувствительное женское сердце, даже стальное сердце крепкотельной Зарипат.
Доброжелатели всегда начеку. Генералу повезло, что в тот момент, когда Зарипат узнала о Марининой новорожденной, он был на работе. Зарипат воспринимала тягостную новость по телефону, прижав его плечом к уху, и выжимала половую тряпку до тех пор, пока та не вернула последние капли и не треснула пополам. После окончания разговора она пробежала на кухню, сварила обожаемый ее мужем гороховый суп и высыпала в него пачку отравы для тараканов. При этом она загадочно улыбалась, представляя, как Стас будет мучиться, но, едва ее мысли доскользили до будущего, до того, как ей придется жить дальше в бедности, она поспешила вылить варево в унитаз. Разрезание любимых мужниных рубашек на тоненькие полоски, да что там полоски – шнурки – принесло отдохновение. Свадебные фотографии, все, до единой, она рвала настойчиво, с убеждением, с каким железнодорожный состав размеренно несется от станции к станции. Картинные лицо и тело Генерала валились из ладоней Зарипат на пол мелкими хлопьями. Работа подходила к завершению, когда раздался звонок…
Генерал пришел уставший, ему хотелось упасть на диван, вытянуть ноги и почитать что-нибудь о тайнах российской истории, но у порога его встретила жена с фанатичным блеском в глазах. Она пощелкивала крупными ткацкими ножницами, за спиной, через открытую дверь зала, виднелись пестрые кучки порезанного имущества…
– Папочка пришел, папочка! – с веселым криком выскочили из детской комнаты две дочурки, и Генерал почуял, что ему повезло…
Жена молчала, как грозовая туча, вот-вот родящая дождь, молнии, а может, и град, но, когда дети были закрыты в детской комнате, палка от младенческой кроватки сломалась о спину Генерала, голова его, как головка болванчика, закачалась, носимая жениными пощечинами из стороны в сторону, и Генерал расслышал:

– Если ты, падла, еще хоть раз со своей проституткой встретишься или вздумаешь на развод подать, ночью я тебе, спящему, подушку положу на лицо и сяду сверху. Зад у меня – свинец. Спишь ты крепко. Придавлю и задушу. Никому ты, мошна денежная, не достанешься. Никто тебя не спасет!..
Генерал внезапно осознал, что его обеспеченная жизнь на Олимпе периферийной части компании «СНГ» не так безопасна, как хотелось бы. Несмотря на то что он был в почете у высшего начальства и многие, благоговея, жали его руку и даже дрожали, заходя в его кабинет, получалось, что какая-то Зарипат, самая обычная жена, могла погасить все радости его высоконачальственного бытия в одно мгновенье одним только приседанием…
– … И мне ничего не сделают, – продолжала жена. – Мать двоих детей. Если порешу кобеля и одиночкой стану, у суда не хватит решимости оставить детей сиротами! Я не в себе сейчас. Нервы расшалились, состояние аффекта – аж пальцы дрожат. Ножом могу, как перезревшую курицу…
С этого момента Генерал стал избегать встреч с Мариной, и все его внимание к ней определялось весьма умеренной, точнее совсем небольшой суммой денег, которые он посылал ей на содержание и что делало его человеком порядочным и совестливым, по крайней мере – в собственных глазах. Но каких денег?! Что такое легко пересчитываемые тысячи по сравнению с зарплатой Генерала, под которую Марина прикупила объемистый кошелек? – Обглоданная кость собаке, милостыня из рук пенсионерки. Она знала, что Стас таких тысяч зарабатывает десятки, сотни и, высчитывая на калькуляторе свою законную долю в четверть зарплаты на ребенка, плакала и костерила соблазнителя на пару с матерью. Ее знакомые, переспав с главными врачами, редакторами, мэрами, прыгали по служебной лестнице через ступеньку и не задумывались о деньгах. Да и Марине до встречи с Генералом предлагали условия гораздо лучше нынешних, и когда она получила очередные три с половиной тысячи рублей месячного содержания, то позвонила Генералу на работу и шершавым, глотающим буквы голосом произнесла:
– Не родила бы, зная, как будешь кормить.
– Ты родила дочку! Мало того что дочку, так еще и мало на меня похожую, больше на Жульева, – ответил Генерал. – Скажи спасибо, что плачу за прошлую постель и жильем обеспечил.
– Да в тебя она, в тебя! Приходи, смотри! – с упреком крикнула в трубку Марина. – Новорожденные – все друг на друга…
– Не знаю, не знаю, – сомнение проскользнуло в голосе Генерала. – В роддоме явно Жульевские щечки, тем более – не сын…
– Щечки! Дурак! – крикнула Марина. – Кушает хорошо. Точнее кушала: мы приличное детское питание купить не можем. «Бону» надо! Сейчас похудела, так вся в тебя.
– Потерпите, – попросил Генерал, зарплату которого жена теперь скрупулезно сличала с расчеткой. – «Бона» слишком дорого. Детское питание дешевле берите.
– Машина для стирки нужна, а то все на руках, – принялась жаловаться Марина. – Нам бы автомат…
– Давай лучше «Малютку» купим, – предложил Генерал…
Сомнение что трещина, сквозь которую опустошается кувшин уверенности. «Еще хоть раз, хоть глазком, а вдруг моя, пусть девочка, но моя», – раздумывал после таких бесед Генерал и, выбрав вечерок, в который жена никак не могла установить его местоположение, явился к Марине в гости, чтобы в паре с Жульевым определить, на кого больше похож ребенок.
***
Мама Стелла с отвисшими, как обездвиженные часовые маятники, руками и Марина, державшая в руках запеленанного ребенка, удрученно стояли возле мужчин, потому что те говорили, не стесняясь:
– А ушки-то на мэровы похожи, – сказал Жульев, водивший глубокое знакомство с Хамовским. – Хорошие ушки, но чиновничьи, а о главах городов и о покойниках нельзя плохо. Она к мэру ходила, точно знаю. Место искала.
– Брось, Жуля. Самые обычные ушки, – не согласился Генерал. – У мэра – как пережаренные оладьи. А эти, как у моего зама, но он с Мариной не встречался, вот и у тебя похожие.
– Станислав Тихомирович, зачем мне зарплату менять на любовницу? – обиженно возразил Жульев. – Вы ж меня сразу… Для вас берег Маринку. Чувствовал, что западете. Да и носик у малышки, как у вас, с горбинкой. Приглядитесь.
– Где ты горбинку разглядел? – спросил Генерал, наклонившись. – Комарик подъездный куснул. Не уберегли.
– Как убережешь?! – встряла в разговор мама Стелла. – Залетают аж на пятый этаж, а марлю купить не на что.
– Меня интересует, в кого она такая светленькая? – спросил Генерал, не проявив интереса к словам мамы Стеллы. – Я-то черноволосый.
– Слушай, Стас, сидишь высоко, как перхоть, а не знаешь, что генетика через поколение передается, – взволнованно напомнила мама Стелла. – Дед у Марины светлый был, вот и малышка такая же.
– Стелла Степановна, успокойтесь. Нечего меня гороскопами пичкать, – начальственно забасил Генерал…
– Ты на лицо ближе смотри! – уверенно резанула словами мама Стелла. – Прижми щечку к щеке и в зеркало…
Она сняла со стены зеркало и поднесла к Генералу…
– Стелла Степановна, вы дурку-то не гоните. Какой нос? – рассердился Генерал. – У нее пипочка люси-пусенькая, а у меня – боксерский. Вы еще про пупок скажите! А смотри-ка, она фигушки пытается сложить, совсем как я!…
– Бывает, что внешне ребенок – в мать, а характером – в отца, – ухватилась за генеральскую радость мама Стелла. – Это же генетика, генетика…
– Нет, не моя! – заключил обследование Генерал.
– Подлец! Какой подлец! – не выдержала Марина. – Как я тебе поверила!?
– Милая успокойся. Где подлость? В чем подлость? – спросил Генерал. – Нам обоим было приятно. На мальчика договаривались. Его нет. Я вам и квартиру, и всю мебель оставил, вот и живите…
Дверь звонко захлопнулась.
***
Генерал не был бессердечной чугунной болванкой: суровая атака Марины на его самостоятельность и кошелек заставила обороняться, а где-то в генеральской душе, в ее темных пещерах, которые проточил черный червь жизненного опыта, светился ищущий выхода неугасший факел любви, похожий на догорающую спичку. Он-то и жег Генералу душу. И предъявить факел некому: пытка – жена совершенно извела, контролируя каждый выход, каждую командировку. Но, мечтая – получаешь. Вдруг на краю гибели оказался дядя Зарипат, и она уехала к родным. По этому случаю Генерал отпустил служебную машину и несколько раз прогулялся по центральной городской улице, думая, что, как бывало, встретит единственную и влюбится, но не получилось. Разум гнал на улицу – чувства возвращали к Марине…
Марина глядела и не верила. Генерал достал малютку из кроватки и с умилением качал ее, напевая: «По морям, по волнам, нынче здесь завтра там…». Он нежно касался своим крепким носом маленького носика дочки, терся им, водил им из стороны в сторону, пощелкивая языком… А потом подошел к Марине, прижал ее к себе и произнес:
– Часто думаю о нас. Как-то непутево получается. Давай возобновим отношения. Хочу…
– Нет, Стас, не получится. Либо ты женишься, либо не приходи, – нарочито равнодушно ответила Марина.
Она распознала, что внезапная нежность Генерала имеет свои, неизвестные ей и не связанные с ней истоки.
Не привыкший к отказам Генерал разом потерял романтический настрой и посуровел.
– Горько пожалеешь, – предупредил он.
– Оставь угрозы для прихлебателей…
С этого момента у Марины проблем стало больше. Генерал частенько ей звонил и говорил:
– Я тебе денежек немного передал. Сходи и возьми…
Марина спешила в условленное место, к указанному человеку, спрашивала, но тот, недоумевая, отвечал, что ни о каких деньгах не слышал. И он действительно не слышал, поскольку Генерал ничего ему не передавал, выставляя Марину среди своих подчиненных отвергнутой бабой, жадной до денег… Марина плакала, вспоминала своего прежнего мужа и Алика, кстати, именно Алика она и любила по-настоящему. Марина регулярно заходила в магазины, где он оставлял свои «Дробинки» на прилавке, и при случае, если народ не разбирал все экземпляры, брала одну почитать.
СКАЗКА О МУРАВЕЙНИКЕ – 2
«Страх за место убивает…»
Действующие лица:
Букашечка – обычный человек, занявший место зажравшегося чиновника, Матки, и спустя время сам превратившийся в Матку.
Дробинка – обычный человек, рассказывающий о произволе чиновников.
Муравейцы – жители города под названием Муравейник.
Другие – по мере надобности.

Здравствуй, дружок! Сегодня я предлагаю тебе продолжение сказки о Муравейнике. Сказка эта, как и раньше, страшная, конец ее так же не определен.
Проголосовали муравейцы на выборах, не послушались Букашечку, тайно избрали Дробинку в Думное место. Рассвирепела Букашечка, зыркнула сюда, рыкнула туда. Никого нет: некому лапки и крылышки отрывать, чтобы повеселиться, наблюдая, как обездвиженное тельце будет извиваться. Все побросали избирательные палочки в избирательные щелочки и разбежались по углам, по тайным ходам Муравейника. На виду осталось только несколько муравейцев, помогавших Дробинке. И начал Букашечка над ними изгаляться: то муравьиного меду недодаст, то в спичечный коробок посадит, то слух пустит… А слух как клещ. Всех оппозиционеров вынудил покинуть насиженные места. Горько и тягостно Дробинке на это глядеть, но нечем помочь…
И вошла радость в АД-мини, и зазвенел праздник. Букашечка едва успевал позы менять под фотоаппарат и видеокамеры: то за столом ум потирает, то ленточку режет, то с попом, то с детьми, а то и в чужую семейную постель залезет, вроде как ребеночка подержать.
Наушников накупил Букашечка. Без наушников нет управления. Кто-то же должен шептать и петь. Такую музыку Букашечка любил и поощрял. Наушники заменили ему даже зрение. Скажут они: «муравеец такой-то отклонился от круга хождения». Букашечка притянет отклонившегося и давай по носу щелкать, чтобы усики опустились, чтобы где-нибудь другая Дробинка не стрельнула.
Даже наместников всех федеральных муравейских богов подчинил себе Букашечка. На таких крылышках высоко полетать можно. И встретил он как-то в полете, за белыми и горячими облаками, что шизуют высоко в небе, сирену Графоманию. Посвятила она его в Граф о Маны, рыцаря крыши, съехавшей с АД-мини. И начал новоиспеченный Граф о Манн, то есть Букашечка, показывать всем свои писулечки.
– Хорошая у меня писулечка, больше, чем у Сократа? – спрашивает он.
– Больше, – успокаивают его придворные.
Появилось в АД-мини новое увлечение – принародно писать. Но стоячее мертво. Букашечка возложил свой крест на прокурора и тот понес его в гору, имевшую название «Что хочу, то и ворочу». Судейских муравейцев Букашечка заставил взвешивать правоту так, чтобы его всегда перевешивала, а самый ярый из них стал во главе организации «дышло-вышло». Даже муравейцы-правохранители стали советоваться с Букашечкой насчет толкования вечных истин. Букашечка не скупился, корм им крошил исправно и щедро, но ежеквартально напоминал:
– Помните, кому жратвой и жалами обязаны!!! Я есть истинотолкующий!
Если Букашечка говорил, что право есть лево, то плутать налево в правохранке стало не зазорно, а даже почетно, за ремонтик, за домик, за погоны…
Букашечка сам преобразился. Извилины повыдергивал у окружения. Важность приобрел несусветную. А особо понравилось Букашечке шифоньеры в Муравейнике передвигать. Перестановка заметна. Переехала организация – движется дело.
Буйная нагрузка на нервную систему муравейцев-холуев, работающих в АД-мини, вынудила многих шариковых вскочить на ролики и выписывать перед Букашечкой кренделя, но ни одного кренделя без согласования с ним. И все для того, чтобы Букашечка одобрил и потрепал мордашку своей лапкой. Старый прием поощрения честолюбий Букашечка также не забыл: многие тысячи муравейцев получили почетные бумаги «Грамотней мэра».
Заплеванный АД-мини был очищен, перекрашен и превращен в дойную муравьиную сиську. Бюджетные дойки растянули по другим областям-пропастям, где с рублевого молочка успешно снимали сливки подручные Букашечки. Обезжиренный обрат возвращали, не скупились и даже отдавали его муравейцам в виде полупустой капусты…
***
– Веселый мужик этот Алик, – мечтательно сказала Марина, отложив в сторону «Дробинку». – Смешно пишет. Жаль, что приходится гоняться за генералами, я б лучше с ним осталась.
– Дурью он занимается. Лучше бы деньги зарабатывал, чем проповедовать, – брюзгливо ответила мама Стелла. – Такие, как он, плохо кончают.
– Сама понимаю, – согласилась Марина, – но и Генерал не цепляется. Уж родила – и ничего. Мальчика же предрекали…
– К врачам ходить – только в последний путь, когда дорогу мимо кладбища не объедешь. Плюнь и забудь. Не хочет в мужья – деньги должен. Сходи в НГДУ да попросись на работу, любую. Пусть ему стыдно будет. Все знают, что он с тобой гулял и ребенка сделал… – посоветовала мама Стелла. – Никуда Стас не денется от общественного мнения. Уважать перестанут, если не обеспечит.
Марина, как всякая женщина, решила прежде, чем действовать, пригрозить и, надо сказать, достигла цели. И даже с лишком. Генерал рассвирепел.
– Меня позорить, чтобы пальцами показывали, за каждым углом говорили!? – кричал он в трубку. – Если так, даю слово, не жить тебе в этом городе. Поедешь на родину нищенствовать. Ты знаешь, мне не сложно…
Не первая женщина смолкла под натиском угроз. Марина не была особенной и решила сгоряча продать квартиру. Начала с мебели. Дело пошло: по дешевке мебель брали…
– Что-то давно не звонишь, денег не просишь? – спросил по телефону Генерал примерно через месяц, надеясь, что любовница проявит покорность.
– Зачем просить, если поступаешь, как свинья? Зачем унижаться? Подам на алименты и никуда не денешься, – ответила Марина и опять зацепила.
– Подавай. Отсудить не получится. Адвокаты не помогут, – принял игру Генерал. – Я ж всех куплю.
– Дурак. Как думаешь, что о тебе дочка вспомнит? – ударила Марина, можно сказать, между ног.
– Против меня настраивать? – с угрозой в задрожавшем голосе спросил Генерал.
– Расскажу, как было, – ответила Марина.
Она услышала, как звонко упал телефон Генерала, следом торопливо завздыхали гудки. Марина оглядела полупустую комнату, взяла на руки ребенка и пошла на кухню, где мама Стелла жарила творожную запеканку. Запеканка шипела и скворчала. Мама Стелла сновала рядом, как недостаточно меткий шар возле лузы…
СУДЬЯ
«Выносить приговоры до того привычно, что за деньги даже весело и приятно»
Внешне красивое здание суда маленького нефтяного города вселяло в сердце безотчетное беспокойство, словно чащоба неизвестного леса, из которой в любой момент мог появиться озлобленный оголодавший хищник. Марина с мамой Стеллой пришли заранее, поднялись по ступеням, острые углы которых напоминали о гильотине, нашли кабинет своего судьи, присели напротив, на жесткую деревянную скамью, и замерли, боясь заговорить, страшась нарушить кладбищенскую тишину помещения, где решались судьбы людей, и тем самым навлечь на себя гнев. Мимо ходили сотрудницы суда, звонко стуча по полу каблучками, словно судейскими молоточками. Сквозь приоткрытую дверь из зала суда в коридор вылетали голоса:
– …Вам что милиция – мусорница какая-нибудь, чтобы устраиваться туда, если нигде не берут? – требовательно спросил звонкий голос.
– А куда, если образования не имею? Нефтяники не берут, бюджетники тоже, торговать не умею. А в ментовке зарплата неплохая… – оправдался хриплый пришибленный голос.
– Что же ты не ценил такую работу, где пригрели и кусок дали? Зачем напился, а потом на патрульной машине по улицам гонял при исполнении, да еще с оружием? – напористо продолжил терзать звонкий пришибленного.
– Все пили, а я чем хуже? – обиженно переспросил пришибленный.
– Зачем за руль сел?
– Выпил, не помню. Может, и наговор. Вы ж мужик, неужто не поймете? – ища сочувствия, спросил пришибленный.
– Какой наговор? С десяток свидетелей, и ты набрался наглости требовать понимания и восстановления? – укоризненно спросил звонкий.
– Так куда мне идти, если нигде не берут?…
– Ну, голубая роза…
Раздался ритмичный стук судейского молоточка, дверь из зала суда полностью открылась, и появилась секретарь, больше похожая на доярку разоренного колхоза, только одетая не в порванную телогрейку, а в фасонистое платье. Она неприязненно посмотрела на Марину и маму Стеллу, как обычно смотрят на тараканов и мышей, и захлопнула дверь. Ожидание потекло в тишине. Мимо, как сизые облака табачного дыма, проплывали мрачные просители. Вдоль коридора неслось пессимистичное неразличимое шептание, похожее на шелест листов примогильного леса. Вскоре дверь зала суда опять открылась и из нее вышел ссутулившийся молодой мужчина, похожий на собаку, идущую по следу. Следом выглянул худощавый, как высушенная вобла, совершенно пьяного вида на трезвую голову главный судья маленького нефтяного города Срокошвеев и, поблескивая линзами очков, спросил:
– Кто следующий?
– У нас назначено… – принялась было объяснять мама Стелла.
– У вас, милая, ничего не получится. Ваш ответчик не явился. Хотите – ждите…
Два часа Марина и мама Стелла вращали головами, реагируя на звук шагов и человеческие тени, возникавшие в коридоре, а Генерал в то же время сидел в своем кабинете и весело объяснял незатейливую картину общения с судом одному умному человеку, лицо которого в рамочке стояло на его столе и напоминало ему о нем самом, только годами десятью моложе:
– У судов денег не хватает на заказную корреспонденцию. Нищие. Смотрю, конверт лежит в почтовом ящике со штемпелем. Прочитал, узнал, в чем суть претензий моей мамаши, и с глаз долой – в мусорное ведро. Пусть потом доказывают, что я его получал. Нет подписи о получении – нет вызова. Ребятишки по подъездам шмыгают, может, сожгли. Пострелы! А она ждет меня возле двери суда. Пусть подождет, глядишь поумнеет. Хотя… может, письмецо Срокошвееву отправить?..
Генерал тут же сочинил историю про обманутого мужчину, заканчивающуюся фразой: «Прошу досточтимых судей защитить меня, доброго семьянина, от опасной женщины, безудержной в желании разбить мою семью. Я знаю, кто отец ребенка». В этот же день письмо ушло в суд.
***
Сбор доказательств отцовства Генерала, желанного золотого папаши, превратился в параноическую идею мамы Стеллы. Она денно и нощно составляла альбом, раскладывая фотографии Марины с Генералом в порядке наибольшей доказательности их тайной связи: Марина в квартире Генерала, Марина в халате Генерала или рядом с его вещами… Она располагала фотографии так, чтобы стала очевидной плотская связь, точнее то, что без этого не обошлось. Мама Стелла не хуже следователя допрашивала Марину, делала заметки в специально заведенной книге доказательств, ходила в суд к началу каждого заседания, систематически отменявшегося из-за отсутствия Генерала, и, наконец, уморенный судья произнес:

– Вы уж как родная, Стелла Степановна. Бог с вами, начнем без ответчика. Он человек занятой. У меня и заочное решение созрело: пусть Генерал сдаст кровь, а там экспертиза установит, отец ли. Закон един для всех. У кого больше денег и власти, тот и прав. Шучу! Но сами вслушайтесь – деньги! Даже звук приятен. Куда без них?
– Генерал сдаст кровь!? Как? Поможете? – растерянно вопросила мама Стелла не о том, не поняв намеков Скорошвеева.
– С папой надо договариваться самим, – с заметной долей иронии ответил Срокошвеев. – Мы не можем влиять на семейные отношения. Один раз поймали его, ребеночка сделали, теперь дальше ловите. Но только сами. Сами, лапочки. Сами.
***
Главного судью маленького нефтяного города друзья звали Колей. Тактичный и хитрый еврейчик все конфликтные ситуации улаживал полюбовно и с максимальной выгодой. Он носил приталенный черный костюм, который год от года будто и не изнашивался. На его худощавом слегка вытянутом лице поблескивали очки в такой тонкой оправе, что, казалось, стекла висели в воздухе, а ниже зачастую играла плотоядная улыбка, удивительно хищно раздвигавшая губы в углах рта. Вот и весь внешний портрет.
Как-то машину прокурора Коптилкина потрепали хулиганы: разбили боковое стекло. Хулиганов поймали. Судил Коля Срокошвеев. Практика в таких случаях простая: условный срок и пожурить мальцов, чтоб больше никогда, но пострадала-то машина прокурора, который позвонил и попросил:
– Слушай, Коля, если несложно, утешь мою мстительность. Дай сорванцам годика по три лишения свободы. Автомобильное стеклышко все ж денег стоит.
– Какие проблемы? Если своих защитить не может, чего мы стоим? – ответил Срокошвеев. – Сам знаешь: всеобщее равенство перед судом – это конституционная фикция, разбивающаяся о правосознание судей.
– Не крути мозги, и так в извилинах, – устало проговорил Коптилкин. – Таксу знаю, но денег нет.
– Свои люди – сочтемся, – ответил Срокошвеев, любивший со всеми налаживать хорошие отношения. – Может, мне что понадобится.
– Это по-нашему – по правовому, – согласился Коптилкин. – Бартером рассчитаемся. Надумаешь посадить кого – не стесняйся, обращайся.
Встречался со Срокошвеевым и Алик. В основном – по работе. Срокошвеев не отказывал в консультации: он вычитывал статьи Алика на правовые темы, высказывал замечания, с интересом наблюдал за его депутатской баталией и борьбой с налоговой полицией маленького нефтяного города. Наблюдал осторожно, поглядывая на монументальное здание местной власти, чем-то похожее на электрическую мясорубку, в кабинетах и коридорах которой исторгались нехорошие определения и предсказания для Алика и его близких. Слухи разносились по городу с прохожими, гонимыми стремительными ветрами, с телефонными разговорами, пролетавшими по кабелям, переброшенным с крыши на крышу и опутавшим весь маленький нефтяной город, как паучья сеть неудачную муху. Слышал Срокошвеев очень хорошо, а подергивания жизненной сети он ощущал всеми нервными окончаниями.
***
Весна пришла на Север вместе с низколетящими серо-синими тучами. Они скользили над землей, угрюмые, как мысли обитавших в маленьком нефтяном городке северян о далеком родительском доме, о низких заработках, не позволявших навсегда расстаться с Севером, об убогом северном жилье, о невозможности вернуть утерянное здоровье… Вместе с этими тучами в городе появился и давно позабытый всеми бывший редактор газеты маленького нефтяного города Бредятин. Он вернулся помудревший и заматеревший, научившийся компромиссно ладить с властями и готовый не только служить, как любой хороший чиновник за хорошую зарплату, а душой и сердцем преклоняться. В этом и других предвестниках Срокошвеев внутренним, интуитивным, чисто еврейским чутьем, натренированным столетиями преследований, распознал, что революционной деятельности Алика скоро придет конец.
Человеку, искренне желающему выслужиться, не надо указывать направление, он сам бросается в увлекающий эмоциональный поток. Бредятина взяли на работу в газету маленького нефтяного города простым корреспондентом, что его, бывшего редактора, возвращенца, обижало до несварения и изжоги, потому, осознав противостояние Алика всем городским властям, он отыгрался на нем живо и радостно. Повод нашелся сам.
***
Дети, как говорят, – цветы жизни, и скорее всего, розы. Ведь каждая роза красива и с шипами. Хватаясь за эти шипы, бывает, ругнешься, а то и хуже… О том говорили и письма, поступавшие в редакцию газеты маленького нефтяного города.
ТОЛЧОК
«За деньги все делается куда менее душевно, чем за идею»
Со мной в одном классе учился парень, звали его Серега. Он был из хорошей семьи, тихий, спокойный, нормально учился, занимался боксом. Как-то в коридоре он нечаянно столкнулся с Ромчиком из параллельного класса – сильным, высоким пацаном, постоянно одетым в черные джинсы и кожаную куртку, будто вросшим в них. В школе его знали как главаря одной из местных банд – никто с ним не связывался…
Банда Ромчика занималась школьным рэкетом: отбирала у малолеток деньги, которые им давали родители для покупок в столовой. Била банда Ромчика и старшеклассников. Сначала придирались по какому-нибудь поводу или вообще без повода, затем назначали встречу, чтобы выяснить отношения, а там присуждали долг и ставили «на счетчик», то есть требовали проценты за несвоевременную уплату – совсем как в банке. На встрече обычно присутствовали азербайджанцы, прикрывавшие Ромчика, и если жертва не отдавала деньги, то ее избивали до полусмерти…
– Куда прешь, козел?! – грубо спросил Ромчик.
– Сам козел! – беззлобно ответил Серега.
– Что ты сказал, чмо? – рыкнул Ромчик. – Проблем хочешь, урод? Да ты знаешь, кто за меня идет? Чтоб завтра штуку принес. Ясно?
Штуку, то есть тысячу рублей, школьнику взять неоткуда, кроме как из кошелька родителей. Себе – понятно, а отдавать… Серега, уверенный, что тренировочные спарринги на ринге он проводит не зря, со всего маху, без предупреждения направил кулак Ромчику в солнечное сплетение. Ромчик молча согнулся пополам, хватая ртом воздух. После того как его голова зависла удобно и близко, Серега со знанием дела ударил в нее. Ромчик встал на колени и пополз по полу. На этом все могло и закончиться…
После последнего урока Ромчик уже поджидал Серегу у выхода из школы, но не один, а со всей своей бандой. Серега вышел на крыльцо, в свете фонарей заметил неприятеля и понял, что ждут именно его и не для дружеских объятий. Он вернулся в школу, присел на лавочку, стоявшую вдоль коридора напротив раздевалки и задумался, глядя на пустеющие вешалки, потом резко встал и пошел к служебному выходу, выводившему на хозяйственный двор, откинул мощный засов, вышел…
– Вали его! – крикнул кто-то.
Серега не успел встать в защитную стойку, как пропустил несколько крепких ударов. Он сумел удержаться на ногах, но почувствовал: из носа потекло, а тут и Ромчик подоспел. Угрожающе блеснул кастет. Железо разорвало губы, сломало несколько зубов, рот заполнился кровью.
– Это тебе, козел, чтобы не выпендривался, – объяснил Ромчик. – Слушай внимательно. Теперь ты должен мне не одну штуку, а шестнадцать. Через неделю не отдашь, калекой сделаю! И не вздумай идти в милицию – убьем…
Бандиты Ромчика удалились сгустками мрака. Серега подождал, пока они не скроются из вида, и утерся зеркальной крошкой чистого северного снега, сразу потемневшего от крови. Он наклонился и сцедил изо рта кровь, сохранив под языком кусочки зубов, затем сплюнул их на ладонь и долго рассматривал. Выбросил без сожаления, приложил снег к носу и, периодически сплевывая кровяную слюну, пошел домой.
Зимой на Севере день краток, как добрые мысли в течение суток. Холод и темнота, отсутствие развлечений и теплые обжитые квартиры, словно нутро пылесоса, живо всасывали людей в свои пропыленные коробки. Компактные микрорайоны, наполненные кирпичами пятиэтажек с множеством светящихся окон, напоминали зависшие в бескрайнем космосе вселенные. Изредка возникал свет автомобильных фар, рыскающий в ночи, как сумасшедший прожектор. Он выхватывал из тьмы то силуэт прохожего, то тушку собаки, то стены домов, но чаще замерзшие ветки и стволы деревьев и дорожный лед. Откуда-то сверху падали колючки редкого снегопада…
Из узкой щели между косяком и дверью торчал заметный издалека белый клочок тетрадного листа с текстом: «Сергей, ужин на плите. Нас не жди. Придем поздно. Ложись спать».
Замок тихо щелкнул под напором ключа, Серега зашел в квартиру, разделся и бросил испачканные кровью вещи в небольшой бак для белья, стоявший рядом со стиральной машиной, которые вместе с темнеющей желтой эмалью ванной и белой раковиной оставляли в ванной комнате совсем небольшое свободное пространство. Его едва хватало, чтобы развернуться. Речи не могло быть, чтобы в этой ванной комнате наклониться вниз, например, надевая штаны, потому что голова при этом непременно упиралась в дверь.
Кушать не хотелось. Серега умылся, в аптечке нашел пузырек с йодом, смазал им раны на лице, кое-где приложил вату, закрепил ее лейкопластырем и лег в постель. Сон не приходил, прогоняемый болью. Сложно сказать, сколько времени прошло до того момента, когда входная дверь коридоре заскрипела, послышались шаги и приглушенные разговоры родителей.
Серега выглянул из своей комнаты и спросил:
– Мама, у тебя нет ничего против боли?
Мама, увидев коричневое от йода, убеленное лейкопластырем лицо сына, разом протрезвела и беспокойно спросила:
– Сереженька, что с тобой?
– Кто тебя так разукрасил? – удивленно спросил папа.
Серега рассказал родителям и про стычку в школе, и про драку на улице, и про то, как его поставили «на счетчик».
– Я этого так просто не оставлю. Завтра же пойду к директору, – сказала мама. – А Сергея надо в другую школу перевести.
– Нет, другая школа не пойдет, – отмахнулся отец. – Сейчас февраль. До конца учебного года осталось несколько месяцев. Надо доучиться, а там посмотрим.
– Да что тут смотреть?! – возмутилась мама. – Смотри, как избили. Надо немедленно переводить его в другую школу.
– Давай будем разумными, – призвал к рассудку отец. – Во-первых, другая школа далеко. Во-вторых, я считаю, нельзя бояться этих мерзавцев. Милиции у нас мало? Достаточно. Пусть и займутся этим делом. Сейчас и напишем заявление…
– Заявление писать не буду, – отказался Серега. – В школе идти к ментам и доносить считается последним делом. Меня же презирать будут. Кличку дадут, что вовек не отмоешься. Кроме того, они убить грозили, если кому скажу…
– Вот падлы! – возмутился отец. – Отморозки! Кучей на одного. Ладно, давай лечись, вместе помозгуем потом, что и как…
Несколько дней Серега лежал в постели, мать взяла больничный и ухаживала за ним, а по вечерам, когда приходил отец, он с сыном закрывался в комнате, и они, двое мужчин, искали способ, как решить проблему с Ромчиком. План возник, словно яркая вспышка молнии над сгибаемой ветром неприветливой тайгой, а еще точнее – как нежданный радостный шелковый шарф северного сияния морозной ночью…
День, когда Серега выздоровел, наступил быстро. Молодость широко открыта животворным сокам небес. Он пошел в школу, имея в душе твердое указание отца не отзываться на провокации, не обращать внимания на насмешки, не связываться с бандитами Ромчика, притвориться сломленным и готовым отдать требуемые деньги с любыми процентами, но постараться как можно быстрее выяснить всю информацию о Ромчике: где живет, когда приходит домой…
На того, кто ищет, знания падают, как спелые яблоки на барана, бодающего яблоню. И как-то темной, не отпускающей от постели ночью, Серега проснулся, словно по сигналу тревоги, одновременно с отцом, причем без всякого напоминания будильника, стрелки которого под мерное и тихое постукивание механизма показывали полпервого.
– Проснулся? – услышал Серега вопрос отца, стоявшего рядом с его кроватью.
– Да, – ответил Серега и, откинув одеяло, вскочил с постели.
– Не передумал? – спросил отец.
– Нет, – ответил Серега.
– Может, ты и прав. Пожалуй, это единственный вариант, – согласился отец. – Тогда быстрее одевайся и тихо. Мать думает, что меня на работу вызвали.
Мужчины оделись во все старое. Отец взял с собой дубинку, изготовленную по собственным представлениям о средневековой анестезии, когда при отсутствии соответствующих лекарств хирургического пациента попросту оглушали деревянным молотком. Отец и Серега вышли за дверь, аккуратно прикрыли ее, отец завел машину, стоявшую в ряду других, и они устремились к дому Ромчика, который по всем расчетам должен был в эту ночь явиться домой примерно в началевторого.
Они ехали, перебрасываясь на ходу короткими фразами.
– Ты свой сотовый не забыл? – спросил отец.
– Нет. В кармане, – ответил Серега и достал сверкающий светящимися кнопками и дисплеем небольшой телефончик.
– Сергей, давай я все сделаю, а ты постоишь, посмотришь, – попросил отец.
– Нет, папа, это мое дело. Я вообще не хотел бы, чтобы ты ходил. Но раз мы напарники, так ты посмотри, – ответил Серега.
– Ладно, я подстрахую. Будь спокоен, не нервничай, делай все по плану, – напомнил отец.
– Папа, хватит нотаций, – попросил Серега…
Подъезд, где жил Ромчик, ничем не отличался от других, такой же темный, засиженный котами и пацанами. Серега встал сразу за второй входной дверью около едва теплой батареи. Отец остался в машине, потушил фары и принялся внимательно наблюдать за всеми подходами к подъезду. Ромчик появился внезапно, он вышел из спортивной иномарки, подъехавшей к подъезду. Отец сразу его узнал. Это было несложно, тем более что Ромчик, несмотря на морозы Крайнего Севера, как многие школьники, одевался легко. Его голову вместо обычной в это время года пушистой шапки-ушанки из меха енота хранила от холода кожаная кепка. Из иномарки вышли одетые, под стать Ромчику, его друзья.
– Сергей, возможно сегодня не получится, будь готов спрятаться где-нибудь. Он не один, – тревожно сказал отец, дождавшись ответа по телефону.
– Хорошо, – ответил Серега.
– Не отключайся. Будем держать постоянную связь, – сказал отец. – Я слежу за ними. Пока разговаривают у машины. Если пойдут в подъезд всем гуртом, скажу «отбой». Ты сразу поднимайся по лестнице выше этажа, где живет Ромчик, и делай это тихо. Если Ромчик пойдет в подъезд один, я скажу: «порядок»…
Сердце Сереги крепко и быстро стучало, как перед сдачей серьезного экзамена. До него доносились обрывки пьяного разговора. Дубинка успокаивающе тяжелила ладонь. «Даже если все сразу пойдут, всем надаю, пусть потом разбираются», – раздумывал он, прижимая телефон к уху. Усилившийся к ночи мороз не затянул ожидание.
– Порядок, – прозвучал голос отца.
Серега принял стойку. Заскрипела, открываясь, первая дверь подъезда, громко возник звук шагов, не успела захлопнуться первая дверь, как открылась вторая, и в полутьме подъезда возник Ромчик. Привыкшие глаза Сереги четко различили голову противника, он нанес сильный удар как раз по кожаной кепке. Ромчик не успел ни поблагодарить, ни высказать очередную угрозу, он, как мешок с картошкой, упал на плиточный пол подъезда. Спустя мгновенье в подъезд забежал отец.
– Как? – коротко спросил и, увидев лежащее перед ним тело, все понял. Присел, нащупал горло Ромчика, затем его голову…
– Жив, – коротко сказал, сняв напряжение. – Теперь давай по плану.
Серега достал из кармана заранее приготовленную записку и засунул ее в рот Ромчику. Записка была следующего содержания:
«Привет от конкурирующей группировки! Нам надоело дышать воздухом, который вдыхаешь ты и твои придурки. Это наш город, и все должны платить нам, а не вам. Мы объявляем вам войну. Если через неделю ты не отдашь шестьдесят тысяч, то мы тебя и всех твоих убьем и закопаем».
– Все, пошли, – скомандовал отец, и они вышли из подъезда, сели в машину и поехали домой…
Последующие события развивались быстро. До Сереги доносились только пересказы одноклассников, судя по которым произошло нижеследующее.

По словам Ромчика в подъезде его подкараулило не меньше десятка бандитов из противоборствующей группировки. Он всех уложил, пропустив всего один удар в голову. После этого две банды маленького нефтяного города выясняли отношения на территории заброшенного предприятия. Потасовка получилась такая, что редкий из дерущихся избежал больничной койки, пострадал и Ромчик, потеряв в той схватке половину зубов.
Серега слушал и в душе весело смеялся над своими обидчиками. Ему казалось, что само небо стало гораздо чище, светлее и прозрачнее после того, как он отомстил за себя и за тех ребят, которые были избиты или повесились, избегая «счетчика» и расправы, про которых учителя потом говорили, что они ушли из жизни из-за несчастной любви или переходного подросткового возраста. Учительская ложь во имя личного спокойствия была привычной и не ранила душу. Он тоже не замечал бандитов, пока они не заметили его. Разговоры о побоище на промышленной зоне маленького нефтяного города длились примерно неделю, а потом постепенно прекратились, после того как бандиты стали выходить из больницы. Милиция никогда не вмешивалась в такие дела, ведь в маленьком нефтяном городе почти все друг друга знали, а дети милиционеров тоже иной раз шли по уголовной дорожке.
РЕАКЦИЯ
«Когда смотришь в микроскоп на одного микроба, то не замечаешь эпидемию»
Письмо попало в руки Бредятина. Он понимал, что в журналистском смысле материал, безусловно, актуальный, но в житейском смысле мог привести к проблемам с теми же бандитами. Опять же по редакционному плану требовался материал о защите прав детей. А тут как благодарность высокого начальства (не земного – бери выше или, наоборот, ниже) редакции газеты маленького нефтяного города достигла информация, что в детском саду Алик, известный нам журналист, поддал хулиганистому пацану, пинавшему девочку. Конечно, такие информации не попадают в редакцию сами собой. В школах и детских садах травмируется столько детей, что если бы учителя вздумали предать огласке все случаи, то прощай хорошая отчетность, но данный случай потребовал особого подхода. Заведующая детским садом, названным «Солнышко», словно в насмешку над суровой природой Крайнего Севера, знала, что Алик ненавистен всему начальству маленького нефтяного города и что ей будут благодарны за донос. Возможно, она начала свою речь так:
– Считаю своим долгом доложить…
Возможно, так:
– Не поймите меня неправильно, но…
Или так:
– Извините, но не могу молчать…
Начальство везде нуждается в доносах. Не была исключением и стайка руководителей маленького нефтяного города. Даже Матушка не стеснялась подставлять уши шептунам сплетен. Собственно она не только не стеснялась, но и культивировала сеть доносчиков во всех учреждениях города. В общем, то, что Алик совершил неблаговидный поступок, с точки зрения общественной морали, стало торговой информацией среди его врагов, множившихся, как клопы в старом диване.
Бредятин не любил Алика с тех времен, когда редакторствовал в газете маленького нефтяного городка. Обида за уход с этого поста рвала сердце, и наконец появился повод отомстить. Месть, вылежавшаяся долгие годы, набирает крепость, вкус и аромат не хуже хорошего вина, а то и коньяка. Бредятин нашел родителей пострадавшего мальчонки, поговорил, выведал, в суд рекомендовал обратиться и заметку написал про распоясавшегося депутата.
***
Главный судья маленького нефтяного города Срокошвеев принял дело Алика без особого энтузиазма, поскольку имел к опальному журналисту весьма добрые чувства, если, конечно, паук, закатывающий жертву в кокон липкой паутины, мог испытывать добрые чувства к этой жертве – другому пауку. Все ж Алик при всех его благородных взглядах не был смиренной овцой или безопасной мухой. Но звонок мэра маленького нефтяного города Хамовского требовал от Срокошвеева решительных действий, поскольку было обещано повышение, если он припаяет судимость вольнодумному журналисту. Срокошвеев внимательно пересмотрел материалы дела: заявление родителей, справку о полученном ребенком синяке, объяснительную Алика…
«Этого мало, – размышлял он. – Ни одного очевидца. Алик все будет отрицать. Он и в объяснительной пишет, что не бил мальчика, только подставил руку под удар ногой, мальчишка не удержался на одной ноге и упал. Может, так и было, но это не тот результат…»
Срокошвеев сплел незримую паутину прямо на судебном заседании:
– Да что вы, ребята, – с искренне добрыми интонациями в голосе обратился он к родителям мальчика и к Алику. – Зачем раздувать конфликт? Примиритесь, да и все.
Чайная ложка сахарного предложения полностью растворилась в стакане молчания.
– Вы же не хотели, чтобы так получилось? – со знанием ответа спросил Срокошвеев у Алика.
– Конечно, нет. Я просто подставил руку, а мальчик не удержал равновесие и упал.
– Вам же не хочется порочить имя всем нам известного журналиста, а теперь и народного избранника? – спросил Срокошвеев родителей.
– Не хочется.
– Так примиритесь и выпейте шампанского, – резюмировал Срокошвеев…
Так это дело и закончилось – примирением сторон. Каждый из участников процесса ушел удовлетворенный, даже Алик. Конечно, шампанское они не пили, зато Срокошвеев, закрыв дверь, нырнул в комнату для отдыха и, потирая руки, направился к холодильнику. Он вытащил прохладную бутылочку коньяка, налил до краев солидную стопку и опростал ее одним махом. Потом сел в мягкое кресло и задумался:
«Как легко я его сделал. Привык, что всегда помогаю, советы даю, вот и доверился, и ушел, не замечая, что на его спине повисла медаль о судимости. Не знает дурашка, что примирение сторон – это судимость. И ведь на пустом месте. У него ж на лице написано, что мухи не обидит. Видимо, пацан действительно еще тот хулиган, достал. Смотри, как получилось. Пора позвонить об исполнении»…
СУД
«Совесть и закон – понятия настолько далекие друг от друга, насколько далеки красоты природы от человеческих творений»
Пока в столице округа решался вопрос о повышении, Коля работал на старом месте и разбирался в бытовом соре, которого было полно в маленьком нефтяном городе. Интерес вызвало только дело о проделках Генерала. И вот перед ним стояли две женщины, пытавшиеся оседлать власть, уже давно оседланную куда более солидными ездоками, и смотрели на него, ожидая совета.
«Глупые твари божьи, – думал Коля, глядя на них. – Но упорные, настырные. Девчонка, конечно, медовая. Понимаю Станислава Тихомировича…»
– Что с того, что он флиртовал с потерпевшей? Для суда главное не факт, а доказательство. Может, Генерал не способен иметь детей, – предположил он вслух.
– Так у него дочки есть, – осмелилась вклиниться в рассуждения судьи мама Стелла.
– Дочки есть, – согласился судья, – но с женой, а с другими женщинами у него детей может и не быть. Когда человек зарабатывает много денег, невероятное часто становится очевидным. Вот он пишет, что знает, кто отец, и готов помочь суду. Мы помощь любим…
Судья мечтательно похлопал по карману и продолжил:
– Помогите суду, мы и вас будем иметь в виду. Крутитесь, и счастье улыбнется. Вот вам правила сдачи крови на экспертизу приготовил, но дальше сами.
Небольшая бумажка легла на край монументального судейского стола, мама Стелла схватила ее, высказала неопределенную благодарность, подобную безадресному ругательству «Мать твою», возникающему при многих случайных обстоятельствах вроде нечаянного падения на гололеде или удара головой о низкий косяк, и, попрощавшись, направилась к выходу, по пути изучая короткий рукописный текст. По мере чтения тревога в ее сердце нарастала, как напряжение в пружине безмена с увеличением груза. Получалось, что для проведения экспертизы Генерал должен самостоятельно сдать кровь в любом месте, вылить ее на тряпочку, высушить и послать в конверте в лабораторию Тюмени, предварительно переведя на счет лаборатории триста пятьдесят долларов. Мама Стелла сомневалась в нескольких частях этого процесса. Она понимала, что Генерала не так просто заставить сдать кровь, что если он ее сдаст, то не будет никакой гарантии, что это его кровь, и, наконец, она сомневалась, что Генерал заплатит необходимые деньги. Все сомнения оказались не напрасными.
Мама Стелла являлась к Генералу на все приемы по личным вопросам, пока тот не отдал ей тряпицу с кровью. Мама Стелла несла ее домой в полиэтиленовом пакете так же осторожно и трепетно, как нес бы убежденный верующий кусок божественной плащаницы. Доллары за экспертизу она заплатила собственные. Сама отвезла кровь в Тюмень, но надежда на дурака не оправдалась. Результат пришел не утешительный:
«Кровосдатчик категорически не отец».
На следующее судебное заседание Генерал пришел, и казалось, что вокруг него светился ореол счастья. Он был уверен, раскован и отпускал шутки судье и секретарю, говорил, что давно хотел попасть на суд, да жена, следившая за почтой, принимала повестки за попытки отвергнутой любовницы назначить свидание…
– Как тебя звать, козочка? – спросил он, заметив Марину в зале суда.
Марина замерла, как замирают герои фильма на стоп-кадре.
– Твоя сотрудница? – с неподдельным интересом спросил Генерал у судьи.
– Это ж она утверждает, что имеет ребенка от вас, – пояснил Срокошвеев.
– Впервые вижу эту пацанку, – резко произнес Генерал.
Мама Стелла, сопровождавшая дочку, в растерянности дрожащим голосом произнесла:
– Ты ж, гад, мои запеканки ел. Вы ж в рестораны ходили. Как у тебя совести хватает?
***

Насчет совести Генерал мог бы многое сказать. По его наблюдениям в таком деликатном деле, как карьеризм, чем совести меньше, тем лучше. Иногда, беседуя с близкими друзьями, он говорил искренне, понимая, что не донесут:
– Чтобы стать Генералом, надо осволочеть и заматереть. Работа такая. Библия – для простого народа, чтобы он самостоятельно культивировал в себе жертвенно-смиренные качества. Библия – это наверняка работа древних журналистов, обслуживавших тогдашних царей. Большинство должно верить в честность, чтобы мы все знали. Большинство должно считать, что красть грешно, потому что на всех не хватит. Большинство должно считать убийство грехом, иначе нас перевешают. Пробиваются наверх чаще всего отъявленные мерзавцы, умеющие маскироваться под добропорядочных милашек. Человек крадет мало – его осудят. Крадет много – уважаемый богач. Кто хорошего вора посадит? Воровство нужно власть имущим. Иначе как заработать? Умелым ворам дают хорошие посты. Разве поднимется вверх человек, думающий о народе, сердцем болеющий за него? Нет, конечно. Таких убирают. Наверху надо забыть о человечности и при необходимости сокращать работяг, как убиваешь мух и комаров. Надо срезать им зарплату, нагоняя страх сокращения на остальных, выжимать из них все. Какая тут совесть? Давайте выпьем за то, чтобы ее остатки поскорее покинули наши бренные тела. Тогда мы поднимемся выше и сможем обеспечить своих детей и внуков.
Но Генерал не был дураком, чтобы произносить такую откровенную тираду в зале суда. Еще будучи малышом, он запомнил любимую мамину поговорку, вычитанную ею в какой-то восточной книжке, что язык дан для того, чтобы скрывать свои мысли.
***
– Женщина! – высокопарно обратился Генерал к маме Стелле. – Я человек набожный, и библейские истины для меня не табачный пепел. Я верую и чту, чту и верую и поперек совести никогда. Вижу вас впервые и, не кривя душой, заявляю об этом…
От Генерала веяло всепроникающим беспредельно праведным гневом чиновника, уличенного подчиненным в подлоге или другой служебной пакости.
– …Здесь доказательства моей невиновности, – завершил выступление Генерал.
Портмоне, похожее на папку, или папка, похожая на портмоне, ударилась о стол с громким шлепком. Чувство правосознания судьи было тонким и острым. Оно сразу распознало, что папка-портмоне заполнена до отказа теми документами, ради которых он и старался. Воображаемая чаша правосудия Генерала резко пошла вниз, кадык судьи жадно дернулся, и он закончил заседание словами:
– Милые дамы, всплыли дополнительные обстоятельства по вашему делу, требующие срочного обсуждения. Суд переносится. Вас, уважаемый Станислав Тихомирович, прошу задержаться…
Мама Стелла и Марина скорбящими иконными образами выскользнули за дверь. Генерал и судья прошли в чайную комнату, располагавшуюся в тылу зала судебных заседаний, и погрузились в мягкие чернокожие кресла.
– Угораздило тебя, Стас, вляпаться в историю, – широко улыбаясь, произнес Срокошвеев.
– Коля, ничего особенного. Она ж спелый персик, как не откусить. Я не бесплатно, и не столько получил, сколько дал. Так им больше хочется. Жадность. Хачики на базаре порядочней…
– Знаешь, Стас, бабы есть бабы. Имитировать можно – переделать нельзя, но мы все устроим. За суд не переживай. Кстати, не мог бы деньжат подкинуть на ремонт, поговори наверху. Да пару компьютеров было бы неплохо.
– Коля, не вопрос. Вот лично от меня на компьютер для тебя и сына. Бери деньги и наливай коньяк, надо выпить за хорошую экспертизу…
В это время мама Стелла, держа под руку плачущую Марину, вышла из здания суда. Возле двери, куря и любезничая с охранником, стояли бывшие бандиты маленького нефтяного города, работавшие судебными приставами и готовые выполнить любое грязное задание, чтобы вышестоящие чиновники, не пачкая рук, могли спокойно запускать их, то есть руки, в любые закрома. Среди них, важно прохаживаясь, крутил короткий ус известный нам Мухан. «Кругом живоглоты, кругом», – подумала мама Стелла и вспомнила о своем адвокате.
АДВОКАТ
«Жизнь стоит денег и иногда больших, чем может дать»

Давно оплаченного адвоката пришлось поискать: то кабинет закрыт, то телефон не отвечает, то назначенная встреча срывается. Но, в конце концов, встреча состоялась. В прохладе адвокатского кабинета от задиристого взгляда нахальных глазок Жади Ухватиловой кошелек в сумочке мамы Стеллы затрепетал, как вибратор сотового телефона. Мощная фигура Жади плотно сидела в кресле, преисполненная важности и медлительной деловитости. С закругленного кончика языка, высовывавшегося в грандиозный промежуток между передними резцами, как большой палец между указательным и средним при построении кукиша, почти зримо свисали готовые сорваться слова о катастрофической нехватке времени. Для сохранения солидного образа это было немаловажно, потому что, вообще говоря, Жади мало что знала и не считала необходимым знать. Она всегда могла указать пальцем в шкаф, где томились Кодексы и последние журнальные новинки, но это все было в бумаге, а в голове Жади угнездился сущий кавардак из ребенка, оставшегося в одиночестве дома, пустого холодильника, предстоящей воскресной стирки, неприготовленного ужина, немытой посуды, неумелого мужа, и желания на ком-нибудь отыграться за это.
– Никак не могу вас застать, – бросила обвинение мама Стелла, переходя на высокие скандальные ноты. – Вы даже суд пропустили. Говорили, что поможете. Мы заплатили, а я одна. И что же?
– Ваша вина. Ваша! Беспокоиться надо! Заранее надо, – рассудительным успокаивающим тоном заговорила Жади, укоризненно покачивая головой. – Лень раньше вас родилась. Надо предупреждать, что суд состоится, а то все переносится и переносится. Просила же, просила: звоните в любое время дня и ночи. Нет же. Только «ах» и ничего более.
***
Жади хитрила. Она понимала: клиенту нельзя отказывать, наоборот, окружать заботой, сердоболием, предлагать помощь. За слово к ответу не призовут, а там как получится. Выигрывается дело – она в победителях: сложно отрицать ее участие. Проигрывается дело – на словах она сделала все. В этом Жади сильно походила на Матушку, о которой мы уже говорили.
***
– Так сколько звонила! – прибавив громкости, сказала мама Стелла. – Вас нет. Все автоответчик…
– Дел много, извиняйте, – объяснила Жади и развела руки в стороны. – Запарилась – парфюмерия не помогает.
Она показательно подняла левую руку, помахала правой ладонью возле открывшейся подмышки и брезгливо поморщилась.
– Вы ж сами обещали: «у вас, милые мои, дельце верное, – напомнила мама Стелла, подражая манере и голосу Жади. – Конечно, повозиться придется, и стоит недешево, но все окупится, ведь цель-то зажиточна. Все легко решится в вашу пользу, не беспокойтесь». Сами говорили!
– А я и сейчас говорю: не беспокойтесь. Нервы, как бикфордовы шнуры, сгорят, вспышка, а потом все дымом. Ой, дымом, – запричитала Жади. – Идите и отдыхайте. Доверьтесь…
– Мы ж хорошие деньги… – начала было мама Стелла.
– Какие хорошие!? – обиженно вопросила Жади. – Зарплата работяги! У нас труд рангом выше: в бумажках копаться, слать запросы, жизнь себе укорачивать, разбираясь в ваших проблемах. Навстречу пошла, взяла минимум! А вы?! После окончания дела, кстати, с вас еще премия полагается.
– Сколько? – охнула мама Стелла.
– Столько! И еще столько. Скупой платит дважды, – откаламбурила Жади.
– За что? – обреченно спросила мама Стелла. – Просила вас взять обменную карту из родильного дома. Там анализ крови Генерала – прямое доказательство. Вы не почесались. Все документы, фотографии, доказывающие их знакомство, я сама предоставила. Просила взять распечатки телефонных разговоров между Генералом и Мариной. Вы и это не сделали…
– Постойте, постойте, я – все возможное. То, о чем вы говорите, не просто, – затараторила Жади, почувствовав, что теряет контроль над ситуацией. – Надо добиваться повторной экспертизы крови, но не почтой, а лично. Ясно? Помогу…
Жади, к удивлению мамы Стеллы, помогла. Суд обязал Генерала ехать на сдачу крови, причем в компании с Мариной и мамой Стеллой.
ОБЫКНОВЕННЫЙ ФИНАЛ
«С устроителями игр на деньги нечего и играть»
Через пару дней Марина в праздничном настроении приехала в офис акционерного общества, уткнулась в несговорчивую вертушку пропускного пункта и по затертому, замусоленному пальцами, засаленному ушами общественному телефону, висевшему на стене первого этажа, позвонила Генералу, обитавшему где-то на третьем:
– Здравствуй, Стас, как договаривались, я приехала за деньгами на билеты. Скажи охране, чтобы…
– Марина, не вовремя, – спешно ответил Генерал. – У меня разговор с Москвой. Постой, перезвоню…
– Стас, подож.., – не успела закончить фразу Марина, как трубка в кабинете Генерала приземлилась на отключающий рычаг телефонного аппарата.
Переговоров с Москвой Генерал не вел. Первая часть ответа являлась безобидным обманом, отработанным до совершенства, приемом отпинывания ненужных просителей и наскучивших претендентов на близкие связи. Здесь были варианты: «У меня планерка», «Совещание. Перезвоните»… Обычно Генерал говорил первое, что возникало в уме. Вторая часть претендовала на правду. Едва генеральская ладонь опустила трубку, как пальцы набили три цифры.
– Пропускной пункт акционерного общества «СНГ», – проинформировал охранник.
– Там ко мне женщина рвется – одна из сокращенных правдоискательниц, – сказал Генерал. – Она всех достала. Похоже, психически больная. Ты ее не пропускай, скажи, что скоро спущусь…
Следом Генерал вызвал секретаршу и отдал еще один приказ:
– Если с пропускного пункта позвонит женщина, скажи, что меня вызвали к вице-президенту…
Печальная Марина вернулась домой. Она уткнулась маме Стелле в плечо и жаловалась, пока та, увлеченная идеей обеспечения дочери за счет денежного кабинетного нефтяника, не перезвонила Генералу.
– Стас, это Стелла Степановна. Тебе тяжело спуститься и деньги на билеты передать?
– Стелла Степановна, дела засосали, как болотина, чтобы голову высунуть и дыхнуть, подпрыгивать надо, а почвы нет, – бодро ответил Генерал. – Вот опять Москва беспокоит…
– Только положи трубку. Найду и на телефонном шнуре повешу, – пригрозила мама Стелла. – Слушай, с тебя надо всего ничего.
– Денег ни копейки. Поиздержался, – с расчетом на понимание заговорил Генерал. – Новый джип купили. В долги влез.
– Как ты так можешь?! – возмущенно воскликнула мама Стелла. – Если уверен, что не отец, чего бояться? Сдай кровь, докажи.
– Женщина, у меня и без вас проблем по горло, – сухо сказал Генерал.
– Сам нагулял…
– Доказать надо…
– Ты, жирный карась, так просто с нашего крючка не спрыгнешь…
Мама Стелла положила телефонную трубку и села на единственную табуретку, стоявшую посреди опустошенной кухни. Табуретку подарили соседи, купившие новую мебель. В спальне стоял дареный соседский диван, годившийся только на свалку. Судебная борьба потребовала немалых денег, и собственный кухонный гарнитур маме Стелле тоже пришлось продать. Пришлось продать и прихожую, одежду вешали на гвозди, вбитые в деревянные пробки твердокаменной стены…
Конкретную птицу, если не окольцована, поймать сложно: летает и теряется средь множества других. Генерал принял за обязательное уезжать в командировки, когда ему приносили приглашение на сдачу крови. Мама Стелла с Мариной выбились из сил в попытках поймать его на месте.
В командировки Генерал исчезал с завидной регулярностью. Исчезал каждый раз, когда получал по почте приглашение на сдачу крови. Но, в конце концов, одна из его поездок выпала на Тюмень, и еще в самолете ему пришла в голову спасительная мысль посетить ту самую лабораторию крови и осторожно проверить, сколько будет стоить подмена жизненной жидкости. Узнанной суммой он оказался очень удивлен и доволен. Впоследствии, хвалясь перед близкими друзьями, он говорил:
– Я и не подозревал, что там так бедно живут. За такое серьезное дело попросили смехотворную сумму. Чудаки…
Ах, как радовалась мама Стелла с Мариной, когда их Стас с раздраженным лицом человека, оторванного от важных дел, наконец, появился на вокзале, чтобы сесть в вагон ненавистного ему поезда. Он целые сутки молча выдерживал присутствие и укоры праздновавших победу женщин, испытывая при этом невероятную веселость от предзнания финала, когда его хороший знакомец Коля Срокошвеев размахнется своим судейским молоточком, стукнет по столу и провозгласит справедливый приговор суда российской федерации:
– Анализ показал (в этом месте Коля непременно сделает паузу, чтобы затрепыхавшиеся от радостного волнения сердца тети Стеллы и Марины затрепыхались еще быстрее), что гражданин Станислав Тихомирович (здесь он посмотрит на подсудимого и иронически улыбнется) отцом ребенка истицы Марины (здесь он опять приостановится, чтобы поглядеть, как Марина бросит уверенный в тексте приговора тяжелый и острый, как копье спартанца, взгляд на Генерала) являться никак не может…
Он ехал и, ощущая отчетливые столкновения вагонных колес с рельсовыми стыками, воображал, как после оглашения приговора суда веселившиеся сейчас женщины попадают в обморок, а может, их затрясет истерика. Он представлял, как, явившись домой, они будут считать свои жиденькие зарплаты, на которые заживут, лишившись всякой поддержки от него, обиженного их погоней за барышами. Он радовался, что, наконец, избавляется от этой семейки навсегда. Генерал достал из дорожной сумки бесплатную газетку, взятую им с продуктового прилавка в одном из магазинов маленького нефтяного города. Называлась газета «Дробинка». По привычке открыл самую середину и принялся за чтение.
СКАЗКА О МУРАВЕЙНИКЕ – 3
«Люди радуются красоте летящей птицы, но когда в нее целит охотник, никто не препятствует»
Действующие лица:
Букашечка – обычный человек, занявший место зажравшегося чиновника, Матки, и спустя время сам превратившийся в Матку.
Дробинка – обычный человек, рассказывающий народу правду о произволе чиновников.
Муравейцы – жители города под названием Муравейник.
Другие – по мере надобности.
Здравствуй, дружок! Сегодня я предлагаю тебе продолжение сказки о Муравейнике. Сказка эта, как и раньше, страшная, конец ее так же не определен.
Народную Дробинку в итоге расплавили. Муравейцам надоела стрельба, от которой с неба в рот ничего не валится, а Букашечка и другие коррупционеры не падают замертво. Понять, что пальба Дробинки – призыв к совместным действиям, никто не хотел, потому что большинство в Муравейнике неплохо кормилось и миску терять не желало. Большинство муравейцев волновало только то, что другие могут иметь, что они не могут. Хотелось бы больше, но по-тихому. Поэтому большинство предпочитало из ближайших скважин наблюдать за происходящим и, не сбивая шаг, ходить по кругу, добывая сливки из Нефтеяхи и готовя прижизненный памятник для Букашечки и других властительных особ.
В борьбе с Дробинкой Букашечка усилил аппарат мыслепользования и набрал армию из бывшей оппозиции. Из органа самоудовлетворения Букашечка создал механизм для коллективного отмывания своих черных желаний. Деньжат всегда мало. И чтобы набить карманчики бюджетными тугриками необходимо направить их в нужное русло: озеленить, построить и даже цветы посадить, но так, чтобы те, кто будет этим заниматься, платили куда надо. Можно даже дирижабли запускать, если друзья руководят подрядными фирмами, а для растолмачивания народу этих фокусов уже давно функционирует аппарат мыслепользования, где к услугам и эфир, и листы. Да и Дробинку к этому делу подключили.
Праздники пошли один за другим. Букашечка нацеплял на себя ордена и погоны и так увлекся собиранием званий, что стал многократным муравейцем года в своем Муравейнике, лучшим журналистом своего Муравейника, лучшим писателем своего Муравейника, лучшим рабочим всех специальностей, лучшим руководителем… лучшим пассажиром джипа, лучшим из Лучших… Он снискал все звания, которые мог дать себе собственной властью, и всех званий, которые можно купить за деньги. Но все равно не смог превзойти прежнюю Матку, которая, угнездившись рядом с губернатором, урвала звание академика в противовес Букашечкиной докторской диссертации…
***
Должности, звания, славу можно купить, бессмертие нет. Генерал прочитал, посмеялся и забыл: его мало интересовал город, из земель которого он качал нефть, тем более налоговая полиция, которой Алик уделил так много внимания. Впрочем, забывчивость по отношению к маленькому нефтяному городу при отъезде была свойством характера не только Генерала, а многих жителей маленького нефтяного города, стремившихся покинуть опостылевший край. Люди уезжали, забывали, но почти всегда приходилось возвращаться. Так и Марина с мамой Стеллой, которые, конечно, проиграли суд Генералу, уезжали и возвращались и теперь окончательно исчезают из нашего повествования. Алик иногда видел их в маленьком нефтяном городе, здоровался, но без сердечной когда-то теплоты. В истории с Мариной и Генералом осталась за пределами нашего внимания одна очень важная фигура, помогавшая Генералу скрываться в командировках – его главный бухгалтер.
БУХГАЛТЕР
«Не важно, кто начальник, важно – кто деньгами распоряжается»

Главный бухгалтер открытого акционерного общества «СНГ», всеми внешне любимая Дульцинея, получала за свою цифирную работу не меньше замов Генерала, и потому вокруг ее деятельности витал устойчивый пряный запашок теневой экономики, но ни один проверяющий, закормленный, запоенный и заласканный в бухгалтерии ОАО «СНГ», не смог сосредоточить свои сытые сонные глазки на ее бумагах, испещренных утомительными цифрами, и она восседала в своем кресле огромная и важная. Вполне осознавая свое значение, она позволяла себе небрежно ответить даже Генералу.
– Дуля, – по свойски просил бухгалтершу Станислав Тихомирович. – Мне бы деньги на командировочку побыстрее.
– Побыстрее, Стас, только зайцы несутся, – вольготно переиначивала Дуля. – Машины нет. Не пойду же пешком в банк.
Вот такие у них водились отношения.
***
Банк, откровенно говоря, был через дорогу, но Дуля, зная, что все прихожане умножают ее не бог весть какую значимость на деньги, которые здесь получают, привыкла к почтительному отношению. Не важно, кто, важно, что на коленях. Она иногда прикидывала в уме, сколько денег, проходивших через ее бухгалтерию, приходится на килограмм ее веса, и получавшаяся цифра неизменно шокировала ее.
«Чистое золото, чистое, без добавок, – думала она, оглядывая утром свое роскошное обнаженное тело в зеркале с бронзовыми ангелочками по бокам. – Да что золото? Платина! А вот этот пухленький мизинчик – бриллиантовый». Посему она никогда не упускала случая эту драгоценность, свое тело, слегка загрязненный узкогорлый, толстостенный золотой сосуд, как следует изнутри промыть несколькими рюмками водки на брудершафт с Генералом…
***
Дуля скривила угрюмую опустошенную физиономию и раздраженно произнесла:
– К чему такая спешка? Надо заявку оформить, финансы провести, а это у нас не меньше недели. Ты думаешь, что мы только тебе деньги выдаем? Мы тут денно и нощно, по субботам и в праздники…
– Дуля, прошу тебя, посодействуй. А с машиной я сейчас быстро, – обещал Генерал и исчезал, раздумывая, кто же в их организации больший начальник – он или бухгалтерша…
С работы принято что-то тащить домой. Если человек работает с гвоздями и молотком, то непременно унесет себе немного гвоздей, если каменщик, так без цемента не останется, если секретарь, то бумага, пишущие ручки и прочая канцелярская мелочь в ее распоряжении, если хозяйственный работник, например, заведующий каким-нибудь складом, то здесь возможности куда шире. Что могла унести домой главный бухгалтер Дуля? Конечно, могла и пишущие ручки, и бумагу, могла – карандаши и ластики, но подобные сувениры не привлекали ее. Мысли неизменно возвращались к деньгам, проходившим через бухгалтерию, и Дуля бесхитростно мечтала: «Много и не надо, хоть чуть-чуть от этого денежного потока и на всю жизнь, на всю жизнь».
Союз с Дули с Генералом складывался осторожно и неторопливо. Началось все с незатейливой Генеральской прихоти: захотелось отдохнуть в хорошем и дорогом курорте, а денег не то, чтобы не хватало, – не хотелось тратить свои. Этой кручиной Генерал поделился с Дулей.
– Что делать, что делать, то ли премию себе выписать, – рассуждал Генерал.
– За лишнюю премию проверяющие взгреть могут, – напомнила Дуля. – Могу посоветовать другой вариант.
– Какой? – живо отреагировал Генерал.
– Сейчас лето, сезон отпусков. Многие уехали, – начала объяснять Дуля. – Мы можем на время отсутствия отпускников взять кого-нибудь по договору, родного и близкого человека. Этому человеку здесь и появляться не надо. Давайте на моего брата договор оформим, что он заменял вашего секретаря в течение всего северного отпуска, в течение двух месяцев, а денежки я вам выдам. Вот вам и курорт, и отдохнете, и с новыми силами…
– А если… – начал было рассуждать Генерал о возможных катаклизмах будущего, как его перебила Дуля.
– Не беспокойтесь, – ласково сказала она. – Не беспокойтесь. Я на кончиках пальцев мозоли набила, отчеты составляя, и никто не докопался. Умею и знаю. Езжайте и под солнышко.
Никакая зарплата не бывает большой, и чем больше зарплата, тем больше хочется, а как тут без дружбы с бухгалтером, точнее – без сообщества. Либо душой за работу, что никто не оценит, либо руками в казну, что хотя бы выгодно. Генерал думал недолго.
– Давай, Дуля, составляй договорчик и не забудь вписать в него хорошую премию, а то жалование у секретаря не шибко. Подумай, приблизь к моим потребностям, – скомандовал Генерал.
– Что думать, насчитаю полный кошель, – успокоила Генерала Дуля. – Но у меня просьба. Можно и мне хоть немного сверх того…
– Давай и тебе выпишем, – согласился Генерал…
С этого момента Дуля с Генералом сблизились так, что стали дружить семьями, настолько ладно дружить, что если, например, одна семья затеет ремонт в новой квартирке или старой, то другая семья обязательно приютит и не только приютит, а накормит, напоит и спать уложит. А как сблизились и в радости такой прожили годик-другой, то по документам народу в конторе нефтяной компании «СНГ» стало работать столько, что если пересчитать у всех реальных работников пальцы, и то не хватит. Дуля же Генерала за своего считать стала и подмахивала документы своей рукой его подписью настолько похоже, что и сам Генерал порой отличить не мог.
Даже Солнце уходит за горизонт, и на прудах и запрудах, где водятся голосистые лягушки, звенит многозвучный хор тварей зеленых, раздувающих мелкие шарики перепонок на подчелюстных музыкальных инструментах. Что говорить о человеческой дружбе, если сам мир быстротекущ и переменчив. Генерал без Дули не мог прикарманить деньги, но Дуля без Генерала могла. Она завела липовый личный счет и повадилась составлять договора на оплату, минуя лапу своего начальника. Допустим, приходит клиент, приносит договор. Дуля ему предлагает:
– Оставьте договор у меня, начальник подпишет, передам. Что вам ждать? Он неизвестно когда.
Человек оставлял договор. Дуля его оформляла, вписывала вместо счетов «Сибирьнефтегаза» свой личный счет, накручивала подпись Генерала, и дело шло, но однажды она запамятовала и оставила договор с уже нарисованной генеральской подписью в дулином исполнении на столе. Генерал нашел. Скандал был нешуточный, но что можно сделать, если сам…
– Уволю! – кричал Генерал.
– И сам будешь уволен, а то и посадят! – отвечала Дуля. – Только тронь, у меня на тебя…
После этого отношения накалились, и даже получение командировочных для Генерала обернулось проблемой. Взаимные угрозы полились, словно капли яда по стенкам стакана, и Генерал с Дулей зажили, как две змеи, готовые друг друга ужалить в первый удобный момент.
ШЕЛЬМОВСТВО
«Невозможно смыть грязь, пребывая в ней по уши»
Налоговая полиция после отъезда Семеныча осталась, как говорится, без головы. По погонному кадровому раскладу Витя, начальник службы собственной безопасности налоговой полиции, должен был возглавить ее. Под воздействием возвышенных предчувствий, он не ходил, а почти летал по коридорам и насвистывал популярные мотивы. Он даже сблизился с Аликом на манер Вельможновой, начальницы налоговой инспекции, и недоумевал, как до этого не додумался сам Семеныч, ведь проще убрать врага, сделав его другом. Но и здесь не обошлось без казуса.
В газете маленького нефтяного города вышел полностью согласованный, то есть прочитанный и подправленный Витей, материал Алика «Три облегчающих мотива», в котором говорилось об уголовных делах, возбужденных налоговой полицией, но прекращенных по различным основаниям: амнистия, срок давности, изменение обстановки. Было напечатано:
«…По причине амнистии, объявленной к юбилею Великой победы, прекращено уголовное дело и в отношении предпринимателя без образования юридического лица (короче – БОЮЛ) гражданина К. Он, имея задолженность по подоходному налогу в размере почти 50 тысяч рублей, уклонялся от его уплаты. Ссылки на отсутствие денег неуместны. Расследованием установлено, что К. мог рассчитаться с этим долгом: он владел баром «Охотник», который продал за 90 тысяч в прошлом году, что подтверждалось расходными кассовыми ордерами. Таким образом, К. совершил преступление, но вину свою признал полностью и в содеянном раскаялся…
Это дело вел следователь налоговой полиции маленького нефтяного города лейтенант Голоскоков. Со всеми постановлениями о прекращении уголовного дела согласен прокурор города…»
Внешне совершенно безобидный материал имел последствия, думая о которых, поневоле согласишься с тем, что бог шельму все-таки метит, как шельма ни изворачивается.
***
Жить надо не для будущего, а для настоящего, и даже святые и творческие вещи использовать и создавать исключительно для хорошей жизни в настоящем, а не с надеждой на будущее, поскольку будущее у всех одно – смерть – а есть ли другое, никто не доказал. Верил в это Голоскоков, поэтому святому не поклонялся и стихов не писал. В этот момент налоговая полиция иссыхала без показателей работы, и вот Тыренко вызвал Голоскокова и сказал:
– Слышь, друг, мы приняли тебя на работу, помоги и ты нам. Возбуди хоть какое-нибудь дело, а мы наработаем потом по нему. Тебе ж не впервой.
– Слушаюсь! – бодро ответил Голоскоков и занялся баром «Охотник», где в свое время задорно погуляли Братовняк с Муханом и двумя веселыми подругами. Подстрекла на это Голоскокова долгопамятная мстительность. Владелец «Охотника» в свое время выгнал его пьяного после полуночи за пределы своего заведения, чем сильно обидел…
Дело по «Охотнику» вышло пустяковым, о нем быстро забыли как о рядовом не броском впечатлении дня. Оно пошло в копилку показателей работы налоговой полиции маленького нефтяного города, как падает мелкая монета в глиняную пустотелую свинью. Но после выхода статейки «Три облегчающих мотива» крайне рассерженный Голоскоков пришел к Вите и вызывающим озноб голосом, слегка похожим на скрежетание ножа по стеклу, спросил:
– На каком основании это в прессе?
– Как на каком? Дело по статистике прошло, все официально, – ответил Витя, не понимая беспокойства коллеги.
– Если этот мужик прочитает и обратится в суд, меня привлекут! – постепенно повышая голос, истерично запричитал Голоскоков. – Я не хочу под суд!
– За что привлекут?! – удивленно воскликнул Витя.
– Под его чистосердечным раскаянием не его подпись, – Голоскоков внезапно замолк, не договорив.
– Как так? – еще больше удивился Витя.
Голоскоков замялся и вышел, а Витя заинтересовался, нашел папку уголовного дела и внимательно его прочитал, вызвал хозяина кафе «Охотник», имеющего довольно сложную, с точки зрениярусского языка, фамилию, оканчивавшуюся на «Оглы».
– Давай, рассказывай о своих делишках, – сказал Витя.
– Каких делишках? – непонимающе спросил Оглы.
– Сам знаешь. Вон сколько бумаги на тебя извели. Книжка получилась, – сказал Витя.
– Ты о чем, начальник? – спросил Оглы.
– Смотри, – сказал Витя, толкнул папку с документами, и та скользнула по гладкой поверхности стола в сторону Оглы.
– Что это? – спросил Оглы.
– Дело на тебя, – ответил Витя. – Только не говори, что не знаешь. Там кругом твои подписи.
Оглы раскрыл папку, быстро просмотрел документы и удивленно произнес:
– Липа все это, начальник.
– Как липа?
– Ничего я не подписывал. Не мои подписи.
– Все подписи не твои?
– Да, – ответил Оглы. – Впервые вижу эти бумаги. Зачем мне обманывать, начальник? Тебе ж мои слова проверить, раз плюнуть…
Кто сказал, что над людьми парят только светлые ангелы? Копоть тоже стремится вверх. Когда судьбы грешных людей решают такие же грешные, то о какой справедливости может идти речь? Это в стародавние времена, когда войны вершились мечами и копьями, право судить принадлежало царям, монархам, ставленникам бога на земле, у которых было все, а сейчас судят людей такие же нищие обормоты, но не будем всех под одну гребенку исключения случались. Честь и совесть были для Вити не последними понятиями, но он знал, какие нравы царят среди охранников права.
«Голоскоков привлек его к уголовной ответственности втихую, для отчета, – сообразил Витя. – В постановлении, актах, протоколе допроса подделал его подпись, платежки и отнес все прокурору. Прокурор, не вникая, прочитал, что предприниматель вину осознал, ущерб частично возместил, и дело прекратил, а Оглы даже не знал…»
К Оглы Вите интереса не было, но охотничий инстинкт начальника службы безопасности и высокий долг начальника налоговой полиции маленького нефтяного города, каковым Витя себя уже ощущал, требовали загнать жертву в угол, а жертвой пред ним выставился Голоскоков.
– Смотри-ка, что с тобой сделали. Ты вроде как преступник, – подначил Витя.
– Да-а-а. Ну вы даете, – только и ответил Оглы.
– Вы не поможете наказать паршивца, подставившего вас? – витиевато спросил Витя, но ошибся с постановкой вопроса, где сразу допустил отрицание.
– Ты по-простому скажи, что требуется? – спросил Оглы.
– Заявление написать, что незаконно привлекли к уголовной ответственности и подделали подписи, а дальше наше дело, – ответил Витя.
– Вы на что меня толкаете!? Чтобы на допросы таскали? Ничего писать не буду. Не хочу связываться, – испугался Оглы. – Сами разбирайтесь…
Уже прошел год, как Оглы бросил предпринимательство и продал бар «Охотник». Он радовался этому обстоятельству и зарекся связываться с официальным частным промыслом, поскольку устал бесплатно кормить всякого рода проверяющих, в числе которых хаживали и санитарные врачи, и пожарники, и милиционеры. Кушали они очень хорошо, причем до того хорошо, что съедали всю выгоду. Оглы нашел работу во французской фирме, которая, пожиная урожай на нефтяных плантациях России, платила своим работникам деньги куда большие, чем аналогичные российские конторы. Он уже забыл о кафе, как ненужном хламе, жил и радовался, а тут возврат…
– Нет, нет, и не просите, – твердо повторил Оглы…
Жалко отпускать в реку хорошую рыбку, даже если это охраняемая законом стерлядка или белуга. Иногда Витю злость брала на этот боязливый заезжий люд, и сейчас она сдавила ему внутренности и громко ворчала в голове: «Ты ж скоро начальником налоговой полиции станешь, а не можешь раскрутить какого-то хачика и снять с работы прохвоста. Может, действительно надо закрывать таких в камере и выбивать признание, может, действительно надо паяльниками всех, чтобы навести порядок в стране?…»
Витя проводил мечтательным взглядом спину Оглы, исчезнувшую за дверями, и тут его посетила идея: «Надо заручиться свидетельством о том, что Оглы не был на допросах у Голоскокова. В этом мне поможет его французская фирма. Уж они-то точно скажут, был ли он на работе в указанное время или нет».
Ответ был приятный. Оказалось, Оглы работал на нефтяных месторождениях средь таежных просторов Крайнего Севера в то время, когда по документам Голоскокова, он давал показания. Витя воодушевился, схватил папку с бумагами и к прокурору.
– У меня налицо факт служебного подлога, – сказал он, едва войдя в кабинет. – Надо что-то делать.
– Вы бы хоть поздоровались для начала, – напомнил Коптилкин.
– Извините, весь в работе, об элементарном забываю, – сознался Витя. – Здравствуйте!
Прокурор внимательно прочитал материалы и осторожно сказал:
– Если от предпринимателя поступит заявление, то я буду этим делом заниматься, если нет, то – нет.
Коптилкин был очень осторожный прокурор. Витя попытался его переубедить, но безрезультатно. Он вышел из кабинета прокурора потускневший, как погашенная свеча в тот момент, когда на ее фитиле гаснет последняя искра, скудный дымок восходит к потолку, словно душа к небесам, а у основания – кучкой темнеет застывший воск. Он выглядел бы еще скорбнее, если бы знал, что и чаяниям о посте начальника налоговой полиции не суждено сбыться.
СГОВОР
«Чтобы возвыситься, надо оттолкнуться, поднять, залезть, ухватиться или заинтересовать»
Когда перед Семенычем во всем блеске солнечного юга засверкала перспектива отъезда в Екатеринбург, то возникла и проблема, знакомая всем навсегда уезжающим из маленького нефтяного города. Квартирный вопрос! Нет, на «земле» у Семеныча имелась квартира, и не одна. Ближайшая находилась в Тюмени, в районе железнодорожного вокзала. Семеныч ее приобрел, чтобы останавливаться в этом сибирском городе для контроля дел в организованном им частном предприятии, куда сгонялась наиболее работоспособная техника, изъятая у предпринимателей маленького нефтяного города. В момент отъезда с северных земель его интересовала возможность продать свою северную квартиру подороже, потому что лишних денег не бывает. Этой житейской задачей, вызывавшей уныние и головную боль, Семеныч поделился с Тыренко.

– Покидаю я вас, – произнес Семеныч, налив две рюмки коньяка. – Создал все здесь своими руками и из-за этой журналистской сволочи бросаю. Хорошо хоть на повышение.
– Давайте выпьем за вас, Анатолий Семенович, за вашу светлую голову и неуемный характер, – произнес тост Тыренко. – Таких людей, как вы, не так много. Не забывайте наверху нас, тех, с кем вы начинали.
– Да где ж вас забудешь, – заверил Семеныч. – Сколь денег через наши руки прошло. Эх, решето, решето…
Семеныч скрестил пальцы ладоней и посмотрел сквозь них на белый дневной свет, вливавшийся в кабинет из окна.
– …Это ж как золотоискательство на прииске, что-то в решете и остается, – глубокомысленно закончил он.
Выпили. Налили.
– Да какое же это решето? – усомнился Тыренко. – Пальчики крест-накрест – это решетка, тюрьма.
– Нет у тебя, Тыренко, поэтического полета, – огрызнулся Семеныч. – Мы выше твоих ассоциаций. Это мы садим. Был бы ты умнее, тебя бы оставил на должности начальника налоговой полиции этого города, а ты брешешь всякую чушь, вместо того чтобы угодить начальнику. Слушай:
На лучах холодных солнца,
Чуть заметных в мыльной пене
Облаков, возникнет поздним
Утром иней на мгновенье.
Листья, сжатые ветрами,
Обескровленные сучья
Сплошь покроются иглами,
Поналепленными кучей.
Совершив обряд прощальный,
Цвет сойдет, но лишь на время.
Каплей станет обручальной,
Не вода, не сок, а семя.
По местному радио передавали. Вроде Рифмоплетова стишок. Как завернул про семя?! Ведь журналист все обескровил, все иглами пошло, благо что я не сок или воду на землю направлял, есть у меня там семя, скопил малость, что-то произрастет…
– Согласен с вами, гад этот журналист. Таких топить в унитазе, как котят, а Витя с ним заигрывает. Какой с него преемник? Так чем вам угодить? Я всегда готов, Анатолий Семенович, – откликнулся Тыренко. – Что надобно?
– Ерунду сосновую: мою трехкомнатную требуется сбыть подороже, – ответил Семеныч. – По объявлению никто больше двухсот пятидесяти не дает. Нефтяной город, временный. Через три десятка лет, как нефть выкачают, город опустеет. Квартиры ничего стоить не будут. Заходи в любую. Да и сейчас их цена хрен знает от чего зависит. Ремонт значения не имеет. Дешевки. Что за эти деньги на «земле» купишь? Не больше однокомнатной. Мне б хоть на сотенку больше.
– Надо помозговать, Анатолий Семенович, – ответил Тыренко. – Поищу покупателя. Неужто предприниматели в честь вашего отъезда не купят вашу квартирку подороже? Разве вы мало их воспитывали, что они до сих пор не поняли, с кем имеют дело?
– Уважение должно быть, прав ты, Тыренко. Ох, как прав, – похвалил Семеныч. – Все-таки есть у тебя ум и смекалка. Может, и хороший начальник из тебя получится. Вите я не доверяю. Не наш человек – мент. Сразу начнет копаться, вынюхивать. А мы с тобой одинаково пахнем. Что нам-то принюхиваться друг к другу? Мы ж не собачки какие. Твою преданность, Тыренко, ценю. Давай выпьем за тебя.
Выпили. Налили.
– Я, Анатолий Семенович, даже знаю, кто у вас квартиру купит, – полушепотом произнес Тыренко. – Директор магазина «Мант и Я». Судейский протеже. Он выложит триста пятьдесят и никуда не денется. Иначе закроем…
Директор магазина «Мант и Я» выложил триста пятьдесят тысяч за квартиру Семеныча, и через некоторое время в налоговую полицию маленького нефтяного города пришел факс из округа о назначении Тыренко начальником. Витя заперся в своем кабинете и напился. Напился и Тыренко. Только повод у каждого был свой.
***
Внешне скучное, однообразное и никчемное существование жителей маленького нефтяного города дополнялось большой внутренней малозаметной работой, похожей на деятельность бактерий, вызывающих брожение кваса, простокваши или самой обыденной бражки. Процветали интриги и прелюбодеяния, мелкие конфликты и тонкие отмщения. Мозги умных людей, волею судьбы попадавших в этот унылый край, требовали действия. Газета маленького нефтяного города в главе с Квашняковым, отстаивавшим право быть главным наушником мэра города, обрушила на Алика новый удар. Были опубликованы выступления двух депутатов городской Думы, которые как раз к этому случаю вышли на пенсию, получили за бюджетный счет по квартире в родных городах и уехали с опостылевших просторов Крайнего Севера. Выступления были отменно подготовлены специалистами организационного отдела городской администрации и заблаговременно подписаны у, так сказать, авторов, которые, впрочем, их не читали. Наиболее часто используемыми словами в депутатской публикации, посвященной Алику, опять стали «грязь» и «непроверенные высказывания».
БЮДЖЕТНЫЙ ГЕРОЙ
«Прослыть героем можно, не только совершая подвиги, но и за счет красноречия»
Агитки нужного депутата Тринькина еще долго после его избирательной кампании висели на столбах маленького нефтяного города. Особенно часто – у входов в магазины и рынки. Их никто не снимал, только ветер дергал за плохо проклеенные края в попытках тщетных сорвать, а дождь замывал текст. Стыдилась лжи только природа, люди терпели, безмолвствовали, равнодушничали…
С мудрым прищуром глаза Тринькина, работы местного фото-умельца, смотрели вдаль. Левой рукой Тринькин потирал свой, как говорили, боксерский подбородок. Какая-то мысль отпечаталась на лбу несколькими волнистыми морщинами. Что за мысль и почему он потирал подбородок можно только предположить.
Под фотографией чернела отборным шрифтом надпись: «То, что другие обещают, я уже делаю».
Убежденный и начитанный избиратель, проходивший мимо, несомненно, считал, что Тринькин, потирая подбородок, думает о нем. Предприниматели, поглядывая на Тринькина и читая надпись, вспоминали жадных налоговых полицейских и испуганно бежали к своим торговым павильонам, чтобы пересчитать товар. Женщины, состоящие в многолетнем замужестве, глядя на агитку Тринькина, смущенно улыбались, вспоминая вечерние обещания своих мужей, оборачивавшиеся тем, что, лишь достигнув постели, эти мужья засыпали, так ничего и не исполнив. Мужики, вспоминая угрозы сокращения, матерились. Алик, стоявший в ожидании автобуса на остановке, разглядел в позе Тринькина другие мотивы.
«Наверняка подсчитывает, сколько денег можно выручить за проданные «налево» шины и запчасти», – рассудил он…
На автотранспортном предприятии, руководимым Тринькимым, работали иногородние следователи управления по борьбе с организованной преступностью, поэтому в реальной жизни он уже не улыбался, как на агитке. Он был грустен. Источник его обогащения грозил иссякнуть. Тогда где применить накопленный богатый жизненный опыт, служивший для того, чтобы сделаться богаче? Надо опять искать место руководителя. Причем не любого предприятия, а обеспеченного финансированием, где есть возможность для перевода средств предприятия в свои личные средства. Но для оптимизма повод был. Руководство маленького нефтяного города не должно было бросить Тринькина в беде по одной простой причине: именно с согласия городских верхов Тринькин первым получил звание «Почетный житель маленького нефтяного города» и стал первым лауреатом премии маленького нефтяного города.

Тринькин прямо-таки оброс лавровыми листьями, и от него веяло не иначе, как честью и совестью доблестного руководства.
«Собственно, сколько доблестных руководителей прямо-таки млеют от наград и не могут жить без величия, – грустно подумал Алик, все еще глядя на приятную взору агитку Тринькина. – Величия, которое обретают, перехватывая все награды и возможности на высоте бреющего полета среднего руководителя. Ведь все предложения о наградах приходят в первую очередь руководителям, те и решают кому. Кому же в первую очередь, как не себе?… Но, кажется, пора»…
В том же помещении за стальной дверью, где Алик встречался с Хмырем, ему предстояла встреча с одним из иногородних следователей. Обещал рассказать о деле Тринькина. Удача! Над темными делами руководителей маленького нефтяного города густым болотным туманом всегда возлежала тайна: документов не найдешь, только народ языками воздух гоняет, но уважающий себя журналист не начнет материал со слов: «По сообщению моего знакомого алкоголика, который дружен с милицейскими верхами…» или «По сообщению из компетентных источников…»
Крепко сложенный и прямой, как линейка, следователь Каюкин встретил Алика настороженно. От былого телефонного оптимизма в его голосе не осталось и мимолетного напоминания. Из-за спины Каюкина выглядывал Хмырь.
«Наговорил про меня, сука, – понял Алик. – Объяснил, что надо осторожнее».
– Я вам обещал рассказать о деле Тринькина, но, видимо, ничего не получится, – начал Каюкин. – Говорить еще не о чем. Давайте дождемся приговора.
Такие слова Алик слышал не раз, они всегда выдавали нежелание чиновников освещать ту или иную тему. Но что за капитан, если он не может обойти мели, и что за журналист, если он не может обходить преграды человеческой психики.
– Вы, безусловно, правы, – согласился Алик, решив использовать вариант защиты с легендой о производственной необходимости. – Но вы пообещали, и мы («мы» – это было нагоняющей важность находкой, поскольку «Дробинку» Алик выпускал один) уже зарезервировали под ваше интервью место в газете.
– Ничем не могу помочь, – неуверенно ответил Каюкин. – Надо дождаться хотя бы окончания следствия.
– Оно закончится не скоро, а газета выходит раз в месяц, – ответил Алик, поняв, что ему удалось вызвать в Каюкине небольшой комплекс вины. – Давайте хотя бы остановимся на установленных фактах, не будем касаться версий и предположений.
– Нет, – тверже ответил Каюкин. – Кроме того, я не хотел бы давать никаких интервью. Когда дело будет закончено, вы ознакомитесь с его материалами.
– Давайте откровенно, – Алик начал переводить разговор в расслабляющую стезю близкой беседы. – Материалы этого дела, во-первых, вряд ли кто из журналистов увидит даже после его окончания. Это же не бытовуха, не обычный криминал, а политика. Во-вторых, я почти полностью уверен, что дело будет закрыто при любых доказательствах, которые вы соберете, потому что оно затрагивает одного из важнейших чиновников маленького нефтяного городка. Даю десять процентов на свою ошибку, и только потому, что по моим данным дело Тринькина инициировал сам Генерал.
– Насколько мне известно – это так, – ответил Каюкин. – Но все же мне не хочется раньше времени говорить на эту тему.
– Хорошо, – согласился Алик, начав разыгрывать новый спектакль. – Давайте побеседуем без диктофона. Хотелось бы для себя выяснить некоторые подробности.
В брючном кармане у Алика диктофон крутил пленку с самого начала разговора. Но Алик не обманывал Каюкина впрямую.
«Диктофонную запись я никому предъявлять не буду, – размышлял он. – А это значит, что ее как бы не было. Заметку можно написать как бы по памяти. Никто это проверять не будет. Да и как можно? Если все факты, которые мне сообщит Каюкин, будут верные, то никому и в голову не придет интересоваться, откуда я их взял. Да и Каюкин, может, не узнает, что они опубликованы. Он из другого города и вряд ли будет читать нашу газету. Если Каюкин обманет и у меня возникнут проблемы, то и я имею право на обман и могу предъявить скрытую запись…»
– Что вас интересует? – спросил Каюкин.
«Прорвало», – обрадовался Алик и начал:
– Насколько я знаю, на автотранспортном предприятии Тринькина ревизия. Хотелось бы узнать ее результаты.
– Ревизия установила факт незаконного списания шин и запчастей на значительную сумму.
– Действительно ли дело инициировал Генерал?
– По факту незаконного списания шин и запчастей генеральный директор ОАО «Сибирьнефтегаз» обратился в следственные органы. Возбуждено уголовное дело в отношении возможного хищения.
– Поговаривают о причастности к этому делу некой бабки Мафии.
– Есть такая, – с усмешкой сказал Каюкин. – Это кладовщица Мария Кузьминична. Судя по отзывам, пройдоха еще та. Кстати, кроме шин и запчастей, на этом транспортном предприятии отмечена утечка техники через зону консервации.
– Как через зону консервации?
– Допустим, ставят на зону консервации экскаватор или грузовик. Он не работает. Новенький. Но отстоит он там некоторое время, а потом его списывают, как пришедший в негодность, и покупают по бросовым ценам.
– А как можно украсть со склада? Там же отчетность.
– Очень просто. Допустим, вы кладовщик и вам необходимы шины. Вы договариваетесь с водителем автомобиля, колеса которого в хорошем состоянии, выписываете две покрышки, делите их пополам, а машина остается «при своих». А можно еще проще: подделать подпись получателя запчастей и шин… Есть подозрение о причастности к данному делу главного бухгалтера «СНГ» госпожи Дульцинеи. Все версии предстоит отработать следствию. Больше информации нет…
***
По пути домой Алик размышлял о руководителях. «Это как клан, отдельный класс людей. Есть простой народ, а есть руководители. Образ мыслей иной. Руководители мыслят категориями использования, простой народ категориями подчинения. Иные зарплаты, иные возможности. Сколько времени требуется для превращения человека в руководителя? Или это качество дается сразу – от рождения?…» По пути он купил книжку с рассказами. Ее посоветовали приобрести знакомые продавщицы. Вечером он устроился поудобнее в своем любимом пестром кресле с мягкими подлокотниками, положил ноги на пуфик и, чтобы немного отвлечься от горьких дум, открыл книжку примерно посередине, нашел первый попавшийся рассказ и начал читать.
СВЯТОЙ
«Ворованные деньги приносят недолгое счастье, по крайней мере на это хотелось бы надеяться»
Задумал видный помещик Нелюбин проехаться по свету. Снарядил он хорошую повозку, а пока путешествует, разрешил пожить в своем поместье своему давнему знакомцу, постоянному картежному партнеру, обедневшему дворянину Крысюкову вместе с женой. Причем Нелюбин повелел прислуге обслуживать временных жильцов, как его самого, и отправился в путь. Крысюковы согласились на это предложение, потому что устали жить в своем обветшавшем доме, и, оставив там сторожа, удалились.
Нелюбин уехал, и душа его отдыхала на сердце, словно на печи, но он не знал, что Крысюков за свои постоянные картежные проигрыши давно возымел на него твердую, как застаревший сухарь, обиду.
Поместье у Нелюбина было отличным. Густые березовые леса хранили от излишних завистливых взглядов многокомнатный двухэтажный господский дом, расположенный посреди просторного горбатого луга. Едва ездок или ходок оставляли за спиной последние заросли березняка, как взор хоть зимой, хоть летом привлекала крытая яркой черепицей крыша. На воротах, повинуясь велению ветра, звенели стайки бронзовых колокольчиков, по поверью отгонявшие злых духов. А стоило сделать шаг внутрь самого дома, как бархатные комнаты соблазняли спокойствием и сновидениями, да хоть прямо на напольных коврах…
Крысюков оглядывал место своего временного жительства и в каждом изящно обрамленном зеркале, на каждом столе со столешницей, украшенной красивым портретом, на каждом стуле с гнутыми ножками, украшенными застаревшей бронзой, видел свои рубли, проигранные, так безнадежно проигранные не без помощи этого самого Нелюбина.
Крысюков задумал отомстить Нелюбину, а заодно расквитаться со своей женой, которая по его сведениям имела очень даже шустрого любовника. Идея его сводилась к следующему: в тайне от всех продать имущество Нелюбина, притворившись хозяином поместья, одновременно продать свое поместье втайне от жены и с вырученными деньгами, со всеми ценностями, какие можно захватить с собой, отправиться за границу, а там никто и искать не будет. План был великолепен. Актер вполне подходил для главной роли: Крысюков, стоило ему хорошо одеться, выглядел весьма представительно так, что незнакомцы разговаривали с ним, как с влиятельным и богатым дворянином, он умел располагать к себе людей к себе и вызывать их необъяснимое доверие.
Под видом личных, очень близких друзей Крысюков взялся водить в поместье Нелюбина покупателей и тишком продавать как поместье, так и имущество по отдельности, но с условием, что покупатели войдут во владение через месяц-другой. Покупатели легко выкладывали весомые авансы за дешевые фиктивные расписки Крысюкова и уходили, томимые предпраздничным ожиданием скорого новоселья. Расчет был прост: после заключения последней сделки мнимый хозяин запряжет тройку лошадей в карету, заберет чемоданы с деньгами и дорогими вещами и уедет из поместья, оставив свою супругу в ожидании как самого помещика Нелюбина, так и многочисленной своры обладателей Нелюбинского поместья. По вечерам он, уединившись в кабинете, жарко веселился от плутовской затеи и пил вино до той степени, что слуги выносили его обездвиженного в спальную комнату, но вышло все не по задуманному. Спьяну Крысюков проговорился во сне.
Обычно разговоры во сне неразборчивы и чаще проявляются в причмокивании, ворчании, постанывании, но Крысюков отличался четким сонным произношением. Его жена привыкла к тому, что муж по возвращении от Нелюбина, отойдя в царство Морфея, частенько вскрикивал: «Бубями бейся, морда, бубями», или «Семака клади, иль правил не знаешь?», или «Как дорог вист, надо бы дешевле». Тема была ей малоприятна и неинтересна, поскольку в сих разговорах легко определялись источники смерча, всасывающего остатки их накоплений. Чтобы не слышать сонного говора Крысюкова, его жена обычно затыкала ушки аккуратными ватными шариками и ложилась, но речи хмельного Крысюкова, спящего в доме Нелюбина, ее заинтересовали. Несколько ночей она внимательно слушала мужа, пока не поняла, что он собирается оставить ее в очень интересном положении, не в том, в какой обычно оставляют даму легкие соблазнители, а без денег, без дома, но с множеством долгов. Госпоже Крысюковой не оставалось ничего другого, как попросить защиты и совета у своего тайного воздыхателя. Так родился контрплан…
Еще с вечера Крысюков приготовился к отъезду и лошади с груженной деньгами и ценностями фамильной каретой Нелюбина ждали его во дворе. Чтобы не вызывать подозрений, он вел себя как обычно, то есть напился и уснул, но обмануть жену, знавшую все, естественно, не сумел. Как только муж уснул, она послала нарочного за любовником и села возле окошка в ожидании. Любовник прибыл до утра. Вместе с женой Крысюкова они собрали последнее, что оставалось в доме, и поехали…
Крысюков, по-щегольски одетый, вышел из проданного им поместья и был взбешен, увидев, что кареты с деньгами и прочим ценным барахлом нет на месте.
– Где карета! – горестно воскликнул он.
– Мадам Крысюкова с известным вам городским щеголем уехала в ваше поместье, чтобы продать его, как вы просили, – откликнулся слуга.
– Как продать? – изумленно спросил Крысюков.
– Извините, так сказала мадам, – ответил слуга. – Она также просила передать, чтобы вы не беспокоились и отдыхали, а все дела, которые вы задумали, они осуществят без вас.
– Какие дела? – не понимая сути разговора, грозно спросил Крысюков.
– Не могу знать, – растерялся слуга. – Мадам сказала, что вы до того волновались об этих делах, что уже много ночей только о них и говорите…
Ужас охватил Крысюкова. Он глянул на дорогу, уходящую от поместья Нелюбина и терявшуюся где-то в ближайших лесах, и, не завидев карету, легко догадался, что она уже подскакивает на дорожных кочках в недоступной взгляду дали. Мгновенно сопоставив все известные ему факты, а заключались они в том, что жена последнее время не делила с ним постель, а жила в отдельной комнате, ближе к выходу из господского дома и с видом на двор, он понял все, кинулся в ее комнату, и действительно на столе его ждала записка:
«Ты промотал мое наследство, хотел меня оставить ни с чем и скрыться. Не удивляйся, я все знаю: ты проболтался во сне. Оставляю тебя в том положении, в каком ты хотел оставить меня. Желаю успешно выпутаться. Если будешь стреляться, не забудь зарядить пистолет. Без тебя мне скучно не будет, я с любовником. Твоя дорогая».
Крысюков разорвал записку на такие мелкие клочки, что, когда он их подбросил, казалось, будто в комнате пошел снег. Понимание обрушилось на него, как дерево на неудачливого дровосека, он ругался громко, иссушающее, не жалея гортани, собрав вокруг себя ничего не понимающих спросонья слуг, но после бури всегда приходит вразумляющее спокойствие. Крысюков легко сообразил, что направиться его женушка могла только по одной дороге из этого местечка, и если он не будет терять времени на напрасные волнения, быстро соберется в путь, то вполне может догнать своих обидчиков.
– Собрать мне бричку быстрее, – приказал Крысюков. – Ох, жена, жена. Вечно суется, куда не просят. Что они там без меня насчитают?
Лишь только легкая повозка, запряженная мускулистыми сильными скакунами, встала возле ворот, как Крысюков вскочил в нее и, хлестнув живой двигатель кнутом, устремился за обманщиками…
Он еще издалека узнал фамильную карету Нелюбина, но решил не приближаться, а скакать в отдалении, поскольку его соперник мог накостылять, а то и вовсе погубить его жизнь. Так продолжалось довольно долго, не один день. Его жена с любовником были люди смышленые и останавливались всегда у полицейских участков. Просили служивых присмотреть за каретой, приплачивали им и шли кушать в какой-нибудь из рядом расположенных трактиров, а то и ресторанов. Крысюков, глядя на все это, глотал густую слюну и обливался потом от бессильной злобы. В присутствии служителей закона, видевших, кто вышел из кареты Нелюбина, он не мог сесть за поводья и, дернув их, сказать: «Поехали, милые». Он стал бы очевидным преступником. Таких преследуют и часто ловят. Но самое главное, что его злило, это то, что парочка его обманщиков уверенно приближалась к границе. А там ищи-свищи. И на одной из остановок он решился на отчаянное дело.
Только его жена с любовником оставили карету как прежде возле полицейского участка на самой окраине очередного городка и ушли кушать, Крысюков, заметив, что за каретой присматривает всего один полицейский, бросил свою повозку и направился к нелюбинской карете, как будто прогуливался. Проходя мимо кареты, пугнул лошадей, да так, что они милые резко дернули вперед и понесли. Крысюков успел зацепиться за карету. Полицейский засвистел, жена Крысюкова с любовником выскочили из трактира.
– Лошади сами понесли, лошади, – взволновано объяснял полицейский. – Зацепили проходившего мимо человека и понесли. Может большая беда случиться.
Полицейский забежал во двор отделения полиции, вернулся с подмогой на быстрой повозке и, прихватив жену Крысюкова с любовником, помчался за уехавшей каретой.
Тем временем Крысюков пытался подобраться поближе к лошадям, на сиденье кучера, но не получалось. Лошади несли резво, на поворотах Крысюков постоянно слетал с корпуса кареты и хватался на лету за что придется. Он то на животе скользил по траве, держась за подножку, то на подошвах ботинок, ухватившись за ручку открытой дверцы кареты, опять подтягивался, и опять то кочка, то поворот и его сбрасывало с достигнутых рубежей. В пылу борьбы за карету, он иногда оглядывался назад и видел погоню в отдалении.
Внезапно на пути возник крутой спуск, после которого дорога терялась в лесу. В таких местах даже малоопытный кучер старается притормозить лошадей, но лошади, чувствуя, что испугавшее их существо гонится за ними, отчаянно понесли вниз. Крысюков понял – крушения не миновать. Сзади летела полиция. Что делать? – Он так и не успел решить.
Карета с грохотом опрокинулась на спуске, чемоданы выпали, Крысюков покатился по земле, но жив остался, хотя сильно побился. Глянул вверх – никого. Без промедления Крысюков устремился к карете, схватил чемодан с деньгами и быстрее – в лес, а там залег в кустах.
Только Крысюков спрятался, как показались полицейские. Они слетели вниз и притормозили возле опрокинутой кареты. Поохали, поахали и начали собирать разбросанное имущество и перетаскивать его в полицейские повозки. Поскольку мнимые Нелюбины не знали, сколько всего было чемоданов, то и не заметили пропажу, и оставались спокойны и довольны. Полицейские тоже не волновались: поискали следы зацепившего человека, но не найдя тела, подумали, что все обошлось…
Жена Крысюкова с любовником спокойно уехали бы в теплые края, если бы мимо случайно не проезжал истинный владелец этого имущества – сам Нелюбин. Он еще издали узнал свою карету, сделанную на заказ со специальной отделкой и символикой рода. Он подъехал к месту катастрофы, где полиция и жена Крысюкова с любовником все еще хлопотали вокруг вещей.
– Что это? Как это? – залопотал хозяин, подходя к карете.
– Ездить надо аккуратнее, – решил урезонить незнакомца полицейский. – Вот господа пострадали. Карета ихняя перевернулась.
– Это моя карета, – ответил Нелюбин…
Жену Крысюкова вместе с любовником арестовали под тихий смех мужа, спрятавшегося в кустах. Поглаживая дорогой чемодан, Крысюков радовался, и смех его напоминал писк крысы, которую дергают за хвост. Он дождался, когда все разъехались, и, наконец, открыл чемодан. Несмотря на то, что это было далеко не все, что Крысюков утащил у Нелюбина, денег вполне бы хватило на безбедную и даже разгульную жизнь. Но что делать дальше?
Крысюков решил не спешить, не рисковать: не тащить деньги с собой сразу. Вид его – весьма потрепанный костюм, лицо в кровоподтеках, ботинки, похожие на затасканные лапти – несомненно, внушил бы сильные опасения встречной полиции. Можно было не только лишиться всего, но и угодить в тюрьму. Он взял несколько мелких ассигнаций и закопал чемодан под заметным ссохшимся деревом, раздирая почву крышкой от карманных часов и пряжкой от ремня. Крысюков рассчитывал вернуться в город, где он так ловко угнал украденную карету, снять гостиницу, приодеться, купить новую повозку и вернуться за деньгами. Расчет оказался почти верным…
Сил у Крысюкова хватило только для того, чтобы ранним утром зайти в городок и упасть без сознания на мощеную булыжником мостовую, причем сильно ударившись головой…
Когда Крысюков вышел из больницы, то, как и было задумано, купил лошадей и поехал. Но чемодана не нашел. Забыл место… Начал искать, копал возле дороги, копал в лесу, копал до самой старости, пока не стал легендой тех мест. О нем говорили, как об уникуме, который увлекся здоровым образом жизни и ушел из города. О нем говорили, как о святом, принявшем на себя обет копания ям. О нем говорили, как о большом любителе природы. Но, в конце концов, от недюжинных стараний его хватил удар. Крысюков упал в недорытую яму. Его нашли и похоронили прямо в ней с большими почестями. На могилке поставили памятник с мемориальной надписью, на которой издалека отчетливо читалось только одно единственное слово, первое слово: «Святому…» А по прошествии времени оно одно единственное и осталось, остальное стерлось.
***

«И раньше ничем не лучше. Воры на Руси водились, видимо, всегда, – подумал Алик, закончив чтение. – Тринькин – тот же святой. Только современный. Казнокрады, воры – традиционно уважаемые персонажи. Ведь то, что они крадут, совсем не означает, что они плохие люди. Не убийцы же, не насильники. Тот же Семеныч любил стихи, помогал детским садам и мебелью, и оборудованием, охоту любил: если удавалось поймать живую белочку или другое мелкое зверье, так непременно ребятне относил. Про Тринькина – опять же – только хорошее. Душевный человек: как-то в нашей редакции на праздник анекдоты рассказывал, – заслушаешься. Хамовский тоже неплохой человек: и деньгами, и вниманием. Много их таких сытых добряков. Бюджет как прорва. А то, что с богатея какого деньги лишние возьмут, так большинство бедняки – им это для разговоров приятно. А Сидора чем плоха? Говорит складно, умна, деловита. Может, и не надо бороться…»
Терзали Алика сомнения, что спорить – терзали. Он и сам был не без греха. Конечно, росточком его грех был поменьше, но и возможностей у Алика было меньше. Как бы он сам поступил, будучи на руководящей денежной должности, этого Алик не знал, поэтому и сомневался…
ОШИБКА
«Рыба всегда думает, что это ее собственный выбор, когда бросается на наживку»
Петровну в редакции газеты маленького нефтяного города сократили. Произошло это до смешного буднично. Собралась группа приближенных Квашнякову лиц. Все точно понимали свою задачу убрать единственного в редакции помощника Алика, по совместительству – жену неугодного мэру Сапы. Разногласий не было. Участники церемонии сокращения сами желали остаться при работе. Но была в этой пренеприятнейшей ситуации одна пикантная особенность. Сокращаемая могла и побороться за место, но Петровна и сама жаждала ухода. В мыслях она уже работала главным редактором другой газеты, которую обещала создать Аида, вертевшаяся на должностном стержне пресс-секретаря нефтяного предприятия. Родилась эта идея в телефонных звонках…
– Светлана Петровна, у меня к вам хорошее предложение, – сказала как-то телефонная трубка Петровны голосом Аиды. – Мы, то есть нефтяники, создаем новую газету. В ней я бы хотела видеть вас и Алика.
– Что ж, я могу возглавить новую газету, – согласилась обрадовавшаяся Петровна. – Когда переходить на новую должность?
– Сейчас утверждается финансирование, потом будем утверждать штат, но по вам не будет никаких проблем. Можете не беспокоиться, – ответила Аида.
– А какова зарплата? – поинтересовалась Петровна, считавшая материальный вопрос не самым последним.
– Зарплата будет никак не ниже, чем в вашей газете, а то и выше, – ответила Аида. – Это же нефтяники, а не бюджетники. Здесь другие расценки. Будете получать, как мастер на промысле. Не меньше.
– Аидочка, ты клад, – ответила Петровна. – Сама знаешь, как опостылела муниципалка. Квашняков сделал из нее поздравительную открытку. Одни вздохи по мэру и его приближенным. Похвальба, как все у нас в городе красиво и хорошо. Сдохнуть, не встать…
– У новой газеты будет иная политика. Нам нужны горячие материалы, критика, – ответила Аида…
Этим предложением Петровна поделилась с Сапой и Аликом. На знакомой читателю кухне в квартире Сапы состоялось небольшое обсуждение.
– Руководство нефтяной компании, видимо, претендует на кресло мэра маленького нефтяного города и собирается участвовать в выборах, – сказал Сапа. – Я вижу только эту подоплеку в создании новой газеты. Им нужна своя трибуна…
– Не была бы она однодневкой, – с сомнением сказала Петровна. – Газета, созданная под задачу, может стать не нужной…
– Такое вполне может быть, но Аида – человек увлеченный. Она вытянет, – высказал мнение Алик. – Новая газета, скорее всего, получится…
– Компания не пойдет на мелкие проекты. Наверняка, газета станет долгоиграющей, – заверил Сапа. – Здесь миллион-другой роли не играют…
В ожидании должности редактора нефтяной газеты для безработной Петровны незаметно промелькнуло лето. Новая газета действительно появилась, но Аида выпускала ее одна, так сказать, на общественных началах. Петровна беспокоилась, иногда звонила и спрашивала:
– Аида, когда же, наконец, я займу должность редактора? Ты же обещала.
– Скоро, Светлана Петровна. Финансирование вот-вот утвердят, – отвечала Аида.
Потом Петровна перестала звонить Аиде, и Аида стала скрываться от встреч с Петровной. Отношения между Сапой и Петровной обострились, поскольку двое безработных для одной, ранее преуспевающей семьи было слишком.
– Похоже, что предложение места главного редактора было тщательно спланированной провокацией, – оценил ситуацию Сапа.
– Не знаю, что и думать, – нервозно ответила Петровна. – На Аиду это не похоже, она раньше не совершала подлости, а может, я не замечала. Но скорее всего, ты прав. Она даже не заходит и не звонит.
– Мне еще не нравится, что Алик в этой ситуации выступил на стороне Аиды, – продолжил спокойные рассуждения Сапа. – Возможно, он тоже участник провокации.
– Такого быть не может, – ответила Петровна, а сама призадумалась…
«Алик сочинил грязные листовки, значит, способен на плохие поступки, – так размышляла Петровна. – Из-за него с меня в числе других сотрудников редакции снимали отпечатки пальцев. А ведь я его… О какой стыд! Человек, преступивший грань, теряет ориентиры и ценности. Сапа пострадал из-за него, а самому Алику хоть бы хны…»
***
После того как Петровна узнала, кто является истинным автором листовок, сразивших Квашнякова, она взяла за правило при случае говорить Алику:
– Гений и злодейство не совместимы.
– Да что вы, – отмахивался Алик. – Совместимы, и еще как. Иначе не было бы Мориарти. Да и, возвращаясь на местный уровень, Квашняков тоже пишет неплохие стихи, а сволочь первостатейная…
***
«…Он слишком легкомысленный и безжалостный», – завершила размышления Петровна и ответила Сапе:

– Зря ты помог ему на выборах.
Укор любимой женщины и даже жены действуют на мужчину, как перемена погоды на сердечника. «Какой же я дурак, – мысленно ругал себя Сапа. – Ох, дурак. Доверить свое будущее ребенку. Больше чем писать свои заметки, он ничего не может и не хочет. Что теперь? Я старался, выводил его на политический Олимп маленького нефтяного города, а он не оценил. Не оценил. Не в коня корм получился. Мелок парень. Из-за него и с Хамовским отношения настолько испорчены, что о возврате и мечтать не стоит. Сам к нему не пойду. Он не предложит должность и мстить будет. Он везде достанет. И все из-за дурацкой борьбы за справедливость, затеянной этим Аликом. Мальчишка! Столько людей пострадало! А он качает из меня идеи и ничего взамен. Главное, что толку нет от его статей. Хамовский только сильнее становится, учится. Получается, что я, давая идеи Алику, работаю на благо мэра, человека, уничтожившего меня. Надо кончать отношения с этим героем-одиночкой, да и самого тоже…»
НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ
«Пена часто считает себя высшим достижением природы»
Жили-были непростые и неискренние, но умные и коммуникабельные люди. Любили поговорить о высоких материях, поучить других уму-разуму. Умели сказать так, с теми оттенками искренности, что бессознательно волновалось сердце слушателей. Тосты возникали неожиданны и теплы, дарили радость и заставляли ожидать повторения. Они умели так тонко использовать других, что те либо не понимали самого факта их использования, либо понимали слишком поздно. Но опять же делалось все настолько деликатно и высокоинтеллигентно, что и придираться было как-то нехорошо. Вместе с тем они умели так умно говорить труднораспознаваемые гадости, что у их собеседников на сердце возникала безотчетная тоска и чувство вины. Но опять же делалось это не оскорбительно, а в виде, на первый взгляд, не относящихся непосредственно к слушателю цитат и определений, которые слушатель невольно примеривал на себя, как крапивный свитер.
Жизнь иной раз преподносит сюрпризы, конечно, просчитываемые с точки зрения точных наук и психологии, но непредсказуемые в плане личной реакции. Это тот капкан, куда может попасть и бедный умом, и богатый образованием, пусть даже двойным и тройным. Личная реакция порой непредсказуема и ломает все искусственно созданные в голове установки. Да, ты знаешь, что принципы коммуникабельности и подчиненности требуют определенного терпения и такта. Но что это понимание по сравнению с разрушительной стихией самолюбия или каких-то других, может, даже и уважительных, но сугубо личностных качеств. И тогда наступает конфликт человека с машиной власти, где, естественно, побеждает машина.
Сапа пострадал. По этому поводу он сильно переживал, несмотря на то что называл благородными некоторые свои поступки, способствовавшие изгнанию из бюрократического рая с его спокойной вдумчивой работой. Конечно, в уме возникали мысли о том, что во всех своих неприятностях надо винить только себя, но, следуя книжным заветам, он не получал морального удовлетворения. «Почему я? – задавался Сапа простым вопросом. – Почему второй раз? Вокруг столько людей куда глупее и хуже…»
Тонуть одному безрадостно, и в компании не лучше. Но когда вокруг есть общество, то можно успеть порадоваться, что сосед утонул раньше. Многие испытывают мимолетное сердечное блаженство от рассказов о чужих неудачах, едва успевая надеть на лицо маску сочувствия, пока рассказчик не обратил внимания на счастливый блеск глаз. Сапе не хватало картины общего краха, особенно ближайших сподвижников, которые, как он считали, во многом были более достойны низложения и жизненных неудач. Сапа уже сожалел, что дал пятьсот рублей Алику на регистрацию «Дробинки».
***
В свое время Моисея хвалили за манну небесную, накормившую в тяжелый судьбоносный момент народ иудейский, но летописцы того времени обошли стороной тот факт, чего стоила Моисею манна? Они приписали явление к чуду и тем самым ушли от этических откровений по поводу того, как Моисей в одиночку трудился, а тысячи людей ждали халявной еды. Алик теперь точно знал, что так оно и было.
Бесплатная для народа «Дробинка» стоила ему личных денег и нервов, добровольно никто не предложил помощи, кроме Сапы. Все ждали нового номера. Алик понимал, что люди даже не задумываются о том, как получается газета, которая пишется для них. Они считали, что за спиной Алика есть денежный рюкзак, а может, вообще не утруждали себя мыслями по данному поводу, как иудеи по поводу манны. Чудо – вот и весь ответ обывателя. Газета же выпускалась на заработную плату Алика, которую он получал в газете маленького нефтяного города. В основном.
Добрые люди были. Два человека из многотысячного нефтяного города откликнулись на просьбу Алика о финансировании газеты. Одним человеком стала женщина, руководительница бюро технической инвентаризации, принявшая впоследствии на работу Сапу и Петровну. Ее примерно через год, мэр сумел-таки снять с должности. Другим человеком, финансировавшим выход «Дробинки», стал один из сильнейших предпринимателей города по имени Гена, про темное происхождение денег которого ходило множество слухов. Гена профинансировал выпуск четырех тиражей газеты «Дробинка». Забегая немного вперед: предприятия Гены в маленьком нефтяном городе Хамовский тоже прикончил.
ИЗ БУДУЩЕГО
«Как часто ценность настоящего можно истинно оценить только в будущем»
Последний раз Алик встретился с Геной возле конторы нотариуса уже после того, как прекратил выпускать газету «Дробинка». Он задумчиво шел, радуясь наступившей весне, как услышал: кто-то зовет его. Оглянулся: Гена выглядывает из открытого окна бордовой «Вольво».
– Привет, – обрадовался Алик. – Думал ты уже не появишься здесь, что в Москве окончательно.
– Нет, – ответил Гена. – Есть еще незавершенка. Как у тебя дела?
– Работаю. На прежнем месте, – скучно ответил Алик. – Ты по делам бизнеса?
– Какой бизнес?! – восхитился Гена. – Все под городской администрацией. Это раньше можно было работать самостоятельно. Сейчас невозможно. Разве что розничной торговлей заниматься, но это копейки. Водка и горючее – вот золотая жила, но она под колпаком власти. Живут те, кому повезло. Мой хороший знакомый прочувствовал момент, выкупил магазин на пару с подельником и устроил там рынок. Сдает помещение в аренду, имеет тысяч десять долларов в месяц – хорошие деньги на двоих. Вроде валяйся на диване и плюй в потолок, за тебя налаженное хозяйство старается, но ему что-то не лежалось. Услышал он про аукцион по продаже гостиницы, и захотелось ему пристроить свои бешеные капиталы. Там и соревноваться-то, казалось, не с кем. В соперниках – муниципальные предприятия. Откуда у них солидные деньги? Не прислушался он к трезвым советам друзей, говорили, что нечего соваться в такую компанию. Говорили ему, что, возможно, это политический расклад: не случайно там одни муниципалы. Значит – задумано так.
В общем, пришел он на аукцион и давай цену гнать. Начали с трехсот тысяч рублей, закончили миллионом тремястами тысячами. Муниципальщики с хвоста срубились, и он на радостях побежал домой – праздновать успех. Но на следующий день его вызвал к себе мэр и говорит: «Ты что, сволочь, делаешь? Я тебе дал возможность заработать в моем городе, у тебя магазин есть, и тебя не трогают. Ты решил мне дорогу перебежать, против меня пойти? Да я сгною тебя, по свету пущу голым, коли не понимаешь доброго отношения».
Мой знакомый перепугался донельзя и уже побежал домой не праздновать, а водку пить с горя, а потом к друзьям пошел жалобиться. А жалуйся не жалуйся, надо что-то делать. Опять к мэру. Говорит: «Молю, не губи. Уйду я с аукциона. Заберу деньги, которые за гостиницу отдал, и не буду больше в такие игры играть». Мэр спрашивает: «Какие деньги? Ты думаешь в бюджете денег много? То, что ты заплатил, нами уже потрачено. Миллион могу отдать, а про триста тысяч забудь, как не было их». А мой знакомый и этому рад: «Да ради бога. Не было никаких трехсот тысяч. Миллион отдай и не губи». «Ладно, хрен с тобой, – ответил мэр. – Иди восвояси. Но еще раз услышу о тебе что-то подобное, пойдешь с сумой или сигаретами будешь торговать».
– Слышал я подобную историю от Шершня, – ответил Алик.
МАГАЗИН
«Некоторые люди воздействуют на деньги, как сладкая бумага на мух»
Шершень для маленького нефтяного города был значимой фигурой еще несколько лет назад. Работа банка под руководством Шершня, как уж рассказывал Семеныч, закончилась финансовым крахом. Слишком много кредитов ушло без гарантий возврата. Шершень исчез, по крайней мере, для Алика, и возник снова где-то накануне выборов в городскую Думу, когда совершенно случайно из разговора с продавщицей маленького облезлого магазинчика, где, правда, всегда продавалась вкусная свежая селедка, Алик узнал, что это заведение бывшего банкира. «Даже рыба не исчезает с прикормленных мест, что говорить о человеке», – подумал тогда он. Удивился, конечно, что столь негативная фигура не стесняется выкачивать деньги из обкраденного ею же города, но он не придал этому факту особого значения.
Спустя примерно еще год в жилом деревянном доме на окраине маленького нефтяного города случился пожар. Такое в северных городах не редкость. Остатки сгоревшего здания демонтировали. На его месте осталось белеть неровным рядом редких зубов-пеньков свайное поле. И вдруг на этом свайном поле стал строиться довольно крупный магазин. Алик удивился, что строительство развернулось на окраине, среди деревянных домов, где сложно рассчитывать на большой поток покупателей, а когда узнал, что за происходящим стоит тот самый Шершень, удивился еще больше. Он позвонил главному архитектору маленького нефтяного города и спросил:
– Шершень ум пропил, что на окраине магазин строит?
Архитектор излишне весело ответил:
– Он там потому, что деваться некуда.
Веселье архитектора Алика заинтриговало, и он договорился о встрече с бывшим банкиром…
Мощная каменная глыба средь песчаного пляжа произвела бы меньшее впечатление, чем Шершень. Алику показалось, что он угодил рукой в тиски, когда этот типичный мордоворот с круглым лицом, снабженным небольшими усиками, поприветствовал его крепким рукопожатием. В полутьме тесноватого кабинета вокруг Шершня, словно воронье, сидели руководители ненужных Хамовскому организаций…
Шершень оказался человеком словоохотливым.
– Мне вначале предложили место на очень выгодном пустыре между НГДУ и Загсом, – добродушно сказал он и развернул на столе чертеж.
– Да, симпатичное зданьице, – оценил Алик.
– Мало того что симпатичное. Более тридцати новых рабочих мест, – весомо уточнил Шершень. – Неужели городу не нужны рабочие места?
– Конечно, нужны, – согласился Алик.
– Так запретили мне там строиться, – продолжил Шершень, – а ведь я уже закупил конструкции павильонов. Более четырех миллионов выложил. И тут администрация переигрывает.
Мне говорят по секрету: «Это место Хамовский под себя оставил, а других мест нет».
Я – к Хамовскому.
Говорю: «Вы меня на деньги развели, место пообещали».
Он – мне: «Это сделано без моего ведома, ничего не знаю, участвуйте в аукционах на общих основаниях».
Я – ему: «Без твоего разрешения здесь никто и не чихнет. Что ты мне вешаешь?»
Он послал меня… и выставил за дверь.
Тогда я – к нашему кандидату в государственную Думу России, которой, судя по лицу, говору и манерам, семечки бы лузгать на деревенской лавке до конца жизни, но это между нами. Она тогда здесь, в маленьком нефтяном городе, с предвыборным визитом была. Это повлияло. Участок мне нашли, этот, где дом сгорел, и выставили на аукцион, но вот участок в самом неудобном месте, и мне деваться некуда. Конструкции лежат, изготовитель павильона торопит, что, мол, пора его забирать. Бригада простаивает.
Подал заявку на аукцион. Подходит время. Прихожу.
Мне говорят: «Вы единственный подали заявку, а аукцион предполагает не менее двух участников».
Я говорю: «Ну, раз этот участок никому не нужен, так отдайте его мне. Кто в зиму будет строиться? Только я, потому как деваться некуда».
Мне отвечают: «Нет, так нельзя. Мы объявляем повторный аукцион через неделю, а если он опять не состоится, то мы его перенесем на весну. Нам спешить незачем».
Что делать? Я беру своего знакомого, даю ему пять тысяч. Он идет, записывается и вносит залоговую сумму, и вот нас уже двое.
Наступает время аукциона. Прихожу, а там еще третий сидит. Они его с рынка взяли, а потом за службу директором назначили. Ему тот участок не нужен. Я сразу понял, что его задача цену взвинчивать. Так и получилось. Стартовая цена была пятнадцать тысяч. Мы догнали до двухсот пятидесяти.
Я думаю: «Все, если он скажет двести шестьдесят – бросаю это дело. На хрен его».
Тот, словно почувствовал мои мысли, остановился.
Участок стал моим, но там еще за свайные поля, которые от сгоревшего дома остались и мне не нужны, надо двести тысяч выкладывать. Что поделаешь? Надо так надо. Зато участок мой и можно разворачиваться.
Приехала бригада и за месяц поставила магазин. Что я перетерпел за это время, одному только богу известно…

Шершень много рассказывал о своей трудной жизни. Алик слушал и думал: «Откуда у тебя столько денег, дружок? Неплохо ты в банке поднаварился. Вот Хамовский тебя и раскручивает. Попала глыба под абразивный круг. Хотя, скорее всего, административная машина так всех прессует. Деньги не пахнут. С властью один на один бороться сложно, потому что, говоря «один» о человеке, предполагается один человек. Говоря «один» о власти, предполагается, что за ней стоит огромный механизм, состоящий из отделов городской администрации, множества структур, находящихся в подчинении городской администрации, структур, дружественных администрации. Это почитай, что один человек борется против сотен людей».
***
Однако вернемся к Гене. Он, услышав рассказ Алика о Шершне, не удержался и продолжил:
– Похожая история приключилась и с владельцем самого большого городского автосервиса. Стояла эта станция, работала, приносила небольшой доход, но опять же не в карманы чиновников, а в карманы предпринимателей. Вызывает Хамовский владельца этого автосервиса и говорит:
«Много воруешь в нашем городе. Надо тебя приструнить».
Пришел владелец автосервиса домой, забился в самый дальний и темный угол подальше с глаз, с одним только стремлением, чтобы забыли о нем. Но вскоре стали доходить до этого владельца слухи, что заместителям мэра уже дана команда об изъятия его предприятия. Владелец услышал такое, совсем перепугался и стал искать ответ на традиционно русские вопросы: «Что делать-то?», «Кто заступник?»
Даже у тех, кто рубит головы, иной раз наступают плохие времена, когда необходимо обратиться за помощью к владельцам голов. Но кто из жителей маленького нефтяного города мог поддержать владельца автомастерской, дравшего три шкуры, как палач, за ремонт с владельцев автомашин, коими в маленьком нефтяном городе были почти все. Никто.
Без машин обходились только ханты – коренные жители и законные владельцы земель, откуда выкачивалась нефть. Все приезжие, вне зависимости от чина, их проблемами интересовались изредка, чтобы посмеяться, купить оленины и рыбы, а также заручиться поддержкой избирателей перед выборами.
Этот низенький, коренастый народец жил в основном где-то в таежных лесах, разводил оленей, ловил рыбу, собирал ягоду, и изредка его представители наведывались в маленький нефтяной город, чтобы продать свой лесной продукт и купить чего-нибудь заводского, например водки. Они стояли возле магазинов в любой мороз, и на нартах лежал весь их нехитрый товар. Разговоры о том, чтобы построить для них специализированный магазин, ходили средь депутатов и руководства маленького нефтяного города уже давно, но все никак не наступали те выборы, которые заставят исполнить обещания. Владелец автосервиса понял, что ханты – его шанс. Они не живут в городе и могут заступиться за него. Магазин для ханты – это тот подарок, которым он может задобрить Хамовского. Мэр заработает еще одну звездочку, если отчитается, что организовал магазин для ханты.
В общем, владелец автосервиса поставил торговый киоск, организовал ханты на поставку оленины, рыбы, ягоды и прочей чепухи, а затем собрал получившихся сторонников из общин и опять отправился на поклон к мэру города.
«Все делаю, что могу, для славы города и решения его насущных проблем, не скуплюсь», – говорит.
Ханты одобрительно закивали головами. Хамовский рассмеялся, но похвалил и оставил в покое…
***
Алик с Геной поговорили, распрощались, и каждый направился по своим делам. Ослабевший от весеннего тепла снежный наст с треском ломался под ногами Алика и под колесами Гениной «Вольво». Алик осмысливал происшедшую встречу:
«Гена – фигура загадочная и колоритная. В свое время он оказался в эпицентре образования автоцентра. Дело было денежное. Слух о Гене, как об эффектном и жуликоватом предпринимателе, полетел по городу. Вот уж парадокс: для защиты народных интересов из-за политической импотенции народа пришлось, как в классических американских боевиках, обращаться к мафии. Правда после нескольких выпусков «Дробинки» Гену в наручниках сняли прямо с трапа самолета. Гена каким-то образом выкрутился, но потерял при этом массу денег, зарабатываемых на ворованном дизельном топливе. Его бизнес перешел под крыло чиновников на одном из инсценированных конкурсов, подобном тому, на котором надули Шершня. Затем Гена исчез в Москве.
А призывы к народу о финансировании народной газеты ничего не дали: на специально открытый и разрекламированный счет в банке не поступило ни копейки, по телефону не прозвучало ни одного предложения. Вот и весь наш народ, жаждущий правды за чужой счет, жаждущий, чтобы кто-то боролся за его интересы, а он бы ел жареную курицу с печеной картошкой, запивал все это водочкой и, читая газету, приговаривал: «Вот так дал. Вот так и надо». А когда отстрелят правдоискателя или уволят, то неизменно этот же народ скажет: «Что доболтался козел?» Достоин ли он, этот народ, сострадания и участия? Мне кажется, что нет».
Алик в этой мысли немного кривил душой даже перед самим собой. Нет, не в области определения народных качеств, а в том, что теперь, понимая всю темную душу народа, он все равно испытывал к нему сочувствие. И с этим Алик не мог совладать. Но вернемся к тому времени, о котором мы вели повествование, прерванное коротким взглядом в будущее.
ПРИЯТНОЕ ИЗВЕСТИЕ
«Облака образуются не потому что земля просит, а потому что солнце требует»
Летом, которым Петровна ждала должности главного редактора в Аидиной газете, бывший налоговый полицейский Гриша, попавшийся на взятке, вернулся в маленький нефтяной город из Иркутской спецзоны, где отбывали срок поголовно одни проштрафившиеся менты. Гриша попал под амнистию. Из налоговой полиции его, естественно, уволили, и в связи с этим он мечтал о выплате довольно значительных долгов по заработной плате, которую Семеныч до самого своего отъезда крутил напропалую. Но не тут-то было.
– Какую зарплату? – возмутился Тыренко, который уже приступил к исполнению обязанностей Семеныча и в связи с этим считал Гришины деньги полностью своими. – Про твои деньги Семеныч ничего не говорил. Да как ты, позор налоговой полиции, единственный, кого смогли посадить, обращаешься за деньгами? Я бы на твоем месте вел себя тихо.
– Вы мне должны деньги, и они мне сейчас нужны , – ответил Гриша. – Я не отступлюсь, а свое, и даже не свое, я уже отсидел…
Для суда Тыренко был не настолько авторитетен, как Семеныч, поэтому Гриша суд выиграл.
– Вот решение, – сказал он, зайдя через пару месяцев в кабинет Тыренко. – Вы должны мне заработную плату почти за год.
Тыренко прочитал бумагу и проговорил:
– Должны так должны. Значит, будем должны.
– Когда подойти за деньгами?
– Подходи время от времени. Спрашивай. За спрос не садят.
– Но хоть примерно когда?
– У тебя слишком большая сумма. Давай, соглашайся на половину, а остальное передай на материальные нужды налоговой полиции. Тогда быстро получится.
– Какие материальные нужды? – воскликнул Гриша. – Это в твой-то карман?
– Полегче. Грязь льешь, непроверенными фактами бросаешься, как этот журналист.
– Да иди ты на … , – послал Гриша. – Я ж здесь работал и все про тебя знаю.
– Тогда сам иди на … , – предложил Тыренко. – Заходи и спрашивай, когда деньги будут.
И за деньгами Гриша ходил долго…
Алик предлагал ему помощь – повоздействовать, статейку в газете опубликовать, но Гриша отказался. Видать, было что-то, что его сдерживало, но в благодарность за предложение помощи он выдал информацию:
– А ты знаешь, что Семеныч больше не начальник налоговой полиции?
– Не знаю, – изумленно ответил Алик. – А где он?
– Его вообще в городе нет. Уехал. Добил ты его, – сказал Гриша…
В этот день Алик, словно на крыльях, летал.
«Победил Ворованя! Виват! – восторженно думал он. – Хоть одним казнокрадом меньше стало. Есть справедливость в этом мире. Сняли его с должности, и, видать, поехал домой, на землю. Что ему здесь делать? Теперь поставят во главе налоговой полиции нормального мужика, и будет порядок, пока не научится воровать».
Вот и говори после этого, что знание лучше незнания. Ведал бы Алик, что Семеныч ушел на повышение, а его место занял Тыренко, то не радовался бы, а в незнании судьба подарила ему несколько светлых дней.

ПОВОРОТ
«Противник полезен только в одном случае, если он предает своих»
Сапа думал о спасении своего тела, желавшего хорошо кушать и удовольствоваться. Нужны были деньги, и деньги немалые.
«Хорошую работу в маленьком нефтяном городе может предоставить только мэр или Генерал, руководящий здешним отделением нефтяной компании, – как одержимый размышлял он об одном и том же. – К мэру на поклон не пойду слишком испорчены отношения. К Генералу самому обращаться нельзя, надо, чтобы кто-то рекомендовал, иначе хорошей зарплаты не видать. К предпринимателям идти смысла нет, поскольку они кормят хорошо только себя: продавцы получают по паре тысяч в месяц. Ездить в другой город на работу по вахте, не хочу. Не мальчик. Надо сблизиться с Матушкой. Возможно, она возьмет меня помощником…»
Подобные мысли долго бродили по Сапиным извилинам, то погружались глубоко в мозговые складки, отвергая союз с Матушкой, то всплывали на их буграх и неслись, словно бесшабашные серфингисты по крутым волнам, находя в союзе с Матушкой волнующее продолжение карьеры. Так совершалось многократно, прежде чем он позвонил Матушке.
Разговор состоялся, и был как бы ни о чем, похожий на многие телефонные пересуды, когда люди долго общаются, чтобы не скучать. Лишь в конце Сапа задал главный вопрос, с интонациями, заявляющими о необязательности ответа, чтобы чувствовалось, будто у вопрошающего и так много дел и хлопот и он раздираем разного рода перспективными предложениями:
– Матушка, при вас, при нынешней должности, должен работать помощник. Хороший помощник, моего уровня. Пока я не при деле, но это долго не продлится. Слишком много звонков, поэтому если надумаете, то выкладывайте ваше предложение быстрее…
Далее, до самого прощания, они опять говорили о разных политических пустяках, но Матушка дурой не была. Она понимала, что Сапа в трудном положении, какую бы важность на себя не нагонял. Работать вместе с ним Матушке льстило. Чтобы сам Сапа ей прислуживал – об этом она мечтала, как многие мечтают о дорогих машинах при пустом кошельке, но натура у Матушки была занозистая и мстительная. Ее терзала обида, что Сапа натаскивал на политическом поприще этого смерденыша Алика и натаскал до той степени, что за несколько месяцев популярность Алика достигла популярности самой Матушки и многие ее приверженцы и потенциальные избиратели отвернулись от нее.
Матушке требовался совет.
Ближайшим соратником Матушки была Харева. Именно к ней и обратилась Матушка…
***
– Знаешь, Харя, хочу такого помощника, как Сапа, – по-свойски сказала Матушка. – Мои силы удесятерились бы, появилось бы столько новых идей, что Хамовский бы иззавидовался.
– Не торопись, Матя, – засомневалась Харева. – Он еще недавно был врагом. Возможно, его предложение – провокация.
– Какая провокация, Харя? – укорила Матушка. – Человек без работы уже несколько месяцев. Его жена без работы.
– Матя, так просто прощать нельзя, – сказала Харева. – Помнишь сказку о змее, которую крестьянин снял с горящего дерева. Она укусила спасителя. «Такая моя природа!» – ответила она, уползая.
– Думаю, ты перестраховываешься, – засомневалась Матушка. – Ты, Харя, я, Сапа – это старая команда. Мы приехали в город одними из первых. Если не с первой волной переселенцев, так точно со второй. Мы уже этим близки. Ты ж знаешь, первый вопрос, который задает северянин северянину: «Сколько лет ты на Севере?» Кто назовет меньший срок, тот вроде как не котируется. Алик приехал в маленький нефтяной город намного позднее, чем мы. Это отдаляет его от Сапы. Эту пропасть ничем не завалить, никакими экскрементами, которые Алик льет на стариков.
– Возможно, ты и права, – согласилась Харева. – Тогда надо по-бандитски. Свяжем его с нами кровью Алика. Так поступают все нормальные люди.
– Кровью?! – испуганно спросила Матушка, зная неуправляемый уголовный характер Харевой. – Ты уголовщину предлагаешь, Харя?!
– Волнуешься, как девушка от первого свидания! Матя! Кровью – в переносном смысле, конечно, – объяснила Харева. – Надо с помощью Сапы подставить Алика под ложную информацию.
– Сапа согласится. Ему деваться некуда. Он готов проститься с журналистиком, – согласилась Матушка. – Но как все осуществить?
– Что думать?! – восхитилась Харева. – Я попрошу Сапу организовать мне встречу с Аликом для важного разговора. Сапа согласится, а Алик откликнется.
– Какую информацию будем сливать? – спросила Матушка. – Алик осторожно работает.
– Есть одна идейка, – интригующе ответила Харева …
***
Плывя на мощных волнах народного гнева, можно на равных поспорить с представителями пены и, глядишь, что-то урвать. Это качество стало главным в характере Матушки, о нем мало кто догадывался, потому что не хитрый – только глупый. Глупой Матушка не была. Алик в свое время тоже любил Матушку и восхищался, слушая ее рассказы:
«Ох, помню, как в феврале после начала перестройки медицина вышла на улицу, на первую в истории маленького нефтяного города забастовку! Получали – совсем ничего. Я тогда была председателем профкома. Мы построились в колонну. Каждое отделение подготовило транспарант, один из них гласил: «Полсапога – наша зарплата!» Соблюдая порядок, мы двинулись к исполкому.
Меня выдвинули на ведение переговоров. Там присутствовали как руководители города, так и представители тогда еще государственного предприятия «СНГ». Разговор состоялся бурный. Я им такого жару задала, что зарплату повысили».
Понимание приходит позднее. Работая в архиве, Алик случайно наткнулся на документ тех лет: постановление председателя Совета, то есть Сапы, и Главы администрации, то есть Бабия:
«Выделить 1384 тыс. рублей из городского бюджета на покупку легкового автомобиля для работника больницы Матушкиной. Шестьдесят процентов этой суммы выделяется безвозмездно, остальное оформляется как беспроцентная ссуда…»
«Вот так номер, – подумал в тот момент Алик. – Покупной лидер. Картину гонит наше руководство. Публичная конфронтация с властью оборачивается очень даже прибыльным общением. Видимо, столько стоил компромисс, достигнутый Матушкой при ведении переговоров за подъем зарплаты. Интересно, сколько она уступила в зарплате медикам за личный автомобиль…»
После этого чувства Алика к Матушке охладели, остался спокойный интерес исследователя, рассматривающего под микроскопом опасную бактерию, сильно похожую на полезную…
– Матушка, – говорила его жена Роза, поднося трубку, и это всегда было неожиданно. Он сам не знал почему. Он даже не знал, хотел ли разговаривать с этой облеченной властью женщиной, которую иной раз сравнивал с ужасной спрутообразной ведьмой из мультипликационной сказки «Русалочка». В этом соотнесении не было ничего присущего именно Матушке. Этот образ Алик распространял на всех излучавших тягостные ощущения крупных женщин.
Матушка тоже хотела украсть голос, его голос, как та ведьма. Она хотела, чтобы он писал за нее, писал о ней. И чем больше, тем лучше. От нее тоже разило уверенностью и угнетающей изворотливостью народного лидера, стремящегося любыми путями остаться на плаву. Но такова суть игры в политику. Народу обещают, народ голосует, голосует за образ, а не за дело. Вдохновляющий обнадеживающий образ – в этом весь секрет, а одинаковые по образу звери сбиваются в стаи.
НАЖИВКА
«Охотник должен быть умнее жертвы, иначе он сам становится жертвой»

На кухне Сапы висела интимная полутьма, сравнимая со скрытной освещенностью, даримой капризной свечой уединившимся влюбленным, но влюбленных на кухне у Сапы не было, а проистекал свет не от сгоравших в кислороде восковых или парафиновых испарений, а от раскаленной пружинистой вольфрамовой нити небольшой настольной лампы, принесенной Петровной на кухню. Потолочная лампа темнела, как некрашеная новогодняя игрушка. Вокруг кухонного стола, в центре которого стояла тарелка с жареной рыбой, сидели Сапа, Петровна, Алик и Харева. Они говорили и шевелились и портили интимную полутьму. Сумрак, изрезанный светом и обогащенный движущимися тенями, вился вокруг собравшихся, как темное создание чуждого мира.
Петровна подошла к телевизору, чтобы выключить его в преддверии начинающейся беседы, но была остановлена мягким басом Сапы:
– Телевизор пусть работает, у меня подозрение, что тут все прослушивается.
Сапа в последнее время взялся регулярно произносить эту фразу при Алике, чтобы тот не обвинил его в том, что тайные разговоры на кухне вдруг стали известны посторонним. Так Сапа оставлял себе лазейку для маневра.
– Да что вы выдумываете? – в который раз спросил Алик.
– Что выдумывать? Оборудование у них есть, я точно знаю, исполнители есть, интерес к нашим разговорам есть. Могут прослушивать запросто, – ответил Сапа. – Давай, Харева, выкладывай, что хотела сказать.
– Плата за детей в детских садах завышена, – почесала грудь Харева. – За родителей обидно. Работают, горбатятся, а их обирают.
Тему Харева выбрала не случайно. Она знала про конфликт Алика с начальником Управления образования, и это работало на хороший клев с его стороны. Кроме того, интерес Алика к плате в детских садах был очевиден и высказан на страницах «Дробинки»:
«Бюджетное Управление образования частным порядком увеличило плату за место в детских садах в два раза. Газета «Д» для защиты интересов горожан предприняла попытку узнать подноготную данного повышения. Но сотрудники Управления образования наотрез отказались прокомментировать содеянное. Начальник Управления образования, Сирова, защищенная депутатским мандатом, бросила телефонную трубку…»
В костер этого интереса и решила бросить дровишек Харева.
– Конечно, плата за место в детских садах завышена, – отреагировал Алик. – Во-первых, по закону плата не должна превышать двадцати процентов фактических затрат. Во-вторых, подробную калькуляцию фактических затрат Управление образования не предоставляет, как мэр не дает подробную калькуляцию бюджета. Указываются расходы по общим статьям, а по ним невозможно судить о конкретном использовании конкретного рубля.
– Так вот, Алик, я тебе сейчас могу рассказать, как обстоят дела по родительской плате в конкретном моем детском саду, – ответила Харева. – Я сейчас тебе назову очень конкретные цифры…
Случайности не случайны, какую информацию они несут, человек обычно не осмысливает. Перед визитом к Сапе иссякла энергия в батарейках диктофона. Запасных Алик не имел, магазины закрыты. «Как на охоту идти, так собак кормить», – говорила ему мать, глядя на это качество сына, но ее упреки ни к чему не привели. Точнее почти ни к чему. Алик со временем стал более предусмотрительным, но приобретенное не есть врожденное, и предусмотрительность часто давала сбои. Так и в этот раз. Слова Харевой записать было не на что.
– Вот смотри, – интригующе продолжала Харева …
Цифры, слетавшие с языка, Харева фиксировала на листе бумаги, складывала, делила, умножала и в итоге сделала вывод:
–… получаем более трех миллионов рублей в год, абсолютно незаконно собранных с родителей!
Харева дорисовала на бумаге цифры и поставила в нижнем правом углу листа жирный восклицательный знак.
– Ну и дела! – восхитился Алик.
– Информация интересная, но вряд ли она кого-то взволнует, – высказал мнение Сапа. – Здесь в маленьком нефтяном городе родители хорошо зарабатывают и денег на детей не жалеют. Сотней больше, сотней меньше. Другое дело, что эту информацию можно подать так, чтобы каждый понял: эти деньги тратятся не на детей, а на избирательную кампанию мэра, на выпуск его книжек, на банкеты. Тогда возможно…
– Хороший материал получится, – закончила Петровна.
– Мне бы официальные документы, на которых основаны эти расчеты, – попросил Алик.
– В цифрах можешь не сомневаться, – уверенно сказала Харева. – Все ж я заведующая. Знаю.
Алик жадно глядел на бумагу с расчетами, написанными рукой Харевой. Если бы ее взять, то других доказательств не надо. Алик уже протянул руку, но, опережая его, Харева вывалила из своей тарелки на бумагу с расчетами рыбьи кости, скомкала ее и выбросила в мусорное ведро.
– Может, дадите интервью? – спросил Алик.
– Я еще поработать хочу, – ответила Харева…
Уговорить Хареву не удалось, она ушла от Сапы довольная, чувствуя, что журналист наживку заглотнул и теперь все дело во времени.
Алик покинул штаб-квартиру Сапы в раздвоенных чувствах. С одной стороны, пнуть под зад Сирову ох как хотелось. Тем более за дело. С другой стороны, ему не хотелось действовать авантюрно. Манера изложения Харевой очень напоминала манеру Хмыря – безоглядное доверие грозило катастрофой, поэтому Алик оставил детсадовскую информацию напоследок, чтобы использовать, если всплывут дополнительные улики…
Заметка про переплату в детских садах вышла спустя полгода, но только после того, как Алик нашел данные, подтверждавшие слова Харевой, в документах городской Думы. В конце заметки Алик сделал приписку: «В администрацию города передано ходатайство: «Прошу включить в повестку дня следующего заседания городской Думы вопрос об обязательном утверждении городской Думой всех тарифов для населения города, которые устанавливают муниципальные и бюджетные предприятия. Хочется верить, что мэр будет благосклонен». Таким образом, Алик надеялся вдохнуть жизнь в российский закон о местном самоуправлении, где говорилось, что все вопросы местного значения относятся к компетенции городской Думы. Они с Сапой, кстати, много говорили по этому поводу.
– Почему у нас мэр – председатель городской Думы? Винегрет получается. Он же исполнительная власть, и он же законодательная. Две головы на одной шее. Дракон! Что хочу, то и ворочу, – рассуждал Алик.
– Согласно закону, мэра наделяет полномочиями городская Дума, – ответил Сапа. – Депутаты у нас работают в Думе по совместительству и зарплату не получают. На кой им шевелиться лишний раз? Они отдали все свои функции Хамовскому и выполняют все, что ему надо.
– Тогда зачем они идут в депутаты, если это им в тягость?
– Все депутаты, за редким исключением, – руководители. Им легче решать личные проблемы, проблемы своих предприятий, торгуя собственным голосом.
***
Харева позвонила вечером, примерно через неделю после выхода заметки о переплате в детских садах.
– Ты почему все это опубликовал? – грозно спросила она.
– Хорошая заметка получилась, – ответил Алик.
– Все, что в ней написано – неправда, – атаковала Харева.
– Как неправда? Вы же сами говорили, – изумился Алик.
– Ничего я не говорила. Не ври, – ударила словом Харева. – За публикацию недостоверных данных о моем садике ты ответишь в суде. Я подаю исковое заявление.
– Но вы ж сами… когда сидели у Сапы… – растерянно пустился в объяснения Алик, который никак не мог поверить, что его так мило, по-дружески подставили.
– Мы тогда просто посидели, чай попили, рыбку покушали, поговорили о том о сем, но о детском саде ни слова, – сочинила Харева, опасаясь записи по телефону. – Откуда ты взял цифры? Не понимаю. Я их тебе не давала.
– Тогда мне придется признаться, что я вел скрытую запись, – взял себя в руки Алик. – Вы меня хорошо знаете и должны понимать, что на такие разговоры я без аппаратуры не хожу.
– Ой, мальчик, – нервно рассмеялась Харева, предупрежденная Сапой о том, что Алик был без диктофона. – Ничего опровергать мне не придется. Это тебе придется доказывать каждую цифру и каждое слово.
– Нет, ты будешь доказывать каждое слово, – ответил Алик, потрясенный подобным цинизмом.
– Сам ты… – не успела ответить Харева, как Алик бросил трубку.
Справедливого суда Алик не боялся, все необходимые документы лежали в ящике стола, но он понимал, что суд маленького нефтяного города далек от справедливости, а интрига, затеянная его ближайшим соратником, Сапой, поразила в самое сердце. Но кто хочет показаться нечестным? Сапа оправдывался красиво:
– Такой грязи в моем доме еще не бывало. И кто!? Харева – моя старая знакомая. Я ж ее от прокурора спас, когда она Фрицыка изрисовала и нахулиганила. Я ж ее в депутатах оставил, когда обманутые ею жители фенольных домов домогались ее отзыва. Она ж мне обязана. Кто б мог подумать?! Я перед тобой виноват. Извини.
– Не вините себя, – утешал Алик, понимая, что лучшего советчика, чем Сапа, ему не найти. – Вы же не могли предугадать, что так получится. Вас просто использовали.
– Это задание Матушки, несомненно, Матушки, – продолжал Сапа. – Ее подлые приемчики. Ты ей поперек горла. Но ведь мы так давно знакомы! И все в моем доме…
– Перестаньте, – Алик продолжал играть свою роль, пытаясь удержать возле себя пусть предателя, но весьма полезного предателя. – В принципе, я не пострадал…
***
В декабре началась регистрация кандидатов в депутаты для перевыборов действующего состава Думы маленького нефтяного городка, то есть для Алика подошел тот этап, который, как предупреждал его Сапа, журналисту преодолеть второй раз невозможно. Так и случилось.
ОТВЕТ
«Чтобы узнать, как устроен мир, не надо далеко ездить – достаточно осмотреться»
Неприятности сыпались на Алика одна за другой, и главной среди них была та, что на счет «Дробинки», который он открыл в банке, от достаточно обеспеченного населения маленького нефтяного городка не поступило ни копейки, несмотря на неоднократные просьбы, размещаемые Аликом как в своей, так и в городской газете.
«Конец близится, – понимал Алик. – Как прав Сапа! Народу действительно все до балды».
В довершение ко всему он узнал, что Семеныч уехал из маленького нефтяного города, не будучи уволенным и опозоренным, а на повышение в Екатеринбург. Это было слишком.
«За какие заслуги Семеныч получил повышение? – раздумывал Алик. – Неужели качества казнокрада так высоко ценятся? Конечно, нет. Просто там его никто не знает. Расхвалили его, наверное, наверху. А кто в Екатеринбурге читает газеты маленького нефтяного городка?»
– Я послал все документы про Семеныча представителю президента по Уральскому Федеральному округу, – сказал Алик Сапе при следующей встрече. – Это единственный вариант поправить дело. На кого еще надеяться, как не на президента?
– Ты знаешь, Алик, когда я думаю о пирамиде власти, – пустился в привычные рассуждения Сапа, – то даже представить себе не могу, какой сволочью надо быть, чтобы стать президентом в России. Чем выше, тем меньше человека. Твоя надежда не оправдается. Поверь. Даю голову на отсечение. Кстати, ты обрати внимание, как со сближением церкви и государства в государственных структурах востребована фамилия Попов. Но ведь мало кто задумывается о том, что тут все дело в ударении.
– Ох, Сапа, вечно вы что-нибудь придумаете, но правда ваша, – рассмеялся Алик. – Обидно, что народ не видит ничего дальше своей собственной заработной платы. Возьмите выборы. Голосуют за всяких козлов, а потом говорят: «А за кого еще? Больше достойных не было». А потом живут и говорят: «Вот козел…» Но козел же не изменится оттого, что за него проголосовали. Есть графа: «Против всех». Ставь там галочку, если сомневаешься. Будут перевыборы, другие кандидаты. Так нет же, у народа готов ответ: «Это опять деньги». Как будто из своего кармана, как будто на создании справедливой власти можно экономить! Власть растранжирит и раскрадет во много раз больше, чем потребуется на перевыборы. И что самое обидно, что все мысли, ходящие в народе, внушаются сверху. «Голосуй или проиграешь!» Да все наоборот. Если человек не приходит на избирательный участок, где в списках нет симпатичного ему кандидата, он совершает истинно гражданский поступок, поскольку снижает шансы всегда широко рекламируемого кандидата от власти. Ведь выборы могут не состояться…
– Я много думал над тем, как сделать, чтобы выборы стало невозможно подтасовать, – сказал Сапа. – Не нашел ни одного варианта. Можно поставить любое количество наблюдателей, но всегда будет возможность вбросить некоторое число бюллетеней…
– Извините, что прервал. Скажите, вы действительно думаете, мое обращение к помощнику Президента не сыграет? – спросил Алик.
– Сложно сказать, – ответил Сапа. – Я боюсь, что он его и не прочитает…
Ответ из Екатеринбурга пришел сравнительно быстро в солидном конверте. На бумаге значилось крупным шрифтом:
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
«Сообщаю, что Ваше заявление в отношении заместителя начальника Управления федеральной службы налоговой полиции РФ по Свердловской области Ворованя А. С. направлено для рассмотрения начальнику Главного управления федеральной службы налоговой полиции РФ по Уральскому федеральному округу – Язеву»
Глаза Алика затмило то ли глубокое уныние на грани потери сознания, то ли предвестники слез. Перед ним лежала стандартная чиновничья отписка, коими чиновники обычно стараются показать просителю, что формальности соблюдены и к ним не должно быть претензий. Никакого расследования, никакихвопросов. А может, и вообще все ложь? Может, и не читал, а в урну бросил? Как проверить?
«Даже если материалы на Семеныча уйдут этому Язеву, то для Семеныча это идеальный вариант, чтобы лишний раз выпить со своим начальником, – размышлял Алик. – Они ж на сто процентов одна команда. Что, помощник Президента это не понимает? Конечно, понимает. Просто ему дела нет. Семеныч, похоже, нужный человек. Видимо, он попал в родственную обойму, заряженную патронами одного калибра. Власти он выгоден только в одном случае, если вся тамошняя команда собрана из Семенычей…»

Семеныч, Тыренко, Братовняк, Хамовский, Сирова, СМИ, …, помощник президента, Президент, – все властные люди и организации слились для Алика в одну фигуру, на голове которой проглядывали вполне различимые рожки.
«А кто ныне чист, чья работа не направлена на разрушение России? – спросил Алик сам себя и не нашел ответа. – Я и сам никогда не был примером для подражания. Хорошую честную работу любого человека перехватывает его начальник, начальник начальника и так далее для усиления статуса организации, утяжеления своего личного политического веса, для роста своих доходов, для должностного роста. Рабочий добывает нефть, чтобы прокормить семью, а на что тратит прибыль его хозяин, не знает. Может, он работает в конечном счете на покупку оружия террористам, на войну и разрушение. Предприниматель привозит импортную одежду или технику и вымывает деньги из страны…
Ты обращаешься к одному звену власти, думая, что оно подействует на другое, а вся эта цепь вдруг вздымается и, как нагайка, хлещет тебя по спине. Благо хоть меня не смертельно хлестнула. А вообще, все это мы уже проходили. Они ж в одной бане моются. Ради чего я вообще затеял все это дело с Семенычем? Стучал, стучал в это пол-литровое народное сердце, не достучался. Книжек в детстве про справедливость начитался и не вырос из детских штанишек…» Алик еще более загрустил и вспомнил стишок, подписанный как обычно его псевдонимом Женя Рифмоплетов:
В этот день, в этот час мне так хочется жить,
Но о смерти никак не могу позабыть.
Как остаться с веселой улыбкой, никем
Быть не узнанным вскоре в больном старике?
В этот день, в этот час мне так хочется жить,
Что хочу я хоть раз до безумья любить,
Этот миг стал бы крайней ступенькой в судьбе,
А потом я отдался бы телом тебе,
Пистолет. Я приставил бы жало к виску
И с трудом бы шагнул через страх, «не могу».
ДЕЖАВЮ
«Когда человек красит место, подсиживать его не рекомендуется»
От мягкого места начальника налоговой полиции, здесь имеется в виду исключительно кресло, Тыренко ощутил прилив сил и какую-то невероятную легкость, будто обернулся птицей, которая может клевать зерно там, где захочет, и беспрепятственно. Власть распахнула дверцы клетки его затаенных желаний. Он принялся регулярно наведываться к владельцам магазинов с разными просьбами, имевшими, правда, один и тот же смысл:
– Мил друг, займи денег до зарплаты.
– Мне надо бы несколько тысяч на время. Ремонтик затеял.
– Дай денег на время. Если нет денег, то могу стиральными машинами взять.
Отказа не было ни сразу, ни через месяц, ни через какое другое время, несмотря на то что взятое взаймы Тыренко никогда не возвращал. Кредиторы втайне ругали его, но в лицо улыбались, и еще как.
В общем, пока народ ел, пил и орал на улицах пьяные песни, теснимые из груди водкой, которую щедро поставляли в маленький нефтяной город чиновники городской администрации, отдавая свои деньги на прокрутку предпринимателям, пока мэр реализовывал свои политические амбиции, а Алик отбивался от нападок растревоженных им чиновников, Тыренко придумывал всякие такие штуки по отъему денег. Причем только для себя. Такую ситуацию многие сотрудники налоговой полиции не одобряли и вспоминали добрым словом Семеныча, который и сам воровал, и другим давал возможность, но все недовольство гасилось Тыренко. Он каждое утро проводил инструктаж сотрудников и уточнял список магазинов, которые проверять воспрещалось.
– Налоговая полиция не богатая организация, и, видя нищенское наше положение, некоторые самаритяне нашего нефтяного городка, жертвенные человеко-граждане, дают нам всего понемногу. Их трогать нельзя. Это радушные предприниматели, – объяснял Тыренко. – Они нам покупают бумагу, канцелярские принадлежности. В общем, дают возможность работать…
– А при чем тут винно-водочные магазины? – спросил один из оперов.
– Да притом, что как только вы лезете в эти торговые точки, так из городской администрации поступают звонки, – ответил Тыренко. – Мы ж должны уважать городскую власть и не нервировать ее.
– Извините, я все же не понял, как связана власть и водка? – продолжил тот самый опер.
– Это не ваше дело, – ответил Тыренко, а про себя подумал: «Надо сокращать этих оперов, брать мужиков попроще. От оперов одни проблемы, их учили копать и вынюхивать, вот они все без разбора копают и вынюхивают».
Магазинов, в которых можно было проводить проверки, осталось все меньше и меньше, профессиональных оперов тоже.
***
Обучение Алика особенностям народного мировоззрения шло стремительно. Накануне перевыборов депутатов Думы маленького нефтяного города он позабыл о налоговой полиции и все силы положил, чтобы объяснить населению в «Дробинке», кто такая Сирова и почему не надо за нее голосовать. Личной предубежденности Алик не испытывал, как и не горел политическим фанатизмом, он стремился нести правду народу, которому раз в четыре года предстояло сделать выбор своих властителей на все четыре года. И результат его подстерегал удивительный: если унавоживать землю, она дает больший урожай не навоза, а вполне съедобных продуктов, распространение правдивой, но отрицательной информации про Сирову не дало ожидаемого Аликом результата: народ настолько массово проголосовал за главного учителя маленького нефтяного города, что она заняла первое место по числу полученных голосов избирателей.
РЕКОМЕНДАЦИЯ
«Чужие глаза в чужом огороде видят лучше»
– На мой взгляд, после своего проигрыша в выборах я не имею права выпускать «Дробинку», иначе буду поощрять народную халяву, – предположил Алик. – В противном случае получится, что у меня личные счеты с мэром, а это принципиально не так. По большому счету мэр ничего плохого мне не делал. Даже друзья иногда дерутся, хотя другом его, конечно, не назовешь. Я ж для людей старался. Рассчитывал на понимание.
– А знаешь, ты прав, – удивленный такой переменой, проговорил Сапа. – Твоя «Дробинка» – это предвыборное обещание. Тебя не переизбрали, и ты ничего не должен. Если ты дальше будешь продолжать борьбу, выпускать оппозиционную газету, то, кроме проблем, ничего не наживешь.
– Когда идут танки, любой психически нормальный солдат должен прятаться в укрытие, – подхватил Алик. – Народу я послужил как мог, народ меня кинул по всем позициям. Он только просил: «Давай, давай». Помочь – никого нет. Фронта нет. Есть театр одного актера. Хватит думать обо всех, пора подумать о себе. Так я решил.
– Ты опять прав, – еще раз грустно повторил Сапа. – Ты не бросал заявления об увольнении мэру на стол. Ты чист. Тебе можно.
– Конечно, работать в газете и хвалить муниципалитет после того, что я узнал и понял, будет нелегко, – продолжил Алик. – Но я решил попробовать себя в литературе. Буду писать рассказы.
– У тебя может получиться, – согласился Сапа. – Талант есть, только бы подучиться немного. Поступил бы ты в литературный институт.
***
После этого Алик стал спокойнее относиться к денежным махинациям власти, к журналистике как к разоблачительной трибуне и попробовал написать рассказ. Главным героем он выбрал своего деда, Федора, у которого жил в давно забытом детстве, потому что откуда брать героев, как не из числа хорошо знакомых близких людей, по крайней мере, для начала.
БАРС
«Иной раз мы всю жизнь стараемся вернуть своих друзей…»
Дед, бывший офицер-дальневосточник, лежал под теплым одеялом и тревожно прислушивался к сердцу, которое то замирало, то снова билось. Несмотря на свои восемьдесят три года и понимание близкого конца, желание жить не ослабло в нем и страх смерти нисколько не уменьшился. Ему нездоровилось, знобило. Неровно бившееся сердечко уже не согревало даже уменьшившееся в весе и росте, сморщившееся, как весеннее прошлогоднее яблоко, тело. Хорошо хоть бабка жила, ухаживала, но сейчас она ушла в магазин.
Рядом на стуле, с сиденья которого давно сошли краска и лак, покоились его затертые пластмассовые очки, оснащенные мощными линзами, но они мало что позволяли разглядеть.
В молодости, на одном из учений, ему в глаза залетели мелкие металлические стружки. Но кого беспокоят мелкие раны, когда энергии хоть отбавляй? Опомнился ближе к пенсии, а тогда не помогли даже две операции на глазах. Зрение неотвратимо гасло. Пришлось приспосабливать очки. Дед подмотал их на переносице клейкой лентой так, чтобы стекла располагались перед глазами наиболее выигрышно, и тогда, когда не болел, и освещение позволяло, он мог разглядеть своих внуков. От безнадежного уныния спасали только воспоминания. Вот и сейчас, в одиночестве, он лежал и вспоминал прошлое, свою любимую собаку, Барса, чье присутствие возле себя он ощущал и по сей день…
***
Восточноевропейскую овчарку он взял месячным щенком из специального питомника хабаровского клуба собаководства. Щенок был маленький, крошечный. Стоил по тем деньгам двести рублей, а когда вырос, то взамен его тамошние пограничники предлагали тысячу двести.
– Продайте, – просили они. – Как производитель он нам нужен. Больше тысячи двести не можем. У нас такса такая. Вдобавок отдадим вам другую собаку – старую, отслужившую.
Этот вопрос обсуждали на семейном совете, куда входили и четверо детей, и решили Барса не отдавать…
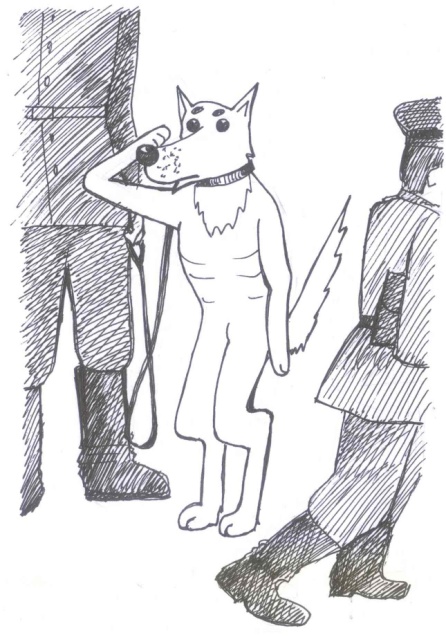
Дед сам дрессировал овчарку, специально обучался этому делу и даже получил диплом дрессировщика в клубе собаководства. Но одного умения тут мало. Овчарка оказалась очень хороша. Воспитание доброе или кровь. До многого доходила своим умом, если так можно сказать в отношении собаки.
***
«Вот если бы сейчас она была жива, а я бы сидел и выпивал с кем-нибудь, то он бы не подошел к столу, – подумал дед с грустью, потому что давно уже не выпивал, как раньше, да и друзья все умерли. – Он бы в коридоре лежал да посматривал. На кухню не заходил. Ни в моем присутствии, ни без меня. Доходил до кухни, ложился, лапки складывал вместе, а на них морду укладывал. Приходил с улицы, пока лапы ему не вымоют, ни за что в квартиру. Так в коридоре и стоял…»
***
Как-то деду пришлось уехать в Москву на переподготовку, и в Хабаровске бабка на целый год осталась одна с четырьмя детьми. Квартира в районе вокзала. Бандитское местечко. Второй этаж, равносильный современному первому, так как первым тогда считался полуподвал. По наружной стене дома проходил широкий опоясывающий выступ. Встав на него можно запросто заглядывать через окна в комнату…
Посреди июльской ночи Барс зашубутился и стал рваться к окну. Лаял, вился возле подоконника. Перебегал к другому окну и там все сызнова. Мордой разбил одно стекло, нос порезал. Шрамы так и остались. Воевал до рассвета. Весь дом слышал этот шум, и никто не вышел, не пришел, не спросил, что там у вас делается. Все боялись. Только следующим днем соседи сообщили, что поутру видели две тени отбегавшие от дома в переулок. Отстоял Барс семью…
В поезде, когда дед получил приказ на перевод в другую военную часть, ехали вместе с Барсом. Семья большая, поэтому выкупили два купе. Барс лежал на полу. Из ресторана шел пьяненький мужичок, то ли по ошибке, то ли из нехороших намерений приоткрыл дверь. Барс как рыкнул. Дверь мгновенно захлопнулась…
На новом месте поселились на четвертом этаже дома, построенного немецкими военнопленными. Огороженная проволокой зона начиналась метрах в десяти. Барс жил в широком коридоре. Он там лежал, отдыхал, но, когда подъездная дверь хлопала, сразу поднимал голову и прислушивался. Если опускал голову – значит, шагал тот, кто живет в этом подъезде. Если чужой шел, то голова не опускалась. Звонок в квартиру встречал в боевой готовности. И вот как-то хозяева были на кухне. Услышали рык и хлопок двери. Выскочили из кухни, открыли входную дверь, а в подъезде эхо гуляло оттого, что кто-то быстро бежал вниз. Вор, наверное. Тогда краж много было.
Умер Барс от ожирения сердца, когда дети подросли. Они с ним бегали, ходили на лыжные прогулки, на санках на нем катались… А потом всем стало недосуг. Когда он умер, дед подозревал, что это чьих-то рук дело. Барс пьяных очень не любил, бросался на них, еле сдерживали. Один раз самого деда так тащил за поводок, что если бы не бордюр, в который дед уперся ногами, то пьяному бы не поздоровилось. И в свой последний вечер Барс выглядел вполне здоровым. Сын вывел его на улицу. Приходит и говорит: «Батя, что-то хрипит пес…» Поэтому, вначале и подумали, что отравили… Но в ветеринарном институте поставили диагноз: инфаркт от ожирения сердца.
Тогда вся семья горевала по своему защитнику и другу, в особенности дед, привязавшийся к Барсу, как к пятому и самому младшему ребенку, и Барс хранил ему преданность до конца своих дней…
После смерти собаки дед долго не находил покоя. Иногда, идя осенью через расположенную рядом с его домом березовую аллею, он замечал, что опавшая листва крутится возле него примерно так, как она летала в то время, когда он выгуливал Барса.
«Ну, естественно, мерещится. Все ветер-озорник, – успокаивал он себя. – Давно пора забыть. Хорошая собака была, но ее не вернешь».
И таких моментов, отзывавшихся в его сердце ностальгической ноткой, случалось много. Вечерами, возвращаясь с работы, он чувствовал, словно помогает ему идти, тянет вперед поводок, будто Барс шел впереди, а может, просто ветер в спину, да и с работы всегда легче. Когда дед поднимался на этаж, ему иной раз чудились звуки мягкой поступи Барса и, что особенно странно, его никогда не покидало ощущение защищенности, как в то время, когда рядом с ним шла любимая овчарка…
Дед радовался своим мыслям о Барсе, мыслям, позволявшим чувствовать его и почти видеть, точнее, иногда видеть, что дед относил к помутнению сознания, но не беспокоился, потому что возвращалось прежнее ощущение его молодости. Причем с течением времени он все больше верил своим видениям, хоть бабка и тревожилась за него, а изредка посмеивалась, хоть дети настороженно, с жалостью поглядывали на него при встречах. Он знал, что каждый идет своим путем, и вскоре они никогда не встретятся, поэтому не обращал внимания. Он ощущал, что на той стороне, его уже ждет друг…
***
Хлопнула входная дверь. «Бабка вернулась», – подумал дед. Раздались шаги, заскрипели половицы, дверцы шкафов… Дед обеспокоено приподнялся на диване, и тут в дверном проеме его комнатушки возник незнакомый парень. Он его не столько увидел, сколько почувствовал: не те тени, не тот шаг.
– Вы куда? – он удивленно обратился к незнакомцу и понял: вор.
– А ты, старый хрыч, что тут делаешь? – спросил вор.
– Немедленно убирайся отсюда. Чтоб ноги здесь не было! – требовательно по-военному произнес дед.
– Счас. Деньги гони, а то по тыкве получишь, – ответил вор и потянулся к деду, чтобы исполнить задуманное…
Но что-то видать не получилось у незнакомца. Дед услышал крик вора и шум схватки, быстрее надел очки и разглядел черноволосого молодого мужчину в легкой китайской куртке серо-зеленого цвета, который крутился на месте, постепенно отступая к выходу из квартиры.
– Что за дерьмо?!! – услышал дед его отчаянный крик и тут разглядел, что у того на руке, ухватив ее мощными челюстями, повисла здоровенная овчарка с седыми подпалинами – Барс! Мысль, что такого быть не может, деду не пришла в голову. Он забыл о телефоне, о милиции, а, встав с постели, желал только одного, чтобы Барс выгнал незваного гостя из квартиры…
– Барс, взять его, фас, фас…, – кричал дед.
Вор с ужасом смотрел на него и отступал. Дед продвигался вперед шаркающей походкой и видел, что овчарка не успокаивалась, зверела, бросалась на незнакомца, отталкивая его к выходу, щелкала челюстями то рядом с его лицом, то замыкала зубы на локте, который вор выставлял вперед. Еще немного, и, казалось, она вцепилась бы тому в шею, но вор развернулся, выскочил в дверь на лестницу и бросился вниз, крикнув на прощание:
– Псих! Тебя в больницу надо!..
Собака сразу исчезла. «Скорее всего, выскочила за вором», – подумал деда, у которого от потрясения подрагивали руки. Он несколько раз крикнул в подъезд:
– Барс, назад!..
Эхо, отскакивая от ступенек и тесных стен, быстро бежало до самого выхода из подъезда, но собака не откликнулась. Дед подождал, закрыл входную дверь, зашел в ванную, умылся, затем прошел на кухню и накапал успокоительного, а потом опять лег в постель. И ему снился Барс, снилось, что его собачья душа была рядом, охраняя от бед…
Раздался звонок в дверь. Пришла бабка.
– Как здоровье?
– Не очень. Тут странное произошло. Сама знаешь, вчера пошел в сад и чуть не завалился на середине пути. Аритмия. Отлеживался. Весь день валялся, и только под утро отпустило. Сегодня тоже лежу, просыпаюсь, а тут вор шарится. Думал, видимо, что мы с тобой в саду, как обычно…
– Да что ты!..
– Потом Барс откуда-то появился и давай на него бросаться. Вор еле утек.
– Ну ты даешь! Ох, напугал. Барс же помер! Померещилось тебе. Эх, старость…
Дед безуспешно поспорил с бабкой, замолчал, но остался при своем мнении. В привидения он не верил, но в то же время увиденное им он не мог отнести к обыденному помутнению сознания. Все было реально: и вор, и Барс, который вроде бы давно умер. Он покоился в лесу, там, где его похоронили всей семьей, но сейчас дед и место бы не указал и не сказал бы уверенно, явью была смерть Барса или сном.
Бабка пошла на кухню, села за стол и принялась с трудом выводить буквы на листке бумаги, которому предначертано было стать письмом внуку:
«…если что-то где-то недописано или стоит лишняя буква, то извиняюсь. Вижу уже плохо и отключаться стала часто. Как-то села в автобус, проехала свою остановку, забыла, где живу. Люди помогли дом найти. Дед тоже стареет. Почти ничего не видит, недавно лежал в госпитале, но нам уже ничто не помогает. Вот он сегодня твердит, что видел Барса, которого схоронили давно…»
А дед опять прилег на диван, на оборудованное для нелегкой старости место, где на простыне рядом с подушкой лежал старый черный наушник, подключенный к радио, так что стоило замкнуть провода, прямо лежа на диване, и радио оживало, рядом лежал пульт от телевизора, на ковре висела лампа-прищепка, которую также можно было включить, не вставая. Но ко всем полезным предметам дед не притронулся. Он лежал и размышлял о том, что хотя он стал видеть очень плохо, но в то же время гораздо лучше, чем в молодости: Барс где-то поблизости. Он почти ощущал его теплое дыхание и понимал, что в какой-то момент именно это чувство, чувство близкого друга, стремление к нему поможет перешагнуть границу жизни, за которой они встретятся…
***
– Собака перестала лаять! – воскликнул Тыренко, примерно через полгода после того, как Алик перестал быть депутатом. – Подавилась-таки Семенычем. Теперь рассказики сочиняет.
Он регулярно просматривал все местные газеты, боясь, что Алик напишет что-нибудь насчет того, что он из десяти оперов в налоговой полиции оставил только четырех.
– Какая собака? – спросил Инкевич, новый заместитель, которого Тыренко назначил вместо Вити, надеявшегося хотя бы на это место.
Инкевич, по образованию электротехник, был большим школьным другом Тыренко, и тот не удержался земляческих чувств и вызвал его в маленький нефтяной город на хорошую зарплату.
– Журналист тут один дурил, – растолковал Тыренко. – Все критиковал. Сейчас заткнулся. Представляешь, на налоговую полицию замахивался. Мэра критиковал. Других. Вот как бы на земле с таким поступили?
– Сам знаешь как: прибили и закопали где-нибудь, – ответил Инкевич и потянулся неверной рукой к ополовиненной бутылке коньяка.
– Стопаньки, – произнес Тыренко. – Не хватит ли тебе? Выпили же. Ты и так постоянно пьян. Показателей никаких. Как бы нас не скинули.
– Брось беспокоиться, – ответил Инкевич. – Кто нас скинет при наших-то подтяжках, то есть подвязках?
Действительно на всех главных должностях, отделявших начальника налоговой полиции маленького нефтяного городка, Тыренко, от московского начальника налоговой полиции всей России, сидели знакомые и благожелающие им люди.
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА
«Изнашивается все, даже дружба»
Алик по привычке следил за газетными публикациями, делал неутешительные выводы. Все, с чем он боролся, продолжалось. Он держал перед собой три публикации, на каждой светилось по одной строке, выделенной ярким маркером:
1. «С введением в действие нового Налогового кодекса вся алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке региональными специальными марками».
2. «Распоряжением Правительства РФ разрешено до 1 сентября реализовать остатки немаркированной региональными специальными марками алкогольной продукции».
3. Распоряжение мэра «О продлении срока реализации алкогольной продукции», датированное 31 августа.
«Охамела власть с Хамовским, – печально раздумывал Алик. – Правительство России ограничивает срок продажи немаркированной водки первым сентября. Мэр маленького нефтяного города на Правительство плюет, продляет продажу водки, и прокуратура молчит»…
***
Сапа думал о неудавшемся союзе с Матушкой и тосковал. После того, как у Матушки с Харевой провалилась затея обвинить Алика в дезинформации, Матушка потеряла интерес к Сапе. Сапа чувствовал, что провинился и перед политической противницей Хамовского, хоть и иллюзорной, и это приводило его в совершеннейшее уныние, поскольку между двумя сторонами одной и той же политической медали маленького нефтяного города, властью и оппозицией, не находилось промежутка, куда удалось бы втиснуться.
На ум Сапе приходили странные разрозненные мысли: «Когда люди говорят, что похудели на два-три килограмма, это смешно. Может, они в туалет хорошо сходили», «У учеников актировка, учителя – за водкой», «Чтобы быстрее и проще повысить показатели, надо не работать, а приписывать»… Откуда и зачем эти думы появлялись в его голове, Сапа не мог понять, он их воспринимал, как пламя воспринимает дрова, и тускнел, как затухает ненужный огонь…
***
При встрече с Сапой Алик еще в дверях обратил внимание, что его политический консультант еще более обрюзг, побледнел и даже полысел. Он такой и стоял в коридоре, одетый в синие свободные спортивно-домашние штаны, светлую футболку и, кроме сказанного выше, похудевший, постаревший и небритый. Пригласил в квартиру без энтузиазма, только потому, что, как интеллигентный человек или считающий себя таковым, не мог отказать просящему. Алик привычно вошел в кухню, присел в кресло, где обычно и сидел, и был неприятно удивлен тем, что испарились таинственные эфиры, превращавшие любой разговор с Сапой в сказочное общение. Взрослая сказка о Сапе внезапно перестала волновать, как в свое время Алик внезапно стал равнодушен к детским сказкам. Он понял, что больше к Сапе не придет, но разговор, несмотря на взаимную антипатию, сложился интересный…
– Торговля водкой в советское время являлась золотым ручейком государства, – вспомнил Сапа. – Одна из главных доходных статей бюджета. Чиновники прекрасно знают, какой бизнес надо брать в свои руки.
– И тогда в другом свете выглядят расплодившиеся праздники, – продолжил Алик. – В праздники народ пьет водки намного больше, а это дополнительные деньги. Вспомните банкеты, которые последние годы администрация нашего города организует по каждому маломальскому случаю. Любой день рождения организации или учреждения – и обязательно организуются застолья в ресторане, причем за бюджетный счет и со значительными возлияниями. А это опять дополнительные деньги. Чем больше народ спивается, тем больше прибыли получат торговцы водкой, а согласно нашей версии – чиновники.
– Ты не забывай еще один момент, – продолжил Сапа. – Водка всегда связана с ростом преступности, и чиновники, торгующие спиртным, ей содействуют…
Последний разговор с Сапой был безрадостен. Рассказы Алика тоже принимали грустные оттенки.
ИЗЛУЧИНА РЕКИ
«О смерти, если хочешь жить, лучше не знать или стараться забыть»
Возле небольшого гнетущего холмика с аккуратным крестом из посеревшей от времени древесины стоял, склонив голову, молодой человек в легкой летней рубашке. Женщина в плотно запахнутом темном одеянии, которую вполне можно было бы принять за его жену или сестру, сидела рядом на траве, опершись рукой и поджав ноги, и грустно смотрела перед собой. Ничто окрест не утешало взор, если не считать щедрой на осенние ягоды рябины, росшей неподалеку на краю крутого обрыва, с которого открывалось величественное зрелище.
Излучина реки, окаймленная крутоярами, поросшими изумрудной и невероятно живой травой, увлекала своей величественной живописной далью. Несчетные деревья, стоявшие по обеим сторонам берега нестройной границей манящего в свои глубины светлого леса, тихо покачивали легкой листвой, словно крылами в попытке подняться в воздух, который всецело затопил это место своей беспредельно прозрачной, сияющей изнутри, эфирной субстанцией. С шелестом листьев неслись стихи на успокаивающем, мечтательном языке, непонятном для разума, но вполне различимом для впечатлительного сердца. Воздух изобиловал ароматами сочных трав и цветений. Чудо-солнце, неистовое в космическом танце безудержного огня, полыхало щедро, но необъяснимо нежно. Его лучи, будто кайма занавески, колыхались над лесом под трепетным движением ветерка и окропляли сказочную картину природы живой водой теплого света, заставляя ее исторгать из себя все доступные природные краски и гореть в полную силу, заявляя вслух о своем существовании щебетом разноголосых птиц. Широкая гордая река блестела и переливалась чешуей гонимых по поверхности небольших волн. Светлые песчаные откосы, словно ладони рук, нежно подправляли ее неторопливое течение. И в вышине, как радостный фон гениальной картины, развернулось голубое полотно кристально чистого всепрощающего неба.
Молодой человек повернулся спиной к могилке и подошел к стальной серебристой ограде, отрезавшей этот небольшой участок горькой земли от остальных земель и городов, от жизни. Он взглянул на обычную и в то же время невероятную красоту, развернувшуюся прямо перед ним, под ним, над ним. На него нахлынуло чувство полета. Мысли о потерях, раскаленной стрелой терзавшие его сердце, мгновенно исчезли, и он ощутил прикосновение счастья, того невероятного счастья, что родилось из желания слиться со всей этой красотой, стать с ней одним целым, неразрывным существом, частью полного гармонии и жизнеутверждающей силы мира. Он неподвижно стоял и завороженно смотрел, точно видел все это впервые. Радость освежила и смыла с него грязь уже давно потерявших всякий смысл тягостных мыслей. Он оглянулся на женщину, все так же задумчиво смотревшую на безотрадную могилку и крест, изводящий воспоминаниями о нереально страшных последних днях ее отца. Блестящая слезинка замерла на серой от переживаний щеке.
Отчаянное чувство пронзительной как нож жалости овладело молодым человеком.
– Повернись, посмотри вокруг, – попросил он.
Женщина с трудом оторвала опустошенный горем взгляд от могилки и непонимающе взглянула на молодого человека. В ее взгляде читались осуждение и непререкаемый приговор.
– Нельзя так безудержно горевать. Жизнь продолжается. Тебе надо отдохнуть. Оглянись. Пожалуйста, – еще раз попросил молодой человек.
В ответ она незряче посмотрела вокруг, и увидела лишь тополиную тлю, витавшую вокруг мелкими темными точками, сбивавшейся в единое пугающее темное облако, и воздух стал по июльски душным и спертым, как в тот день… Ее взгляд опять притянули крест и могилка, и снова безысходность тяжким грузом пригнула ее плечи.
– Прошу тебя, повернись. Не смотри на крест, оглянись вокруг, – проникновенно произнес молодой человек.
Женщина еще раз молча оглянулась, безотчетно повинуясь просьбе, а не желанию. Она посмотрела вокруг, но ничто не привлекло внимания ее пустых глаз, продолжавших видеть лишь холмик земли, под которым покоился близкий ей человек, все остальное скрывалось в дорожной пыли завороженного прошлым зрения. Она медленно и отстраненно, словно пребывая во сне, опять приподнялась и пересела немного в сторону. Но взгляд, взгляд! Он устремлялся в одну высасывающую силы точку: крест упрямо перечеркивал для нее и щебет птиц, и все красоты развертывающейся панорамы жизни.
Вдруг молодого человека озарило: «Множество гнетущих могил оставляем мы за собой на дороге времени. Утраты привычного, прекрасного, доброго и боготворимого неизменно последуют. Любимый человек, любимый дом, любимая работа… И хочется, чтобы жизнь остановилась в те далекие счастливые мгновенья, но она продолжается, заставляя почувствовать горечь нежданных потерь.
Изредка оглядываясь на все эти кресты, хочется вернуться, презрев все временные запреты, чтобы вечно жить с любимыми в счастье, но это невозможно, и остается страдать, упрекать себя, винить в том, что не все сделано, чтобы отдалить миг расставания? Или жить? Мы пытаемся найти новое предназначение, новое место приложения сил, нового любимого человека, порой постоянно оглядываясь назад, потому что не в силах полностью отвернуться от прошлого, лучше которого, как нам кажется, уже ничего в жизни не будет. И его страждущие тени, взывающие к тоске беспощадные тени прошлого, пытаются заслонить жемчужные проблески будущего, пытаются его ревниво отобрать и спрятать во тьме сомнений. Но прошлое умирает тут же, как только закончилось его реальное существование в настоящем. Так зачем же стремится к смерти?»
– Повернись спиной к могиле. Откройся жизни. Впереди еще есть время и много интересного. Надо только стремиться вперед и перестать оглядываться. В могиле нет ничего, кроме муки и мрака. ЕГО в земле нет, он никогда не любил сидеть дома. Он, несомненно, в небе, рядом с птицами. Смотри, – сказал молодой человек и подошел к женщине.
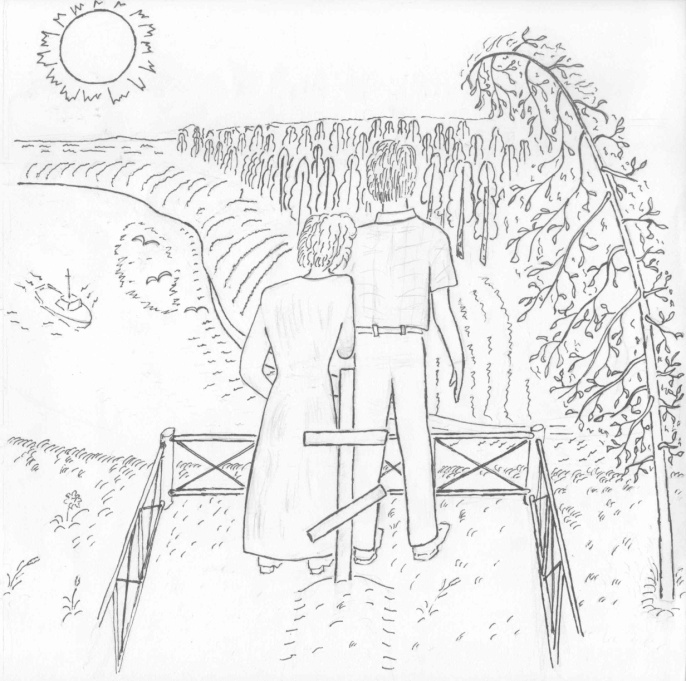
Он осторожно взял ее под мягкую безвольную руку, помог подняться, а потом неторопливо подвел к оградке, к краю пугающего неизвестностью обрыва, и она тоже увидела прекрасную арфу излучины реки и чаек, стремительно пробивавших прозрачную субстанцию, казалось, сиявшего изнутри воздуха. Легкий ветерок нежно перебирал волосы молодого человека и женщины, почти неощутимо играл со складками одежды, а они стояли вдвоем, прижавшись друг к другу, словно найдя долгожданную опору – два четких силуэта на высоком берегу сильной величественной реки.
Взгляд женщины стал оживать, яснеть – не мгновенно, нет, а так, как исчезают густые утренние туманы с алым приходом утреннего солнца. Молодой человек что-то говорил, а она почти не слушала его, внимая целому миру гармонии, который остро напомнил ей самозабвенные детские впечатления: восходящие до самого неба дальневосточные сопки, по которым, если бежать наверх, можно было коснуться блуждающих душ облаков; огромные, словно зонтики, лопухи, под которыми легко спрятаться от любого ненастья… Вид излучины реки вызвал к жизни самые сокровенные, насыщенные любовью мысли, и даже не мысли, а предмыслия, которые понемногу наполняли каждую клеточку тела ощущением счастья и стремлением к лучшему.
Они пошли от могилки по зеленой траве, по едва заметной, словно бы малахитовой дорожке, протоптанной солнечными зайчиками. Подумав об этом, женщина улыбнулась, и сама взяла молодого человека под руку.
***
Итак, Алик с Сапой больше не встречался. Сапа исчез, как часто исчезают люди, отдалившиеся от бытия или потерявшие к нему интерес, а в жизни Алика, кроме рассказов, спустя чуть более полугода появилось еще одно новое направление.
ПОДАРКИ
«Подарок иногда очень сложно отличить от взятки»
О, как он ждал подарка от своего бывшего врага, а может, и не бывшего.
«Обещал подарить ноутбук до нового года, а Хамовский словами не бросается. По крайней мере, этого за ним не замечено, – рассуждал Алик. – До Нового года осталось несколько дней. Сегодня у нас последняя встреча до назначенной даты. Значит, сегодня. Ноутбук – это уж слишком, но какой-то подарок он непременно сделает. Например, книжку свою подарит, чтобы посмеяться надо мной в глубине своей чертовской души».
Алик шел к мэру на согласование его новогоднего интервью.

Сближение с Хамовским, которого он расписывал совсем недавно в «Дробинке», было для Алика неожиданностью. Нет, он не строил иллюзий относительно забвения своих проступков. В сфере политики никто не забыт и ничто не забыто. Он наблюдал разрушенных судеб достаточно, чтобы понимать: мстительность не знает границ. Он проиграл выборы и, лишившись депутатского иммунитета, ждал расправы, но он был журналистом и любил свое дело. Поэтому решил напоследок заработать больше гонораров да и попробовать себя на новом поприще литературы.
Саморазрушение, самостоятельный уход – что может быть проще? Кинул заявление, и ты свободен, до того момента, пока на другом месте не встретишь те же проблемы. Вспыльчивость и амбиции – плохие советчики. Алик умел учиться на чужих ошибках.
Оказалось, что к такому повороту событий его соперники, а это вся администрация маленького нефтяного города вместе взятая и, естественно, руководство газеты маленького нефтяного города, финансировавшейся за счет администрации, готовы не были. Все профессионалы и непрофессионалы редакции не смогли противопоставить работоспособности Алика ничего. Он регулярно из месяца в месяц лидировал по количеству сданных и опубликованных строк. Он регулярно лидировал по количеству лучших материалов номера. И это был факт, на который было невозможно закрывать глаза. Все-таки увольнять надо за что-то.
В общем, Квашняков вынужден был, нервно подергивая маской лица, словно бы игрушечной мордочкой из пористой резины, позади которой шаловливые детские пальчики двигались и управляли мимикой, хвалить его на планерках и ставить в пример другим. Настороженные лица собратьев по перу, сидевших вокруг, приобретали при этом топорные выражения. Подхватить хвалебные идеи шефа и открыто согласиться с ним не решался никто, поскольку его незримо и неслышно вопиющие к мести чувства понимали все. Алик в душе посмеивался над Квашняковым и еще больше старался, чтобы быть готовым в начале следующего года, когда закончится его контракт, начать работу на другом поприще, где потребуется высокая производительность. И сегодня он шел к мэру на прием. Он поднимался по лестнице муниципалитета на третий этаж.
После размолвки это был не первый его визит к Хамовскому. Мэр как-то попросил помочь в работе над своей книжкой и заплатил очень хорошие деньги, причем вперед. Алик взял. Как говорится: «Дают – бери, а бьют – беги». Естественно, постарался. Он написал замечания относительно книги. На это ушло не больше недели, а деньги он получил в размере месячного заработка. Алик понимал, что ему могли и не платить. Этот подарок означал, что его перетягивают на свою сторону.
«А что в том плохого? – спрашивал он себя и сам же отвечал. – Народ проголосовал за действующую власть, как ни объясняй это действие. Народ проголосовал против свободы слова, которую я старался поддерживать в этом городе. Как ни смягчай эти факты, какими бы ни были объективные причины, но все эти события состоялись. С ними нельзя не считаться. Да, я вроде бы иду против своих убеждений, если работаю на власть, но убеждения у меня никто не отнимает. Заработки и убеждения – разные вещи. Говоря объективно, если я работаю в муниципальной газете маленького нефтяного города, то я обязан работать на действующую власть, которую народ избрал, или уходить. Но зачем ломать свою жизнь и карьеру? Как журналист я вырос в этой газете, читатели знают меня как журналиста этой газеты. Я никому ничего не докажу, если уйду, и ничего от этого не изменится, кроме моего личного будущего».
Он зашел в приемную мэра города со всеми подобающими такому визиту тонкостями этикета. Спросил у секретарши, на месте ли мэр.
– Семен Петрович вас ждет, – ответила секретарша.
Алик приоткрыл дверь и с видом человека виноватого заглянул в образовавшийся проем.
– Семен Петрович, можно? – спросил он, стараясь придать своему голосу как можно больше покорности, собственно все это происходило естественно.
Мэр разговаривал по телефону и с несколько недовольным видом махнул рукой, показывая, что зайти можно. Алик зашел, подошел к столу. Мэр протянул ему руку для пожима небрежно и ровно настолько, чтобы Алик вынужден был наклониться над столом, вытянув корпус вперед, тянуться к ладони Хамовского. Но Алик поддержал игру и выполнил то, что от него требовалось. Актерского таланта было ему не занимать.
Они принялись обсуждать интервью. Правок нашлось немного. Алик быстро соглашался со всеми, причем старался это делать опережающе. Руководителям нравится, когда человек их немного боится. Это Алик давно понял.
После согласования газетного материала Хамовский пригласил Алика в небольшую комнатку отдыха, находившуюся в глубине кабинета, больше похожую на кладовку. Рядом с дверью стояло несколько пакетов, бутылок коньяка, детских новогодних подарков. Хамовский взял один из пакетов, и с огорчением, мимолетно возникшем на его одутловатом лице, вручил Алику.
– Вот тебе к Новому году коньяк, жене конфеты, – сказал мэр. – В конвертике немножко денег.
Только они вышли из кладовочки, как в кабинет вошла Сирова, в этот раз сильно схожая с болванчиком. Казалось, толкни ее голову – и она закачается, постукивая спрятанным под платьем противовесом. Мэр профессионально заулыбался, поднялся и пошел ей навстречу, неся в руке красную папку. Они встретились в середине кабинета. Рядом уже стояла секретарша, приняв торжественную позу. Хамовский еще больше расплылся в улыбке.
«Вот уж где актер. Научился улыбаться, аж за душу берет искренностью», – подумал Алик.
В этом момент мэр начал говорить что-то поздравительное относительно Нового года, вручил красную папку с благодарственным адресом Сировой и отдельно добавил:
– А вот вам конвертик, где немножко денежек.
Сирова взяла и удалилась. Вслед за ней направился Алик.
Перед его уходом мэр сказал:
– Алик, я не забыл о твоей просьбе. Мы сейчас над ней работаем.
Он нарисовал руками в воздухе небольшой квадрат, и Алик понял, что речь идет о ноутбуке.
– Спасибо, Семен Петрович, – вымолвил он и вышел из кабинета мэра в состоянии душевного подъема, будто написал добротное стихотворение или статью.
Он спустился по лестнице, оделся в небольшом гардеробе, вышел в морозный декабрьский воздух и пересчитал деньги.
«Пять тысяч. Немного, – подумал он. – Вот если пять стодолларовых бумажек – было бы лучше. Но дареному коню в зубы не смотрят. Могло и вообще ничего не быть…»
Тут ход мыслей Алика прервал один из юристов на букву «С», работавший в «Общественной организации по защите прав потребителей». Он прошел мимо Алика энергично, не оглядываясь по сторонам, на голове его победно темнела зимняя шапка, похожая на буденовку, в руке болтался портфельчик, глаза сияли, он выглядел окрыленным.
«Смешной-то какой, – подумал Алик. – Борется с властью. Зачем? С ней лучше сотрудничать, чтобы иметь деньги. Вот так – в конвертике. И не надо ни с кем воевать. Чудак…».
Алик осознал, что точно так же смотрели на него его враги всего год назад. Ему стало стыдно. Он сегодня получил лишь небольшую подачку и уже так подумал относительно юриста на букву «С», защищавшего в судах права простых людей перед машиной власти, а она, эта машина, давит его своим катком. Он нервничает, пишет апелляции, но обращается опять же к той же власти, которая вся взаимосвязана…
«Это же огромная машина, где каждый винтик получает денег гораздо больше, чем пять тысяч к Новому году. Люди обретают квартиры, машины и множество благ помимо зарплаты. Очень легкие деньги. Плохие деньги, так как не заработаны в привычном смысле этого слова. Они развращают и притягивают. Эти люди уже вряд ли отличат добро от зла. Они будут несмотря ни на что защищать свои источники доходов: свои места, свою власть. Тут не посчитаются с законами, тут не мыслят категориями человеколюбия или высокого предназначения. Здесь думают о деньгах, а те, кто не имеет денег или не имеет их достаточно, видятся смешными дурачками, достойными своей участи и дальнейшего использования», – Алик понял, что его не отпустила горечь поражения на выборах. Он желал противостоять системе, но в глубине души чувствовал, что в таких ситуациях нельзя полагаться на собственное мировосприятие. Искренне народные лидеры появятся, когда народ захочет изменений. Пробиваться в лидеры, когда у народа нет жизненно важных мотивов для поддержки этих лидеров, не стоит, если только не несешь большого и светлого учения, ради которого можно погибнуть илиисковеркать судьбу…
«…Я всего лишь человек, и не безгрешен», – завершил цепь размышлений Алик, а юрист на букву «С» скрылся из виду.
***
Вечером в редакции газеты маленького нефтяного города состоялся Новогодний праздник. Явка была строго обязательна. Главный редактор не любил, когда кто-то опаздывает на назначенные им мероприятия. В этом он видел личный вызов и многозначительно говорил:
– Кто не явится, тот, почитай, не работает…
Алик понимал, что это пустой треп, и послать на три буквы своего редактора было бы для него как бальзам на душу, но он не хотел конфликтовать. Он понимал, что в ближайшие годы беззащитен.
Алик пришел на Новогодний праздник и исполнил предназначенную ему роль Бабы-Яги, хотя и предполагал, что в данном распределении ролей есть некоторая насмешка над его борьбой против Семеныча и других чиновников и казнокрадов, над его «Дробинкой», над идеей народного просвещения. Он пришел на Новогодний праздник, надел юбку, кофту, взял в руки метлу и сыграл свою роль с веселым настроением, так что все его враги смеялись. Правда, насчет самого праздника иллюзий не лелеял. Он понимал, что все кончится тостом единственного и неповторимого главного редактора и больше никто не отважится на поздравления. Так уж всех Квашняков поставил. Все смеялись, когда шеф смеялся, все молчали, если шеф молчал. Есть маэстро, а есть хор для поддержки. Никакой самостоятельности – это стало девизом. «Что ж, с волками жить – по-волчьи выть», – подумал Алик. И стал выть…
РАЗГОВОР НА САМОМ ВЕРХУ
«Перед тем, как молния попадает в дерево, на верху идут трения»
– Моих конкурентов надо чаще показывать в неприглядных позах, чтобы даже самый отъявленный мой противник не проголосовал бы за них, – сказал Президент.
– Исполним, – ответил помощник, – Я бы рекомендовал вам вообще отказаться от телевизионных дебатов. Так вы не будете наигрывать рейтинг своим оппонентам, уйдете от ненужных вопросов. По телевизору вас и так будут показывать: вы ж Президент. Вы пойдете в самое смотрибельное время – в новости. Ваши оппоненты будут зубами щелкать.
– Кстати, не забудьте опыт прошлых выборов, – напомнил Президент. – Побольше рекламы гражданственности. Мол, если ты не идешь на выборы, то не гражданин. Нам нужна явка. Пусть народ устыдится. Если выборы состоятся, то…
– Вы неизменно выиграете, – продолжил помощник. – Наши мастера в СМИ вобьют вашу фамилию в голову избирателей. И еще: налоговую полицию перед вашими перевыборами надо кончать. Вокруг них вечно компроматы, а нам проблемы не нужны.
– Это все из-за жадности. Один украл больше, другой – меньше. Зависть. Вот и раздрай в коллективе, – согласился Президент. – Ты прав, надо ликвидировать эту службу.
***
Вся Россия – одна деревня, похожая на маленький нефтяной город, только больше. Не успеют сказать что-то руководители страны, как это становится известно всем приближенным. По ниспадающим ветвям власти слух спускается, как капли дождя по листьям дерева, пока они не намокнут в равной степени, а уж потом вода устремится к земле, которая впитает все, что бы сверху не лилось.
ОТКЛИК
«Лучший среди мародеров тот, кто знает о катастрофе заранее»
В кабинете на самом верху правящей пирамиды России было мало людей, но подробности разговора о ликвидации налоговой полиции достигли Тыренко.
«Ведь все заберут, все, – думал он, – поглядывая на черный кожаный диван с двумя близнецами креслами, телевизор и прочую обстановку офиса налоговой полиции. Половину покрадут при передаче имущества, другая половина придет в негодность при перевозке. Нет, суки, не достанется. Надо все забирать, пока другие не забрали…»
Тыренко вызвал своего шофера, Шестеркина, помогавшего ему перевозить спальный гарнитур предпринимателя Дудкина несколько лет назад. Шестеркин продолжал искренне верить, что только благодаря Тыренко он остался в налоговой полиции после того, как разбил служебную машину на трассе, поэтому вертелся рядом со своим начальником, как преданная дворняжка рядом с хозяином.
– Здравствуй, Шестеркин, здравствуй, родной, – тепло начал разговор Тыренко.
– Здравствуйте, спасибо за все, навеки ваш, – привычно ответил Шестеркин.
– Ты, мил друг, уже, наверное, знаешь, что налоговой полиции конец приходит? – спросил Тыренко.
– Знаю, и от этого грустно мне, – ответил Шестеркин. – Я ж с вами сработался.
– Хочу тебя обрадовать, мил друг, – начал сочинять очередную байку Тыренко. – Для нас с тобой все не так плохо, как для остальных. Ты же знаешь, что на основе налоговой полиции будет создаваться новая структура – государственный контроль над незаконным оборотом наркотиков. Госнаркоконтроль! Туда перейдет все имущество налоговой полиции, туда перейдут и некоторые налоговые полицейские. Так вот: мне предложили должность начальника филиала этой новой структуры в нашем маленьком нефтяном городе. Я долго думал, кого взять в заместители. Долго думал. Решил, что лучшего заместителя, чем ты, подобрать трудно.
– Так я ж навеки ваш! – воскликнул Шестеркин. – Что хотите…
– Ничего не надо, – удовлетворенно прервал Тыренко. – Хотя… Если тебе не трудно, прими все имущество налоговой полиции на себя, побудь материально ответственным, а то у меня дел невпроворот. Устал.
– Нет проблем, – подобострастно согласился Шестеркин. – Сделаем, что надо.
– Тогда все, – известил Тыренко. – Давай иди, работай.
– Рад стараться, – по-армейски отчеканил Шестеркин и только собрался уходить, как Тыренко его окликнул:
– Постой, чуть не забыл. Тут есть кое-какие вещи, которые в свое время предприниматели нам давали для работы. Временно. Надо их погрузить и вывезти из офиса ко мне в гараж, а я их потом предпринимателям сам отдам.
– Хорошо, а когда?
– Надо узнать, когда оставшихся у нас профессиональных ментяр не будет на месте, в особенности – Вити и Кусаева. От них вечно проблемы. Заметят, начнут спрашивать, копаться, а мне лишних седин не надо, надо спокойно вернуть предпринимателям, взятые у них вещи, иначе совесть замучает. Но разве объяснишь это ментярам? Они про совесть не поймут, метят на мое место и, если узнают, что имущество увозим, сразу раздуют скандал о воровстве, и не видать тебе места заместителя…
Водитель ушел, а Тыренко с наслаждением потер лоб и подумал: «Вот и Шестеркин пригодился. Вот ведь как фамилия человека штампует, всегда можно подложить»…
***
Высокий и крепкий, как цементный телеграфный столб, Кусаев, по общему мнению, был самым сильным и грамотным оперативником в налоговой полиции. Его не увольняли, потому что раскрывать преступления более никто не умел и не хотел. Его держали в команде Семеныча, а потом и Тыренко, как вынужденное зло, как держат злую опасную собаку на толстой стальной цепи для охраны и спокойствия богатого дома.
Был случай, когда Витя подошел к Тыренко с предложением:
– Давай продвинем Кусаева наверх. Пусть поруководит.
– А кто работать будет? О деле не думаешь? Есть рабочая лошадка, пусть она и пашет, – ответил Тыренко.
***
Шестеркин быстро разыскал Кусаева, благо помещение налоговой полиции маленького нефтяного городка не страдало обилием кабинетов, и заговорил без предисловия с той мимолетной пренебрежительностью, какая зачастую проскакивает у высокого начальства в обращении к подчиненным:
– Ты сегодня будешь после обеда?
– Нет, а что тут делать? – ответил Кусаев, удивленный необычным интересом Шестеркина. – Заеду к Вите и отправимся за информацией.
– Молодцы, что без дела не сидите, – похвалил Шестеркин. – Давайте – за информацией, надо работать, показатели повышать.
По глупо заданному вопросу несложно проследить ход мысли. Кусаев легко просчитал, что Шестеркин интересовался, будет ли он в кабинетах налоговой полиции, а не радел за показатели, – такого за Шестеркиным не замечалось. «Что-то задумали, падлы», – подумал Кусаев и на всякий случай после обеда вместе с Витей заглянул в офис налоговой полиции…
Возле крыльца вплотную к нему стоял крытый компактный грузовичок. Кусаев с Витей обошли его и остановились. К ним навстречу, тяжело пыхтя, спиной продвигался Тыренко с новым двухкамерным холодильником на руках. В темноте коридора светлела натужная морда Шестеркина, державшего холодильник с другой стороны. Витя заглянул в кузов: там почти все. Ближе стояли два кожаных кресла и диван из кабинета Тыренко, чуть дальше выглядывал стеклянный журнальный столик и еще что-то.
– Куда вещи грузите? – спросил ошеломленный Кусаев.
– Подожди, – сказал Тыренко, задыхаясь. – Сейчас закончим…
Тыренко не обеспокоился тем, что его увидели за выносом мебели. Он привык перестраховываться. Все было законно. В этом деле ему помогла налаженная Семенычем связка с бухгалтером. Жена удалого Братовняка переоценила имущество, сняла с него амортизационные, то да се, и кожаная мебель, на которой если муха и сидела, то недолго, вышла примерно по стоимости двух табуреток. Что не купить?…
Холодильник удобно встал рядом с кожаной мебелью, съев оставшееся в кузове место. Тыренко вытер ладонью пот и сказал:
– Налоговой полиции кранты, а я все это брал в аренду. Надо отвезти хозяевам. А вы что не при делах?
– Мимо проезжали, – ответил Витя. – Смотрим, грузовичок стоит. Мало ли что…
– Не беспокойтесь, не воры, идите, – ответил Тыренко и деловито обратился к Шестеркину:
– Телевизор-то мы забыли…
Шестеркин кинулся за телевизором, его на ходу остановил окрик Тыренко:
– Стой, вторым рейсом возьмем…
Кусаев и Витя направились дальше.
– Что-то не нравится мне все это, – поделился сомнениями Кусаев. – Телевизор – подарок мэра города на день налоговой полиции. Тогда еще десятилетний юбилей справляли. Помнишь? От каждой организации – подарки. Тыренко занес их к себе в кабинет, и они исчезли, как голуби в ящике фокусника. Телевизор – последнее, что осталось.
– Да он все к себе домой прет. Вспомни, как-то торт на всех подарили, так он ни с кем не поделился. А импортные вентиляторы на стойках? – подхватил тему Витя. – Семеныч куда справедливее был: не только для себя, но и для личного состава старался. При нем человек семь в налоговой полиции квартиры получили. При Тыренко – один, который с Донецка приехал и осел в службе безопасности вместо меня.
– Профессионалов почти не осталось, всех разогнал, – разгорячился Кусаев. – С милицейским образованием в налоговой полиции всего два человека: ты да я.
– Что ж, развал налоговой полиции закономерен, – весомо оценил ситуацию Витя. – Когда полиция была создана, то вложенный в полицию рубль окупался более чем стократно. Сейчас – самим бы прокормиться.
ПЕРЕГИБ
«Мыльные пузыри красиво летят, пока не лопнут»

Спустя неделю после перевозки мебели, когда Шестеркин полностью вошел в роль будущего заместителя начальника Госнаркоконтроля и важно прогуливался по коридорам с высоко поднятой головой, а спиной такой ровной, что казалось, будто он спрятал под пиджаком гладильную доску, его внезапно вызывал к себе Тыренко и сказал следующее:
– Радуйся и танцуй: кончают нас окончательно. Готовь помещение к сдаче, считай и переписывай имущество. Скоро у тебя будет новое место.
Ошалевший Шестеркин устремился исполнять…
Когда Кусаев пришел на работу, то, дойдя до своего кабинета, внезапно замер и призадумался. Все его вещи лежали, сваленные в кучу, в коридоре. Когда стопорный этап недоумения миновал, Кусаев быстрым шагом застучал в дежурную часть.
– Что случилось-то, кто выбросил мои вещи?! – крикнул он, потирая ладони и разминая пальцы.
– Тыренко распорядился, чтоб я твои вещи вынес, потому что кабинеты сдавать надо. Забирай их и вали отсюда, – начальственным тоном ответил Шестеркин при всех.
Разгневанный Кусаев побежал к Тыренко.
– Это ваш приказ вещи выбрасывать в коридор? – спросил он.
Тыренко умел читать по лицам людей. Он не любил конфликтов и вулканических эмоций.
– Какой приказ? – переспросил он. – Не знаю такого. Шестеркин самодеятельность устраивает…
В дежурной части Шестеркина уже не было.
– Мужики, где он? – спросил Кусаев.
– К себе пошел…
Кусаев заглянул в кабинет Шестеркина без стука, приличествующего входу подчиненного в начальственный кабинет. Шестеркин сидел за столом, сосредоточенно смотрел на экран компьютера, быстро-быстро перебирал пальчиками и не обратил внимания как на неучтивость вошедшего, так и на него самого. Кусаев бойко прошел к столу и взглянул на экран компьютера. Шестеркин резался в виртуальную военную стычку, под названием «Черный ястреб», между живучим американским десантником, которым управлял сам Шестеркин, и множеством пустынников с автоматами. Игра шла без звука, но данное обстоятельство не убавляло эмоциональности: Шестеркин при попаданиях в его компьютерного солдата откидывался на спинку стула, словно пулю принимал сам.
– Почему вещи из кабинета выбросил? – крикнул ему Кусаев. – Ты что самоуправством занимаешься?
– Иди ты на …! – грубо крикнул Шестеркин, всем телом ощущая себя в кресле заместителя начальника, а они так и должны укрощать подчиненных. Сам неоднократно слышал.
Шестеркин послал Кусаев на три волшебные буквы, образующих знаменитое слово ненормативной лексики, которое можно вполне спокойно воспринимать на заборах и на стенах подъездов, но не в отношении себя. Щеки Кусаева немедленно запылали, будто их отмороженные хорошо растерли снегом.
– Ты что извилины в бантики заплел? – переспросил он. – Зачем мои вещи выбросил?
– Иди ты на …! – повторил Шестеркин гадкое слово на этот раз с усталыми начальственными интонациями и стал ждать, когда его оппонент, наконец, признает в нем шефа и уйдет. Однако случилось по другому.
Кусаев без разговоров и предупреждений со всего маху кулаком ударил Шестеркина прямо в скулу, потом вытащил его в коридор, принялся пинать, приговаривая:
– Зубы еще не отросли, чтобы кусать Кусаева…
Шестеркин цеплялся за косяки, втягивал тело назад в кабинет и отчаянно брыкался. Кусаев вытаскивал его и опять пинал. В какой-то момент Шестеркин изловчился, вскочил на ноги, кинулся назад в кабинет, забился под стол, где тонко и громко завизжал:
– Не бей!!!…
ВОЛГА
«Во многих вещах есть единственная ценность, что достаются они почти даром»
– Хорошая машина, хорошая! – приговаривал Тыренко, обходя черную служебную «Волгу», стоявшую в гараже налоговой полиции. – И скоро не наша будет.
– Рухлядь же, какая хорошая? – поправил начальника Шестеркин, темнея синяками.
– Ведь почти не катались на ней, почти… – продолжал сокрушаться Тыренко, имея в виду себя.
– Да уж покатались… вот если заменить двигатель, тогда как новая будет, – сказал Шестеркин. – Сальники в порядке. Корпус не ржавый. Коробка передач идеальна…
– Что ты насчет двигателя сказал? – спросил Тыренко.
– Говорю, там единственное – двигатель меняй и все. Движок попался неудачный изначально, – повторил Шестеркин.
– А сложно двигатель заменить? – заинтересовано спросил Тыренко.
– Был бы двигатель…
Тыренко неожиданно одухотворился лицом, как поэт, нашедший интересную идейку, и пошел к себе в кабинет, а по пути раздумывал:
«Ведь в пустых разговорах из ничего возникает истина. Удивительное дело – разговоры. Вот в пустом кошельке деньги сами собой не появятся. В пустой породе – ни нефти, ни золота, а разговор с самым глупым человечишкой может разродиться золотником. Тут налоговую кончают. Каждый день без выноса имущества к себе домой идет не в радость, и эта еле движимая машина как кость в горле. А тут всего-то делов оказывается, что двигатель заменить».
Тыренко зашел к себе в кабинет, потянулся к телефону и замер под мягкий распевный голос радио:
От разорения души,
От пелены в глазах
Слова, слова, слова нужны,
Когда любовь в словах.
И этой истине простой
Вся жизнь подчинена:
Смертелен разговор пустой,
С друзьями речь – Весна.
«Правильно иной раз гуторят, – подумал Тыренко на манер Семеныча, будто кресло или сам кабинет сроднил их. – Зачем нам разорение, если есть друзья».
Он приглушил радио, где начала просвещать народ начальник Управления образования Сирова, и набрал номер телефона Гены, того самого предпринимателя Гены, который помогал Алику в выпуске «Дробинки».
– Привет, Гена, – начал Тыренко. – Тыренко беспокоит. Помнишь начальника налоговой полиции?
– Привет, – без энтузиазма ответил Гена и с сарказмом добавил. – Вас забудешь?!
– Ты еще автосервисом занимаешься? – спросил Тыренко, зная ответ.
– Да, – сухо ответил Гена.
– Проблемы, я чувствую, тебе по-прежнему не нужны, – продолжил Тыренко, – да и мне тоже, но вот возникла одна. Может, поможешь? Движок нужен новый.
– Как обычно в виде безвозмездной спонсорской помощи?
– Как обычно, как обычно, – передразнил Тыренко. – Подаришь на нужды отдела двигатель и установишь его на нашу «Волгу». Ты не сильно потратишься.
– Хорошо, помогу, – ответил Гена, сравнив в уме затраты на двигатель и расходы на снятие возможных проблем.
– Вот и хорошо, – ответил Тыренко. – Заранее благодарю…
«Волгу» тут же отогнали Гене в автомастерскую под удивленное восклицание Шестеркина:
– Николай Владимирович, ее ж сдавать в чужие руки. Что ремонтировать?
– Поживешь с мое, поймешь, что чужие руки не всегда от своих отличишь. Погляди на свои руки после ремонта машины. Грязные – будто не свои, а отмоешь, так сразу узнаешь, – ответил Тыренко. – Будешь к чужим рукам с уважением относиться, так и свои руки без кренделя не останутся. Запомни: отдашь хорошее, примешь той же монетой, главное – смотри, куда и кому…
Тыренко ушел, оставив в одиночестве Шестеркина, замершего, как свежий сосновый пень после зубастых напевов бензопилы, и направился в бухгалтерию к супруге Братовняка, с ней можно было говорить откровенно, без иносказательных изысков.
– Машинку я задумал приобрести, машинку, – начал Тыренко.
– Так все печатные машинки уже выбросили. Компьютеры ж теперь, Николай Владимирович, – ответила Братовнячка.
– Не ту, не ту, – загадочно произнес Тыренко. – «Волгу».
– Да у нее ж двигатель крякнутый, – пренебрежительно усмехнулась Братовнячка, подумав о мелочности начальника. – Это ж все знают.
– Об этом не беспокойся, – ответил Тыренко. – Главное, дешевле посчитай. Завтра зайду…
На завтра у Братовнячки все было готово.
– Восемь тысяч семьсот рублей, – сказал она, завидев Тыренко. – Ниже этой остаточной стоимости сделать уже не могу.
– Хорошо, зайка. Заполняй приходный ордер. Покупать буду…
***
Колеса взвизгнули, как собака от боли, когда Тыренко, щедро нажав на газ, выстрелил на «Волге» из Гениной мастерской.
«Ну надо же, что может сделать разумный человек, – похвалил он сам себя. – Рухлядь же списанная, но как идет, если все поменять. И за копейки ж приобрел, за копейки! Главное – вовремя уловить момент, и все выйдет красиво».
Он подъехал к своему дому, огляделся, а там и машину припарковать негде: все свободные от заборчиков, газонов участки земли заняты плотно стоявшим автотранспортом, который жители маленького нефтяного города по-прежнему оставляли рядом с домом. В том же металлическом ряду стояла и первая машина Тыренко.
«А, собственно, зачем мне вторая? – спросил он себя, ощупывая взглядом бамперы и капоты. – Куда ее теперь? Продам».
Продал быстро, дорого и, укладывая купюры в кошелек, не один раз подумал, насколько удобны эти бумажки по сравнению с крупногабаритными вещами.
ВЗЛЕТ
«Взлетая, всегда надо помнить о посадке»
Налоговая полиция исчезла из числа чиновничьих аппаратов не в одночасье, не в однонеделье и даже не в одномесячье. Тыренко успел исполнить высокий карьерный прыжок, когда он, как говорится, задобрил деньгами высшее руководство, скакнул в столицу округа и упал на мягкое кресло заместителя начальника Департамента налоговой полиции. Место престижное и хорошее. Живи да нарабатывай капитал, но незадача вышла. Стремление отомстить никогда не приводило к добру. Напоследок, перед отъездом из маленького нефтяного города, Тыренко вызвал Витю, Кусаева и прочих своих недоброжелателей и сказал:
– Иду наверх. Без меня остаетесь. Можете радоваться, но стоя: стульев в отделе не осталось. Можете смеяться, но пешком: машин тоже нет. Были бы покладистее, стали бы друзьями. Глядишь, премии бы вам с округа давал, а так – обижен я. Закрою вашу лавочку…
И, действительно, Тыренко удалось убедить окружное руководство в ненужности налоговой полиции в маленьком нефтяном городе. Соответствующую бумагу украсили нужные чернильные закорючки и печати, но жизнь начальничья не вечна, а на престижных должностях, куда много желающих, она особенно подвержена преждевременным разжалованиям и кончинам. В налоговой полиции интриганы были еще те, они лезли по головам пассажиров тонущего корабля своей конторы, стремясь занять место повыше, надеясь на спасение. По голове Тыренко кто-то пробежал, и он в округе не задержался: вернулся на свою прежнюю должность в маленький нефтяной город, где его не ждали, в организацию, которую он сам до времени закрыл.
В момент Всемирного потопа народ забирался на Арарат, а и бери выше. Самая высокая вершина в маленьком нефтяном городе находилась на третьем этаже городской администрации, если, конечно, мерить высоту не метрами, а должностными ступенями, а Тыренко мерил именно так. Все его надежды на стабильность связывались с Хамовским, но надо было и давать по-крупному.
«А что давать, если в налоговой полиции ничего, кроме здания?» – мучился вроде бы неразрешимой проблемой Тыренко, пока не догадался.
Здание! Он побежал в городскую администрацию на третий этаж, едва сдерживая радостные возгласы счастливого изобретателя, зашел в кабинет мэра и предложил:
– Налоговая полиция закрывается. Хочу передать городу здание, ведь отойдет невесть кому. Я и документы принес.
– Здание?! – удивленно спросил Хамовский. – Домики нам нужны. В аренду сдавать будем, деньги иметь, а ты, молодец, что хочешь? Говори, не стыдись. Заслужил.
– Трехкомнатную свою продал перед отъездом, – пожалобился Тыренко. – Сейчас снимаем. Мне и Соньке помещеньице бы с удобствами и ремонтом…
– Сделаем, не переживай, а то морщины пузо избороздят, что сколь не съешь – не разгладишь, – махнул рукой Хамовский. – Квартирку заслужил…
– Благодарю вас, благодарю, – невольно завилял задом Тыренко, будто в прошлой жизни был не иначе, как добрейшим песиком. – Еще бы с работой помочь…
Про казнокрадские таланты Тыренко знали многие, в том числе и Хамовский. «Как совести у человека хватает такое просить? – подумал он. – Тут самим на житье-бытье не хватает, не до лишнего рта, а рот-то то у него – дай бог каждому слону».
– С работкой подумаем, подумаем, – уклончиво ответил Хамовский. – Подходи, звони. Тебе ж не дворником надо, а хорошую солидную должность. Это поискать надо. Не найдем, так специально для тебя сделаем…
***
Вскоре налоговая полиция перестала существовать повсеместно. Тыренко спустился с начальственных высот, превратился в обычного человека и уже завистливо смотрел на проезжавшее мимо начальство. На этом история про Семеныча и его организацию заканчивается. Параллельно жизни Семеныча и других чиновников проходила другая жизнь, жизнь большинства, похожая на жизнь океана.
ЗАЛОЖНИКИ СЕВЕРА
«Север не тюрьма, но пребывание на нем меряется сроками»
Окунь пер на удочку, как бешеный. Что ни рыба – то килограмм. Настроение хорошее, хотя мороз под минус тридцать. Саня немного потянулся, подразмял затекшую спину, глянул на рыбу, сваленную рядом с лункой, просверленной во льду озера Пякуто, и огляделся. Неподалеку, сосредоточенно смотря на темный круг воды, сидел его друг Коля, тоже не первый год на Севере, – двадцать лет. «По северному стажу еще молодой, – подумал Саня. – А такая погодка надолго. Солнечно-то как». Яркие блики низколетящего солнца, отраженные от девственно чистых снегов, слепили. Саня прищурился и усмехнулся. Это ли мороз для него?
На Север
Служил Саня на границе собаководом-инструктором. Через год демобилизовался один из сослуживцев и уехал на Север. Обещал написать. Известие, что он получает четыреста рублей и есть перспектива на увеличение, произвело фурор на пограничных заставах. Саня работал до армии и получал сто двадцать в месяц, что считалось вполне приличным заработком, а тут – четыреста! Многие «загорелись». Сочинили коллективное письмо и получили направление…
Демобилизовался Саня – и вперед по комсомольской путевке вместе со своей собакой по кличке Зоркий. В Тюмени, на перевалочном пункте, собрались человек сто пятьдесят. Все пограничники. Отправляли их на Север на новеньких ЯК-40. По салону ходила молоденькая симпатичная стюардесса, а вокруг рослые парни-погранцы и более никого. Время пролетело за приятными разговорами. При снижении эта стюардесса, смеясь, объявляет: «В городе минус пятьдесят семь градусов». А пограничники в фуражках, шинельках, легких ботиночках. Подумали – шутка…
Зоркий плохо перенес перелет, скулил, нервничал, и только открыли двери, опустили трап, как он буквально вылетел из салона на землю и удрал куда-то вдаль. Пограничники вышли и погрузились в светлую, но тяжелую морозную дымку. Темно. Куда идти, непонятно. Впереди светились окна небольшого деревянного аэропорта, и очень холодно… Тут Зоркий скачками назад, уши прижал, протиснулся меж ногами – и в самолет. Ребята за ним… Автобус подогнали к самому трапу.

Ночевали на матрасах на теплом полу общежития. Утром на автобусе начинающих северян отправили в контору, где каждому дали подъемные по четыреста пятьдесят рублей. Потом – на склад, где выдали белые армейские полушубки, собачьи шапки и унты…
***
Саня насадил на крючок нового червячка, из числа выращенных в теплом подвале специально для рыбалки, и опустил снасть в воду.
«Соответственно Северу и хобби: охота, рыбалка, – подумал он. – Вахтами работать все же не так плохо. Две недели вкалываешь, зато потом можно недельку с удочкой посидеть».
– Раньше, когда города еще не было, не надо было ехать за тридевять земель, – обратился Саня к другу. – Помнишь глухариные дачи, где птицы этой водилась прорва? На другом берегу озера, сразу за городом. Там сегодня народ собирает белые грибы, а глухарей нет, а тогда, бывало, утром откроешь форточку вагончика, а там неподалеку куропатка. Быстрее за ружьем, трах-бах прямо через форточку, вот и свежее мясо на обед.
– Я в те времена лося добыл весом килограмм четыреста, – донесся до него ответ. – Так, представляешь, после того как накормил все общежитие, наказали за браконьерство. Кто-то настучал. Но интересное время было, хотя и трудное…
На месте нефтяного города
В том районе ничего, кроме тайги, не было. Быстрее строили котельную, готовясь к скорой и суровой зиме. Бурились самые первые нефтяные скважины.
Еженедельно рано утром по понедельникам на «Урал-вахте» Саня выезжал на работу из соседнего города по выложенной плитами дороге, протянувшейся всего на полтора десятка километров. Остальные примерно сто километров до лагеря ехали по одной колее около двадцати часов. Только поздним вечером в понедельник бригада прибывала на место строящегося нефтяного города, а в пятницу предстояла такая же дорога обратно.
Рабочую неделю жили в солдатской десятиместной палатке в сырости и холоде. Грелись у самодельной, сваренной из стальных обрезков печки-буржуйки. Спали кто на пружинных кроватях под теплыми одеялами, кто в спальных мешках. В серые пасмурные дни все белье пропитывалось сыростью и не просыхало. По тайге ездили на гусеничных тягачах, внешне похожих на танкетки.
Ели что бог пошлет, точнее – начальник участка. Хлеба порой не было, а если и удавалось его купить, то есть его можно было лишь первые два дня, а потом он покрывался плесенью. Поэтому покупали галеты в пачках и хрустели ими, заедая тушенку. Но частенько, когда не было авралов, умудрялись оставлять в палатке одного слесаря, чтобы тот приготовил горячего. А тот готовил что мог и как–то раз всех накормил тушеной собачатиной. Но никто не обиделся, после консервов это мясо казалось невероятно вкусным.
Летом и в начале осени на Севере много комаров и мошки. Первое время в сорокалитровых флягах привозили специальный раствор, которым пропитывали верхнюю спецодежду, и комар целую неделю держался на расстоянии. Потом пошла «Дета» в стеклянных пузырьках. Затем гнус сгинул, но в ноябре наступили крепкие морозы, типичные для северных мест, где первый снег выпадает в конце сентября, и стало невозможно жить в палатках, и всех рабочих, в том числе и Саню, переправили в подготовленный к тому времени вахтовый поселок, где работала котельная, отопление…
***
Воспоминания о прошлом не оставляют Саню. Заворожила его таежная жизнь. Тело привыкло к экстремальной нагрузке и погоде. Полюбил он летать по нехоженым белоснежным просторам на своем коньке «Буране», который пока застыл в отдалении. Рядом, прямо на льду, – небольшой домик, построенный на санях. Саня сам сконструировал. Склепал из дюралевых листов. Сани получились раздвижные и легко превращались в хижину. Внутри ее и нары, и печка. Если хочешь, чтобы было тепло, только успевай дрова подбрасывать. Когда делал сани, то его начальник, проходя мимо, все спрашивал: «Что ты такое делаешь? «Титаник» что ли?»
Первый отпуск
Два года армии и год после Саня дома не был. Приехал в пограничной фуражке, бородатый, примерно в пять утра. Постучал в дверь, попросился домой, но его голос так изменился, что мать родная не узнала, а он еще в шутку дверной глазок закрыл. Вот сел он рядом с квартирой на ступеньке, пригорюнился.
Двумя этажами выше жил сосед дядя Петя, свыше двух метров ростом и на всю ширину лестницы в плечах. Когда он поднимался по лестнице в подъезде, все прижимались к стенам. Мать Сани тут же позвонила этому дяде Пете и попросила: «Петро, спустись, посмотри, кто там сидит». Тот спустился:
– Ты что тут расселся?
– Домой не пускают.
– Сашко, да это ты?
– Да, то я.
Дядя Петя быстрее домой, набрал номер и выпалил:
– Тамарка, то Сашко с армии пришел.
***
Окунь все хватал и хватал наживку. Улов получился примерно четыре мешка рыбы.
– Никола, хватит, пожалуй. Давай ушицу сварганим, да пора назад собираться, – сказал Саня.
– Да, пожалуй, что и хватит, а то твой конь копыта отбросит, – пошутил Коля.
Друзья разожгли печурку, почистили рыбу с картошкой и в ожидании, пока похлебка будет готова, разлеглись на постелях. Разговорились.
– В старое время, – начал Саня, – мы вот так спокойно бы не полежали…
Клопы
…Это маленькое насекомое было большой бедой. Прожорливое, но удивительно живучее, коричневое горе не давало покоя северянам в кроватях. Как-то летом, спасаясь от назойливого кровососущего общества, я даже на улице спал…
Направили меня в командировку, в небольшой таежный промышленный поселок. Вместе со мной в комнате жил Дима, работавший на трубоукладчике.
Дима был привычный и спал как мертвый, а меня в первую ночь ох как грызли. Как рассвело, глянул на себя – ни одного живого места, все тело в укусах. И в следующую ночь началась борьба. Я и полог натягивал, чтобы клопы не прыгали с потолка, и багульником обкладывался, чтобы не подползали – ничто не помогало. Я давай названивать начальству и просить, чтобы потравили кровососов. Но начальство отмахивалось…
Тогда я вытащил во двор кровать, тумбочку, одежду, все шмотки и стал там жить. В то время воровства не было. Вот схожу на работу, покушаю в столовой и, как захочется спать, так на свое место под луной. Женщин было мало, стесняться не перед кем. Комары и мошки оказались меньшим бедствием по сравнению с клопами… Через три дня приехало начальство, и, видать, чтобы не снискать на свою голову партийных шишек, отправили меня назад, в наш нефтяной город.
***
– Если говорить о клопах, Саня, – подхватил беседу Коля, – то насекомые – мелочь по сравнению с некоторыми людьми…
Обман
В момент акционирования нашего нефтяного предприятия получил я сто семьдесят четыре привилегированных акции. Тогда, помнишь, в верхах шла борьба за эти ценные бумаги.
– Разрешите нам распоряжаться вашими акциями, – говорил с трибун генеральный директор. – Мы сделаем вашу жизнь хорошей. Акции будут передаваться по наследству, будут дивиденды.
Многие тогда поверили и разрешили распоряжаться акциями. Я тоже, а сами акции положил в ящик и забыл о них. А прошлой весной понадобились деньги. Я открыл ящик, взял акции и поехал, чтобы продать. А там говорят:
– У вас нет акций.
– Как нет?
– Так.
– У меня же реестр.
– У вас их давно выкупили.
– Как выкупили? Я их никому еще не продавал.
– Езжайте в акционерное общество.
В офисе общества меня даже не пустили за проходную.
– Вот телефон. Звоните, – сказали.
Телефонный разговор получился коротким:
– Обращайтесь к нотариусу.
Я к нотариусу. Он:
– Вот вам одиннадцать тысяч перечислили, но за минусом налогов – семь.
– Да я не продавал их.
– В результате соединения компаний…
Объяснение я плохо понял, но главное усек: «Мои акции выкупили, не спрашивая разрешения, от меня требовался только счет, куда перевести деньги. Причем если промедлю, то деньги потеряю». В суд обращаться? С юридическими зубрами компании связываться – себе дороже выйдет.
– У меня такая же история, – согласился Саня. – Мы нужны, пока из нас можно что-то выжать. А ведь было время…
Заработки
При Советском Союзе нефть нужна была государству и оно не скупилось. Многие тогда говорили, изменив слова в известной песне: «А мы едем, а мы едем за деньгами, за туманом едут только дураки…»
Строители получали без накруток сдельно триста рублей и более, а восемьсот рублей на трассе – было у всех. За один месяц я «заколачивал» больше тысячи и за одну месячную зарплату мог десять раз слетать до Москвы и обратно.
Северяне летали в Москву порой на выходные, пива попить, в ресторан сходить. К отпуску всегда скапливалось пять – семь тысяч рублей. Тогда за эти деньги можно было купить новую машину. Такие заработки наполняли душу гордостью.
***
– Ну и что ты заработал, отпахав на Севере всю жизнь? – взъелся Коля. – Лучшие годы отдали обустройству нефтяных месторождений, за счет которых процветает далекая от Севера жизнь, чиновники да их прихлебатели. По меркам иностранцев, люди, прожившие такой срок на Севере, должны быть состоятельными. Сами они не работают в таких местностях более трех лет. Это я точно знаю. Я как-то повстречался с работником иностранной фирмы. Тот у меня спросил: «Сколько лет ты на Севере?». Я ответил: «Более двадцати». Иностранец удивленно поднял брови и спросил: «Зачем тебе столько денег?» Знал бы он, как мы живем…
– Если бы государство квартиру не дало, до сих пор бы по общежитиям таскался, – согласился Саня. – Все жили ожиданиями, что вот-вот лучше станет, вот и дождались…
Стоило ли?
…Сейчас прямого авиарейса до Донецка нет. Надо лететь через Москву. А только до Москвы билет стоит несколько тысяч рублей. И столько же до Донецка. Если москвичу, чтобы добраться до дома, надо затратить несколько рублей в метро, то мне билет в один конец обойдется почти в одну месячную зарплату. Я сейчас работаю в нефтегазодобывающем предприятии и получаю на руки зарплату, за которую уважающий себя москвич и не согласится работать. Поэтому какие самолеты? Я уже забыл, когда последний раз летал. Едем в отпуск либо поездом, либо на своей машине.
Содержание квартиры на Севере обходится гораздо дороже, чем на юге. Мне, первопроходцу Севера, приходится прибегать к социальной помощи. Не унизительно ли это? Считая из нищенского продуктового минимума, необходимо затратить хотя бы несколько тысяч на питание для двоих… Одеться надо: не юг. Какие тут накопления?
Никаких заграниц и санаториев. Я с женой, Галей, провожу отпуск обычно на Украине. Работаем на огороде, чтобы сделать заготовки на зиму. Ухаживаем за могилками родителей: то памятник надо подправить, то крест, то оградку. Помогаем родственникам. Вот у племянника дочка учится – надо за семестр заплатить.
В советское время на Украине дом строили, чтобы жить в нем в старости. Но раздел Советского Союза вычеркнул эту мечту. Украина стала отдельным государством. О двухэтажном белокирпичном недостроенном доме напоминает одна фотография. Вложено в него много труда и денег. Продали в несколько раз дешевле. И это еще хорошо, что дом удалось продать. Многие потеряли все.
Галя заболела. Северная жизнь не проходит бесследно. Понадобились деньги на лечение. Ее пенсия вся уходит на лекарства. Как жить, если здоровье подкосил Север, труд на усиление мощи государства, а само государство забыло о своих служивых и старается лишить их и тех компенсаций, что были?
***
– Быстро время летит, – удрученно сказал Коля. – Боюсь я старости. Выйти на пенсию что умереть. Буду работать, пока здоровье позволяет. На землю переезжать страшно. Там никто северную пенсию платить не будет, а на копейки, которые дают, не прожить.
Многие вынуждены хитрить. Сохраняют северную прописку, сдают квартиру внаем, приезжают раз в два года, получают пенсию и назад. Но это хорошо, если живешь поближе: в Новосибирске, Омске, Екатеринбурге… Бывает, что ездят из Белоруссии и Киргизии. Как тут не задаться вопросом: зачем заставляют людей, которые здоровье положили на Севере ради нефти, ловчить? Почему человек, уезжая с Севера, должен терять все заработанное?

– Приходят молодые и быстрее добиваются всяких благ, чем мы, те, кто здесь давно, – согласился Саня. – Потом подходят, удивляются: «Александр Викторович, и вы сидите на эту зарплату?» А что делать, чтобы больше получать? Выучился на сварщика, всю жизнь отработал по этой специальности. Торговать не по мне…
– Ведь никуда не переходил, а трудовая книжка вся исписана. Ведь все за одним забором трубной базы, а вроде как летун. Это они от налогов уходят, а на нас клеймо, – встрял Коля.
У Сани такая же ситуация.
– Хватит балаболить, – сказал он. – Кушаем и собираемся…
…На самой границе берега тяжелая повозка, «Буран» вместе с санями, влетела в наст, пробила лед и погрузилась в воду. Ездоки соскочили с сиденья, но ноги уже побывали в воде. Коля был в валенках, они хоть и намокли, но быстро схватились тонкой коркой льда по поверхности и стали, почитай, утепленными сапогами. Саня был в унтах. Если они промокли, так сушить надо. А где? Надо быстрее домой. До города около пятидесяти километров и надо еще «Буран» из воды вытащить. Пока разгрузили сани, пока вытащили их, пока мотор у «Бурана» завели…
Не зря говорят: пришла беда – отворяй ворота. Проехали километров двадцать, как лопнул форкоп, это то, чем цепляются сани к «Бурану». Кое-как привязали сани резиновым шлангом, потом для жесткости подмотали проволоку. Двинулись дальше. А сиденье «Бурана» неудобное, надо моститься на самом краю, поджав ноги, как на корточках. Сзади – Коля…
Саня время от времени шевелил пальцами ног, чтобы проверить, отморожены или нет. Пальцы двигались. Вот колени подмораживало и лицо. Черная шерстяная маска с вырезом под глаза пристыла к бороде, так что рот уже не открывался. Замок от куртки примерз к подбородку. Сильно занемели щеки, уши. Сверху свисал капюшон. А мысленно Саня все продолжал разговор с Колей.
Северное богатство
Дочь поступила нынешней осенью в институт. Что накопили, то отдали. Тысячу долларов надо было на первый взнос за обучение. У нее ребенок – надо помогать, потому что пяти тысяч рублей, которые она зарабатывает, недостаточно.
Хорошо, что сын живет самостоятельно. Помогли ему окончить техникум. Университет он уже одолел сам заочно, когда вернулся из армии, а работает все равно водителем. Зарабатывает более-менее. Его жена тоже работает. У них двое мальчиков.
Трое внуков – вот главное богатство, нажитое моей семьей, семьей первопроходца Севера. Хотя было время, в середине восьмидесятых годов прошлого века, когда наша бригада заняла второе место во всесоюзных соревнованиях…
***
Показался долгожданный подъезд его пятиэтажки. Саня направил «Буран» прямо к нему. Заглушил мотор. Поднялся с сиденья и почувствовал, как его крепко качнуло в сторону. Унты смерзлись так, что стопы оказались под острым углом подогнутыми к голени и не разгибались. На пятках, как на ходулях, едва сохраняя равновесие, Саня двинулся к входной двери и на ступеньках упал бы, если бы Коля не поддержал.
Спутница жизни
Галин самолет приземлился в маленьком аэропорту за сто километров от маленького нефтяного города. Она прилетела по вызову со своим четырнадцатилетним сыном. Те, кто вызвал на Север, не встретили. Вокруг ни автобусов, ни такси.
Она поняла, что брошена, и, видимо, лицо у нее сделалось такое, что к ней подошла незнакомая женщина и спросила:
– Вам плохо. Может, чем помочь?
Разговорились. Та сказала:
– Да не переживайте. Я приехала сюда, вообще никого не знала. Сейчас все нормально…
Галя нашла пристанище у строителей, хоть никогда мастерка в руках не держала. И началось. Несколько месяцев пришлось поднимать на этажи тяжеленный раствор в ведрах. Выполняла самую грязную работу, подметала, мусор выносила, потому что женщина и не по блату. А через несколько месяцев ее направили на отделку нового деревянного дома…
***
Саня со всего маху присел на тумбочку в коридоре и попытался снять унты. Не получилось. Коля попробовал – тоже безуспешно. Унты сильно примерзли к штанам. Коля схватил нож…
– Ты что? – промычал Саня. – Не тронь.
Он встал и поковылял в ванну. Налил воды и как был, залез в нее. Все оттаяло. Спас унты. Колени сильно отморозил, но страсть к своему хобби не потерял. Ему весело вспоминать суровые приключения. Как выходные выпадают, тянет его на рыбалку, хотя уже тяжеловато становится: здоровье не то.
– Да зачем тебе эта рыба?! – кричала Галя, глядя, как у Сани слезала кожа с обмороженных колен.
– Я спалю его!!! – продолжала она, имея в виду «конька».
Саня смотрел на нее и думал: «Какая она прекрасная добрая женщина, как хорошо, что именно ее я встретил…»
Встреча
– Девчата, давайте в ту комнату, – попросил Саня штукатуров, показывая на дверь своей будущей квартиры. – Мне надо быстрее ее занимать, потому что меня со старой койки гонят…
Тогда народу на Север много приезжало, и не успевали дом сдать, обои поклеить, как очередников просили быстрее переселяться, потому что их места в общежитиях тут же распределяли. Считалось, что тепло, вода, свет имеются, а остальное – дело наживное. Поэтому Саня спешил, уговаривал штукатуров, предлагал магарыч и вдруг обратил внимание на одну девушку с выразительными карими глазами, Галю. Вот так и познакомились. Через три года поженились и получили двухкомнатную квартиру на первом этаже панельного дома. На новоселье нахлынула вся бригада – шестнадцать человек, и понеслась душа в рай… И казалось, что даже тайга, которая шумела там, где сегодня стоят микрорайоны, танцевала и радовалась успеху людей.
***
Сроднился Саня с северным нефтяным городом. Много лет прожил в нем. Почти тридцать лет общего северного стажа. Сроднилась с городом Галя. Собственно, уезжать некуда. У Сани из родственников одна сестра и осталась, а она живет рядом, в соседнем доме. «Заложники Севера», – назвали они себя, как и большинство жителей маленького нефтяного города, но любят эти суровые края.
***
Хороших людей много, но что происходит с ними, когда появляется возможность уничтожить человека, проповедующего чистую идею? Возможно, что любая чистота подозрительна, потому что сам мир грязен и одержим. Алик не был идеалом. Он, без сомнения, нарушал законы общества, но старался чтить закон божий, не всегда получалось, но стремление к чести и искренности у него было. Он сам это знал. Деньги брал, но не предавал. Крал, но не для богатства. Лгал, но для того чтобы убрать препятствия с благородного, как он считал, пути, чтобы успеть пройти дорогу до желаемого финала. Он шел по узкому гребню, остро обозначенному по обе стороны глубокими обрывами, словно гранями ножа. С одной стороны манил доходной пропастью обрыв прихлебательской дружбы с начальством. С другой стороны пугал нищей неясною далью обрыв излома судьбы. «Только бы удержаться на грани», – говорил себе Алик и шел. С «Дробинкой» пришлось расстаться, чтобы идти дальше.
– Давай, выпускай «Дробинку» дальше, профинансируем, – предложил как-то Хамовский.
Распознать скрытый подтекст этого предложения несложно. Алик понял, что ему предлагали использовать страницы полюбившейся людям газеты, чтобы через них иной раз проводить политику, необходимую Хамовскому.
– Не могу, – ответил он, не объясняя причин отказа.
Даже хорошие знакомые и обычные доброжелатели не понимали Алика.
– Что не выпускаешь «Дробинку»? – спрашивали они.
– Народ проголосовал против, вот и не выпускаю, – напоминал Алик о взаимной ответственности.
– Так народ не против «Дробинки» проголосовал, а за другого депутата, – отвечали они.
– В данной ситуации голосовать против человека – это то же самое, что голосовать против дела, которое тот выполняет, – отвечал Алик без надежды на понимание. – Выборы не для того, чтобы дурака валять, а чтобы думать о последствиях…
Сложно объяснить большинству, что в любой, самый ужасный, век есть на земле люди, которые искренне несут свет просвещения, совсем не из-за денег, славы или желания выжить, а из-за любви. «Дробинка» стала для Алика не политическим инструментом в политической борьбе, а произведением искусства, которое он боготворил, как самое любимое, а любимых не предают…
ПЛЕВОК
«Прекращая раздавать бесплатный суп, рискуешь получить в лицо»
– Это ты журналист, который «Дробинку» выпускал? – выкрикнул возле центрального городского рынка водитель, приоткрыв дверь своей машины.
Алик остановился.
– Я, – ответил он.
– Ну и что ж ты? Обещал газету, обещал разоблачать коррупцию, и нет тебя, – подначил водитель и послал густой плевок на гонимый холодным ветром песок. – Продался мэру?
– А хоть бы и продался, тебе какое дело? – спросил Алик. – Меня такие, как ты, переизбрали, и я сейчас не депутат. Долгов перед обществом не имею. Мои депутатские обещания избиратели обнулили. Сейчас я сам по себе. Кому хочу, тому и продаюсь. Если ты хотел, чтобы я работал на тебя, хотел «Дробинку», надо было помогать и голосовать, а не дома водку пить и языком лялякать.
– Правильно тебя сняли с депутатов. На хрен ты нужен. Ничего не сделал. Продался, я так и думал, – продолжил водитель.
– А ты сам никому не продался? – спросил Алик. – Ты, поди, в нефтяной компании работаешь, деньгу зашибаешь? И за эту деньгу куплен с потрохами. На что ты работаешь? На какое дело? На хозяев? А на что твои хозяева деньги тратят, которые они заработали с помощью таких, как ты? Может, это они дома взрывают, а не взрывают, так Россию гробят, а ты пособничаешь им за зарплату, за деньги свои невеликие, и молчишь, и раболепствуешь! Я хоть что-то сказать успел, сделать, хоть совесть немного очистил, а ты?
Водитель смутился. Он явно не ожидал такого ответа. Тут подошла его жена с покупками. Они сели в машину и уехали.
***

Когда закрывается предприятие, то в него перестают ходить люди. Алика перестали волновать проделки мэра и прочих чиновников. Он их замечал и посмеивался, но публично не обсуждал, потому что понял, что нет ничего более легкого, чем восстановить против себя всех, и нет ничего более сложного, чем объединить всех: и тех, кто нравится, и тех, кто не нравится, вокруг решения своей задачи. Что это будет за задача, ради решения которой можно поступиться нормами справедливости и добра, которые заложены с детства, Алик еще не знал, но был уверен, что поймет. Сейчас требовалось выжить во враждебной среде, которую сам себе создал. Да, собственно, какой враждебной? К этому моменту Алик понял, что нет смертных врагов и верных друзей. Все меняется. Нет полнокровных святых и грешных. Парадокс состоял в том, что хорошее и плохое присутствует в каждом и мир идет вперед благодаря и сотрудничеству этих качеств, как в кастрюле варится суп благодаря огню, уничтожающему воду и рождающему пар. Можно не сомневаться, что вода неистово ругает огонь и доходит в этом деле до кипения. Можно не сомневаться, что пар благодарит огонь за свое рождение. Так хороший огонь или плохой? Он просто такой, какой есть.
«Мэр поднаторел в экономических вопросах, финансах настолько, что сегодня сложно понять, где и что крадется, да и крадется ли вообще, – раздумывал Алик на досуге. – Видно только, что были и остаются рычаги, с помощью которых финансы можно откачивать из бюджета, видно, что информация вокруг этих рычагов не разглашается. Что делать в этой ситуации?
Словосочетание «прозрачность информации» набило оскомину, поскольку дальше этого слова дело не шло ни в городе, ни в России. Поэтому только с одной стороны хорошо, что руководство администрации города за бюджетный счет обучилось в Академии государственной службы, по крайней мере в руководстве – не безграмотные. С другой стороны, это обучение желаний и намерений руководства не изменит. Знания будут использоваться для себя родного. И эти знания руководства все более увеличивают разрыв между моими возможностями и способностями и возможностями и способностями власти. Пришло время разговаривать на другом языке, но каком?
Разрыв между знаниями журналистов и знаниями чиновников все более увеличивается. Как контролировать и не верить на слово? Роль журналиста все более сводится не к анализу фактов, а к пересказу готовых расследований – та критика, которая иногда звучит, довольно смешна.
Ах, как было хорошо раньше. Всем гарантировалось право на труд. Плюнул на мерзкую журналистику и пошел в другое место. А народ какой был в руководстве?! Тот же Глава Бабий. Простой народ был, бесхитростный, заканчивал ВУЗы с тем же объемом знаний, что и все остальные человеки. Здесь можно было говорить на равных. А сейчас смотришь: какая-нибудь девочка с журналистским образованием беседует с зубром экономики. И что она может соорудить, кроме красивого текста и разрисованного личика? Нет, видно, время такое пришло. Надо его принимать. Иначе время вычеркнет тебя.
Да и народ, может, не такой уж плохой. Кто знает будущее? Возможно, что сейчас иные правители в России и не нужны, не своевременны. Может, сейчас нужно, чтобы борцов за справедливость затирали или вообще стирали. Чтобы не мешали. Чему? Переделу собственности, созданию элиты, которую в свое время этот же народ смел с лица России. Какой элиты? Может, это сейчас не важно. Она сформируется через несколько поколений. Об этом говорили еще на заре перестройки в интеллектуальных кругах. Возможно, в этом польза нынешнего народа. Не надо ложиться под такой тяжелый каток. Надо учиться жить.
Учителя не всегда доброжелательны, но они всегда Учителя. Требуется много такта, чтобы не отбить у Учителя желание образовывать. Учителя любят поклонение и признание их авторитета. Это малая плата за расширенное зрение, хотя многие считают и по-другому. Будь крепким, как утес, и ничто не изменит тебя, кроме времени; будь мягким, как глина, и найдется множество желающих поупражняться. Надо быть чем-то средним, скалой, на которой есть глина, подставлять свою глину умелым рукам, оставляя главное неизменным. Главное в жизни – это растить душу, ловить золотые частички из бесконечной, рассыпанной по миру, как осколки зеркала не Снежной, а Солнечной королевы, мозаики бессмертного, интересоваться жизнью».
Алик часто вспоминал тех людей, которые встретились ему на жизненном пути в маленьком северном городе, сочинял рассказы и чувствовал, что каждый рассказ дает ему возможность заново пережить события, заново их обдумать. Он часто перечитывал посвящение Петровны, написанное для «Дробинки»:
«Помните сказку Андерсена «Праздничное платье короля»? А мальчика, громко сказавшего: «А король-то голый!» и разрушившего очарование-оцепенение подданных того королевства, хоть и видевших, что их правитель не одет, но не решавшихся сказать об этом, и едва не натворивших беды своим покорным молчанием, едва не выставив короля на посмешище перед другими державами? Тогда и сам король тоже увидел все, как оно есть, и стал решать реальные проблемы, а не иллюзорные, что, несомненно, привело лишь к процветанию страны.
Ясно, что сказочное королевство было небольшим, раз все его жители смогли услышать голос ребенка. Наш маленький нефтяной город тоже невелик…Жаль, что Андерсен ничего не говорит о дальнейшей судьбе своего героя, а в этом можно не сомневаться, что мальчик, громко и смело сказавший правду, и есть самый главный герой сказки».
Написано уже так много книг, что сложно сказать что-то новое. Аналогии с известными персонажами есть во всех произведениях, но все-таки новые книги пишутся, потому что время идет, меняется обстановка, старые переживания в новом времени и новой обстановке – а почему бы и нет?
«Когда-нибудь я напишу книгу, основываясь на этой истории, – решил Алик. – Конечно, Сапа с его бездной ума был против этой идеи. Я еще помню, как он сказал: «Ты думаешь, твоя история будет кому-то интересна? Не смеши!». Но надо же ради чего-то жить. Иначе грустно и почти бессмысленно, хотя, возможно, бессмысленно в любом случае, а пока надо затаиться и спокойно работать на будущее. Вот уж что бессмысленно – биться головой в стену: на стук приходят лишь черти, сминая неподдельные убеждения и созданный в детстве удивительный мир…»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мир пронизан иглами человеческого отношения в любом случае, даже когда человек пытается передавать события без собственной оценки. Его отношение проявляется уже в выборе события и его подаче читателю. Есть ли абсолютная правда? Может ли игла человеческого отношения, проткнувшая насквозь клубок события, пронзить все спирали, которые образовала нить, сматываясь в клубок? Можно ли, смотав нить, восстановить прежний клубок? Нет. Поэтому любые мемуары, любая публицистика – это такая же ягода на поле прозы, как хорошая художественная книжка. Такая же, но менее вкусная. Это один из взглядов на мир. Даже сухие статистические цифры, например, численности населения или добытой нефти, уже пронизаны отношением человека, их подающего, который не вникает в особенности подсчета и исключает процессы, создававшие эти цифры. Поэтому любое событие имеет ровно столько же толкований, ровно столько же вариантов правды, сколько людей его видело и пыталось анализировать.
Поэтому я уверен, что нашлось бы немало людей в маленьком нефтяном городе, где проходили вышеописанные события, которые, прочитав книгу, сказали бы:
– Все это чепуха. Семеныч, Хамовский, Тыренко и другие, так незаслуженно плохо расписанные в этой книжонке, были хорошими людьми. Семеныч любил детей и помогал детским садикам, Хамовский сделал маленький нефтяной город красивым добротным северным домом, Тыренко – милый неравнодушный человек, а Сапа, что он сделал из Сапы! Все было не так. Петровна – сама искренность и притягательная любовь…
Или:
– По-другому жить было нельзя. Это герои своего времени. Они создавали мир, как могли. Зачем старое вспоминать? Время такое. Пахали же.
Или:
– Если государство пострадало на деятельности Семеныча, Тыренко, Хамовского, то это не значит, что обогащались Семеныч, Тыренко, Хамовский. Может, они по глупости, от недалекого ума, по недопониманию…
И все это может быть правдой. Любой герой может стать антигероем, если взглянуть на него с другой позиции, но это была бы другая книга. Автор точно знает, что манера ведения дел, приписанная им Семенычу, была характерна для определенного круга людей, и он наградил Семеныча и других персонажей казнокрадской чертой. И эти черты в нем с большой долей вероятности были, на это указывали документы, которые автор использовал при написании книги, на это указывали очевидцы, но человека оценить точно столь трудно, сколь трудно дать точную картину Вселенной.
Даже работая над персонажем журналиста, который во многом близок автору, сложно сказать, был ли Алик правдоискателем и человеком честным или так же, как его противники, пользовался запретными возможностями и людьми, и пытался уложить мир в рамки своего представления о нем, то есть искажал. Последнее – правда с большой долей вероятности, поскольку многие писатели живут в придуманном мире. Эти миры имеют право на существование и существуют. А насколько удачным получился конкретный мир, втиснутый в эту книжку, мир, списанный с реального прошлого, а может, не такого уж прошлого, судить тебе, читатель. Только ты сможешь его оживить.
РАССКАЗЫ,
написанные Аликом после поражения
в политической битве
БЕЛЯШНЫЙ ДУХ
«Когда все аппетитно жуют, то голодающий схож с наказанным»
Холодильник походил на ящик Пандоры. Жрачкин боялся к нему прикоснуться. Стоило приоткрыть дверцу, как запах колбасы влек умопомрачительно, аж внутренности подрагивали. Сыр являлся солнечными бликами приморского юга. Непочатая бутылка водки – миражом убежденного алкоголика… Мысли о еде вились, как мухи, даже на морозе. Но Великий пост увлек Жрачкина. Он перестал жрать: пришпорил это постоянно одолевавшее желание и поскакал вперед на смирении и голодании, открывая в себе новые способности. Так, находясь в подъезде, он мог точно определить, в какой квартире и что готовится кушать. В магазинах его глаза автоматически пересчитывали акты покупки колбасы, пельменей, пива… Но он был тверд в своих постных начинаниях.
Примерно на тридцать пятый день поста Жрачкин заранее отварил себе на ужин пару свекл и морковей, а домашние внезапно, но без злого умысла нажарили искусительнейших беляшей. Жрачкин распознал это при входе в подъезд. Когда дверь в квартиру открылась, то желудок трепетно запел: «Ур-р-р, Ур-р-р…» Он не ошибся: на кухне зажаренными бочками золотились беляши и одуряюще пахли. Жрачкина волной запахов выбросило из квартиры в ближайший магазин, откуда он вернулся с тремя морскими окунями, надеясь создать из них моральный противовес беляшам.
Ему хватило бы и одной рыбки, но на вопрос продавщицы:
– Сколько?
Он, не мешкая, ответил:
– Килограмм.
На обратном пути мороз немного умерил аппетит и Жрачкин стал подумывать, что, может, зря он так сорвался. Ведь по правилам поста рыбу надо есть только два дня из сорока девяти. Но дома эти мысли безропотно почили, как заплатившие налоги праведники. Там витал уже запах не просто беляшей, а надкусанных беляшей, причем надкусанных так, что из-под теста выглядывали серые кусочки фарша и лился светлый аппетитный мясной сок!
«Там, где придумывали эти правила постов, цветут оливковые ветви и во множестве ходят Абрамовичи, – мысленно вскрикнул Жрачкин, быстрее скидывая дубленку, ботинки. – А уж если они что придумывают, то у них-то есть обходные пути, чтобы и рыбку съесть, и святым остаться». Он пробежал на кухню, по-прежнему от голода не замечая домашних, взял доску для разделки мяса, кинул на нее окуня, вытащил самый большой и острый нож из числа тесаков, загнанных в специальную подставку, приналег… На замороженной рыбе осталась чуть заглубленная царапина.
«Ну что за люди! Когда надо, так у них все размороженное, а когда не надо, так чистое железо… – чуть не ругнулся Жрачкин. – Прости, Господи». Он заткнул раковину, наполнил ее водицей и кинул окунька. Чистил быстро, не особо беспокоясь о том, что местами оставалась чешуя, а острые шипы плавников больно кололись. Порезал окунька на куски и тут уж не до кулинарных изысков – кинул в уже закипевшую воду, немного подсолив.
Работа успокоила, но стоило присесть на табуретку, как витавший в воздухе беляшный дух животного, на две третьих бывшего коровой, а на одну треть – свиньей, подтолкнул его на преступные мысли и опять заставил желудок замычать и захрюкать. Жрачкин бросился к окну, приоткрыл форточку и, приблизив к ней лицо, взахлеб задышал.
«Рыба, к счастью, варится быстро, – думал он. – Иначе сойду с ума. У мусульман все проще: не есть только при свете солнца. Зато утром и вечером можно так натрескаться. Может, не туда записался? Ох, прости Господи». Чтобы уйти от реальности, он взял вареную свеклу, нервно срезал с нее тоненькую шкурку и давай кусать. «Ох и вкусна она, ох и вкусна, не случайно из нее сахар делают, – мысленно нахваливал овощ Жрачкин. – А ну-ка морковку…» Обтесал шкурку с морковки, отхватил кусочек. «Тоже хороша, – оценил он. – Помню кетчуп из морковки, так вкуснее не едал…»
Возник запах ушицы. Он нарастал и глушил запах беляшей. «Так тебе, так тебе! Уходи дурной дух, кипит моя рыбка! Вы, земноводные, из воды вышли, слабо вам против рыбки-то, против первородительницы», – зашептал Жрачкин и ревностно вперился взглядом в кастрюльку…
«Хватит! Горячее сырым не бывает, а морская рыбка описторхоза не имеет!» – решил он, воткнул вилку и, как обезумевший тигр, вцепился в рыбье мясо зубами. Такого рафинированного удовольствия он давно не ощущал, застрочил челюстями, словно иглой швейной машины, прерываясь только для того, чтобы время от времени сплевывать чешую, застревавшую в зубах…

К счастью, окунек оказался почти без костей. Вкусен был, ох как вкусен – от кончика хвоста до щечек! Да с черным хлебцем! Жрачкин с наслаждением отделял рыбьи ребрышки от бочков, обсасывал хребет, стараясь не оставить на нем ни кусочка мяска. Все проделывал нежно и скрупулезно.
Бульон от рыбки с кое-где мелькавшими жирными пятнышками он в первый момент по обыкновению чуть не вылил в раковину, но успел понять, что жиденькое не помешает, и перелил его в стакан. Теплая жидкость по глотку благостно уходила в желудок, распространяя по телу ощущение сытости, оставляя во рту ни с чем не сравнимый рыбий вкус, за который он эту же жидкость еще полтора месяца назад выплюнул бы. После того как тарелка опустела, Жрачкин еще раз взглянул на беляши. Их пищевой магнит иссяк. Они уже не привлекали.
На следующий день Жрачкин отварил морского окуня заблаговременно, а на его бульончике сделал великолепный борщик и, поглядывая в окно на просветлевшие виды весенней природы, думал: «Хорошая все же штука пост. Заставляет чувствовать жизнь по-новому».
СТАРИЦА СПАСЛА
«Смеяться над опасностью – это то же самое, что подначивать ее»
Произошло это в середине лета. Я с Димкой, закадычным другом, и его женой Леной поехал на рыбалку в хорошее, можно сказать, общественное место. В том районе многие грибники и ягодники промышляли. Выехали солнечным ясным вечером, на тридцать втором километре трассы свернули налево на проселочную дорогу. Минут через десять дорога уткнулась в заболоченный участок, и машину пришлось бросить. Пошли пешком, неся в руках сумки с вещами. По пути обсуждали следы, запечатлевшиеся на песчаной дороге. Уж очень похожи они были на медвежьи.
– Вроде, свежие, – сказал я.
– Какие свежие? Давно прошел, – ответил Димка…
Лодка тех людей, что до нас рыбачили, оказалась разорванной, насос от нее разгрызен, сети спутаны.
– Слушай, – заметил я. – Зверь-то невымышленный побывал и поиграл.
– Ну поиграл и поиграл, – легкомысленно ответил Димка. – Наверняка ушел.
– Ребята, вы боитесь? Не ожидала такого от вас, – встряла Ленка. – Дикое зверье страшится огня и человека и само не нападает. Надо развести костер…
Закипела работа. Пока не стемнело, накачали свою лодку, распутали сети, поставили их на место. Костерчик разожгли, поели, выпили водки и легли спать прямо возле костра, под открытым небом, под нудное жужжание комаров, отпугиваемых спиртовыми запахами, а перед сном весело покричали на весь лес:
– Мишка, выходи! Мишка, выходи, мы тебя заломаем!..
Радостно было…
Проснулись поздним утром – и быстрее в лодку. Улов оказался неплохим. Решили ушицу сварганить. Лодку вытащили на берег, перевернули, чтоб просохла. Сами ушли на полянку, где и стали готовить костер под уху, а это, примерно, метрах в двадцати от протоки.
Я березку обтесывал, чтобы котелок за нее зацепить, Дима рядом рыбу чистил, а Лена картошку кромсала на уху в низине, ближе к лесу. Вдруг Дима говорит, так тихо и спокойно, как говорят ночью на кладбище:
– Смотри, на берегу…
Я повернулся, а там медведь! Поднялся он в полный рост, и, направив когти передних лап вниз, как шипы, всем весом упал на лодку. Из пробоин в резине зашипел воздух. Зверю это понравилось, и он еще несколько раз упал на лодку, выставив вперед свои когти-шипы. Мы завороженно смотрели на картину разрушения и не смели даже слегка пошевелиться, боясь, как бы медведь нас не заметил. Страх пошел, аж руки похолодели. Медведь в зоопарке не дает таких ощущений. Зато в лесу, когда он на свободе, а ты без оружия, чувства возникают не из лучших.
Он даже подобрался бесшумно. Ветка не треснула, шорох не раздался. Лодка, конечно, спасла нас. Разорвал он ее, встал на все четыре лапы и все-таки решил оглядеться, зараза. Покрутил башкой и, едва завидев нас, побежал навстречу. Под шкурой мощно перекатывались мускулы, шерсть поблескивала, переливалась, морда казалась огромной. И с каждым прыжком он приближался, разума человеческого в моей голове становилось все меньше и больше первобытного ужаса. На сию тему я читал в нашей городской газете стишок какого-то поэтика, но только после этого случая понял его суть:
Шторы задернул Господь,
И посерело небо,
Словно засохший ломоть
Белого раньше хлеба.
Мне не по нраву грусть,
Не по душе тление,
Но посещает, пусть,
Странное настроение.
Через усталость глаз,
Ценою последней кровинки,
Может, найду свой лаз,
Свою простую тропинку.
Жду, что подходит час,
Жду, что взорвется миг…
Сколько мне лет сейчас?
Что же я в них постиг?
Небо как будто потемнело. Куда бежать, по какой тропинке? И лет-то мне маловато и ничего я не постиг, чтобы пропасть в медвежьей пасти… Безотчетно я кинул в сторону топор и недотесанную деревяшку, Дима кинул рыбу, и мы бросились наутек к воде, совершенно забыв о Лене. На бегу освобождались от одежды. Я скинул один болотник. Дима умудрился сбросить два. С ходу, вонзились в воду старицы, где недавно рыбачили. Побежали крутые волны, взлетели брызги, и другой берег неподалеку. Старица-то всего метров двадцать в ширину, но позади, метрах в трех, в воду плюхнулся медведь. Мы выплыли на середину реки, а там, не сговариваясь, разделились, причем чисто инстинктивно. Дима устремился прямо на берег, а я поплыл вдоль старицы.

Медведь на короткое время замер, видимо выбирая, и устремился за мной. Я-то крупнее. Зверюга неуклонно сокращала расстояние. Я проигрывал заплыв и в отчаянии остановился, повернулся и заорал прямо ему в морду… заорал так, что с ближайших сосен шишки западали, заорал, как в последний раз… И произошло чудо. Медведь потерял ко мне интерес и поплыл к Диме. А Дима, было видно издалека, весь белый от страха сидел у берега по пояс в воде, опершись позади руками.
– Не знаю, что делать! – обреченно крикнул он, парализованный ужасом.
– Дима, ори, что есть мочи! – гаркнул я и быстрее вернулся на берег, с которого мы недавно стартовали. Дима завопил. Медведь погреб в другую сторону… Дима бросился в воду, и вскоре мы были вместе. Лена стояла, как дерево в безветренную погоду. Мы осмотрелись в поисках своего таежного преследователя. Он опять поплыл к нам.
– Кричите, чтоб по той стороне ушел, – сказал я. – Нам еще к машине…
Мы опять принялись орать, но это слабо помогало. Повезло, что медведя отнесло течением. Он вышел на берег, отряхнулся, глянул на нас и пошел по дороге, по которой нам предстояло идти, а вскоре исчез за деревьями.
От переживаний и тяжких мыслей нас трясло: медведь мог находиться где угодно и напасть в любой момент. Мы понимали, что нас спасла старица, удаляться от нее не хотелось, но другого пути домой не было. Похватали разбросанную одежду и обувь. Сумки оставили. Хотели вооружиться, но я не нашел топор, который бросил в панике. Дима вытащил тлеющее бревно из костра.
– Оставь, не поможет, – сказал я. – Медведь на костер пошел…
– Идти с пустыми руками тоскливо, – ответил Дима. – Хоть отмахнусь…
Километра полтора мы бежали и кричали отчаянно. Показалась машина… Возле нее на задних лапах, направив вниз когти-шипы, стоял медведь, готовясь обрушиться на капот. От понимания нашего отчаянного положения холодный пот потек у меня по спине так, что я чувствовал, как его капли пробиваются сквозь пояс, сползают по ягодицам, а там по ногам – к пяткам. «Всех задерет, сожрет», – пролетела паническая мысль…
Прошла минута, другая – медведь не двигался. Мы подошли поближе, присмотрелись. Оказалось – поваленное дерево с вывороченными из почвы большими коричневыми корнями. Издалека казалось, будто медведь лапы к машине тянет…
Наспех прогрели мотор – и скорее из леса. По пути сигналили, чтоб зверь не прыгнул.
Приехали в город и сразу в лесничество. Рассказали. У лесника глаза округлились.
– Вы в рубашке родились, – сказал он. – Без ружья я тоже перепугался бы до смерти…
Через пару часов выехали на отстрел с двумя автоматчиками и охотником. На поляне царил разгром. Оказалось, медведь съел почти весь наш улов, раскидал и погрыз вещи. Автоматчики осмотрели окрестности.
– Поехали, – сказал один из них. – Нет его, ищи ветра в поле.
– Раз он здесь был и оставил немного рыбы, то скоро придет за ней, – сказал охотник, опытный зверобой. – Сейчас спит где-нибудь после таких приключений.
Мы распалили костер. Собрали начищенную картошку. Начали готовить ушицу из рыбы, оставшейся после медвежьей трапезы. Несколько часов пролетели незаметно. Охотник и милиционеры расслабились, оружие поставили в сторону. И тут крик:
– Бежит!!!
Медведь бежал ходко и нагло прямо на костер и нас. Мужики похватали оружие, едва успели выстрелить…
Охотник рассматривал успокоившегося зверя и рассуждал:
– Что за странный медведь? Они чувствуют дым, запах оружия и обычно людей стороной обходят. Тут одно из трех. Либо его потревожил кто-то, либо он раненый, либо уже пробовал человечину…
На поверку медведь оказался медведицей, более того – медвежонком года два-три от роду, не больше. Никаких других ран у нее не было. А когти приличные, хватило бы, да и клыки далеко не молочные – сантиметра три длиной.
– Такая, если бы вас поймала, разорвала бы, – продолжил охотник. – Лапой по голове – и сняла бы скальп вместе с ушами…
После этого случая я на рыбалку не ходок. Ведь кто его знает? Хорошо, что ночью не пришел нас проведать – загрыз бы спящих. Спасло и то, что берег был близко. Хотя… он и бегает, и плавает, и на дереве от него не спасешься. А Дима на рыбалку хотел тогда сына взять…
КОТИК
«То, что животное ласкается, не значит, что оно не укусит»
Зоя не раз пыталась завести котика, чтобы развеять одиночество. Но котики попадались непутевые: не приучались к кошачьему туалету. Она покупала им специальные ванночки с решеточками, приносила песок, рвала бумажки, но в итоге укладывала очередного котика в хозяйственную сумку и уносила подальше от дома, в чужие подъезды. После этого возвращалась в опустевшую квартиру, тихо плакала на кухне, запивая горе стаканчиком вина, давала себе клятву, что больше никогда, и каждый раз по прошествии смешного времени эту клятву нарушала…
Как новенький оказался на руках, она не осознала. Таких миленьких котиков Зоя не встречала: пушистенький, шерсть цвета топленого молока, словно бы специально завитая, мордочка немножко приплюснутая, ну вылитый перс. А на лапках-то кем-то заботливо подшитые и хорошо скатанные маленькие валеночки! Утепленные малиновые штанишки, синенькая кофточка с вышитым на грудке именем котенка – Жулик! Явно хозяйский. Красавец, да и только.
«Не будет большого греха, если с собой возьму. Не приживется, назад принесу», – подумала Зоя и, радостная, поспешила домой. Но по пути затвердевшее от времени сомнение придавило сердце: «А может, зря? Будет гадить. Вернется дурдом. Ты в курсе того, что будет дальше…» Она взяла котика за передние лапки, ласково потрясла его и спросила:
– Ну что, Жулик, сознавайся: будешь на пол писать?
Котик внимательно поглядел в глаза Зое и повертел головой, отвечая вроде как «нет». «Что за ерунда?» – удивилась Зоя и задала тот же вопрос по-другому:
– Ты к туалету приучен?
Два раза согласно кивнул котик.
«Чудеса! – мысленно восхитилась Зоя. – Так он дрессированный!»
– А ты во что ходишь – в песок или в бумажки?
Котик сдвинул передние лапки и быстро ими затеребил, будто рвал что-то.
– В бумажки? – переспросила Зоя.
Котик кивнул.
«Это лучше, чем в песок, – облегченно подумала Зоя. – На нашем песчаном Севере зимой чистого песка не сыщешь. На улице он под непролазным снегом, в подвалах – залитый канализацией, либо загрязненный бездомными собаками, котами и наркоманами».
– А тебе после каждого туалета надо новые бумажки рвать, или ты по несколько раз в одни и те же ходишь?
Ничего не ответил котик.
– Почему молчишь? – спросила Зоя и легонько тряхнула его.
Котик жалобно мяукнул, и до Зои дошло, что его способности к диалогу не беспредельны, что надо спрашивать, рассчитывая на простой ответ, например «да» или «нет»…
– Тебе после каждого туалета новые бумажки рвать?
Котик согласно кивнул.
«Это обременительно, и, если меня нет дома, могут возникнуть проблемы, но постараюсь», – решила она…
В своем новом жилище котик по-хозяйски, как только слез с рук, побежал по комнатам, будто выполнил устоявшуюся традицию. Когда он обошел все углы, пролез за диваном, под батареями, то, весь в серых хлопьях пыли, присел рядом с Зоей, укоризненно на нее уставился и несколько раз провел хвостом по полу, как подмел, словно говоря, что у нее могло быть чище…
– Это твой туалет, – Зоя показала на стоявшую рядом с унитазом коробку, заполненную газетными клочками. Вечером она поиграла с котиком, увлекая его чашечкой лифчика, который волочила за застежку, потом, лежа в постели, чесала его за ушами, гладила по податливой спинке и незаметно для себя уснула. Ей грезились котята, родившиеся от найденного ею котика, которые стали настолько умны и ласковы, что открывали ей дверь в квартиру, готовили кушать, забрасывали белье в стиральную машинку-автомат, включали ее и даже пылесосили, хотя во сне она так и не поняла, как им это удается. Зоя проснулась помолодевшая, исполненная счастливой мечтательности и пошла туда, куда все утром идут в первую очередь.
Недосохшая лужа куснула прохладой. Зоя брезгливо тряхнула босой ступней и шмыгнула в ванную комнату…
Бумага в кошачьем туалете белела и обвиняла. Котик крутился рядом, поглаживая хвостом ноги Зои, и высматривал, что она делает.
– Ты же говорил, что приучен? – спросила Зоя, испытывая некоторое удивление оттого, с какой легкостью она заговорила с тварью бессловесной. – Это твоя работа?
Котик отрицающе повертел головой.
– Тогда кто это сделал, если не ты? – повысила голос Зоя.
Котик поднял правую лапку и показал на фигурку писающего мальчика, висевшую на двери.
– Ах, шутник! – воскликнула Зоя. – Ладно, первый раз прощается, второй раз воспрещается! Больше так не делай.
Котик два раза согласно кивнул и важно пошел прочь, покачивая поднятым вверх хвостом.
На следующее утро лужа вновь поблескивала возле ванны. Дверь в туалет плотно сидела в проеме. «Надо же, не смог зайти, – размышляла Зоя. – Вроде оставила ее открытой вчера вечером. Видно, по привычке…»
– Ты уж прости, дружок, – обратилась она к котику, – больше не повторится. Моя вина. Буду следить.
Котик, выгибаясь и потягиваясь, нежно потерся об Зоину ногу, словно утешая и прощая ее за случайный проступок. Но и на следующее утро туалет оказался закрыт, а лужа пребывала на привычном месте.
– Что же творится? – изумилась Зоя. – Проверила перед сном. Жулик, почему дверь закрыта?
Так она впервые назвала его по имени, вышитому на кофточке. Котик поманил Зою лапой в туалет, показал на вентиляционное отверстие и прошипел несколько раз…
– Ты хочешь сказать, что ветер гуляет и он захлопнул? – спросила Зоя.
Котик кивнул, довольно и широко открыл пасть, показав волнистый зев, окаймленный острыми зубами, и легонько поскреб когтями линолеум.
– Вот умница-то, – похвалила котенка Зоя. – Надо шире открывать…
Она открывала, дверь закрывалась, котик пантомимно излагал, и Зоя постепенно свыклась с лужами. Но как-то, придя с работы, она обнаружила, что со стены упала фотография родителей. Разбилось стекло. Зоя огорченно присела на диван. К ней подошел котик.
– Что бы я делала без тебя, – обратилась Зоя к своему пушистому всепонимающему жильцу, ища утешения и понимания. – Ты знаешь, почему упала фотография?
Котик сердечно кивнул, подошел к стене, на которой застыли обойные букеты алых роз, лапкой постукал по ней.
– Не понимаю, – отмахнулась Зоя.
Котик сел, поднял передние лапы, левую оставил неподвижно, а правой давай размахивать, будто гвоздь забивал, и так сходно, что Зоя уразумела.
– Соседи в стену тарабанили?
Котик кивнул два раза и пошел ластиться.
– Какой же ты Жулик? – приговаривала Зоя, теребя котика за ухом. – Ты Умница, Умница моя.
В этот вечер Зоя вначале накормила котика повкуснее, а уж потом сняла светло-коричневые шторы и подшила петельки, за которые шторы цеплялись к крючкам на гардинах и которые отрывались на удивление регулярно. Такое поведение штор Зоя объясняла наплывом эмоций, считая, что стала резче их дергать…
Желание притягивает, одиночество рвет. Зоя и желала, и страдала от одиночества. Бывало, к ней приходил друг. Котик относился к его визитам, как законный муж, то есть не любил. Вначале – шипел, затем перестал замечать…
– Алик, от тебя кошаком пахнет, – сказала Зоя в один не прекрасный вечер. – Мыться надо чаще.
– Ты права, Зоя! Как кот появился, так все началось, – ответил друг и указательным пальцем поправил очки на переносице. – Вначале ботинки с носками кошачьим туалетом запахли, потом брюки с рубашкой. Это кот одеколонит, хоть и умный…
– Котик, подойди, пожалуйста, – позвала Зоя. – Это ты дяде одежду портишь?
Котик повертел головой из стороны в сторону, подошел к Зоиному другу и давай ласково тереться об его ноги, преданно поглядывать в глаза.
– Смотри, как он тебя любит, – упрекнула Зоя. – Вечно ты всех винишь, кроме себя…

Разговор выдался громким, а котик лежал и вроде бы улыбался…
Недоразумения поселились у Зои. Когда с потолка упала люстра, она плакала, глядя на котика, который танцевал на задних лапках и даже подпрыгивал в присядку, показывая лапкой наверх, мол, соседи наверху плясали. Когда Зоя заметила, что обшивка дивана обветшала, то котик в точности скопировал медвежью походку ее друга и потерся задом о диван, показывая, как он был испорчен. А потом сгорел телевизор на кухне. На задней крышке – подтеки. Котик опять указывал наверх и, не в силах изложить свою мысль доходчивее, взял и немного пописал на пол, мол, залили тебя хозяюшка…
«Господи, что же происходит? Может, ты меня наказываешь за то, что я украла этого славного дрессированного котика? Господи, ответь мне», – молилась Зоя вечерами и вскоре неожиданно проснулась ночью, будто кто разбудил. Диван не заскрипел, как обычно, а сама Зоя ходила, точно легкий ветерок. Она вышла в коридор и обомлела. Котик, вцепился зубами в башмак, которым она регулярно подпирала дверь туалета, и оттащил его. Далее он подналег на дверь, закрыл ее и наделал лужу. После содеянного котик пустился в пляс, катался по полу и от радости тихо по-кошачьи смеялся, издавая удивительно похожее на «ха, ха, ха»:
– Мя, мя, мя…
– Ах, вот ты какой! – вскрикнула Зоя. – Я тебе верила, а ты… а ты…!
Не найдя нужных слов, чтобы назвать совершенное котиком, она попыталась схватить своего любимца, но тот белкой скользнул меж ладоней и исчез за диваном, откуда его можно было достать разве что палкой. Зоя присела, задумалась, потом подошла и обнюхала сгоревший телевизор, где сквозь запах гари распознавался запах кошачьего туалета. Она подошла к фотографии родителей и разглядела на рамке и обоях множество хороших царапин и пробоин от когтей, каковые могли появиться, если котик прыгал на них, пытаясь зацепиться. Шторы оказались в затяжках. На шкафу, откуда котик мог легко скакнуть на люстру, чтобы покачаться, тоже виднелись царапины…
Зоя до рассвета почесывала голову, думая, как поступить. Котик не показывался из-за дивана.
– Ладно, вылезай, – тяжело произнесла она. – Честное слово: бить не буду. Только поговорим.
Котик осторожно вышел и замер поодаль, рядом с подлокотником дивана, готовый моментально сорваться с места.
– Будь человеком, объясни, зачем ты пакостил? – попросила Зоя.
Котик плавно развел передние лапки в стороны и приподнял вверх плечики. Это можно было понимать как то, что он не мог объяснить свое поведение. «Такова моя суть, ничего не могу поделать, – говорили его глазки и движения. – Я не со зла».
– Но как тебя прежние хозяева терпели? – спросила Зоя.
Котик потупил взор, ничего не ответил и нервно заскреб по линолеуму.
– Пол не порть. Как раньше реагировали на твои выходки? – еще раз спросила Зоя.
Котик мягко отмахнулся правой лапкой и, чутьповернув мордочку в сторону, мяукнул:
– Мя-я-я…
Так обычно люди говорят, пренебрежительно сложив губы, «да-а-а», когда им неприятен предмет разговора.
И тут Зоя поняла, что котик был ничейный, когда она его встретила. Его выгнали. Его всегда выгоняли, а может, даже и били, но поскольку котик был понимающий и рассуждающий, ну почти как человек, то не каждый мог избавиться от него, как она относила своих в другие подъезды. Каждый ему что-то дарил. Кто-то – штанишки. Кто-то – кофточку. Кто-то – валеночки. Легче избавиться от мыслящего существа, взятого под покровительство, когда ему что-то подаришь на прощанье.
– Тебя выгоняли? – спросила Зоя.
Котик три раза кивнул, но без особого огорчения.
– И одежку выдавали на прощанье?
Опять последовал согласный кивок.
«Ох, котик, котик. Хоть ты и умный, а все равно природа у тебя хитрющая, неперевоспитуемая», – подумала Зоя.
– Ладно, иди спать, да и мне пора, – сказала она. – Не хочу быть жестокой. Прошу, перестань гадить, я все прощу. Не сможешь – выгоню.
Котик радостно закивал, затанцевал и уснул у Зои в ногах.
И воцарилось спокойствие. Длилось оно ровно три дня. Вечером третьего, придя домой, Зоя обнаружила открытый настежь платяной шкаф, возле которого лежали сваленные в кучу и подранные платья, ее любимые платья (!). Она, зарыдала, схватилась за голову и быстрее к котику. Слова метала, как молнии:
– Кто это сделал?
Котик, ничуть не испугавшись, на задних лапах прошелся на манер ее друга, приблизился к шкафу и давай шипеть и когтями скрести по воздуху.
– Так это мой друг?!!
Котик закивал.
– Ах ты, гадкий! – воскликнула Зоя. – А ты знаешь, что из-за твоих проделок он мне ключ от квартиры отдал?
Она вытащила из ящичка комода связку ключей и, как колокольчиком, потрясла ими перед носом котика. Котик съежился. Зоя бросила ключи, схватила удлинитель, лежавший неподалеку, по-ямщицки замахнулась им, чтобы проучить непокорное животное, но то сорвалось с места и, распластавшись по полу, как камбала, юркнуло в узкую, казалось бы, непролазную щель под телевизионной тумбой…
С этого момента Зоя принялась шить небольшую норковую шапочку-ушанку. Это не заняло много времени. Она надела шапочку на маленькую головку котика. Надела она на котика и другие его вещицы, сказала «не обижайся» и отнесла его туда, откуда взяла.
– Кушать захочешь, приходи, накормлю, но в квартиру не пущу, – сказала напоследок.
Котик вежливо кивнул два раза и без сожаления пошел восвояси, а потом встал на задние лапки и кинулся вприсядку, словно неизвестным науке животным чувством сознавал, что жить надо не оглядываясь и быть надо самим собой, не принимая во внимание, нравится это кому-либо или нет, потому что другого шанса жить не представится…
Зоя прошла по пути домой совсем немного и вдруг спросила себя: «А кому от этого расставания будет хуже? Все мы в этой жизни пакостные котики, каждый по-своему. Чудим, балуемся. Совершаем необдуманные поступки. Живем, как хочется, не задумываясь о том, что чувствуют наши близкие и неблизкие. Нас выгоняют, мы выгоняем, и продолжаем танцевать. Вот и я одна…» Сердце ее резанула такая тоска, что она оглянулась, собираясь окликнуть котика, даже такого неуемного шалуна-обманщика, позвать назад… Но тот уже исчез, словно испарился.
СПОРЩИК
«Вызов судьбе всегда непредсказуем»
Нефтяниками на Крайнем Севере работает народ крепкий, бойкий и до юмора охочий, иначе тоскливо себе жизнь сокращать, даже за деньги, в местах для обитания человека малоприспособленных, под тусклым зимним солнцем. И вот как-то один нефтяник по имени Славик, добродушный украинец килограмм сто тридцать весом, расхорохорился.
– Могу хоть сейчас отказаться от сигарет. На спор? – говорит.
Разбили руки на ящик шампанского. Время пошло. Мужик крепился. Но приспичило раз, сил нет. Скукожился, чтобы не видно, и задымил. Тут на несчастье один из спорщиков. Быстрее созвал своих. Народ слетелся. Зафиксировали проигрыш.
Проигравший принес шампанское, но это лишь запивать. Народ закупил водки. Закуску принесли из дома. Славик бросил на стол мощные лапы и грудку жареной жирной домашней индейки, выращенной на Украине самостоятельно. Мужики увидели, удивились, спрашивают:
– Это что за курица такая?
Славик понял, что люди не знают, и давай шутить:
– Накачиваю их, как Шварценеггера. Привязываю гирьки к лапам и гоняю по огороду. Как привыкнут, так гирьки утяжеляю…
– Быть такого не может…
– Спорим? Проигравшему штрафную…
За разговорами и шутками все захмелели в стельку, а случилось это весной в момент промывки труб водоснабжения, что в маленьком нефтяном городе делалось ежегодно и без предупреждения. Проведение такой необычной операции обязано большому количеству железа, растворенному в северной воде, добываемой из подземных источников. Вначале это железо оседало в трубах, потом потоком текло в квартиры и желудки. Эта проблема вынудила местные власти время от времени промывать водопроводы, поднимая со стенок труб коричневатую гущу железистой слизи, откачивая ее и частично направляя в народ…
Славик проснулся рано. Голова болела, в глазах темно, потому что веки как склеены. В горле – обезвоженная пустыня. Метнулся к крану. В слепую нащупал стакан из граненого стекла. Набирал воду, пока по пальцам не потекло. И быстро в рот. Пил большими глотками. Чувствовал: ржавчиной пахнет, но счел – мерещится. Выпил. Полегчало. Веки расползлись. Глазами поморгал, обрел зрение. Глянул, а на дне стакана непроглядный осадок. Он назад к крану. Оттуда коричневая жижа. «Блин!» – мысленно ругнулся, но деваться некуда. Уже выпил.
Пришел на работу. То-се. Спину схватило в районе поясницы. Он в больницу. Осмотрели. Давление зашкаливает. Дали больничный. Прописали таблеток. Славик рецепты прочитал и вытер ими губы после сытного домашнего обеда. Полегчало само собой. Лежит на больничном, с попугайчиком развлекается.
Попугайчик был хулиганистый и пунктуальный: как только вылетал из клетки, устремлялся к книжной полке. Садился на самый край, шел по нему и валил лапкой мелкие игрушки, стоявшие там. Одну за другой. По очереди. Славик возвращал игрушки на место. Попугай валил. Не пересилить.
Осенило больного. Вскрикнул:
– Спорнем, отважу от пакостей?
Попугай промолчал. Славик на глазах у пернатого выдвинул несколько книг из ряда, встал поблизости и смотрит. Птица ринулась к книжной полке, но по краю уже не пройти, как по бульвару. Настроение утеряно. Попугайчик помучался, понимающе глянул на Славика и полетел. Он кружил, как муха, щипал за руку, клевал в шею… Славик поймал его, запер в клетке и опять на диван…
А тут день рождения у знакомых. Грех пропускать.
Пошли с женой. Гуляли с вечера до утра. Утром возвращались, для устойчивости тесно обнявшись, как впервые влюбленные. Жена:
– Тебе когда к врачу?
Славик:
– Не помню.
Пришли домой. Посмотрел. Сегодня. Бляха-муха. Быстрее в душ. Лимоны в рот. Зубы подольше мятной пастой, чтобы не пахло.
– Могу поспорить – не заметит, – выдохнул на поморщившуюся жену и пошел на выписку.
Врач как измерила давление, так и побледнела: низкое до крайности. Славик сидит, покачивается. Холодный весь. С похмелья руки трясутся.
– Таблетки принимаете? – спросила.
– Да, доктор, – кивнул Славик.
– Ох! Да что же! Перестаньте принимать. Похоже, перелечили. Больничный продляю. Идите и лежите, – сказала.
У Славика головокружение:
– Доктор, я плохо понимаю.
– Что вам понимать?! Синдром! Только не пугайтесь. Сейчас на «скорой» домой. Лежите. На прием через три дня, – сказала.
– «Скорой» не надо. Все понял, – сказал и пошел… к знакомым.
Продолжили. Полегчало. Пришел домой. Замерили давление – нормальное. Значит, пора на рыбалку…
–Рехнулся? Какая ловля? Ты ж пьян, – кудахтала жена.
– А на спор?..
Болотники тесные. Славик согнулся, скрючился. Давай тянуть. В момент наисильнейшего напряжения схватило поясницу. Не разогнуться. Славик позвал жену. Та все поняла, подползла на коленках. Славик забрался ей на спину, лег и, как на тележке, добрался до дивана, а там давай со вздохами и охами кататься, пытаясь распрямиться. Получилось, но боль не прошла.
– Что делать? – спрашивает.
– Есть один рецепт, – ответила. – Могу поспорить – поможет. Ложись на живот.
Славик перевернулся. Жена нагрела утюг и давай им через полотенце гладить спину Славика. Проведет раз, наклонится, спрашивает игриво, любовно:
– Ну как, полегчало?
– Хорошо, хорошо. Еще хочу, – отвечает.
Жена рада стараться: все также игриво наклоняется, спрашивает весело. Увлеклась и не заметила, как горячий утюг съехал с полотенца. Славик вскочил, бессловесно зевая, как рыба, живьем брошенная на сковороду. Жена с утюгом – в сторону. Утюг – из розетки. Розетка – из стены. Провода. Замыкание. Вспышка. Телевизор погас.
– Убью! – закричал Славик и бросился за женой, но опять поясница…
Проснулся от стука по лбу. Открыл глаза. Попугай клюет.
– Поспор-р-рим? – спрашивает…
С тех пор Славик споры не любит. Как вышел на работу, ему опять предложили…
– Идите вы… – сказал он, даже не вникая.
НЕЗАМЕТНОЕ
«Глаз стало столько, что даже в собственной спальне надо вести себя осмотрительно»
Вечерело. Сумерки войлочным пионерским одеялом укрывали землю, а заодно и облупившийся вокзал небольшого городка, каковые в народе принято называть Мухосрансками. На пути в томительном многочасовом ожидании стоял унылый состав пассажирского поезда, направлявшегося на Север. На перроне толпились кучки неуклюжих бабенок с зажатыми в руках авоськами, откуда торчали горла залапанных пивных бутылок, напитков и затасканные кирпичики вполне целых сигаретных пачек.
Бабенки уже пробежали вдоль вагонов несколько раз и теперь оживленно переговаривались:
– Народ зажрался. Ничего не берут.
– Вот куда я теперь окорочка с картошкой дену? В холодильник? Так и без того они уже неделю там стояли. Каждый день разогреваю. Благо курица теперь пошла такая, что не портится.
– А у меня, девчонки, вахтовики всю водку разобрали. Просто повезло. С товаром таким домой возвращаться нельзя. Мужик мой пьет, ох пьет-то…
Лотошники тоже сворачивали торговлю: накрывали товар затрапезными скатерками и фасовали хлеб в пакеты теми же руками, которыми считали деньги и чесали живот, взопревший от поясного кошелька. Лихоимно одетые пацаны хвастались друг перед другом, кто больше напопрошайничал… В общем, волочилась обычная привокзальная жизнь.
В отдалении, в густой тени деревьев, рядом со ставшими уже свойскими вагонами, околачивался мужик. Вида он был такого неприметного, что даже не скажешь какого, чуть отвернувшись от него. Он, не торопясь, попивал пиво из бутылки и покусывал пирожок. В перерывах же, приоткрывши рот, благодатно вздыхал и со все большей радостью поглядывал на покосившиеся лотки торговцев, на выщербленный асфальт привокзальной платформы, на бездомных собак, жадно ловивших на лету пряники, которые выбрасывала из окошка заскучавшая пассажирка поезда…
Вокруг мужика, как стервятники возле добычи, кружили двое бомжей в ожидании пустой бутылки и недружелюбно друг на друга поглядывали.
Мужик допил пиво, оглянулся по сторонам и украдкой поставил бутылку рядом с собой. Ее можно было выбросить не оглядываясь, можно было разбить на мелкие осколки, можно было отдать в руки крутившихся рядом бомжей… Но мужик не стал рисковать, привлекать к себе внимание и встревать между конкурентами. Между бомжами на собачьем уровне завязалась незаметная потасовка, всколыхнувшая брюки мужика, и бутылка исчезла.

Во рту скрылся последний кусочек пирожка. Мужик опять пытливо глянул по сторонам, обтер замасленные руки об заднюю часть штанов, незаметную спереди, а потому не особо нуждающуюся в чистоте. Затем он поковырял между зубов ногтями, извлекая остатки пищи, достал из кармана пачку сигарет, где всего одна сигаретина и осталась, закурил. Пачку скомкал и, уже не оглядываясь по сторонам, легким движением, каким разведчик за секунды до ареста выбрасывает шифровки, направил за спину, а затем быстро засунул в ноздрю палец…
Тут его внимание привлекла одна из торговок, которая, думая, что ее никто не видит, приподняла руки и, немного наклонив голову, приблизила нос поочередно к каждой из своих подмышек. Губы мужика растянулись было в улыбке, но приспичило. Пиво настойчиво попросилось наружу. Мужик огляделся и, не обнаружив двуногих помех, начал исполнять требования малой нужды, не сходя с места и мечтательно глядя на вагоны, измазанные копотью собственных угольных топок. Дело уже подходило к концу, как вдруг в казалось бы мертвом составе вспыхнул свет. В окнах четко проявились лица, заинтересованно и увлеченно разглядывающие его. Некоторые оживленно переговаривались.
«Е-мое! Кругом глаза, чтоб они лопнули, как мыльные пузыри. Сидят себе в вагоне, делать нечего, вот и вылупились…» – возможно, так поразмыслил мужик, явно не ожидавший, что он тут, в тени деревьев, как актер на освещенной сцене…
Он поспешно привел себя в порядок, проверил, не расстегнута ли ширинка, легко проведя по ней пальцами… а потом приосанился, выпрямил спину, развернул вешалку плеч и горделиво пошел, словно напыщенный гусак через лужу, мимо бомжей, бабенок, лотошниц, а на него никто и внимания не обратил, до того незаметный, совершенно обычный.
ИСПЫТАНИЕ
«Почти каждая душа сдает экзамен на создание новой жизни, но далеко не каждая душа способна создать целый мир. Надо обладать неиссякаемой жизненной энергией и интересом к жизни, чтобы даже после смерти жить и созидать»
Он опередил темные тени, ломившиеся в дверь, избежал закабаления в суетности бытия, сумел взлететь и обрел невероятную радость. Потолок раскрылся перед ним. Он легко прошел сквозь перекрытия и даже не почувствовал какого-либо препятствия с их стороны, точнее даже мысли не возникло о том, что они могут представлять какое-либо препятствие для его устремлений. Он поднимался все выше и выше, и вот уже под ним крыши домов. В высоте синело необыкновенно притягательное небо. Постройки прочие деяния рук тварей наземных, величающих себя людьми, стали почему-то неинтересны его взору, а вот величие земель, покрытых теплой зеленью лесов, открылось для него совершенно по-новому, вселив возвышающее ощущение красоты мира, понимание его величия, естества и единства. И это ощущение было не новым. Другого никогда и не существовало, исключая короткий промежуток беспамятства телесной жизни. Она мгновенно стерлась из сознания, как нечто мимолетное, ненужное, как система неприятных, но необходимых процедур вроде тюремного режима, необходимых для исправления или созидания…
Остался только взор и разум, невероятная всепоглощающая радость и легкость мысли.
Земля отдалялась, он легко пролетел мимо свежих, как распушившиеся одуванчики, облаков, охваченный радостью полета, незаметно для себя очутился в космосе, откуда уже видел не часть земли, а всю ее целиком. Он чувствовал, как падает в бездонную пропасть мирозданья, заполненную перемигивавшимися звездами. Она магнетически притягивала его, манила красотой, но засасывала, как трясина. Он ощутил наэлектризованное шелковое дуновение страха.
Он не хотел отдаляться от своей планеты, не зная доподлинно, куда стремиться, но его неотвратимо уносило вдаль, и вот вся земля уже превратилась в голубой шарик с белесыми разводами облаков на поверхности. Назад можно было вернуться, но он только возродился в новом качестве и как новорожденный, не освоил правил перемещения в этом пространстве, где только большое желание позволяло лететь целенаправленно, где только точное соизмерение душевных усилий с солнечным ветром и движением планет давали возможность не промахнуться при выборе цели. Иначе грозили вечные скитания в темноте космоса…
Так и получилось. Надежда упасть на большую планету, опоясанную астероидами, куда его вроде бы и несла судьба, не оправдалась. Его увлекло в неизвестность. Он с грустью следил вначале за звездочкой, которая была его домом…, потом – за другой звездочкой, которая была его солнцем…
Космос наводнен бестелесными живыми существами, незаметными друг для друга, но ощутимыми по понятным мысленным волнам. Они также учатся, проходят жизненные циклы развития. Это он осознал через какое-то время, что, впрочем, сложно перевести в годы и века, поскольку он перестал их отмечать. Присутствие великих и могущественных сил он ощущал по душевному холодку или внезапной теплоте, охватывавшей его…
Постепенно он познавал свои способности, но, унесенный в глубины космоса, страдал от потери той красивой планеты, с которой он когда-то был связан. Эта одинокая грусть усиливалась, пока не переродилась в желание создать нечто подобное. Сколько можно плутать во мраке, как бесчисленные потоки безмятежных потерянных душ? «Время не важно, с ним можно не считаться, – подумал он. – У меня его в достатке. Целая вечность». Он нашел подходящую планету возле яркой желтой звезды, где оказался и откуда не смог бы даже приблизительно указать направление к своему старому дому…
Его планета неслась вокруг своего быстролетящего солнца где-то в неведомой части Вселенной. Поиски утраченного дома равносильны безумию. Он понимал, что можно навеки зависнуть в пустоте, наблюдая в бескрайнем последующем существовании пролетающие мимо светила и планеты. Кроме того, возвращение всегда несет грусть, тоску, поскольку встретить любимое в старом редко кому удается. Возвращение в утраченный дом равносильно бесконечному безумию…
Дом – в душе. Место не важно. Душа способна менять. Это понимание вдохновило его. Он возжелал раскрутить планету вокруг оси. Во мраке планетарных глубин, проведя множество безуспешных попыток и, наконец, почувствовав полностью планетарную плоть, сроднившись с ней и даже став единым целым, он сумел придать движение жидкому ядру планеты, так что она закружилась неторопливо, но достаточно уверенно. Он вознесся на поверхность и принялся наблюдать, что получилось. Ему понравилось, как желтое светило появляется на горизонте, зримо проходит вдалеке во тьме космоса, освещая планету, и скрывается на другом краю горизонта. Так ему удалось создать день и ночь. Он почувствовал себя богом, сильнее, чем прежде, тысячекратно, но это было лишь первой частью задуманного. Перед ним вращался по-прежнему безжизненный камень, круглый, с острыми шипами гор, блестящими ледяными линзами застывшей воды. С его поверхности не наблюдалась небесная красота, так радовавшая его когда-то давно, окружала планету лишь чернота космоса, даже днем.
Создание атмосферы увлекло его. Хотя говорить о том, что происходило, это обеднять события. Звук слов, называющих те или иные явления, потерялся для него, остался смысл. Извечное чувство гармонии вело его, заставляло планету укрыть, укутать, отодвинуть холод космоса от ее поверхности. Он начал стягивать невидимые газовые атомы, сжимать электромагнитные поля вокруг земного ядра, вызывать вулканическую деятельность. Он был терпелив и настойчив, действовал интуитивно, имея в своей памяти образ мира, покинутого им когда-то. Но это была не людская память, восстанавливающая конкретные события и образы прошлого, а исконная память души, указывающая правильный путь игрой чувств и желаний. Его гнало вперед отчаянное любопытство, а, когда задуманное получалось удачно, он радовался. И вокруг планеты появилась серая мгла, разрываемая вспышками молний.
Он кружился в вихре сильнейших бурь, играл с темными мощными тучами. После высасывающей силы пустоты космоса, после адского пламени пролетавших мимо светил, грозивших захватить его и обречь на вечный огонь, он обрел силу и могущество и создал свой дом. Вода появилась сама собой, когда растаяли гигантские ледники, и это было великолепно. И он был везде. Время текло с изменяющимся светом гаснущих и вспыхивающих звезд. Он нес в себе неугасимый пламень жизни, изменял природу неживых вещей, и пришел момент, когда появились первые растения.
Стремление к красоте и гармонии рассеяло темные беспросветные тучи, и над планетой осталась лишь легкая газовая оболочка. Создавая законы химических реакций и сложнейших атомных соединений, он достиг цвета небесного свода, радовавшего его. Днем он восхищался им, охранившим от черной космической пропасти, и легкими облаками, подобными распушившимся одуванчикам. Ночью он всматривался во тьму космоса с миллиардами звезд и чувствовал гармонию бесконечного, неустойчивого, необозримого и небольшого кусочка не бессмертного, но прочного мира.
Дальнейшее от него почти не зависело. Живое тянется к живому, совершенствуется, приспосабливается. Шаги эволюции и облик созданий предопределялись энергией, вложенной им в планету. Оживленный им мир творил собственную судьбу. Появились рыбы, пресмыкающиеся, птицы небесные, звери земные. Они плодились и размножались. Он наблюдал. Особое удивление у него вызвали существа, подобные давно не виденному облику существ с той планеты, где он раньше жил. Вспомнив то время, когда не был одинок, он загрустил по общению и принялся излучать чувства, рассевать мысли в поисках единства с этим миром, в поисках отклика. Однако, безответно. Он оставался не узнанным и не понимаемым еще долго. Как семена, брошенные в почву, дают всходы не мгновенно, так и его стремление к общению со временем нашло резонирующий отклик в существах подобных. В них стали зарождаться души как отголоски его мыслей и чувств, а сами тела стали преображаться по облику…

Бесцельная борьба за существование живых созданий огорчала его. Безнадеждные души жаждали плотских утех, власти, славы, переносили эти стремления в мир небесный, в космос… Он несколько раз уничтожал живое. Он желал видеть людей идеальными. Каждый раз, когда мир возрождался, он ждал, что его черты проявятся. Но телесная приземленность брала верх. Требовался увлекающий пример жизни, чтобы плоды ее вызревали. Он снизошел и подтолкнул нескольких умеющих тонко чувствовать людей на создание величайших книг своих цивилизаций…
Так на планете разгорелась его искра. Люди создали искусства, заполнившие пустоту этого мира. Его называли по-разному, его восхваляли, его боялись, а он наблюдал. Узнавал себя в мире, созданном по подобию, во всем плохом и хорошем. Что ж, он тоже когда-то был смертен. Его создания оставались по-прежнему несовершенными, но любовь и всепрощение перевесили в нем чувство горечи. С изменением мира изменялся и он. Он осознал: для того чтобы вселенная ожила, расцвела, необходимо множество таких, как он…
Есть много неудачных или незаконченных работ, планеты вращаются, но не имеют атмосферы, другие имеют атмосферу, но не имеют морей, некоторые имеют моря, но пока не имеют жизни… Возможно, они когда-то оживут. А где-то очень далеко в космосе летела другая Земля, где жили такие же люди по образу и подобию, давшая новому миру его…
Последние комментарии
2 дней 22 минут назад
2 дней 4 часов назад
2 дней 6 часов назад
2 дней 7 часов назад
2 дней 8 часов назад
2 дней 9 часов назад