Эдуард Фукс
Erotica. Ренессанс. Буйство плоти
Интимный мир эпохи

О любви в эпоху Возрождения, равно как и во все последующие
Летят столетья, дымят пожары, но неизменно под лунным светом упругий Карл у гибкой Клары крадет кораллы своим кларнетом.Игорь Губерман
 тение книг по истории как средство развлечь себя самым полезным и занимательным образом, наверное, никогда не утратит своей привлекательности. Сколько интересного и поучительного таят в себе перипетии судьбы властителей и полководцев, подробности расцвета и, главное, упадка великих империй, не говоря уже о хитроумных интригах, кровавых заговорах и головокружительных махинациях!
Одного только недоставало во всемирной истории, по крайней мере, в той ее части, что до сих пор выходила на русском языке, — ЭРОТИКИ. Удивительно, но эта тема получше иных прочих уже изучена применительно к современной стадии развития человечества; на таком фоне прошедшее стало выглядеть даже как-то однобоко. Одним словом, наша историческая наука была традиционно лишена каких бы то ни было подробностей, касавшихся интимной сферы человеческих взаимоотношений.
В серьезной исторической книге портрет эпохи неизменно состоит из череды правителей, их боевых подвигов, государственного строительства, внутренней и внешней политики и тесно связанной с ними экономики. Властителей сменяют наследники с аналогичным джентльменским набором, и одно только остается вне поля зрения ученого: как бы подробно читатель ни изучал его труд, для него чаще всего так и останется загадкой, откуда же у этих гигантов брались дети? Ведь если верить авторам, то их герои отвлекались от походов и казней только затем, чтобы написать пару указов или построить очередной дворец, куда будет удобно складывать многочисленные трофеи.
Образовавшуюся было пустоту заполнили «исторические» романы, героини которых по воле авторов смело переступают через мелкие условности в виде быта и одежды эпохи, сосредоточиваясь на главном — созидании своего непростого женского счастья с очередным королем или, на худой конец, герцогом.
Между тем еще в начале XX века немецкий исследователь и литератор Эдуард Фукс (1870–1940) создал труд по истории европейских нравов, охватывавший три эпохи: Ренессанс, галантный век и буржуазный век. С тех пор несколько раз предпринимались попытки представить этот масштабный труд на суд российского читателя, однако в таком объеме он предлагается впервые.
Основное достоинство работы Фукса в том, что он едва ли не впервые систематизировал и изложил историю взаимоотношении между мужчиной и женщиной. Под словом «нравы» в ней наконец-то понимается не обычай отмечать урожай большим сабантуем и не «их нравы», а то, как люди относились к женитьбе и замужеству, какой брак считался удачным, как вели себя друг с другом супруги, а как — любовники, или, например, ну очень общительные соседи. Из этой же книги можно узнать, где в XVI веке можно было запросто появляться в чем мать родила, а где — исключительно с открытой грудью.
Тем читателям, которым выводы автора покажутся все-таки суховатыми, не дадут заскучать очень живописные гравюры и вполне показательные фрагменты стихов, новелл и романов, созданных непосредственными очевидцами, а то и участниками всего этого безобразия. Одним словом, мужайтесь. Еще одним белым пятном в истории стало меньше.
Вадим Татаринов
тение книг по истории как средство развлечь себя самым полезным и занимательным образом, наверное, никогда не утратит своей привлекательности. Сколько интересного и поучительного таят в себе перипетии судьбы властителей и полководцев, подробности расцвета и, главное, упадка великих империй, не говоря уже о хитроумных интригах, кровавых заговорах и головокружительных махинациях!
Одного только недоставало во всемирной истории, по крайней мере, в той ее части, что до сих пор выходила на русском языке, — ЭРОТИКИ. Удивительно, но эта тема получше иных прочих уже изучена применительно к современной стадии развития человечества; на таком фоне прошедшее стало выглядеть даже как-то однобоко. Одним словом, наша историческая наука была традиционно лишена каких бы то ни было подробностей, касавшихся интимной сферы человеческих взаимоотношений.
В серьезной исторической книге портрет эпохи неизменно состоит из череды правителей, их боевых подвигов, государственного строительства, внутренней и внешней политики и тесно связанной с ними экономики. Властителей сменяют наследники с аналогичным джентльменским набором, и одно только остается вне поля зрения ученого: как бы подробно читатель ни изучал его труд, для него чаще всего так и останется загадкой, откуда же у этих гигантов брались дети? Ведь если верить авторам, то их герои отвлекались от походов и казней только затем, чтобы написать пару указов или построить очередной дворец, куда будет удобно складывать многочисленные трофеи.
Образовавшуюся было пустоту заполнили «исторические» романы, героини которых по воле авторов смело переступают через мелкие условности в виде быта и одежды эпохи, сосредоточиваясь на главном — созидании своего непростого женского счастья с очередным королем или, на худой конец, герцогом.
Между тем еще в начале XX века немецкий исследователь и литератор Эдуард Фукс (1870–1940) создал труд по истории европейских нравов, охватывавший три эпохи: Ренессанс, галантный век и буржуазный век. С тех пор несколько раз предпринимались попытки представить этот масштабный труд на суд российского читателя, однако в таком объеме он предлагается впервые.
Основное достоинство работы Фукса в том, что он едва ли не впервые систематизировал и изложил историю взаимоотношении между мужчиной и женщиной. Под словом «нравы» в ней наконец-то понимается не обычай отмечать урожай большим сабантуем и не «их нравы», а то, как люди относились к женитьбе и замужеству, какой брак считался удачным, как вели себя друг с другом супруги, а как — любовники, или, например, ну очень общительные соседи. Из этой же книги можно узнать, где в XVI веке можно было запросто появляться в чем мать родила, а где — исключительно с открытой грудью.
Тем читателям, которым выводы автора покажутся все-таки суховатыми, не дадут заскучать очень живописные гравюры и вполне показательные фрагменты стихов, новелл и романов, созданных непосредственными очевидцами, а то и участниками всего этого безобразия. Одним словом, мужайтесь. Еще одним белым пятном в истории стало меньше.
Вадим Татаринов
Предисловие
 равственное поведение, нравственные представления и нормы, регулирующие половую жизнь каждой эпохи, ярче всего представляют дух этой эпохи. Сущность каждого исторического периода, каждого народа, каждого сословия отражается в них нагляднее всего. В своих разнообразных проявлениях половая жизнь вскрывает нам не только важные закономерности, но и вообще основной закон жизни. Все жизненные проявления так или иначе связаны с половой сферой. Вся общественная и частная жизнь людей и народов насыщена половыми тенденциями и интересами. Они — вечная и неисчерпаемая проблема, которая имеет первостепенное значение для существования индивидуума и общества.
Однако каждая эпоха — и это самое важное — облекает эти переживания в новые формы и постоянно пересматривает свои представления. Бесконечно разнообразная половая жизнь людей понималась то как еле осознанная стихийная сила, как чисто животное чувство, то как дивная тайна бытия и высшая точка творческого проявления, то низводилась до уровня непристойности, причем каждое слово и каждый жест были частью чувственной оргии.
Вот почему история половой нравственности на различных ступенях культурного развития — одна из главных составных частей истории человечества. История половой нравственности охватывает наиболее важные стороны общественной жизни людей: законную и незаконную любовь (брак, супружескую верность, целомудрие, прелюбодеяние, проституцию), чрезвычайно разнообразные формы взаимного ухаживания с целью и в интересах осуществления половой потребности, обычаи и нравы, в виде которых они кристаллизовались, представления о красоте, радости, наслаждении и способы выражения чувства (язык, философия, право и т. д.), а также, конечно, отражение половой жизни в искусстве.
Так как история половой нравственности представляет самую важную часть истории человечества, то в каждой стране мы находим множество свидетельствующих о ней документов. В них сочетается самое величественное и блестящее, самое утонченное и безобразное, самое нелепое и тривиальное, что когда-либо измыслил и создал дух человека. В них обнаруживаются его самые смелые мысли, самые вдохновенные настроения и — самые печальные заблуждения.
Несмотря на такое фундаментальное значение истории половой нравственности для человека, стремящегося к всестороннему познанию прошлого, несмотря на богатство источников, находящихся в распоряжении исследователя, современные ученые пока еще пренебрегают этой областью истории нравов. В немецкой научной литературе значительные труды существуют только о нравах Древнего Рима. Нет ни одной истории нравов, которая рассматривала и объясняла бы изменения, происшедшие во взглядах и нормах половой нравственности, начиная со времен средневековья. У нас имеются только собрания материалов и несколько кратких монографий, посвященных отдельным специальным вопросам, странам и эпохам. Вот и все.
Но даже среди этих работ нет ни одной, которая основывалась бы на современных научных предпосылках.
Моя работа должна до известной степени заполнить этот пробел. Хотя она рассчитана на три тома, я прекрасно понимаю, что не смогу охватить весь материал. Чтобы написать полную историю нравов, необходима целая армия специалистов, которая создала бы библиотеку трудов. К сожалению, таких специалистов еще не существует. А те немногие, которые имеются, совершенно не понимают внутреннюю связь исторических явлений.
В истории половой нравственности сосредоточено, как уже было сказано, и самое высокое, и самое низкое. Однако, по ряду причин, она будет скорее историей безнравственности.
Это понятно, потому что то, что считается в каждую эпоху «нравственным», заключается преимущественно в том, чего не делают, т. е. в том, что не поддается изображению, тогда как безнравственность обнаруживается в определенных поступках, т. е. в том, что можно изобразить. Поэтому в истории половой нравственности отрицательное часто является единственно положительным. История нравов, стремящаяся отразить и исчерпывающим образом обосновать все проблемы половой нравственности, не смущаясь мелочными и трусливыми соображениями, конечно, не чтение для школьников и школьниц, но ведь серьезные научные исследования для них и не предназначены.
Те документы из находящегося в моем распоряжении богатого материала, которые не годятся для широкой публики или слишком перегрузили бы изложение, которые не представляют научную ценность, я позже издам в отдельном томе.
В заключение я должен заметить следующее.
Мое имя в литературе тесно связано с историей карикатуры. Многие из моих читателей могут подумать, что я меняю область своих интересов. Такое мнение было бы неправильным. Я считаю свои работы по истории карикатуры далеко не законченными, но и теперь я не сворачиваю со своего пути. Вся моя научная деятельность была направлена на изучение истории культуры. В своих трудах я хотел осветить историческое развитие общества. На этом пути мне встретилась карикатура. Когда мне стало ясно, что она позволяет понять и уяснить себе события и лица с такой отчетливостью, как никакой иной документ, мне захотелось изъять карикатуры из безмолвных папок, где они в продолжение столетий покоились неоцененные и потому игнорируемые. По мере того как накапливался материал, я все больше убеждался, что карикатура — важное средство исторической реконструкции. Так родилась мысль написать историю этих своеобразных документов, отражающих дух времени.
Относясь к карикатуре как историк культуры, видя в ней самый правдивый источник для знакомства с нравами, событиями и личностями прошлого и настоящего, я сознательно оставлял художественную сторону вопроса лишь на втором плане. Понимая всю важность этого аспекта, я всегда считал его изучение специальной задачей эстетов. Я же не специалист по эстетике.
Издавая свою «Историю нравов», я не отказываюсь от увлечения карикатурой, как не изменял я и моим культурно-историческим интересам, когда задался целью написать историю карикатуры.
Мои труды по истории карикатуры и моя «История нравов» лежат в одной и той же плоскости, вращаются в общем круге идей.
Эдуард Фукс
Берлин — Целендорф
Весной 1909 г.
равственное поведение, нравственные представления и нормы, регулирующие половую жизнь каждой эпохи, ярче всего представляют дух этой эпохи. Сущность каждого исторического периода, каждого народа, каждого сословия отражается в них нагляднее всего. В своих разнообразных проявлениях половая жизнь вскрывает нам не только важные закономерности, но и вообще основной закон жизни. Все жизненные проявления так или иначе связаны с половой сферой. Вся общественная и частная жизнь людей и народов насыщена половыми тенденциями и интересами. Они — вечная и неисчерпаемая проблема, которая имеет первостепенное значение для существования индивидуума и общества.
Однако каждая эпоха — и это самое важное — облекает эти переживания в новые формы и постоянно пересматривает свои представления. Бесконечно разнообразная половая жизнь людей понималась то как еле осознанная стихийная сила, как чисто животное чувство, то как дивная тайна бытия и высшая точка творческого проявления, то низводилась до уровня непристойности, причем каждое слово и каждый жест были частью чувственной оргии.
Вот почему история половой нравственности на различных ступенях культурного развития — одна из главных составных частей истории человечества. История половой нравственности охватывает наиболее важные стороны общественной жизни людей: законную и незаконную любовь (брак, супружескую верность, целомудрие, прелюбодеяние, проституцию), чрезвычайно разнообразные формы взаимного ухаживания с целью и в интересах осуществления половой потребности, обычаи и нравы, в виде которых они кристаллизовались, представления о красоте, радости, наслаждении и способы выражения чувства (язык, философия, право и т. д.), а также, конечно, отражение половой жизни в искусстве.
Так как история половой нравственности представляет самую важную часть истории человечества, то в каждой стране мы находим множество свидетельствующих о ней документов. В них сочетается самое величественное и блестящее, самое утонченное и безобразное, самое нелепое и тривиальное, что когда-либо измыслил и создал дух человека. В них обнаруживаются его самые смелые мысли, самые вдохновенные настроения и — самые печальные заблуждения.
Несмотря на такое фундаментальное значение истории половой нравственности для человека, стремящегося к всестороннему познанию прошлого, несмотря на богатство источников, находящихся в распоряжении исследователя, современные ученые пока еще пренебрегают этой областью истории нравов. В немецкой научной литературе значительные труды существуют только о нравах Древнего Рима. Нет ни одной истории нравов, которая рассматривала и объясняла бы изменения, происшедшие во взглядах и нормах половой нравственности, начиная со времен средневековья. У нас имеются только собрания материалов и несколько кратких монографий, посвященных отдельным специальным вопросам, странам и эпохам. Вот и все.
Но даже среди этих работ нет ни одной, которая основывалась бы на современных научных предпосылках.
Моя работа должна до известной степени заполнить этот пробел. Хотя она рассчитана на три тома, я прекрасно понимаю, что не смогу охватить весь материал. Чтобы написать полную историю нравов, необходима целая армия специалистов, которая создала бы библиотеку трудов. К сожалению, таких специалистов еще не существует. А те немногие, которые имеются, совершенно не понимают внутреннюю связь исторических явлений.
В истории половой нравственности сосредоточено, как уже было сказано, и самое высокое, и самое низкое. Однако, по ряду причин, она будет скорее историей безнравственности.
Это понятно, потому что то, что считается в каждую эпоху «нравственным», заключается преимущественно в том, чего не делают, т. е. в том, что не поддается изображению, тогда как безнравственность обнаруживается в определенных поступках, т. е. в том, что можно изобразить. Поэтому в истории половой нравственности отрицательное часто является единственно положительным. История нравов, стремящаяся отразить и исчерпывающим образом обосновать все проблемы половой нравственности, не смущаясь мелочными и трусливыми соображениями, конечно, не чтение для школьников и школьниц, но ведь серьезные научные исследования для них и не предназначены.
Те документы из находящегося в моем распоряжении богатого материала, которые не годятся для широкой публики или слишком перегрузили бы изложение, которые не представляют научную ценность, я позже издам в отдельном томе.
В заключение я должен заметить следующее.
Мое имя в литературе тесно связано с историей карикатуры. Многие из моих читателей могут подумать, что я меняю область своих интересов. Такое мнение было бы неправильным. Я считаю свои работы по истории карикатуры далеко не законченными, но и теперь я не сворачиваю со своего пути. Вся моя научная деятельность была направлена на изучение истории культуры. В своих трудах я хотел осветить историческое развитие общества. На этом пути мне встретилась карикатура. Когда мне стало ясно, что она позволяет понять и уяснить себе события и лица с такой отчетливостью, как никакой иной документ, мне захотелось изъять карикатуры из безмолвных папок, где они в продолжение столетий покоились неоцененные и потому игнорируемые. По мере того как накапливался материал, я все больше убеждался, что карикатура — важное средство исторической реконструкции. Так родилась мысль написать историю этих своеобразных документов, отражающих дух времени.
Относясь к карикатуре как историк культуры, видя в ней самый правдивый источник для знакомства с нравами, событиями и личностями прошлого и настоящего, я сознательно оставлял художественную сторону вопроса лишь на втором плане. Понимая всю важность этого аспекта, я всегда считал его изучение специальной задачей эстетов. Я же не специалист по эстетике.
Издавая свою «Историю нравов», я не отказываюсь от увлечения карикатурой, как не изменял я и моим культурно-историческим интересам, когда задался целью написать историю карикатуры.
Мои труды по истории карикатуры и моя «История нравов» лежат в одной и той же плоскости, вращаются в общем круге идей.
Эдуард Фукс
Берлин — Целендорф
Весной 1909 г.

Введение
 амая главная задача истории нравов — показать, как люди когда-то жили, реконструировать прошлое путем отбора и сочетания характерных для каждой эпохи фактов. Чем нагляднее и выразительнее предстанет это прошлое перед читателем, тем лучше решена задача. Это касается как трудов, охватывающих всю область нравов, так и работ, затрагивающих, подобно нашей, только часть ее — область половой морали.
Реконструировать прошлое — такова цель нашего исследования.
Видя в этом свою главную задачу, историк нравов никогда не должен, однако, применять к этому прошлому определенный нравственный критерий. Первый вывод, к которому исследователь приходит в своей работе, заключается в том, что в истории нет вечных, абсолютных масштабов, что они находятся в процессе постоянного видоизменения. Можно поэтому всегда говорить только об относительной нравственности или безнравственности… Абсолютной безнравственностью может считаться только нарушение социальных инстинктов общества, нарушение, так сказать, законов природы. Нет такого нравственного закона, который независимо от пространства и времени регулировал бы наши поступки в пространстве и времени.
Если это верно относительно всего комплекса морали, то еще в большей степени — относительно половой морали, которая чаще всего и легче всего менялась. Эта постоянная изменчивость общих нравственных воззрений подчинена определенным законам, так что каждое столетие, естественно, требует иных моральных оценок. Было бы поэтому наивно и нелепо применять к прошлому современные критерии. Застывшее и затвердевшее нельзя оценивать в тех же масштабах, что и текущее, изменчивое. Тот, кто ссылается на «вечные общеобязательные нравственные нормы», существующие вне времени и пространства, «присущие природе человека», может только прославлять или осуждать и никогда не познает вещи и людей в их историческом бытии. Отрицание вечной, неизменной нравственной идеи является, таким образом, необходимой предпосылкой правильного, т. е. научного, познания явлений прошлого, в данном случае — области нравов.
Не признавать общеобязательные нравственные критерии — не означает отрицать роль морали как двигающего фактора истории. Мы не оправдываем все явления прошлого, не стремимся к их апологии. Непризнание неизменной нравственной идеи как вечного мирового закона, обязательного для всех людей, классов, народов и времен, — не только метод, но и необходимая предпосылка, позволяющая познать вещи, «добро и зло» в их исторической обусловленности. Вскрывая эту обусловленность, категорическую неизбежность истории, мы еще не делаем вывода, что, так как историческая необходимость приводила к таким и таким-то явлениям, эти последние оправданы перед судом истории. Ведь мы же не оправдываем убийцу, если даже и понимаем внутреннюю необходимость его поступка. Наша историческая точка зрения приводит к чрезвычайно важному результату: к истинно научному пониманию прошлого и к выяснению более высокой исторической логики.
Целью познания прошлого и историографии, т. е. систематического изучения того, что было и что есть, и нахождения соединительных звеньев, связующих то, что было, с тем, что есть, является отнюдь не удовлетворение любознательности, хотя бы даже самой «благородной», как полагают многие, а прежде всего познание законов, которым подчинены все явления. Только точное объяснение истории позволит нам лучше создавать историю. Именно в этом главная цель науки: оплодотворять деятельность, влиять на настоящее и будущее, помогать сознательному и планомерному историческому творчеству.
Если историческое понимание вещей приводит нас к убеждению, что нравственные нормы постоянно меняются и вопрос «что такое нравственность?» требует самых разнообразных ответов, то перед исследователем истории нравов стоят две задачи. Во-первых, установить связь между нравственным поведением или господствующими нравственными воззрениями и общественным бытием людей и, во-вторых, обозначить те законы, которым подчинена в каждом отдельном случае нравственность, и те факторы, которые определяют нравственные представления каждой эпохи.
Простое бессистемное накопление фактов еще не приводит к точной и объемной реконструкции прошлого. Это значит, что все факты, анализируемые исследователем, должны быть внутренне связаны исторической обусловленностью. Только знание исторических закономерностей позволяет по отдельным фактам воссоздать прошлое.
Произвольно приведенные факты, как бы они в отдельности ни были интересны и замечательны, никогда не воспроизводят точной и всесторонней картины прошлого. Так куча камней, хотя бы драгоценных и художественно отделанных, не превращается в фантазии в величественное сооружение или ряд колес, ремней и рычагов — в машину. Во всех этих примерах отдельные части должны быть органически связаны между собой, должны быть подобраны и соединены по законам, определившим их особую форму и их особое место.
Найти внутреннюю связь и установить факторы, определявшие нравы людей, — вот первый шаг в построении истории нравов, претендующей быть больше чем простым собранием занимательных анекдотов.
Исследованию этих вопросов мы и посвятим первую главу, чтобы, с одной стороны, подвести под нашу работу твердый фундамент, а с другой — дать читателю необходимую, на наш взгляд, руководящую нить. Эта глава должна ограничиться самыми общими положениями, так как цель нашего исследования — не теоретический анализ, а наглядное описание фактов. Мы дадим поэтому только самый сжатый абрис. Первая глава должна быть только путеводителем, картой для ориентировки, снабженной сжатыми пояснениями.
Необходимо указать также те средства, при помощи которых мы должны решить задачу реконструкции нравов отдельных народов и социальных слоев в разные эпохи.
Решение подобной задачи должно базироваться на возможно широком использовании современных документов. Материалом служат как литературные памятники, так и пластические изображения лиц, вещей и событий. Только если мы дадим возможность эпохе высказаться самой, на ее собственном языке, на ее жаргоне, путем ею же созданных сравнений и т. д., и притом как можно чаще и как можно подробнее, она воскреснет к жизни так, что нам будет казаться, что мы сами участники этой жизни.
Благодаря нашему историческому методу, мы сможем, как с высокой трибуны, обозреть целое и в каждом отдельном случае уловить его связь с общим. Необходимо привлечь все документы, в которых отражаются нравственные воззрения каждой эпохи и различных социальных слоев, все, что дает о них наглядное представление. Такими литературными документами являются: всевозможные сообщения, указы, запрещения, описания обычаев, игр, праздников, а также художественные произведения: стихотворения, шванки[1], новеллы, пьесы как светского, так и церковного характера. Подобные документы мы будем привлекать как можно чаще, чтобы обосновать и углубить наше изложение. То же надо сказать и о современных пластических изображениях, которые нередко оказываются важнее литературных документов. В рисунке и картине мы видим самое надежное средство объемной реконструкции прошлого. Кроме того, современная картина — лучшее средство проверки литературных данных. Картина — это самый ясный и самый простой исторический документ. Достаточно привести один пример. Как сложно описать словесно даже простую моду так, чтобы читатель получил о ней точное представление? Каждый представляет ее по-своему. Сложную моду описать еще труднее. То же надо сказать о целом ряде других явлений: о трактирном быте, о праздниках, о способах ухаживания — словом, обо всем. Насколько легче составить верное представление в том случае, когда рядом находится картина выразительная и лишенная субъективности.
Ценность пластического комментария состоит не только в этом. Картина обладает еще одним достоинством. Каждое наглядное изображение вызывает в зрителе бесконечный ряд ассоциаций, о которых автор часто сам не думал или которые он игнорировал ради более ясного и простого изображения предмета. Сотни картин воспроизводят не отдельную черту, не отдельное явление из эпохи их возникновения, а охватывают целый мир, целый комплекс характерных фактов, следовательно, часто сами являются целой историей нравов, из которой каждый умеющий видеть может почерпнуть все новые данные. Картина не только более простой, но и более богатый документ.
амая главная задача истории нравов — показать, как люди когда-то жили, реконструировать прошлое путем отбора и сочетания характерных для каждой эпохи фактов. Чем нагляднее и выразительнее предстанет это прошлое перед читателем, тем лучше решена задача. Это касается как трудов, охватывающих всю область нравов, так и работ, затрагивающих, подобно нашей, только часть ее — область половой морали.
Реконструировать прошлое — такова цель нашего исследования.
Видя в этом свою главную задачу, историк нравов никогда не должен, однако, применять к этому прошлому определенный нравственный критерий. Первый вывод, к которому исследователь приходит в своей работе, заключается в том, что в истории нет вечных, абсолютных масштабов, что они находятся в процессе постоянного видоизменения. Можно поэтому всегда говорить только об относительной нравственности или безнравственности… Абсолютной безнравственностью может считаться только нарушение социальных инстинктов общества, нарушение, так сказать, законов природы. Нет такого нравственного закона, который независимо от пространства и времени регулировал бы наши поступки в пространстве и времени.
Если это верно относительно всего комплекса морали, то еще в большей степени — относительно половой морали, которая чаще всего и легче всего менялась. Эта постоянная изменчивость общих нравственных воззрений подчинена определенным законам, так что каждое столетие, естественно, требует иных моральных оценок. Было бы поэтому наивно и нелепо применять к прошлому современные критерии. Застывшее и затвердевшее нельзя оценивать в тех же масштабах, что и текущее, изменчивое. Тот, кто ссылается на «вечные общеобязательные нравственные нормы», существующие вне времени и пространства, «присущие природе человека», может только прославлять или осуждать и никогда не познает вещи и людей в их историческом бытии. Отрицание вечной, неизменной нравственной идеи является, таким образом, необходимой предпосылкой правильного, т. е. научного, познания явлений прошлого, в данном случае — области нравов.
Не признавать общеобязательные нравственные критерии — не означает отрицать роль морали как двигающего фактора истории. Мы не оправдываем все явления прошлого, не стремимся к их апологии. Непризнание неизменной нравственной идеи как вечного мирового закона, обязательного для всех людей, классов, народов и времен, — не только метод, но и необходимая предпосылка, позволяющая познать вещи, «добро и зло» в их исторической обусловленности. Вскрывая эту обусловленность, категорическую неизбежность истории, мы еще не делаем вывода, что, так как историческая необходимость приводила к таким и таким-то явлениям, эти последние оправданы перед судом истории. Ведь мы же не оправдываем убийцу, если даже и понимаем внутреннюю необходимость его поступка. Наша историческая точка зрения приводит к чрезвычайно важному результату: к истинно научному пониманию прошлого и к выяснению более высокой исторической логики.
Целью познания прошлого и историографии, т. е. систематического изучения того, что было и что есть, и нахождения соединительных звеньев, связующих то, что было, с тем, что есть, является отнюдь не удовлетворение любознательности, хотя бы даже самой «благородной», как полагают многие, а прежде всего познание законов, которым подчинены все явления. Только точное объяснение истории позволит нам лучше создавать историю. Именно в этом главная цель науки: оплодотворять деятельность, влиять на настоящее и будущее, помогать сознательному и планомерному историческому творчеству.
Если историческое понимание вещей приводит нас к убеждению, что нравственные нормы постоянно меняются и вопрос «что такое нравственность?» требует самых разнообразных ответов, то перед исследователем истории нравов стоят две задачи. Во-первых, установить связь между нравственным поведением или господствующими нравственными воззрениями и общественным бытием людей и, во-вторых, обозначить те законы, которым подчинена в каждом отдельном случае нравственность, и те факторы, которые определяют нравственные представления каждой эпохи.
Простое бессистемное накопление фактов еще не приводит к точной и объемной реконструкции прошлого. Это значит, что все факты, анализируемые исследователем, должны быть внутренне связаны исторической обусловленностью. Только знание исторических закономерностей позволяет по отдельным фактам воссоздать прошлое.
Произвольно приведенные факты, как бы они в отдельности ни были интересны и замечательны, никогда не воспроизводят точной и всесторонней картины прошлого. Так куча камней, хотя бы драгоценных и художественно отделанных, не превращается в фантазии в величественное сооружение или ряд колес, ремней и рычагов — в машину. Во всех этих примерах отдельные части должны быть органически связаны между собой, должны быть подобраны и соединены по законам, определившим их особую форму и их особое место.
Найти внутреннюю связь и установить факторы, определявшие нравы людей, — вот первый шаг в построении истории нравов, претендующей быть больше чем простым собранием занимательных анекдотов.
Исследованию этих вопросов мы и посвятим первую главу, чтобы, с одной стороны, подвести под нашу работу твердый фундамент, а с другой — дать читателю необходимую, на наш взгляд, руководящую нить. Эта глава должна ограничиться самыми общими положениями, так как цель нашего исследования — не теоретический анализ, а наглядное описание фактов. Мы дадим поэтому только самый сжатый абрис. Первая глава должна быть только путеводителем, картой для ориентировки, снабженной сжатыми пояснениями.
Необходимо указать также те средства, при помощи которых мы должны решить задачу реконструкции нравов отдельных народов и социальных слоев в разные эпохи.
Решение подобной задачи должно базироваться на возможно широком использовании современных документов. Материалом служат как литературные памятники, так и пластические изображения лиц, вещей и событий. Только если мы дадим возможность эпохе высказаться самой, на ее собственном языке, на ее жаргоне, путем ею же созданных сравнений и т. д., и притом как можно чаще и как можно подробнее, она воскреснет к жизни так, что нам будет казаться, что мы сами участники этой жизни.
Благодаря нашему историческому методу, мы сможем, как с высокой трибуны, обозреть целое и в каждом отдельном случае уловить его связь с общим. Необходимо привлечь все документы, в которых отражаются нравственные воззрения каждой эпохи и различных социальных слоев, все, что дает о них наглядное представление. Такими литературными документами являются: всевозможные сообщения, указы, запрещения, описания обычаев, игр, праздников, а также художественные произведения: стихотворения, шванки[1], новеллы, пьесы как светского, так и церковного характера. Подобные документы мы будем привлекать как можно чаще, чтобы обосновать и углубить наше изложение. То же надо сказать и о современных пластических изображениях, которые нередко оказываются важнее литературных документов. В рисунке и картине мы видим самое надежное средство объемной реконструкции прошлого. Кроме того, современная картина — лучшее средство проверки литературных данных. Картина — это самый ясный и самый простой исторический документ. Достаточно привести один пример. Как сложно описать словесно даже простую моду так, чтобы читатель получил о ней точное представление? Каждый представляет ее по-своему. Сложную моду описать еще труднее. То же надо сказать о целом ряде других явлений: о трактирном быте, о праздниках, о способах ухаживания — словом, обо всем. Насколько легче составить верное представление в том случае, когда рядом находится картина выразительная и лишенная субъективности.
Ценность пластического комментария состоит не только в этом. Картина обладает еще одним достоинством. Каждое наглядное изображение вызывает в зрителе бесконечный ряд ассоциаций, о которых автор часто сам не думал или которые он игнорировал ради более ясного и простого изображения предмета. Сотни картин воспроизводят не отдельную черту, не отдельное явление из эпохи их возникновения, а охватывают целый мир, целый комплекс характерных фактов, следовательно, часто сами являются целой историей нравов, из которой каждый умеющий видеть может почерпнуть все новые данные. Картина не только более простой, но и более богатый документ.

Опасность посещения домов терпимости. XVII в.
Отсюда неизбежно следует, что история нравов, поставившая своей целью показать, каков был внешний вид явлений, не только настоятельно нуждается в пластических документах как средстве верного и точного представления прошлого, но и не может обойтись без этого материала. Во всяком случае, самые важные выводы исследователь обязан подкрепить картинами. Вот почему наряду с литературными документами мы будем пользоваться и всевозможными наглядными изображениями: иллюстрациями, взятыми из книг, открытками, картинами мод, художественными произведениями, портретами, научными иллюстрациями, бытовыми картинами, карикатурами и т. д.

Книжная иллюстрация. 1648 г.
Бытовые картины будут и должны играть главную роль, хотя существует и мнение, что пользоваться ими как документами времени, как доказательствами можно только с большими ограничениями. Жанристы преувеличивали и преувеличивают как положительные, так и отрицательные стороны жизни, все равно — работали ли художники кистью или карандашом. Картина эпохи, нарисованная бытописателем нравов, обычно изображает не средние явления, а крайности. Однако истина чаще всего и скрывается не в золотой середине, а именно в крайностях. Поэтому в нашей работе мы будем часто использовать карикатуры, которые лучше всего воплощают эту тенденцию. Читателя же мы хотели бы предупредить, чтобы он при оценке этих произведений сатиры не давал сбить себя с толку расхожими суждениями: «с одной стороны, это так, а с другой стороны, это не так». Такую точку зрения часто применяют к карикатуре, утверждая, что «нравственность доброго старого времени, уж конечно, не была столь испорченной, как это заблагорассудилось изобразить современным моралистам и сатирикам». Сатирические карикатуры при этом считают значительным преувеличением, свидетельствующим скорее о склонности XIV, XV и XVI вв. к грубым шуткам, чем о самой жизни и т. д. Такая оценка может казаться объективной, однако на самом же деле она свидетельствует о полном непонимании сущности карикатуры, непонимании того, что в ней выражается и что в ней стремится оформиться. Сущность карикатуры, несомненно, преувеличение. Несомненно, — сошлемся на классический пример, — никогда деревенский праздник не выливался в форму такого вакхического безумия, такого необузданного эротизма, как это изображено так убедительно Рубенсом на его великолепной картине «Деревенский праздник», хранящейся в Лувре, — одной из самых смелых карикатур, какие знает, история. Однако как раз такие картины отличаются особенной правдивостью, и причем не вопреки своей преувеличенности, а именно благодаря ей. Преувеличивая, художник обнажает самое ядро явления, отбрасывает все покровы, способные ввести в заблуждение. Благодаря количественному и качественному подчеркиванию главных частей предмета обнаруживается истинная сущность, и притом так наглядно, что ее уже нельзя игнорировать, нельзя пройти мимо нее. Самый близорукий взгляд видит, о чем идет речь, самый неповоротливый ум понимает внутреннюю тайну явления. Все это создается преувеличением. И потому истина не столько в золотой середине, сколько в крайностях. Если подвести итог всему сказанному о ценности современных исследуемой эпохе документов, то мы придем к следующему выводу: каждая эпоха сама пишет свою историю нравов. Она создает ее во всех тех формах, в которых обнаруживается ее творчество. Все равно, выступала ли она в религиозном облачении или в пестрой одежде необузданной жизнерадостности, — всегда за этими внешними проявлениями скрывается она, эпоха, ее специфическая человечность. Наша задача — расшифровать и истолковать созданные каждой эпохой иероглифы, на языке которых она написала свою историю. Эту задачу мы и попытаемся здесь решить.

 Происхождение и сущность нравственности
Происхождение и сущность нравственности
Происхождение и основа единобрачия
 ся наша культура со всеми ее завоеваниями служит институту частной собственности. Все основывается на частной собственности, все связано с ней — и возвышенные проявления человеческого духа, и низменные, мелочные стороны будничной жизни. Интересы частной собственности обусловили и создали также основную форму половой морали, а именно моногамию, единобрачие.
Не только раньше, но и теперь единобрачие считается плодом индивидуальной половой любви. Это грубейшая ошибка, так как ни само единобрачие, ни цель, которую оно преследует, никогда ничего общего с индивидуальной любовью не имели и в лучшем случае стремились на нее опереться. Единобрачие не было созданием индивидуальной любви и осуществило этот идеал лишь временно, в том или другом классе. Моногамия выросла из совсем других культурных факторов и потребностей. Как исчерпывающим образом доказал Льюис Г. Морган в своей теории эволюции семьи, единобрачие было следствием концентрации значительных богатств в одних руках — и притом в руках мужчины — и желания передать эти богатства детям именно этого, и никакого другого, мужчины. Женщина должна была стать матерью детей, относительно которых отец мог быть убежден, что именно он их произвел. Греки, у которых впервые появилось единобрачие, видели в этом его исключительную цель. Необходимо уже здесь подчеркнуть, что в единобрачии следует видеть не результат примирения мужчины и женщины, а еще менее — высшую форму брака, а, как потом будет выяснено, «провозглашение полового антагонизма, совершенно неизвестного доисторическому человечеству».
Таковы причины и цель единобрачия. Внутренняя логика этой формы полового общения сводится к следующему требованию: половые сношения должны ограничиться сношениями между одним мужчиной и одной женщиной, между одной женщиной и одним мужчиной, и притом исключительно в рамках соединяющего их брака. Таково было бы логическое требование, предъявляемое к человеку институтом единобрачия.
Несомненно, официально такой закон и провозглашался, но он всегда был обязателен только для женщины, для мужчины он во все времена имел в лучшем случае лишь формальное значение.
Такая откровенная двойственность выглядит странной. Но это только мнимое противоречие. На самом деле, как нетрудно увидеть, это не непримиримое противоречие, а «естественный порядок вещей». Родившись не из индивидуальной половой любви, основываясь на условности, единобрачие представляет такую форму семьи, которая опирается не на естественные, а на экономические факторы.
Так как этими экономическими предпосылками являлись — и еще теперь являются — хозяйственные интересы мужчины, то они должны были привести к принципиальному порабощению одного пола другим, а именно к господству в браке мужчины и неразрывно с ним связанному угнетению женщины. Происхождение частной собственности требовало только единобрачия женщины как средства получить законных наследников. А открытой или скрытой полигамии мужчин ничто не препятствовало. Так как в браке мужчина представляет собой господствующий класс, а женщина — угнетенный и эксплуатируемый, то мужчина всегда был единственным законодателем, издававшим законы в своих собственных интересах. Почти всегда строго требуя от женщины целомудрия, почти всегда объявляя неверности женщины величайшим преступлением, он в то же время всегда ставил своим собственным вожделениям лишь самые примитивные преграды. Все это не более и не менее как внутренняя необходимость явления и поэтому «естественный порядок вещей». Из этого противоречия, однако, выросло нечто, что не входило в планы людей, что также сделалось «естественным порядком вещей», — месть изнасилованной природы. Эта месть природы обнаруживается в двух неизбежных и неотделимых от нашей культуры явлениях. Это — адюльтер и проституция, как два неизбежных социальных института.
Раб всегда мстит тем оружием, которым он был побежден и порабощен. На всех языках, в тысяче разнообразных форм и формул государство, церковь и общество твердили женщине на протяжении всей ее жизни, что, кроме мужа, никто другой не должен разделять ее ложа и касаться ее тела. Во все времена и у всех народов женщина мстила тем, что и другие мужчины разделяли ее ложе и обладали ее телом и что единственным точным доказательством отцовства может служить только моральное убеждение мужчины или, как выразился один остроумец: «Отцовство — это вопрос доверия». И это несмотря на социальную опалу в случае разоблачения обмана, несмотря на суровые и подчас варварские наказания, всегда угрожавшие отомстившей женщине. Эту жажду мести ничем нельзя искоренить, потому что, пока брак основан на условностях, он по существу своему противоестествен.
То же самое применимо и к проституции, этому, суррогату брака. Никакой закон не был в силах уничтожить ее, никакое варварское обращение не ставило ее жриц ни на один день вне общества. В худшем случае проституции приходилось иногда прятаться, и она пряталась в самом деле, хотя все заинтересованные и находили к ней дорогу. Эта ее неискоренимость совершенно логична. Частная собственность, опираясь на развитие торговли, присвоила всему товарный характер, свела все вещи к их денежной стоимости. Любовь стала таким же предметом торговли, как платье. Вот почему большинство браков носит характер торговой сделки, а проституция — это любовь в розницу, как циники грубо но довольно метко назвали ее в отличие от брака, этой оплаты оптом — неотделима от единобрачия, которое постоянно ее возрождает, сколько бы его апологеты ни осуждали ее.
В конце концов проституция является тем громоотводом, в котором моногамия нуждается, чтобы хотя бы частично обеспечить свою цель — законных наследников. Словом, с какой бы стороны мы ни подошли к вопросу, как ни печально признаться в этом, супружеская измена и проституция — неизбежные социальные явления; постоянный любовник жены, муж-рогоносец и проститутка — неизменные социальные типы. Другими словами: «таков естественный порядок вещей».
ся наша культура со всеми ее завоеваниями служит институту частной собственности. Все основывается на частной собственности, все связано с ней — и возвышенные проявления человеческого духа, и низменные, мелочные стороны будничной жизни. Интересы частной собственности обусловили и создали также основную форму половой морали, а именно моногамию, единобрачие.
Не только раньше, но и теперь единобрачие считается плодом индивидуальной половой любви. Это грубейшая ошибка, так как ни само единобрачие, ни цель, которую оно преследует, никогда ничего общего с индивидуальной любовью не имели и в лучшем случае стремились на нее опереться. Единобрачие не было созданием индивидуальной любви и осуществило этот идеал лишь временно, в том или другом классе. Моногамия выросла из совсем других культурных факторов и потребностей. Как исчерпывающим образом доказал Льюис Г. Морган в своей теории эволюции семьи, единобрачие было следствием концентрации значительных богатств в одних руках — и притом в руках мужчины — и желания передать эти богатства детям именно этого, и никакого другого, мужчины. Женщина должна была стать матерью детей, относительно которых отец мог быть убежден, что именно он их произвел. Греки, у которых впервые появилось единобрачие, видели в этом его исключительную цель. Необходимо уже здесь подчеркнуть, что в единобрачии следует видеть не результат примирения мужчины и женщины, а еще менее — высшую форму брака, а, как потом будет выяснено, «провозглашение полового антагонизма, совершенно неизвестного доисторическому человечеству».
Таковы причины и цель единобрачия. Внутренняя логика этой формы полового общения сводится к следующему требованию: половые сношения должны ограничиться сношениями между одним мужчиной и одной женщиной, между одной женщиной и одним мужчиной, и притом исключительно в рамках соединяющего их брака. Таково было бы логическое требование, предъявляемое к человеку институтом единобрачия.
Несомненно, официально такой закон и провозглашался, но он всегда был обязателен только для женщины, для мужчины он во все времена имел в лучшем случае лишь формальное значение.
Такая откровенная двойственность выглядит странной. Но это только мнимое противоречие. На самом деле, как нетрудно увидеть, это не непримиримое противоречие, а «естественный порядок вещей». Родившись не из индивидуальной половой любви, основываясь на условности, единобрачие представляет такую форму семьи, которая опирается не на естественные, а на экономические факторы.
Так как этими экономическими предпосылками являлись — и еще теперь являются — хозяйственные интересы мужчины, то они должны были привести к принципиальному порабощению одного пола другим, а именно к господству в браке мужчины и неразрывно с ним связанному угнетению женщины. Происхождение частной собственности требовало только единобрачия женщины как средства получить законных наследников. А открытой или скрытой полигамии мужчин ничто не препятствовало. Так как в браке мужчина представляет собой господствующий класс, а женщина — угнетенный и эксплуатируемый, то мужчина всегда был единственным законодателем, издававшим законы в своих собственных интересах. Почти всегда строго требуя от женщины целомудрия, почти всегда объявляя неверности женщины величайшим преступлением, он в то же время всегда ставил своим собственным вожделениям лишь самые примитивные преграды. Все это не более и не менее как внутренняя необходимость явления и поэтому «естественный порядок вещей». Из этого противоречия, однако, выросло нечто, что не входило в планы людей, что также сделалось «естественным порядком вещей», — месть изнасилованной природы. Эта месть природы обнаруживается в двух неизбежных и неотделимых от нашей культуры явлениях. Это — адюльтер и проституция, как два неизбежных социальных института.
Раб всегда мстит тем оружием, которым он был побежден и порабощен. На всех языках, в тысяче разнообразных форм и формул государство, церковь и общество твердили женщине на протяжении всей ее жизни, что, кроме мужа, никто другой не должен разделять ее ложа и касаться ее тела. Во все времена и у всех народов женщина мстила тем, что и другие мужчины разделяли ее ложе и обладали ее телом и что единственным точным доказательством отцовства может служить только моральное убеждение мужчины или, как выразился один остроумец: «Отцовство — это вопрос доверия». И это несмотря на социальную опалу в случае разоблачения обмана, несмотря на суровые и подчас варварские наказания, всегда угрожавшие отомстившей женщине. Эту жажду мести ничем нельзя искоренить, потому что, пока брак основан на условностях, он по существу своему противоестествен.
То же самое применимо и к проституции, этому, суррогату брака. Никакой закон не был в силах уничтожить ее, никакое варварское обращение не ставило ее жриц ни на один день вне общества. В худшем случае проституции приходилось иногда прятаться, и она пряталась в самом деле, хотя все заинтересованные и находили к ней дорогу. Эта ее неискоренимость совершенно логична. Частная собственность, опираясь на развитие торговли, присвоила всему товарный характер, свела все вещи к их денежной стоимости. Любовь стала таким же предметом торговли, как платье. Вот почему большинство браков носит характер торговой сделки, а проституция — это любовь в розницу, как циники грубо но довольно метко назвали ее в отличие от брака, этой оплаты оптом — неотделима от единобрачия, которое постоянно ее возрождает, сколько бы его апологеты ни осуждали ее.
В конце концов проституция является тем громоотводом, в котором моногамия нуждается, чтобы хотя бы частично обеспечить свою цель — законных наследников. Словом, с какой бы стороны мы ни подошли к вопросу, как ни печально признаться в этом, супружеская измена и проституция — неизбежные социальные явления; постоянный любовник жены, муж-рогоносец и проститутка — неизменные социальные типы. Другими словами: «таков естественный порядок вещей».

Изменчивость половой морали
 ри поверхностном взгляде нам могут возразить. Предположим, это так. Но из этого только следует, что так всегда было и так всегда будет, пока существует мир. Это не более как врожденная порочность и греховность людей. С такими рассуждениями встречаешься на каждом шагу, однако они настолько же дешевы, насколько и неверны. Будет ли такое состояние вечным — в данном случае вопрос второстепенный. Во всяком случае, он лишь логическое следствие, вытекающее из ответа на вопрос, в самом ли деле так всегда было. Этим последним вопросом мы и займемся в первую очередь, на него постараемся ответить, чтобы лишь потом обратиться к первому вопросу и обосновать его возможные последствия.
Разумеется, «так» было всегда. Но если присмотреться поближе к этому порядку вещей, то нетрудно заметить, что постоянное все же менялось. Перемены эти касались не только общепризнанных нравов. Обнаруживается так много однородных отклонений от основного закона обусловленной единобрачием половой морали, что из них создается типическая в каждом отдельном случае картина эпохи, резко отличающаяся от любых других.
Так как этот факт служит как раз исходной точкой систематической истории нравов, то мы начнем с того, что приведем ряд характерных примеров из различных областей половой морали для иллюстрации нашего положения.
Примеры эти будут касаться различных оценок супружеской верности, добрачного целомудрия женщин, проституции, важнейших понятий приличия и т. д. В последующих главах мы представим подробный комментарий к этим примерам.
По поводу различных оценок, дававшихся супружеской верности, можно сказать следующее. В некоторые эпохи и в некоторых слоях общества высшее основное требование единобрачия, верность обоих супругов, серьезнейшим образом соблюдалось. Вместе с тем существовали эпохи и сословия, в которых это основное требование половой морали совершенно игнорировалось и за замужней женщиной признавалось право открыто иметь многих мужей, как за мужчиной право иметь многих жен. Иногда считалось, что муж и жена если и не публично, то по крайней мере перед своей совестью уже совершили прелюбодеяние, изменив друг другу лишь мысленно, когда иногда жену обвиняли в неверности за то, что она сказала несколько слов постороннему мужчине.
В другие времена женщине (даже той, которая носила на себе пояс девственности) разрешалось позволять ухажеру самые смелые жесты, даже поощрять его к ним, не нарушая тем супружеской верности, так как последняя ограничивалась самим половым актом. Бывали времена, когда муж был самым усердным сводником, ежедневно продававшим свою жену, а замужняя женщина — самой ловкой и деловитой проституткой, устраивавшей на своем супружеском ложе карьеру мужа, обезвреживавшей его конкурентов, выигрывавшей его процессы, удесятерявшей его состояние и т. д. С эпохами и классами, считавшими брак по любви высшим идеалом, соседствовали и такие, которые не считали любовь необходимым условием брака, которые были склонны видеть в любви даже нечто несовместимое с браком и смотрели на выбор жены с точки зрения простого расчета или простого производства детей. Древние греки, например, относились к браку именно так. Вот почему женщина у них должна была стать гетерой, чтобы иметь право быть подругой. Вот что по этому поводу сообщает историк С. В. Ешевский:
«В государственной жизни женщина, очевидно, не могла стоять наравне с мужчиной и никогда не стояла. Женщину в древних государствах не относили к свободным, полноценным гражданам… В свободной, блестящей Греции, в центре древней цивилизации, в Афинах, жена свободного афинянина не получала никакого образования, не существовала для общества, не видела мужчин, кроме своего мужа и ближайших родственников, и жила в особом отделении, часто охраняемом малосскими псами, прикованными к цепям у входа в женскую половину. Но и мужу она была необходима только для того, чтобы иметь детей. "Есть ли кто-нибудь, — спрашивает Сократ Критобула, — с кем бы ты говорил меньше, чем с твоей женой?" — "Никого, — отвечает Критобул, — а если и найдутся, то таких людей очень мало". То, что не мог дать свободному греку семейный круг, он искал в образованном, изящном обществе свободных или, лучше сказать, вольных женщин, не связанных семейными узами».
Одни эпохи превращали женщину в домашнее вьючное животное, делали из нее пожизненную домашнюю рабыню или терпеливую машину для детопроизводства, лишенную личной воли. Другие времена и сословия видели в ней избалованный предмет роскоши, любой каприз которой становится законом, или утонченное орудие наслаждения, задача которого состоит в том, чтобы доставлять мужу все те удовольствия, которыми ее предшественницы, всевозможные любовницы, радовали и приковывали его к себе. Наконец, были и такие времена, в которых муж и жена становились верными товарищами.
ри поверхностном взгляде нам могут возразить. Предположим, это так. Но из этого только следует, что так всегда было и так всегда будет, пока существует мир. Это не более как врожденная порочность и греховность людей. С такими рассуждениями встречаешься на каждом шагу, однако они настолько же дешевы, насколько и неверны. Будет ли такое состояние вечным — в данном случае вопрос второстепенный. Во всяком случае, он лишь логическое следствие, вытекающее из ответа на вопрос, в самом ли деле так всегда было. Этим последним вопросом мы и займемся в первую очередь, на него постараемся ответить, чтобы лишь потом обратиться к первому вопросу и обосновать его возможные последствия.
Разумеется, «так» было всегда. Но если присмотреться поближе к этому порядку вещей, то нетрудно заметить, что постоянное все же менялось. Перемены эти касались не только общепризнанных нравов. Обнаруживается так много однородных отклонений от основного закона обусловленной единобрачием половой морали, что из них создается типическая в каждом отдельном случае картина эпохи, резко отличающаяся от любых других.
Так как этот факт служит как раз исходной точкой систематической истории нравов, то мы начнем с того, что приведем ряд характерных примеров из различных областей половой морали для иллюстрации нашего положения.
Примеры эти будут касаться различных оценок супружеской верности, добрачного целомудрия женщин, проституции, важнейших понятий приличия и т. д. В последующих главах мы представим подробный комментарий к этим примерам.
По поводу различных оценок, дававшихся супружеской верности, можно сказать следующее. В некоторые эпохи и в некоторых слоях общества высшее основное требование единобрачия, верность обоих супругов, серьезнейшим образом соблюдалось. Вместе с тем существовали эпохи и сословия, в которых это основное требование половой морали совершенно игнорировалось и за замужней женщиной признавалось право открыто иметь многих мужей, как за мужчиной право иметь многих жен. Иногда считалось, что муж и жена если и не публично, то по крайней мере перед своей совестью уже совершили прелюбодеяние, изменив друг другу лишь мысленно, когда иногда жену обвиняли в неверности за то, что она сказала несколько слов постороннему мужчине.
В другие времена женщине (даже той, которая носила на себе пояс девственности) разрешалось позволять ухажеру самые смелые жесты, даже поощрять его к ним, не нарушая тем супружеской верности, так как последняя ограничивалась самим половым актом. Бывали времена, когда муж был самым усердным сводником, ежедневно продававшим свою жену, а замужняя женщина — самой ловкой и деловитой проституткой, устраивавшей на своем супружеском ложе карьеру мужа, обезвреживавшей его конкурентов, выигрывавшей его процессы, удесятерявшей его состояние и т. д. С эпохами и классами, считавшими брак по любви высшим идеалом, соседствовали и такие, которые не считали любовь необходимым условием брака, которые были склонны видеть в любви даже нечто несовместимое с браком и смотрели на выбор жены с точки зрения простого расчета или простого производства детей. Древние греки, например, относились к браку именно так. Вот почему женщина у них должна была стать гетерой, чтобы иметь право быть подругой. Вот что по этому поводу сообщает историк С. В. Ешевский:
«В государственной жизни женщина, очевидно, не могла стоять наравне с мужчиной и никогда не стояла. Женщину в древних государствах не относили к свободным, полноценным гражданам… В свободной, блестящей Греции, в центре древней цивилизации, в Афинах, жена свободного афинянина не получала никакого образования, не существовала для общества, не видела мужчин, кроме своего мужа и ближайших родственников, и жила в особом отделении, часто охраняемом малосскими псами, прикованными к цепям у входа в женскую половину. Но и мужу она была необходима только для того, чтобы иметь детей. "Есть ли кто-нибудь, — спрашивает Сократ Критобула, — с кем бы ты говорил меньше, чем с твоей женой?" — "Никого, — отвечает Критобул, — а если и найдутся, то таких людей очень мало". То, что не мог дать свободному греку семейный круг, он искал в образованном, изящном обществе свободных или, лучше сказать, вольных женщин, не связанных семейными узами».
Одни эпохи превращали женщину в домашнее вьючное животное, делали из нее пожизненную домашнюю рабыню или терпеливую машину для детопроизводства, лишенную личной воли. Другие времена и сословия видели в ней избалованный предмет роскоши, любой каприз которой становится законом, или утонченное орудие наслаждения, задача которого состоит в том, чтобы доставлять мужу все те удовольствия, которыми ее предшественницы, всевозможные любовницы, радовали и приковывали его к себе. Наконец, были и такие времена, в которых муж и жена становились верными товарищами.

Развратный старик. Гравюра
Такое же разнообразие находим мы и в принципиальной оценке женского целомудрия. Наряду с эпохами, придававшими девственности огромное значение, существовали такие, которые не только не прославляли, а осуждали невесту, если она в брачную ночь оказывалась еще нетронутой. Из этого делали вывод, что, очевидно, раньше никто не пожелал ею обладать, а это понижало ценность девушки, тогда как незаконные дети, напротив, иногда повышали ее ценность. Если были времена, в которые считалось для девушки позором, если ее хоть раз видели в сопровождении мужчины или она появилась в публичном месте без родителей, то в другие позволялось молодой девушке, достигшей половой зрелости, принимать в своей спальне на протяжении нескольких лет по ночам своего возлюбленного («пробные ночи», «коmmnachte»). И притом заметьте — не только одного. Без всякого вреда для своей репутации она имела право отвергнуть одного возлюбленного и отдать предпочтение другому, третьему, четвертому, если ее ожидания и требования не находили надлежащего удовлетворения. Ни ее доброе имя, ни ее супружеское счастье не терпели никакого ущерба от того, что она месяцами давала каждому из своих любовников возможность доказать, обладает ли он теми качествами, которых она требует от будущего мужа. Те же самые взгляды позволяли достигшему половой зрелости юноше убедиться именно этим путем в физических достоинствах выбравшей его девушки, предоставляли ему право решить в зависимости от этого опыта, намерен ли он вступить с ней в брак или нет. Он также имел право провести несколько пробных ночей у целого ряда девушек, и то обстоятельство, что эти пробные ночи не исключали половых отношений, не связывало его с данной девушкой. Некоторые романтики усмотрели в этих обычаях нечто безусловно идеальное. Это действительно так, если видеть в них базис здоровой индивидуальной половой любви, а не то, что в них хотели найти романтики, а именно чисто духовное и душевное общение полов. Для юноши и девушки половой акт был единственной целью, несмотря на препятствия, которые разнообразные подробности этого обычая создавали для юноши. Официальное положение в общественной жизни проституции также могло быть различным. Жрицу продажной любви иногда загоняли в самые темные углы, клеймили всеобщей ненавистью и презрением, на нее смотрели, как на прокаженную, одно дыхание которой будто бы способно заразить все окружающее и обратить в бегство всех «порядочных» людей. И только тайком, обходными путями могли к ней пробираться те, кто жаждал любви. Но бывали и такие эпохи, когда ее провозглашали лучшим украшением праздников жизни. У греков культ женщины сосредоточивался в гетере. Она — подруга мужчины, с которой он ведет философские беседы, которую он окружает роскошью и блеском, дружба и благосклонность которой делает ему честь, красоте которой поклоняется весь народ, тогда как к жене относились как к неизбежному и неудобному ярму и та была обязана терпеливо проживать свой век в уединенном гинекее[2], никому не показываясь на глаза, скромно довольствуясь остатками чувств мужа. Нечто похожее повторялось в эпоху Ренессанса, правда, проститутка уже не провозглашалась богиней, но и тогда куртизанка часто являлась в качестве подруги и украшения публичных праздников и увеселений. Когда город навещал какой-нибудь высокий гость, то красивейшие куртизанки даже раздевались и встречали князя в обнаженном виде у городской черты как лучшее наслаждение для его глаз. Эпоха абсолютизма возводила куртизанку на престол, и ее любовные ухищрения и кокетство превращали любой ее каприз в высший закон для общества и государства. Народ обязан был оказывать фаворитке государя высшие почести и гнуть перед ней шею, хоть она только что поднялась из грязи болот и низин…

Барр. Вино и любовь. Гравюра
Ограничимся пока этими немногими примерами характерных различий в отношении различных эпох к основным вопросам половой морали. Остановимся подробнее на примерах, касающихся второстепенных пунктов этого аспекта. Здесь различия бросаются в глаза еще резче. Достаточно вспомнить об изменениях языка, моды, чувства стыдливости, воспитания, искусства, нравственности, права и т. д. Мы ограничимся и в этой области самыми характерными доказательствами этой изменчивости, фактами, которые каждый легко сам может проконтролировать. О различных взглядах на главнейшие темы разговора между мужчинами, с одной стороны, и мужчинами и женщинами, с другой, достаточно будет сказать следующее. Бывали эпохи, когда не считалось аморальным, если мужчины, чаще всего публично, вели беседу на тему о грубых любовных приключениях, о недвусмысленных и откровенных похождениях, или пережитых, или слышанных от других. Достаточно указать на приблизительно триста фацетий[3] Поджо (1380–1459), почти исключительно посвященным таким темам. Это был главный материал бесед епископов и кардиналов при дворе Папы Мартина V специально для этой цели собиравшихся каждый день в определенном месте Папского дворца. Даже сами Папы, бывшие в первую очередь героями этих эротических шуток, часто участвовали в подобных беседах. Также бывали времена, когда мораль позволяла женщинам в беседах самые естественные вещи называть своими именами. Немецкие масленичные пьесы XIV и XV вв., которые кажутся нам чересчур непристойными, нравились не только мужчинам, но и женщинам. Женщины были не только слушательницами таких бесед, но сами спокойно могли в них участвовать и выбирать темой для своих шуток и рассказов самые интимные вещи. Они обсуждали тонкости искусства соблазнять, делились своим опытом в деле любви и т. д. Достаточно вспомнить новеллы Боккаччо, сто новелл жизнерадостной королевы Наваррской и другие аналогичные документы. Бывали эпохи, когда женщина придворных кругов могла присутствовать на спектаклях, изображавших эротические оргии. Примерами могут служить публичные представления любовных сцен обнаженными красавицами куртизанками и обнаженными атлетического сложения мужчинами… Как пример аналогичных простонародных увеселений можно привести шутовские и ослиные праздники, в которых фаллический маскарад и фаллические остроты играли главную роль. В иные времена мужчины и женщины имели право во время ухаживания пользоваться самыми откровенными словами и сравнениями. В другие эпохи (например, в конце XVII в., а в Германии — в эпоху, представленную в литературе силезской школой) беседа светского общества состояла из непрерывной цепи более или менее замаскированной порнографии. Каждое слово, каждая фраза имели свой скрытый порнографический смысл, и чем богаче контрастами был смысл того или другого слова, тем восторженнее ему аплодировали и тем восторженнее его переносили из салона в салон[4]. В этой области светское общество XVII в. и Второй империи достигло виртуозности. Высшим идеалом этих эпох была женщина, отдававшая предпочтение в разговоре различным двусмысленностям, и в глазах общества ее светское значение росло в прямой зависимости от ее фривольности, от ее способности пикантно произнести самое грубо-циничное выражение. Также было время, когда подвергался опале каждый мужчина, который осмелился бы произнести в обществе непристойное выражение, и предписывавшее женщине краснеть даже в том случае, если речь шла о самых невинных вещах. Самым ярким выражением этого настроения являлась та форма стыдливости, которая запрещала женщине называть те или другие части костюма или тела. Такие эпохи запрещали мужчине и женщине употреблять в обществе ряд самых невинных слов и фраз, потому что утонченная безнравственность вложила в них известную эротическую двусмысленность и все привыкли ее в них находить. Некоторые эпохи категорически запрещали женщине показываться постороннему человеку в неглиже, как бы скромно оно ни было, а тем более — принимать визиты лежа в постели или совершая свой туалет. А в другие эпохи женщина превращает самое интимное неглиже в туалет, предназначенный для приемов, принимает визитеров у постели — ruelle, как назывался проход около ее кровати, служивший в XVII в. настоящим корсо[5] для ее друзей и поклонников, — и находит совершенно естественным, что друг или посетитель становятся свидетелями ее туалета, откровенно и активноудовлетворяя при этом чувство эротической любознательности. Бывали и такие эпохи, которые разрешали мужчине и женщине вместе посещать баню.
Иногда хорошо любить — значит хорошо ненавидеть, а праведно ненавидеть — значит любить.Каждая эпоха полна противоречий. Что одному сословию кажется вполне естественным, у другого находится под строжайшим запретом, и наоборот. Еще ярче характеризует внутренние противоречия то обстоятельство, что женщине, которой запрещалось принимать постороннего мужчину даже в самом скромном неглиже, разрешалось надеть открытый бальный костюм, который позволял мужчине во время разговора, и особенно во время танца, удостовериться в ее физических достоинствах, выставленных напоказ; или что эта женщина имела полное право предстать перед мужчиной в купальном костюме, подчеркивающем ее обнаженность. Также много противоречий в эпохи, провозглашавшие, с одной стороны, все половое святыней, имеющей право обнаруживаться лишь в безмолвии брачного алькова, а с другой стороны, — побуждая женщину костюмом, походкой и жестами вести самую непристойную беседу со всем миром и, так сказать, провоцировать каждого встречного мужчину. Было время, когда для женщины ничего не могло быть неприличнее, как публично показаться беременной, когда это состояние позорило каждую незамужнюю женщину, на которую все смотрели с презрением, но, с другой стороны, бывали периоды, когда подчеркивались последствия полового общения, демонстративно навязывающие каждой женщине интересное положение, фабрикуя и пуская на рынок ventre a deux, a trois ou a quatre mois[6]. Порою женщине даже разрешалось являться в обнаженном виде, чтобы производить впечатление эротического чуда. В Х!У в., в эпоху Ренессанса, и в конце XVIII в., в эпоху Директории и Консульства, ей позволялось позировать совершенно обнаженной для портрета. Известны портреты Дианы Пуатье, герцогини Урбинской, сестры Наполеона, г-жи Рекамье и многих других дам. Ей разрешалось даже фигурировать на картине в момент любви. Эпоха Регентства позволяла художнику откидывать портьеры и занавески будуара и приглашать весь мир в свидетели самых интимных сцен. Другие эпохи разрешали женщине-краса-вице в костюме мадонны представлять публике эротическое зрелище. Достаточно вспомнить портрет Агнессы Со-рель в виде мадонны и другие картины. Эротические изображения создавались не только как произведения искусства, но и путем самой обыкновенной печатной техники. В наше время, например, каждая актриса имеет право сняться в роли Юдифи, Саломеи или Монны Ванны, выставить свой портрет в тысяче экземпляров во всех художественных магазинах и пустить его в оборот в розничную продажу. Если на подмостках она еще обязана воспользоваться прозрачным трико, то перед фотографом она может сбросить даже и его. История моды обнаруживает еще больше противоположностей, чем история языка и светских обычаев. Времена, когда общественная мораль принуждала каждую женщину закутаться с ног до головы, так что на первый взгляд трудно было отличить ее от мужчины, чередовались с эпохами, когда женщины всеми силами стремились обнажить свои физические достоинства. Одни эпохи языком моды говорили: «у женщины вообще нет ног», другие, напротив, развивали и культивировали ретруссе[7], при помощи которого женщины кокетливо обращают внимание на свои ноги. Такие эпохи создавали моду, которая принуждала к частым ретруссе. Так же появилась мода детально подчеркивать формы бедер, груди, очарование Венеры Каллипиги[8]. С этой целью упраздняли корсеты и жюпоны (нижние юбки), чтобы показать свои достоинства во всей красе. На закате средневековья и даже в период Ренессанса мужчина демонстративно подчеркивал свою мужественность путем так называемого гульфика, так что взгляд должен был прежде всего выделить эту часть костюма. Об этом сообщает немецкий историк Герман Вейс: «С курткой, которая спереди шнуровалась или застегивалась сверху донизу, носили узкие панталоны, закреплявшиеся вокруг бедер ремнями под полами куртки и так плотно обтягивавшие ногу, что отчетливо обрисовывали ее форму. Словно для усиления непристойности таких панталон, на месте обычного разреза на них, закрывавшегося полами платья, пришивали жесткий мешочек, который был явно на виду и нередко украшался бантами из лент или бахромой в том месте, где он прикреплялся к панталонам» В то же самое время женщины делают такое декольте в своем платье, что вся грудь выставляется напоказ, как товар. Или женщина действует еще утонченнее, обнажая только саму грудь, ограничиваясь лишь двумя вырезами на лифе, из которых справа и слева выступают демонстративно обе груди. Мода эпохи Директории наконец обнажила одинаково как мужчину, так и женщину. Мужчины носили плотно облегавшие ноги брюки, которые ясно обрисовывали каждый мускул и каждую часть тела. Женский костюм состоял из рубашки, которую часто изготовляли из прозрачной, газовой материи. Необходимо добавить, что в истории каждой страны часто бывали и бывают эпохи, когда и тайком и открыто все требования и законы частной и общественной морали игнорировались не только отдельными людьми, но и целыми сословиями; эпохи, когда именно в сознательном и преднамеренном игнорировании официально признанных нравственных законов, в пренебрежении чувством стыдливости, даже в нарушении законов природы усматривали цель всех желаний и высшее наслаждение. Двор Карла II в Англии, эпоха Регентства во Франции до крушения старого режима[9] — наиболее известные примеры таких периодов.Эразм из Роттердама

Морализующее изображение искушения. VII в.
Важно подчеркнуть, что каждая из этих вариаций, каждое из этих частных отклонений от основного закона половой морали, обусловленных единобрачием, не только не ощущались в свое время — то в более ограниченных, то в более широких слоях населения — как нечто безнравственное, а, напротив, признавались вполне нравственными. Эти отклонения не только допускались, но считались естественными и получали поэтому как в неписаных, так и в писаных нравственных законах соответствующее выражение, свою юридическую, философскую и общественную санкцию. То, что в одни времена считалось нравственным, потом часто квалифицировалось как безнравственное. Чтобы подтвердить это положение каким-нибудь историческим примером, укажем на противоположные взгляды двух стран в разные эпохи. Во второй половине XVII в. в Германии было принято видеть в браке не более как средство деторождения. Ближе всего к нравственному идеалу был такой брак, когда жена всегда была беременна, или кормила младенца, или носила под сердцем нового ребенка, когда предыдущий еще даже не научился лепетать. Напротив, во Франции XVIII в. (впрочем, не только в эту эпоху и не только в этой стране) подобный взгляд на брак считался безнравственным, и женщина определенных слоев имела санкционированное обществом право требовать от мужа, чтобы по крайней мере в первые годы брак был бездетным. Брак, от которого произошло «целое стадо детей», считался прямо неприличным. В первый из указанных периодов господствующая мораль признавала безнравственным то, что во второй период провозглашалось нравственным. Следует признать, что никогда официальный закон не давал женщине право на многомужество, на прелюбодеяние. Но никогда не существовало и закона, разрешавшего мужчине соблазнять чужих жен, и, однако, во все времена к этому «праву» относились весьма серьезно[10]. Надо иметь в виду, что законы публичной нравственности реже всего существовали в виде юридически оформленных параграфов и реже всего объединялись в виде законодательного кодекса. Эти законы выражались и выражаются во все времена в неофициальных, но тем не менее весьма ясных представлениях и требованиях общественной морали данной эпохи, той морали, которая фактически и оценивает поступки как нравственные и безнравственные. Эта общественная мораль и определяла, имеет ли мужчина право открыто предаться делу соблазна или же он обязан прибегнуть к уловкам[11], должна ли женщина изображать целомудренную или галантную, чтобы пользоваться уважением общества. В известные эпохи каждая хорошенькая женщина, сохранявшая мужу непоколебимую верность, навлекала на себя подозрение в каких-то скрытых недостатках. В других случаях малейшее уклонение мужчины или женщины от суровых пуританских обычаев неумолимо каралось. Этим и занималась общественная мораль. Она утверждала, что порядочная женщина с невиннейшим выражением лица обязана заниматься одной только математической проблемой — найти в своем костюме ту линию, которая позволит ей обнажиться, оставаясь при этом «приличной», или что женщина сочтет за личное оскорбление, если в ее присутствии произносится слово «брюки». Она предписывала, что единственной темой разговора между представителями обоих полов должна являться святость тайны, о которой позволено было распространяться самым циничным образом, что каждый мужчина имеет право сказать женщине: «Ты возбуждаешь во мне желания, я хочу взять тебя», а каждая женщина имеет право сказать мужчине: «Я хочу подействовать на твою чувственность, смотри, какая я соблазнительная, какой лакомый кусочек представляю я для твоего воображения». Важно, что все эти отклонения — сегодня одно, а завтра другое, — считались нравственными. Для научного подхода к явлениям необходимо ответить на следующий важный вопрос: почему это так? Потому что все эти различия — не случайности, существующие без всякой внутренней связи и которые можно было бы произвольно вычеркнуть из картины эпохи, нет, они неотделимые составные части и неизбежные последствия внутренней сущности социального бытия. Вот почему в этой сутолоке самых разнородных и друг другу взаимно противоречащих явлений царит строжайший порядок. Перед нами не бессмысленный хаос, не поддающийся учету, нет, всегда и повсюду, в каждой победоносно торжествующей тенденции обнаруживается строгая закономерность. Мы подошли, таким образом, к тому вопросу, который служит важнейшей предпосылкой, к вопросу, как возникает определенная общественная мораль, откуда она черпает свою категорическую мощь, какие факторы обусловливают вечные перемены и создают новые формы, — словом, к вопросу о законе неизбежных и вечных видоизменений постоянных, так сказать, элементов половой морали.

Законы изменений половой морали
 сли мы хотим выяснить, открыть этот закон, то нужно начать с того, чтобы установить связь между теорией и практикой нравственных норм каждой эпохи и современным им общественным бытием человечества.
Такое исследование покажет каждому, умеющему исторически смотреть на вещи, что господствующие нравственные воззрения не могут быть случайными и произвольными. Порой можно услышать наивные утверждения, что, ввиду невозможности установить какие-нибудь абсолютно достоверные нормы, в нравственных воззрениях господствуют случайность и произвол, и поэтому только низшие сословия обязаны с ними считаться. Напротив, l'homme superieur (великосветский ухажер) может свободно игнорировать эти остроты мировой истории. Нелепость такого воззрения обнаруживается сразу же, так как даже самый поверхностный анализ, подкрепленный самыми примитивными научными методами, доказывает неопровержимо, что в истории нет бессвязных фактов. Правда, случайные отклонения могут возникать в форме патологических явлений, но случайными не могут быть массовые явления, а именно о них идет речь, когда мы говорим о нравственном поведении людей.
Разве нет связи между развращенностью, чисто порнографической модой, порнографически насыщенной речью XVIII в. и общественной жизнью определенных сословий? А в XVII в. — между неумолимой нравственной строгостью английских пуритан, их мрачным однообразным костюмом, заимствованными из Библии оборотами речи и политическими и социальными условиями их существования и т. д.? Если не учитывать эту связь, то следует признать, что все могло бы быть как раз наоборот, в XVIII в. люди могли бы не придавать особенного значения эротическому воздействию женской груди, а в XVII в. в среде английских пуритан мог бы торжествовать победу утонченный культ физиологического наслаждения, культ эротической наготы. Ясно, что такая логика — это логика сумасшедшего дома. Вот почему она и брезжит в умах лишь тех этиков, которые не хотят учитывать исторические закономерности. В истории, как уже сказано, царит строжайшая гармония, неумолимая логика. Сотни связей и мостиков соединяют следствие и причину, причину и неизбежное, неустранимое последствие.
Для каждого исторически мыслящего человека эта связь на самом деле так очевидна, что нет надобности подробнее ее обосновывать. Ее можно принять как нечто несомненное. Несколько более серьезная подготовка требуется для того, чтобы понять, как а господствующих нравственных воззрениях и в соответствующем им нравственном поведении выражается вся сумма современного социального бытия людей.
В нравственном поведении и в соответствующих ему нравственных догмах отражается, как и в правовых воззрениях, в религии, в художественном творчестве и т. д., экономический базис эпохи. Все идеологии являются логическим отражением высоты развития, достигнутого производственным механизмом. Сюда относится степень общественного разделения труда, степень классового деления, распределение собственности, следовательно, отношения собственности, — словом, все, что подразумевается под понятием «экономической основы эпохи». Частная собственность, материальные интересы легли в основу и нашей половой морали. Поэтому половая мораль должна постоянно меняться, приспосабливаться к изменениям и к развитию частной собственности, которой подчинена вся область морали.
Конечно, половой инстинкт сам по себе не экономический фактор. Однако и экономическая основа общества определяет (речь идет здесь, конечно, о массовых явлениях), будет ли половой инстинкт толкать мужчину и женщину к ранним или поздним бракам, будет ли он требовать, как суррогат брака, постоянную любовницу или бродячую проститутку, благородную даму, ищущую наслаждения, или опустившуюся уличную девицу. Тот же экономический базис предрешает, будет ли женщина в браке хозяйкой, матерью или дамой, будет ли она выбрана как производительница детей или за ее представительные качества, будет ли она воспитываться как предмет роскоши или как неизбежная домашняя мебель. Экономический базис определяет, что важнее — супружеская ли верность или пикантные удовольствия половой жизни, в какой степени будет вестись борьба за мужчину или женщину, сотни или десятки тысяч женщин будут тщетно искать пути к брачному ложу и «упадут в объятия порока», как мило выражаются авторы душещипательных трактатов, и т. д.
Таковы главные категории, а от них зависят все второстепенные пункты половой морали, сопутствующие ей явления, такие, как мода, светский тон и т. д., ибо последние всегда не более как проявления, излучения первой или, другими словами, ее отдельные аспекты, принявшие духовную или материальную форму.
Материальные интересы являются базисом, определяющим началом — вот что главное. Необходимо прежде всего доказать правильность этого положения. Мы приведем несколько характерных примеров, в которых связь между половой моралью и экономическим состоянием общества сама бросается в глаза. В середине XVII в. в некоторых местностях Германии чаще, чем когда-либо, встречались случаи «бигамии», когда один мужчина имел двух законных жен, живущих с ним под одной крышей. Это была настоящая полигамия. Самое важное в этих полигамических связях то, что они существовали не тайком, не прятались от глаз общественного мнения, а устраивались открыто, и не только допускались властями, а даже предписывались. Иметь двух жен считалось тогда в этих местностях не только не преступлением, не безнравственностью, а чем-то заслуживающим похвалу и потому нравственным.
Может показаться, что такая ситуация является чем-то невероятным. Многие сочтут ее даже чудовищной. Но это был совершенно естественный порядок, вполне понятное следствие исторической ситуации, в которой тогда находилась Германия.
Только что окончилась Тридцатилетняя война. Эта тяжелая и скорбная эпоха привела не только к полному опустошению и обеднению значительных частей Германии, но и к сильному сокращению населения. Миллионы людей погибли в битвах или были уничтожены всюду появлявшимися мародерами, еще больше народа истребили болезни и эпидемии, сопутствовавшие нескончаемой бойне. Тысячи местностей совершенно вымерли к концу войны. До этой злополучной войны Германия насчитывала 16 или 17 миллионов населения, а в 1648 г. число жителей не превышала 4 миллионов, причем среди них мужчины составляли меньшинство. На 2,5 миллиона женщин приходилось 1,5 миллиона мужчин. Таков был печальный итог войны. А всегда, во все времена главнейшим капиталом является человек: его рабочая сила, его рабочие руки. Рождение детей как можно в большем количестве становилось преобладающей, экономической потребностью времени и даже высшим нравственным долгом каждого здорового мужчины. Так как эта потребность вступала в конфликт с существовавшей моралью, то власти предписывали эту обязанность каждому. Пусть мужчина действует в этом направлении как можно усерднее.
сли мы хотим выяснить, открыть этот закон, то нужно начать с того, чтобы установить связь между теорией и практикой нравственных норм каждой эпохи и современным им общественным бытием человечества.
Такое исследование покажет каждому, умеющему исторически смотреть на вещи, что господствующие нравственные воззрения не могут быть случайными и произвольными. Порой можно услышать наивные утверждения, что, ввиду невозможности установить какие-нибудь абсолютно достоверные нормы, в нравственных воззрениях господствуют случайность и произвол, и поэтому только низшие сословия обязаны с ними считаться. Напротив, l'homme superieur (великосветский ухажер) может свободно игнорировать эти остроты мировой истории. Нелепость такого воззрения обнаруживается сразу же, так как даже самый поверхностный анализ, подкрепленный самыми примитивными научными методами, доказывает неопровержимо, что в истории нет бессвязных фактов. Правда, случайные отклонения могут возникать в форме патологических явлений, но случайными не могут быть массовые явления, а именно о них идет речь, когда мы говорим о нравственном поведении людей.
Разве нет связи между развращенностью, чисто порнографической модой, порнографически насыщенной речью XVIII в. и общественной жизнью определенных сословий? А в XVII в. — между неумолимой нравственной строгостью английских пуритан, их мрачным однообразным костюмом, заимствованными из Библии оборотами речи и политическими и социальными условиями их существования и т. д.? Если не учитывать эту связь, то следует признать, что все могло бы быть как раз наоборот, в XVIII в. люди могли бы не придавать особенного значения эротическому воздействию женской груди, а в XVII в. в среде английских пуритан мог бы торжествовать победу утонченный культ физиологического наслаждения, культ эротической наготы. Ясно, что такая логика — это логика сумасшедшего дома. Вот почему она и брезжит в умах лишь тех этиков, которые не хотят учитывать исторические закономерности. В истории, как уже сказано, царит строжайшая гармония, неумолимая логика. Сотни связей и мостиков соединяют следствие и причину, причину и неизбежное, неустранимое последствие.
Для каждого исторически мыслящего человека эта связь на самом деле так очевидна, что нет надобности подробнее ее обосновывать. Ее можно принять как нечто несомненное. Несколько более серьезная подготовка требуется для того, чтобы понять, как а господствующих нравственных воззрениях и в соответствующем им нравственном поведении выражается вся сумма современного социального бытия людей.
В нравственном поведении и в соответствующих ему нравственных догмах отражается, как и в правовых воззрениях, в религии, в художественном творчестве и т. д., экономический базис эпохи. Все идеологии являются логическим отражением высоты развития, достигнутого производственным механизмом. Сюда относится степень общественного разделения труда, степень классового деления, распределение собственности, следовательно, отношения собственности, — словом, все, что подразумевается под понятием «экономической основы эпохи». Частная собственность, материальные интересы легли в основу и нашей половой морали. Поэтому половая мораль должна постоянно меняться, приспосабливаться к изменениям и к развитию частной собственности, которой подчинена вся область морали.
Конечно, половой инстинкт сам по себе не экономический фактор. Однако и экономическая основа общества определяет (речь идет здесь, конечно, о массовых явлениях), будет ли половой инстинкт толкать мужчину и женщину к ранним или поздним бракам, будет ли он требовать, как суррогат брака, постоянную любовницу или бродячую проститутку, благородную даму, ищущую наслаждения, или опустившуюся уличную девицу. Тот же экономический базис предрешает, будет ли женщина в браке хозяйкой, матерью или дамой, будет ли она выбрана как производительница детей или за ее представительные качества, будет ли она воспитываться как предмет роскоши или как неизбежная домашняя мебель. Экономический базис определяет, что важнее — супружеская ли верность или пикантные удовольствия половой жизни, в какой степени будет вестись борьба за мужчину или женщину, сотни или десятки тысяч женщин будут тщетно искать пути к брачному ложу и «упадут в объятия порока», как мило выражаются авторы душещипательных трактатов, и т. д.
Таковы главные категории, а от них зависят все второстепенные пункты половой морали, сопутствующие ей явления, такие, как мода, светский тон и т. д., ибо последние всегда не более как проявления, излучения первой или, другими словами, ее отдельные аспекты, принявшие духовную или материальную форму.
Материальные интересы являются базисом, определяющим началом — вот что главное. Необходимо прежде всего доказать правильность этого положения. Мы приведем несколько характерных примеров, в которых связь между половой моралью и экономическим состоянием общества сама бросается в глаза. В середине XVII в. в некоторых местностях Германии чаще, чем когда-либо, встречались случаи «бигамии», когда один мужчина имел двух законных жен, живущих с ним под одной крышей. Это была настоящая полигамия. Самое важное в этих полигамических связях то, что они существовали не тайком, не прятались от глаз общественного мнения, а устраивались открыто, и не только допускались властями, а даже предписывались. Иметь двух жен считалось тогда в этих местностях не только не преступлением, не безнравственностью, а чем-то заслуживающим похвалу и потому нравственным.
Может показаться, что такая ситуация является чем-то невероятным. Многие сочтут ее даже чудовищной. Но это был совершенно естественный порядок, вполне понятное следствие исторической ситуации, в которой тогда находилась Германия.
Только что окончилась Тридцатилетняя война. Эта тяжелая и скорбная эпоха привела не только к полному опустошению и обеднению значительных частей Германии, но и к сильному сокращению населения. Миллионы людей погибли в битвах или были уничтожены всюду появлявшимися мародерами, еще больше народа истребили болезни и эпидемии, сопутствовавшие нескончаемой бойне. Тысячи местностей совершенно вымерли к концу войны. До этой злополучной войны Германия насчитывала 16 или 17 миллионов населения, а в 1648 г. число жителей не превышала 4 миллионов, причем среди них мужчины составляли меньшинство. На 2,5 миллиона женщин приходилось 1,5 миллиона мужчин. Таков был печальный итог войны. А всегда, во все времена главнейшим капиталом является человек: его рабочая сила, его рабочие руки. Рождение детей как можно в большем количестве становилось преобладающей, экономической потребностью времени и даже высшим нравственным долгом каждого здорового мужчины. Так как эта потребность вступала в конфликт с существовавшей моралью, то власти предписывали эту обязанность каждому. Пусть мужчина действует в этом направлении как можно усерднее.
 Сводня. Из «Каталога прекрасных куртизанок». Голландская гравюра ХVII в.
Сводня. Из «Каталога прекрасных куртизанок». Голландская гравюра ХVII в.
Вы требуете доказательств. Они содержатся в указе той эпохи. 19 февраля 1650 г. нюрнбергский крейстаг (районный совет) принял следующее решение: «Ввиду того что в кровавой 30-летней войне население погибло от меча, болезней и голода и интересы Священной Римской империи требуют его восстановления… то с этих пор в продолжение следующих десяти лет каждому мужчине разрешается иметь двух жен». Нельзя было выразить цель этого решения конкретнее, нельзя было обнаружить яснее экономическое основание этой поправки к существующей морали. Те, кто привык выводить все проявления половых отношений, все моральные критерии из более или менее высокого нравственного чувства людей, возразят, что «это совершенно исключительное явление, объясняющееся крайним моральным упадком, бывшим также печальным наследием 30-летней войны». Такими или аналогичными рассуждениями обыкновенно и устранялся из исторической науки этот неудобный факт. Мы ответим: нет, это не исключительное явление, а в крайнем случае очень своеобразное дополнение к аналогичному, но уже безусловно типическому историческому явлению. Стоит только исследовать крестьянскую мораль, в особенности перелистать многочисленные Weistumer, эти формулировки древнего крестьянского права.

Проститутка. Из «Каталога прекрасных куртизанок». Голландская гравюра XVII в.
В них мы найдем то же самое. Проявив некоторое терпение, нетрудно будет среди них найти целый ряд документов, заявляющих о том же почти дословно, как следующий, взятый из бохумского местного права: «Item (так же), муж, имеющий здоровую жену и неспособный удовлетворить ее женские права, пусть приведет ее к соседу, а если и тот не в состоянии ей помочь, то пусть муж ее бережно возьмет на руки, не делая ей больно, пусть опустит ее вниз, не делая ей больно, пусть оставит ее там на пять часов и позовет других людей себе на помощь. А если и тогда ей нельзя помочь, то пусть он ее бережно поднимет и снова опустит, не делая ей больно, пусть даст ей новое платье и кошелек с деньгами на пропитание и пошлет ее на ярмарку, а если и тогда ей нельзя помочь, то пусть ей помогут тысяча чертей». Что это значит в переводе на наш современный язык? Это значит следующее. Если муж не в состоянии произвести со здоровой женой ребенка, то пусть отдаст ее соседу — «бракопомощнику», такому, который, по его мнению, может создать ребенка. Если и эта связь останется бесплодной, то пусть он сделает этот эксперимент со вторым и даже с третьим. А если и это бесполезно, то пусть ей помогут тысячи чертей, т. е. тогда помочь могут только сверхъестественные силы. Муж сделал все, что требовал от него его долг. Его долг! Иметь детей, быть возможно более плодовитой производительницей потомства — такова первая и главнейшая обязанность крестьянки. Такое воззрение, такая половая мораль всецело обусловлены крестьянским хозяйством, материальными интересами крестьянина. Ни для какого другого класса дети не являются таким важным капиталом, как для крестьянина, так как они представляют самые дещевые и необходимые рабочие руки. Вместе с тем дети — единственные рабочие руки, на которые он в экономически неразвитые эпохи может рассчитывать, единственные, которыми он может обзавестись при малой доходности его производства, и потому законно для него вопрос второстепенный. Главное, чтобы жена производила на свет детей. Если брак остается бесплодным, то жена обязана по очереди отдаться всем тем, которые, по мнению мужа, могут помочь ему обзавестись детьми. Как видно, индивидуальная любовь здесь совершенно отсутствует, важна только половая способность мужчины, а жена рассматривается исключительно как детопроизводительная сила, которая в случае надобности может быть отдана в распоряжение то одного, то другого. Важность детей для крестьянского хозяйства даже и в наше время объясняет в конечном счете и более мягкое отношение крестьян к прелюбодеянию. Крестьянин еще и теперь охотнее всякого другого закрывает глаза, если его жена выбирает ему заместителя в лице крепкого батрака или соседа, чтобы дать мужу необходимых детей. На том же экономическом базисе основывается уже ранее упомянутый обычай «пробных ночей», встречающийся в разных местностях под разными названиями. «Годен ли он (или она) к любви», т. е. можно ли рассчитывать на потомство, — такая проба санкционируется крестьянской моралью как законная. Характерные аналогичные случаи можно встретить как массовое явление у всех неплодовитых рас. Так как потомство и для них самый ценный капитал, то «бракопомощник» у этих рас, так сказать, типичная фигура, и ввиду важности вопроса его деятельность рассматривается обыкновенно как привилегия святых или пророков. Такой расой являются, например, эскимосы. У них также охотно обращаются за помощью к высшему духу через посредство пророков. В своем описании путешествия к Северному полюсу Фритьоф Нансен приводит ценные данные, доказывающие вместе с тем, что он прекрасно понял саму сущность этого явления. Нансен говорит: «Седьмая заповедь чаще других нарушается гренландцами… Целомудрие у них не в особенном почете… Многие (на западном берегу) не считают позором для девушки иметь детей. В бытность нашу в Готгаабе по соседству жили две девушки, отнюдь не скрывающие свою беременность. Они почти гордились этим доказательством того, что ими не пренебрегали». О жителях восточного берега Гольм также утверждает, что никто не считает позорным для незамужней иметь детей. Эгеде рассказывает, что женщины считают для себя большой честью и счастьем вступить в связь с angekok'ом, как у них называются ученые и пророки, и прибавляет: «…многие мужья сами ничего против этого не имеют и платят angekok'y за то, что он спит с их женами, особенно если они сами бездетны. Эскимосские жены пользуются, как видно, гораздо большей свободой, чем жены германцев. Причина, вероятно, коренится в том, что, если у германцев сохранение наследства, рода и родословной всегда играло большую роль, все это для эскимоса имеет очень малое значение, так как он почти ничего не имеет, что мог бы передать в наследство, и для него важнее всего иметь детей…» Уже достаточно исчерпывающе выяснено и доказано, что проституция как массовое явление коренится в социальных условиях, находит свои побудительные мотивы в экономическом базисе общества. Поэтому мы не будем приводить здесь документы, которые вновь подтвердили бы это положение. Рассматривать проституцию как массовое явление, главным образом как патологическую проблему, как проблему прирожденной проститутки — такой метод объяснения может годиться только для хвастливых полуневежд. Такого рода сексуальные психологи в большинстве случаев не имеют никакого представления о проституции как социальном явлении и потому произвольно смешивают самые противоположные понятия. Приведенные выше примеры прямой связи между половой жизнью, нравственными нормами и материальными интересами могут служить типическими иллюстрациями. На примере санкционированной в XVII в. законом бигамии видно, что экономические потребности, если они очень ярко выражены, способны устранить даже наиболее важный постулат всей половой морали, основное требование морали — единобрачие. Материальные интересы действуют как в важном, так и в мелочах. Доказательством может служить следующий пример. В XVI в. цехи принимали новых учеников только после удостоверения «свободного и честного происхождения». Ученик должен был доказать, что он родился в законном браке. В десятке описаний цехового быта или городского процветания XVI в. можно прочесть патетические рассуждения о том, что в подобных постановлениях сказывалось «гордое нравственное самосознание, отличавшее честное ремесленное сословие». Подобные указы квалифицировались как «последствие повышенного и потому живого нравственного чувства», восхвалялись как «благородный плод внесенного в мир Реформацией нравственного обновления». Мы позволим себе возразить и постараемся доказать это. Если внимательнее присмотреться к церковному устройству этих веков, если искать в laden (цеховые объединения) принципы, которыми руководствовались составители цеховых законов, то мы вскроем какие угодно причины, но только не «нравственное обновление» и не «нравственное сознание». Что касается интересующего нас здесь указа, то ясно, что это нравственное требование базировалось не на морали, а исключительно на кошельке. Если цехи в XVI в. обусловливали прием учеников «свободным и честным происхождением», если в некоторых городах они прямо требовали соответствующих удостоверений, то это делалось не для того, чтобы нравственно поднять свое сословие, а для того, чтобы сохранить монополию цехов. Таким способом хотели избавиться от представителей рабочего сословия, которые в начале XVI в. массами стекались в города, где прежде всего хотели научиться какому-нибудь ремеслу.

П. Бребьетт. Тритоны и нимфы. XVII в.
Этим путем хотели устранить грозно разраставшуюся конкуренцию — только поэтому люди вдруг стали нравственными и косвенно провозгласили святость брака как основу «честности». И в самом деле, трудно было придумать более устойчивую плотину против грозившей конкуренции! Удостоверить свое законное происхождение было в те времена задачей очень сложной, и тем более трудной, чем отдаленнее была местность, откуда вышел человек. Теми же материальными интересами руководствовались деловитые и умные цеховые мастера, когда «нравственное чувство» подсказало им объявить целый ряд ремесел «бесчестными». Всем тем, кто был связан с ними, доступ к «честному ремеслу» был также запрещен, подобно тому как эти ремесла были лишены присвоенных «честным» профессиям хозяйственных привилегий. А все это — экономические причины. Если мастера употребляли вышеприведенные слова о нравственном долге цехов без задней мысли, то это ничего не меняет, а доказывает только, что борьба, которую они вели, и интересы, которые они отстаивали, осознавались ими не прямо, а опосредованно, в виде морали. То же самое можно сказать о широко распространенных в XVI в. запрещениях публичных бань. До XVI в. в посещении публичных бань не находили ничего или почти ничего предосудительного. Во всяком случае, никого не шокировало то, что мужчины совершенно голые, а женщины более чем голые, так как они еще украшали себя для этого, купались и мылись вместе и развлекались шутками и играми, отнюдь не проникнутыми пуританским духом. И вдруг в первой четверти XVI в. мнение по этому поводу полностью переменилось — посещение купален и бань запрещают, объявляют безнравственным, бани описывают как вертепы порока и, наконец, одну за другой закрывают. Те из них, что не были закрыты, приносили все меньше дохода, и хозяин поэтому часто сам вынужден был отказаться от заведения. Если просмотреть предлагаемые историками-идеологами объяснения этой странной перемены во взглядах, то мы находим у них ту же ссылку, как и по поводу цеховой peгламентации, на повышение нравственного самосознания, на обновляющее влияние Реформации и тому подобные моральные моменты, имевшие решающее значение. Просветление пришло в данном случае от сифилиса, начавшего на рубеже XV в. свое победное шествие. Рядом с аналогичной причиной, о которой мы еще будем говорить, сифилис был тем морализующим фактором, который превратил в глазах современников ранее столь популярный обычай купальной жизни в адский вертеп порока. И это понятно. Так как среди общественных развлечений купального сезона отдавалось предпочтение грубым удовольствиям, то проститутки составляли, естественно, всегда значительный контингент посетительниц. А так как около бани всегда находилось несколько маленьких каморок, куда могли уединиться воспламенившиеся любовью посетители и посетительницы, так как баня была вместе с тем еще самым бойким домом терпимости, то, естественно, она становилась самым опасным очагом заразы новой страшной французской болезни. Яснее и убедительнее нельзя было внушить людям, что посещение бани «в высшей степени безнравственно». Здесь тоже действовала экономическая причина. Могут возразить, что такие важные вопросы, как колебание числа браков, степень распространенности проституции и спроса на нее и т. д., могут быть в самом деле обусловлены хозяйственными интересами, но что от них совершенно не зависят такие второстепенные явления, как законы приличия, моды, большее или меньшее декольте в женском костюме, изменения представлений о чувственной красоте и т. д. На это возражение необходимо ответить, что все эти явления тоже отражают экономическую основу общественного бытия людей и народов, только в несколько более завуалированном виде, так что часто с трудом приходится проникнуть сквозь внешнюю оболочку, чтобы дойти до истинной сущности явления. Мы и это положение докажем анализом некоторых явлений, тем более что при этом сделаем ряд других важных выводов, имеющих для нас значение. Рассмотренные выше примеры доказывают, что никогда не следует рассматривать моральные требования, нормы и воззрения просто как результат различных нравственных взглядов, а надо выяснить, как это было сделано нами, побудительные мотивы того, к чему они собственно стремятся. А если поступать так, мы придем к основному закону исторического познания, который гласит: теория и практика нравственного поведения всегда соответствуют определенным социальным потребностям. С помощью этого закона нетрудно понять, что не только главные постулаты половой морали определяются материальными интересами данного общественного уклада, следовательно, являются общественной потребностью, но и многочисленные побочные и частные ее области. Другими словами, все эти проявления и следствия половых отношений должны быть рассмотрены в свете общественных потребностей. Если мы поступим таким образом, то мы прежде всего обнаружим, что общественные потребности не только меняются с течением времени, но и в рамках одной и той же эпохи отличаются чрезвычайным разнообразием. С тех пор как народы вступили на путь цивилизации, они перестали быть однородными или оставались такими только благодаря языку. Развитие частной собственности, на которой выстраивается цивилизация, неизбежно привело везде к расслоению общества. Это разделение проходило, прежде всего, между имущими и неимущими, тут же принимая политический характер. Возникали сословия господствующие, угнетенные, но стремящиеся к власти, и отмирающие. Каждое из них имело свои собственные интересы, т. е. наряду с главными интересами, свойственными всей эпохе, еще и частные интересы, которые не только отличались от интересов других сословий, но в основном диаметрально им противоположны. Из этого разнообразия интересов во все времена вытекало разнообразие половых отношений, моральных воззрений и постулатов. Это значит: половая мораль никогда не бывала однородной, а распадалась всегда на отдельные классовые морали, не только отличные друг от друга, но и взаимно враждебные. Если факт классового деления общества не вызывает сомнения, то мысль, что классовые различия особенно ясно отражаются в половой морали, что экономические интересы здесь имеют особую силу, нуждается в еще более детальном обосновании. Для примера можно привести различный взгляд на брак мастера-ремесленника и купца XVI в. Если для первого жена — служанка-экономка, строгая, скромная хозяйка, следящая за порядком, царящая в кухне и в погребе, то для богатого купца она — дама, служанка, воплощающая чувственное удовольствие. Оба взгляда были обусловлены экономическими особенностями существования сословий.
Всякий вступающий в брак должен быть судьей собственных намерений и советоваться только с собой.Хозяйство ремесленника должно было находиться в порядке, жена быть требовательной, внушать прислуге уважение к себе, заботиться об экономии, первой встать и последней лечь, чтобы убедиться, все ли в порядке и на замке, чтобы не грозила опасность от огня или воров. На таком строгом порядке, на такой экономии было основано все существование и благосостояние мелкоремесленного хозяйства, и если оба эти принципа — порядка и экономий — игнорировались или систематически нарушались, то хозяйству ремесленника грозило разорение. Эти условия существования и отражались в правах и обязанностях хозяйки, им все подчинено, все ее поведение, далекое от высокомерия и претенциозности, ее костюм. Она обязана воспитать в таком же духе детей. Жена ремесленника считала для себя позором поступать иначе, ходила по улице со скромно опущенными глазами, чтобы не вызвать неверное представление о себе, подавляла в себе тщеславие, побуждающее ее одеться в такую роскошную одежду, которая ей не по карману. Так являлась она типом скромной и доброй хозяйки, «честной и непорочной», и таково поэтому и содержание обязательного для нее нравственного закона. Этому закону она обязана была подчиняться под страхом смерти. Если бы она ходила на танцы или зубоскалила с соседкой, то служанка обленилась бы и перестала быть расторопной. Если бы ее голова была занята амурами, то подмастерье, вместо того чтобы работать так же усердно, когда мастера дома нет, воспользовался бы его отсутствием, чтобы найти дорогу в ее спальню. Она уже не легла бы последней спать, а думала бы лишь о том, чтобы как можно чаще быть к услугам любовника. Естественное тщеславное желание быть красивее всех заставило бы ее одеваться как можно роскошнее.Франсуа Рабле

П. Санредам. Юдифь. Символическое изображение власти женщин. Гравюра. XVII в.
Так как в обоих случаях ее поведение служило или опорой, или гибелью для всего существования семьи, то обязательный для нее нравственный закон, рассматривающий ее или как скромную и добрую, или как плохую хозяйку, — не что иное, как выражение экономического ремесла. То же самое, само собой, применимо и к мужчинам этого сословия. Совершенно иным был брак и домашнее хозяйство зажиточного купца. Благосостояние позволяло устраниться жене от хозяйственных обязанностей. Управление хозяйством, как и воспитание детей, жена может перепоручить другим людям. Как только расточительность переставала быть опасностью для существования семьи, женщина превращалась в предмет роскоши. Таков первый результат женской эмансипации. На этом сказывается прежде всего растущее богатство, позволяющее мужу сделать из жены украшение. Поэтому для нее подходили совершенно иные законы и обязанности хозяйки. Она украшала жизнь мужа, доставляла ему наслаждения, это становилось для нее настоящим долгом, в отличие от жены ремесленника. Чем лучше ей это удавалось, тем прочнее была ее власть. Роскошь должна была наглядно продемонстрировать степень богатства, и это было особенно важно для ранних эпох, когда еще только начиналось накопление капиталов. Так постепенно определилось место женщины в пределах своего сословия. Это определило, естественно, все ее воззрения, язык, светские манеры, мысли, костюм. Для мужа она прежде всего являлась предметом наслаждения, но кроме этого она желала, чтобы не только муж, но и другие мужчины смотрели на нее с этой же точки зрения[12]. «Разве не для этого я создана?» — таков тот вопрос, который подразумевал покрой ее платья. И она не ограничивалась вопросом. Демонстративно позволяла она каждому в этом удостовериться, гордо выставляя напоказ свое созданное для любви тело, позволяя как можно больше при каждом случае видеть обнаженную грудь, гибкую стройность стана, обнаруживая при помощи костюма как можно выгоднее свою вечную, несокрушимую, сулящую наслаждение юность. И, поступая так, она вместе с тем не выходила за границы приличия, того специфического приличия, которого требовало ее сословие. Жизнь должна быть вечным праздником — таково логическое требование, порождаемое богатством, избытком. Поэтому женщина с раннего утра и до позднего вечера дышала праздностью, являлась воплощением жизни, ставшей праздником. Ничто в ней не говорило о буднях с их заботами и пылью; все, что могло бы о них напомнить, было устранено от нее, она вечно стояла в сияющем праздничном освещении. Чтобы достигнуть этого, из ее жизни упразднялось все, что могло бы испортить это настроение, в том числе и самое священное в жизни — материнство. Как только экономические условия превращали женщину в орудие наслаждения, потребность стать матерью сама собой суживалась. Рождение детей похищало женщину у общества, надолго уничтожало праздничное настроение и, главное, вредило телесной красоте. Оно преждевременно старило, грудь теряла свою соблазнительную пышность. Эта цель брака становилась второстепенной, принималась, наконец, как неизбежное зло. Выражением такого настроения служило убеждение, что «неприлично» матери кормить своего ребенка, а еще неприличнее часто быть беременной. Аналогичным образом формировались, в соответствии с различными проявлениями половых отношений, и все остальные взгляды. Адюльтер терял свою социальную опасность. Женщина, став прежде всего орудием наслаждения, видела в любви только самую изысканную форму наслаждения и следовала природному влечению уже не в бессознательном опьянении, а как артистка, не забывающая даже во время самой опасной игры о ее правилах, все позволяющих и исключающих лишь последствия, которые превращают игру в тяжелое бремя[13]. Теряя свою социальную опасность, адюльтер вместе с тем переставал быть тяжким грехом. Ловкость, с которой женщина привлекала гостей к дому, ценилась в обществе выше строгой нравственной сдержанности, вследствие которой дом пустел. Кокетство означало способность начать игру с каждым, а степень культуры только дифференцировала форму этой игры[14]. В более ранние эпохи игра предполагала грубые жесты, в эпохи более поздние — утонченный флирт, празднующий оргии лишь в фантазии. Вот в общих чертах картина того, как половые взаимоотношения и половая мораль принимали разные формы в разных слоях общества соответственно изменившимся вместе с материальным благосостоянием потребностям. Так же точно образовывались понятия о приличии и нравственности у дворянина, у придворного, у князя, у крестьянина, у духовенства, у рабочего. Во всех этих группах взгляды мужчины на свое отношение к женщине были аналогичны воззрениям женщины на ее отношение к мужчине. Сословие, обладающее, в сравнении с другими, политическими и социальными привилегиями и потому господствующее, всегда стремилось отличаться и внешне от других. Этим интересам во все времена успешно служили нравственные нормы, а среди них те, что касались половых отношений. Объявляя все то, что отвечало его жизненным потребностям, его гарантированным собственностью возможностям наслаждения, дозволенным и потому нравственным, господствующее сословие провозглашало в то же время все это безнравственным для других слоев общества. Так, например, моральный кодекс аристократии не только разрешал, но в известных случаях прямо предписывал женщинам появляться публично только с глубоким декольте, тогда как такой поступок жены ремесленника часто считался безнравственным и запрещался ей строго контролируемой регламентацией костюма. Безобразная старуха аристократка «соблюдала приличия», хотя ее тощие груди вызывали отвращение, тогда как хорошенькая мещанка, возбуждавшая всеобщий, восторг, обнаруживая сокровище своего корсажа, «совершала преступление против нравственности» и часто беспощадно наказывалась, если поддавалась чувству тщеславия и хоть на палец уклонялась от разрешенной ей магистратом глубины выреза. Когда публичные бани, где горожане встречались каждый день, становились центрами оппозиции против знати или патрициата, знатные роды, видя, что их власти угрожает опасность, объявляли публичные бани безнравственностью и запрещали их. Таков был второй фактор, покончивший вместе с сифилисом в XVI в. с былым великолепием, купален и бань. Но те же самые сословия потом в течение столетий не находили ничего предосудительного, если мужчины и женщины низших слоев общества были вынуждены во время работы или дома постоянно находиться в тесной физической близости, если родители, подростки разных полов, спали вместе в комнате, как в хлеву, так что половая жизньвзрослых становилась для них предметом наглядного обучения. Знать в прошлом никогда не старалась отменить соответствующими указами подобное положение вещей, хотя в рамках своего сословия они и клеймили каждое интимное соприкосновение полов. И то и другое отвечало их экономическим интересам и было их социальной потребностью. Таков первый фактор, обусловливающий развитие морали сословий. Не менее важен второй фактор: нравственные нормы, объединившие представителей данного слоя общества. То, чем люди сознают себя в отличие от других, связывает их в их сознании. Это нечто похожее на одинаковый мундир или на знамя, вокруг которого группируются люди. Таким образом особые качества преднамеренно культивируются, различия подчеркиваются и сознательно вырабатываются. Эти различия внушают прежде всего чувство солидарности. И это логично, так как в них ясно обнаруживается социальная связь, входя в сознание как друзей, так и недругов. Молодой аристократ или буржуа, содержащий любовницу, не совершал, по мнению своего сословия, безнравственности, если в то же время в разных салонах, опираясь на помощь многочисленных посредников, искал себе богатую и знатную невесту. Далее, он поступал совершенно корректно, если в тот самый день, когда его планы принимали конкретную форму, давал отставку той женщине, которая в течение многих лет разделяла его ложе и послушно исполняла все его прихоти. Если же он утешал эту женщину более или менее значительной денежной суммой, то он поступал совершенно по-джентльменски. С другой стороны, «счастливая невеста», занимающая место прежней любовницы, считала естественным, что мужчина, как ей известно, имевший много таких незаконных связей, который обладал многими проститутками и, кроме того, соблазнил не одну замужнюю женщину, от нее требовал целомудрия и что ее девственность для него являлась самым важным в момент их первого интимного сближения. Та же мораль позволяла мужчине презрительно бросить девушку, если он узнавал, что другой уже пользовался ее благосклонностью, что у нее есть «прошлое». Даже больше, он обладал этим правом даже в том случае, если он сам соблазнил эту девушку и она очутилась в «таком» положении. Его мораль не обязывала его жениться на девушке с незаконным ребенком даже в том случае, если он сам его отец.

Вывод относительно будущего
 сли принять во внимание все сказанное здесь как о взглядах на половые отношения в определенные эпохи, так и о возникновении разнообразных моральных норм и требований, то изложенные здесь точки зрения, можно выразить в следующей формулировке.
Во-первых, каждый общественный уклад провозглашал нравственным законом состояние общества или называл нравственным то, на чем было основано его существование, все те условия, которые укрепляли и обеспечивали его существование. С другой стороны, безнравственным объявляли все чуждое интересам этого общества.
Во-вторых, что верно для общего и целого, верно и для частей. Так как общество распадалось на сословия с противоречащими друг другу интересами, то каждый отдельный класс дифференцировал мораль в своих собственных интересах. Другими словами: каждый общественный слой провозглашал нравственным то, что являлось выражением его собственных интересов, а безнравственным то, что им противоречило.
Из этого следует, что нравственные законы не могут быть произвольно созданы ни отдельными лицами, ни целыми соборами. Лютер, Руссо и Кант преуспевают в этом так же мало, как Папа, собрание моралистов-прелатов или рейхстаг. Как индивидуумы, так и собрания могут только афористически выразить и санкционировать в виде юридических формул уже возникшее. Выражения «после Лютера», «после Руссо», «после Канта» или «после такого-то постановления» верны только в том случае, если рассматривать указанные личные откровения или законодательные санкции как следствие, а не причину.
Мы вовсе не закрываем глаза на то, что не в каждом отдельном случае возможно сразу установить связь между определенными нравственными воззрениями, своеобразными проявлениями половой жизни и соответствующими им общественными условиями. Эта связь не только не всегда заметна, напротив, часто она до того завуалирована, что решающие в конечном счете причины могут быть вскрыты только обходным путем. Часто те или иные воззрения превращаются в привычки, продолжающие оказывать свое влияние, хотя факторы, послужившие причиной их возникновения, давно исчезли.
Разумеется, все эти обстоятельства нисколько не ослабляют тесную связь между теорией и практикой половой жизни и социальными потребностями, они только затрудняют нахождение мостиков, ведущих от одной области к другой и неразрывно связывающих их вместе.
Остановимся здесь подробнее еще на двух пунктах.
Очень часто различают так называемые общеобязательные моральные законы и простые понятия о приличии, в которых склонны видеть лишь результат привычки, развивающейся к тому же будто бы совершенно нелогическими путями. Как на пример такой нелогичной привычки указывают часто на противоречие, сказывающееся в том, что дама постыдилась бы предстать перед мужчиной в одной сорочке, застегнутой даже до самого подбородка, но эта дама нисколько не устыдится выставить себя напоказ сотне чувственно-жадных мужских глаз в костюме, утонченно обрисовывающем ее формы, с глубоким декольте или в мокром, плотно облегающем ее тело купальном костюме. Кто в подобных фактах находит непримиримое противоречие, кто объясняет такой обычай только «модой», воплощающей лишь случайный каприз, тот показывает, что не сумел вникнуть в тайны действующих здесь законов.
В таких случаях речь идет не о противоречащих друг другу явлениях, а о логически дополняющих друг друга частях одной основной тенденции. И то же самое можно сказать об отношении так называемых «обычаев» к общепризнанным моральным законам. Отдельные понятия о приличии — всегда составные части общей морали, которые в конце концов сливаются в гармоническое целое. Эти понятия о приличии, встречающиеся на каждом шагу, представляют, так сказать, перевод общих основных моральных принципов на язык специфической морали данного сословия. Вывод относительно будущего это по-своему[15].
Таков первый пункт, который следовало ярче подчеркнуть. Другой пункт заключается в следующем.
Можно доказать, что ряд нравственных норм обязателен для всех, хотя, как выясняет более детальный анализ, они вовсе не выражают интересы всех сословий. Однако было бы неверно делать вывод, что существуют моральные законы, лежащие вне интересов сословий, или что существуют нравственные нормы, находящиеся вне времени и пространства над жизнью. Эти факты свидетельствуют совсем о другом: моральные постулаты являются не только средствами, обособляющими сословия, и не только средствами, связующими их представителей, но и средствами господства определенного слоя общества.
Правящий класс данной эпохи навязывал остальным ту часть своей половой морали, которая служила интересам его господства. И почти во все времена эти нормы воспринимались низшими сословиями как общеобязательные.
Там, где сознание недостаточно развито, где нет ясного представления о сущности вещей, люди склонны принять как общеобязательный закон то, что в действительности служит лишь интересам определенного сословия.
сли принять во внимание все сказанное здесь как о взглядах на половые отношения в определенные эпохи, так и о возникновении разнообразных моральных норм и требований, то изложенные здесь точки зрения, можно выразить в следующей формулировке.
Во-первых, каждый общественный уклад провозглашал нравственным законом состояние общества или называл нравственным то, на чем было основано его существование, все те условия, которые укрепляли и обеспечивали его существование. С другой стороны, безнравственным объявляли все чуждое интересам этого общества.
Во-вторых, что верно для общего и целого, верно и для частей. Так как общество распадалось на сословия с противоречащими друг другу интересами, то каждый отдельный класс дифференцировал мораль в своих собственных интересах. Другими словами: каждый общественный слой провозглашал нравственным то, что являлось выражением его собственных интересов, а безнравственным то, что им противоречило.
Из этого следует, что нравственные законы не могут быть произвольно созданы ни отдельными лицами, ни целыми соборами. Лютер, Руссо и Кант преуспевают в этом так же мало, как Папа, собрание моралистов-прелатов или рейхстаг. Как индивидуумы, так и собрания могут только афористически выразить и санкционировать в виде юридических формул уже возникшее. Выражения «после Лютера», «после Руссо», «после Канта» или «после такого-то постановления» верны только в том случае, если рассматривать указанные личные откровения или законодательные санкции как следствие, а не причину.
Мы вовсе не закрываем глаза на то, что не в каждом отдельном случае возможно сразу установить связь между определенными нравственными воззрениями, своеобразными проявлениями половой жизни и соответствующими им общественными условиями. Эта связь не только не всегда заметна, напротив, часто она до того завуалирована, что решающие в конечном счете причины могут быть вскрыты только обходным путем. Часто те или иные воззрения превращаются в привычки, продолжающие оказывать свое влияние, хотя факторы, послужившие причиной их возникновения, давно исчезли.
Разумеется, все эти обстоятельства нисколько не ослабляют тесную связь между теорией и практикой половой жизни и социальными потребностями, они только затрудняют нахождение мостиков, ведущих от одной области к другой и неразрывно связывающих их вместе.
Остановимся здесь подробнее еще на двух пунктах.
Очень часто различают так называемые общеобязательные моральные законы и простые понятия о приличии, в которых склонны видеть лишь результат привычки, развивающейся к тому же будто бы совершенно нелогическими путями. Как на пример такой нелогичной привычки указывают часто на противоречие, сказывающееся в том, что дама постыдилась бы предстать перед мужчиной в одной сорочке, застегнутой даже до самого подбородка, но эта дама нисколько не устыдится выставить себя напоказ сотне чувственно-жадных мужских глаз в костюме, утонченно обрисовывающем ее формы, с глубоким декольте или в мокром, плотно облегающем ее тело купальном костюме. Кто в подобных фактах находит непримиримое противоречие, кто объясняет такой обычай только «модой», воплощающей лишь случайный каприз, тот показывает, что не сумел вникнуть в тайны действующих здесь законов.
В таких случаях речь идет не о противоречащих друг другу явлениях, а о логически дополняющих друг друга частях одной основной тенденции. И то же самое можно сказать об отношении так называемых «обычаев» к общепризнанным моральным законам. Отдельные понятия о приличии — всегда составные части общей морали, которые в конце концов сливаются в гармоническое целое. Эти понятия о приличии, встречающиеся на каждом шагу, представляют, так сказать, перевод общих основных моральных принципов на язык специфической морали данного сословия. Вывод относительно будущего это по-своему[15].
Таков первый пункт, который следовало ярче подчеркнуть. Другой пункт заключается в следующем.
Можно доказать, что ряд нравственных норм обязателен для всех, хотя, как выясняет более детальный анализ, они вовсе не выражают интересы всех сословий. Однако было бы неверно делать вывод, что существуют моральные законы, лежащие вне интересов сословий, или что существуют нравственные нормы, находящиеся вне времени и пространства над жизнью. Эти факты свидетельствуют совсем о другом: моральные постулаты являются не только средствами, обособляющими сословия, и не только средствами, связующими их представителей, но и средствами господства определенного слоя общества.
Правящий класс данной эпохи навязывал остальным ту часть своей половой морали, которая служила интересам его господства. И почти во все времена эти нормы воспринимались низшими сословиями как общеобязательные.
Там, где сознание недостаточно развито, где нет ясного представления о сущности вещей, люди склонны принять как общеобязательный закон то, что в действительности служит лишь интересам определенного сословия.

Венцель Холлар. Модная картинка. Голландская гравюра 1642 г.
Так, например, в определенные эпохи верили как в свыше установленный вечный закон, что иметь много детей — добродетель. И в эти эпохи (когда этот закон особенно почитался) эта добродетель была не более как важным экономическим интересом правящих слоев общества, нуждавшихся в рабочей силе, в солдатах, в плательщиках налогов и т. д. Конечно, это никогда не мешало господствующему сословию не считать этот закон обязательным для себя. «Иметь много детей» они для себя считали просто неприличным.

Венцель Холлар. Модная картинка. Голландская гравюра 1645 г.
В связи с только что изложенным необходимо сделать еще одно замечание о различии законов половой морали для мужчины и для женщины. Подобно тому как существуют различные классовые идеологии, на основании тех же экономических причин должны существовать и противоположные половые идеологии, одна — обязательная для мужчины, другая — обязательная для женщины, например, что мужчина может жить в полигамии, тогда как женщина обязана соблюдать моногамию. Вышеуказанные законы осветили историческую обусловленность этой тенденции, так как вместе с возникшей на основе частной собственности моногамией образовалось классовое деление на мужчин и женщин — первая форма классового деления, известная в истории. Таким образом, становится понятным тот факт, что женщина во все времена и у всех народов вплоть до наших дней склонна считать это несправедливое распределение прав и обязанностей «естественным» порядком вещей. Это не более как идеология «мужчин», навязанная не только социально и физически, но и духовно угнетаемому классу «женщин» как общеобязательная. И женщина воспринимала ее такой, пока не осознала себя. Но это произошло не раньше третьей четверти XIX в. Вот почему только к этому времени и относится принципиальная критика теории прав для мужчины и женщины в области половой морали как результат мнимо-естественного порядка вещей. Если еще теперь, после тридцати- или сорокалетней критики, существует бесконечное количество мужчин и еще больше женщин, осуждающих эту критику и считающих прежнее мнение по этому вопросу в самом деле «естественным» и потому «вечным», то это доказывает только, как сильно еще господство мужчин. К тому, что мы выше обозначали словом «закономерность», необходимо прибавить на основании выдвинутых нами факторов еще третье следствие: так как экономический базис общества находится в процессе постоянного развития, так как каждому новому экономическому укладу соответствует свое разделение общества со своими интересами и общественными потребностями, то каждая эпоха провозглашает свои нравственные законы и требует новых нравственных критериев. Из факта внутренней связи между экономическим базисом общества и нравственными нормами следует и то, что перевороты, происходящие в области общественной морали, будут тем резче, чем более коренной ломке подвергается базис общественного уклада. Если, как это было в XV, XVIII и XIX столетиях, в историю человечества вступает совершенно новый экономический принцип, то должна совершенно измениться и мораль, как это на самом деле и было. Наряду с этим существовали в каждую эпоху и индивидуальные требования, следующие из исключительных потребностей. Но они исчезают вместе с индивидуальным случаем. Если же половые нормы обусловлены общественными потребностями целой эпохи, то они будут существовать, пока сохраняются эти условия. Здесь коренится ключ к объяснению того факта, что в прежние эпохи нормы морали существовали более продолжительные периоды времени. «Нравственность», характерная для эпох мелкобуржуазной культуры, долгое время была фактом. Ее продолжительное существование было исторической необходимостью. Нравственные нормы эпохи с медленно меняющейся половой моралью укрепляются в той же мере, в какой неизменными остаются экономические условия. Мораль превращается в традицию. Соответствующие взгляды получают характер самостоятельных явлений, уже не следуют за общественным прогрессом, обусловленным экономическим развитием, а развиваются самостоятельно. В результате получается, что каждая эпоха богата моралью давно ушедших времен. Такие моральные взгляды могут влиять только до тех пор, пока они движутся в направлении главной экономической тенденции эпохи, пока поддерживают реальные жизненные интересы общества. В противном случае они уже не в силах преобразовать общество, не определяют экономику, производственный процесс, требующий иных норм, а превращаются из рычага прогресса в его тормоз. Это продолжается до тех пор, пока не возникают такие резкие противоречия, что общество вынуждено в интересах своего сохранения разрешить эту проблему. Другими словами, подобный антагонизм длится до тех пор, пока не завершится революцией. В эти моменты отвергаются ставшие нелогичными моральные воззрения и получают право на существование новые нравственные нормы. Затем этот процесс повторяется вновь. Наша точка зрения не отрицает влияния нравственных идеалов на общество, а только отводит этому надлежащее место. Из последнего следует, какое огромное значение имеют в истории человечества эпохи революционных переворотов. Исследование подобных эпох дает нам ключ к целому ряду других важных фактов. В такие эпохи и в области половой жизни царит крайняя анархия. Основные законы, на которых выстраивается вся цивилизация, игнорируются и нарушаются. Под этим нужно подразумевать не только заметное возрастание случаев супружеской неверности, но и массовое необузданное торжество чувственных вожделений, пренебрегающих всеми социальными инстинктами и добродетелями, не признающих даже границ, возведенных самой природой, черпающих высшее наслаждение как раз в этом преднамеренном игнорировании границ.

Похищение сабинянок. Идеал мужской и женской красоты. Итальянская гравюра. XVII в.
Эта особенность прежде всего отличает сословия, находящиеся в процессе преобразования или новообразования. Распространенность и степень всеобщей извращенности зависит, естественно, от того, какие классы и как долго находятся в этом процессе. Эти явления, порой вызывающие ужас, также находят объяснение в законах, которым подчинено и которым следует всякое классовое господство. Каждый господствующий общественный слой стремится сохранить неизменными известные моральные воззрения, которые служат ему, как мы видели, важным средством укрепления власти. Так же поступают и консервативные классы. Преследуя те же интересы, они категорически и последовательно отвергают всякие поправки, требуемые изменившейся общественной жизнью. Но, заметьте, только для других. Сами же для себя они отвергают эти поправки только в теории. Они даже менее других могут избежать влияния изменившихся общественных условий, так как они присвоили себе наилучшие плоды происшедшей эволюции. Неизбежным результатом бывает пресловутая мораль с двумя донышками, которая на известной ступени развития, в зависимости от исторической ситуации, превращается или в лицемерие, или в цинизм. Классический пример первого случая — буржуазная Англия ХIХ в., провозгласившая общественной моралью самую беззастенчивую форму нравственного лицемерия. Не менее классическим примером второго случая служит процесс разложения феодализма в XVIII в., достигший своей высшей ужасающей точки, как известно, во Франции. Как ни различно поведение, внешняя видимость лицемерия и цинизма, оба приводят к одинаковым проявлениям, так как оба — результат одних и тех же предпосылок, а именно непримиримого противоречия между унаследованной нравственностью и реальными общественными условиями жизни. Скандальная хроника современной Англии часто упоминает эротические оргии, в которых самое изысканное удовольствие состоит в том, что ни одна женщина не принадлежит исключительно одному участнику, а переходит из рук в руки и служит утехе всех, с кем ее сведет случай. А в эпоху старого режима оргии bandes joyeuses (веселые банды, ватаги), устраивавшиеся герцогом де Фронсаком, графом д'Артуа и другими, служили всем распутникам заманчивым примером. Во время этих оргий хороший тон прямо требовал, чтобы каждый homme supérieur предоставлял свою любовницу другим. Всеобщее лицемерие или открытый цинизм, всегда характеризующие сословия, стоящие на грани преобразования, достигают тем большего развития, чем свободнее могут проявляться их частные интересы. Чем меньше противодействия встречают они, чем неограниченнее их роль в государстве и обществе, тем откровеннее они игнорируют нравственные нормы. Разумеется, не от случая зависит, как предполагают обыкновенно этики, восторжествует ли в данную эпоху в данной стране лицемерие или цинизм, а от различия исторической ситуации, служащей отправной точкой. В Англии XIX в., как во Франции XVIII столетия (чтобы остаться в пределах приведенных примеров), последним основанием разврата становятся легко нажитые богатства. В Англии общественный строй принял форму современного конституционализма, следовательно, налицо были все гарантии для общественного контроля и публичной критики, так как здесь классы, которые могли бы выступить с критикой, уже осознали роль определяющих жизнь факторов. Во Франции эпохи старого режима не было ничего подобного, как раз обратное служило здесь предпосылкой. Здесь царил неограниченный абсолютизм, исключавший всякий исправляющий контроль и всякую публичную критику. Буржуазный уклад жизни еще только зарождался. Частные интересы, приведшие к атрофии всех социальных добродетелей, стремившиеся исключительно к все более и более утонченным удовольствиям, могли свободно проявиться в бешеном вихре, и цинизму были раскрыты широчайшие границы. Этим еще не исчерпывается картина нравственного упадка сословий и эпох. У них всегда есть еще дополняющие их антиподы, а именно в лице классов, ими угнетаемых, в лице социальных отбросов, тех масс, лишенных также всяких сдерживающих тормозов, ибо последние или еще не успели развиться, или уничтожены бедственным социальным положением. Достаточно вспомнить о постоянно вновь всплывающих из недр низших слоев общества документах крайней нравственной распущенности или о «нравственности» деревни, о том, как на самом деле выглядит «деревенская наивность»[16]. Приведем еще один пример, иллюстрирующий это. В одном из городов Центральной Германии происходил процесс по поводу ложной клятвы. Обошедший газеты отчет о процессе гласил: «Тридцативосьмилетний Л. из З. прошлым летом поступил в батраки в пору жатвы к одному крестьянину в Р. В спальне служанок он вступал в половые сношения со служанкой М. Последняя забеременела и предъявила иск о прокормлении ребенка другому батраку, Ф. Этот последний указал на Л. как на другого виновника ее беременности. Во время разбирательства дела Л. отрицал свою вину под присягой, а служанка заявила, что Л. и батрак К. часто находились с ней вплоть до полуночи. В той же комнате находятся еще две кровати, где спят другие две служанки с их любовниками. Кроме Л. и К., 22-летняя служанка находилась в связи еще с Ф. У нее уже было несколько незаконных детей. На вопрос защитника, существует ли в деревне обычай, в силу которого парни спят с девушками, свидетельница ответила утвердительно: "Да, таков обычай". Л. сначала подстрекал ее предъявить иск к Ф. Батрак К. в свою очередь подтвердил, что Л. находился в связи со служанкой и что он сам неоднократно бывал свидетелем этого». Таков сжатый отчет о процессе. Как видно, верхушка и низ общественного здания стоят друг друга. Их солидарность доходит до того, что они предпочитают одинаково ту же «специализацию». Они одинаковые охотники до беспорядочного полового смешения, до «обмена метрессами», и единственным различием является лишь разная степень утонченности их приемов. Было бы непростительной ошибкой утверждать, что это документально удостоверенное событие представляет собой лишь исключительный случай. Служанка, о которой шла речь, изрекла истину, которую можно было бы доказать сотней данных: «Да, таков обычай». Это обычай, следствие деревенской морали, подобно тому как bandes joyeuses XVIII в. представляют такое же неизбежное последствие исторической ситуации Франции того времени. Но как ни сходны в своих внешних формах оба эти явления, мы делаем из них на основании вышеизложенных замечаний противоположные выводы. Если оргии аncien regim'a характеризуют вырождение классов, то разврат сельского населения относится к числу тех, которые встречаются в классах, сознание которых еще чрезвычайно мало развито. Неизбежным результатом всего этого является то, что более высокая форма нравственности бывает всегда на самом деле представлена новым классом, поднимающимся в борьбе с прежними господствующими силами из недр старого общества. Этот факт обусловлен еще одной причиной, получает от нее свою историческую логику. На стороне этого сословия всегда и более высокие политические идеалы. А при таких условиях в нем появляется и более высокая нравственность. Не только находящаяся в распоряжении человечества масса энергии получает при таких условиях гораздо большее применение в духовных областях — раз мысль и чувства всецело обращены на высшие идеалы человечества, они постоянно очищаются и облагораживаются. Кто нуждается в исторических доказательствах, тому мы можем указать хотя бы на эпоху эмансипации современной буржуазии. Пример, не оставляющий желать ничего лучшего. Возьмем ли мы для сравнения историю Англии XVII в., Франции XVIII столетия или Германии XIX в., всегда мы видим ясно, что буржуазия, пришедшая к самосознанию и вступившая в борьбу с феодализмом, воплощала собой более высокую нравственность. Это, конечно, не значит, что она придерживалась аскетизма в половой жизни и осуждала всякую форму более свободного любовного общения. В эпоху своей эмансипации буржуазия, несомненно, пропагандировала более чувственный взгляд на семью и брак, и в этом отчасти заключалась ее более высокая нравственность. Ограничимся одним примером. Имитация беременности служила в XVI в. выражением творческих сил, насыщавших эпоху, тогда как в эпоху Второй империи во Франции тот же самый трюк был лишь последствием рафинированного разлагавшегося общественного порядка. То же самое применимо и к свободным половым отношениям: у одного класса они могут быть следствием нравственного вырождения, у другого, наоборот, выражением высокого морального развития.
Кому кто служит — мудрый, назови: Любовь ли счастью, счастье ли любви.Зарождающийся класс воплощает собой более высокую нравственность не только в целях педагогических, в интересах нравственного воспитания своих представителей, но и потому, что в нем яснее всего сказываются общественные потребности данной эпохи. Так как нравственное поведение для нас в конечном счете всегда результат экономического базиса общества, то те сословия, которые в социальной иерархии представляют высшую ступень развития, должны воплощать в своей половой жизни, естественно, и высшую форму морали. На основании этих двух причин специфическая нравственность развивающегося сословия служит вместе с тем стимулом для нравственного прогресса всего общества. Выше мы сказали, что нам необходимо прежде всего исследовать и решить вопрос, всегда ли половые отношения цивилизованного человечества были «такими», т. е., по существу, неизменными, как обычно принято думать, или же можно указать на принципиальные различия. Мы переходим, таким образом, ко второму вопросу. Изменятся ли в будущем принципиально, фундаментально половые отношения? Ответив на первый вопрос, мы нашли ответ и на второй. Как в прошлом не существовало незыблемых, неизменных явлений, так не может застыть и современная жизнь. Мы выяснили, что уровень развития производственного механизма, степень удовлетворения общественных потребностей определяют собой общественное бытие и, следовательно, также и половую мораль эпохи. А если это так, то дальнейшей эволюции экономических отношений, которую ни один мыслящий человек не будет отрицать, должна соответствовать такая же беспрерывная эволюция нравственного поведения и обязательных для данного времени нравственных норм. Надо прибавить, что эта эволюция будет не только беспрерывной, но и последовательной. А так как мы уже теперь в состоянии ясно представить себе главные линии дальнейшего экономического развития, то можно сказать, каковы будут основные черты нравственных норм будущего, в каком направлении произойдет их принципиальное преобразование. Подобно тому, как эволюция привела к более высокой нравственности нашего времени, так приведет она к еще более высокой морали в будущем, которое с естественнонаучной необходимостью осуществит тенденции настоящего и прошлого. Наше время воплощает более высокую мораль. При оценке нравственного уровня эпохи следует исходить не из понятий «нравственность» или «безнравственность», являющихся всегда лишь относительными, а в гораздо большей степени из направления и удельного веса главной общественной тенденции. Пессимистам, толкующим о нравственной испорченности нашего времени, нетрудно — ограничимся одним примером! — доказать, что столь часто осуждаемая эпоха Второй империи во Франции вовсе не отличалась такой же рафинированностью в своих эротических наслаждениях и эксцессах, как наше время, и они могут привести сотни примеров из самых разнообразных областей. И все-таки эти пессимисты не правы. Нравственность нашей эпохи все же выше… Так как решающее значение имеют как направление движения, так и степень противодействия нравственных сил. Никогда раньше первое не шло так сознательно вверх, к более высоким формам нравственности, и никогда интересы, разрушающие и разлагающие социальные обязанности, не встречали такого решительного отпора со стороны социальных добродетелей, как в настоящее время. И в этом надежные гарантии для будущего. В дальнейшем единобрачие станет наконец действительностью как для мужчин, так и для женщин. Эта истина осуществляется по мере того, как прокладывает себе путь новый общественный уклад, для которого индивидуальная половая любовь, как связь между двумя представителями противоположных полов, уже не будет простой фикцией, за которой скрывается грязный расчет, а единственной нормальной потребностью и единственным законом жизни. Отсюда следует вывод, совершенно очевидный для того, кто умеет вникать в смысл истории. Человечество стоит не в конце, а в начале своей истории, и притом в преддверии самой славной части этой истории.Уильям Шекспир

План исследования
 ак как уровень производства определяет весь жизненный процесс общества, следовательно, и нравственные нормы в области половых отношений, то отсюда вытекает, что последние должны быть одинаковыми при одинаковых экономических условиях. Не климат, язык или географические границы обусловливают собой различие или сходство нравственности разных стран и государств, а высота развития, достигнутая обществом.
Одинаковому уровню хозяйственного развития всегда соответствуют те же нравственные нормы. Нравственные нормы, соответствующие феодализму во Франции, должны походить на те, что в Германии, а нормы торговой эпохи в Германии совпадать с теми, которые царили в век торговли в Голландии, и т. д. Это соответствие всегда существовало в истории, нравственные нормы разных классов в одной и той же стране отличались друг от друга и в то же время были сходны с нравственными нормами соответствующих им сословий других стран.
Нравственные нормы современной английской буржуазии сходны с нормами немецкой, французской, итальянской, скандинавской и русской, отличаясь в то же время принципиально от норм, регулирующих половую жизнь английского мещанства и пролетариата, которые в свою очередь, похожи на те нормы, которым подчиняется половая жизнь мещанства и пролетариата других стран. Между половой моралью французского мелкого крестьянина и французской буржуазии существует целая пропасть, тогда как между половой моралью французского и немецкого крестьянина, поскольку они воплощают одинаковую степень общественного развития, различие сравнительно небольшое.
Так как не подлежит сомнению, что не климат, язык и географические границы определяют различия между нравственными нормами, а только экономические условия жизни, то допустимо рассматривать вместе страны, достигшие одинакового уровня хозяйственного развития, т. е. феодальную Францию с феодальной Германией, буржуазную Англию с буржуазной Францией, Германией, Голландией и т. д. Нет надобности делать постоянные принципиальные разграничения между Германией, Францией, Англией и т. д. Сопоставление разных государств важно еще по другой причине. Оно лучше подчеркивает связь между экономикой и идеологией.
ак как уровень производства определяет весь жизненный процесс общества, следовательно, и нравственные нормы в области половых отношений, то отсюда вытекает, что последние должны быть одинаковыми при одинаковых экономических условиях. Не климат, язык или географические границы обусловливают собой различие или сходство нравственности разных стран и государств, а высота развития, достигнутая обществом.
Одинаковому уровню хозяйственного развития всегда соответствуют те же нравственные нормы. Нравственные нормы, соответствующие феодализму во Франции, должны походить на те, что в Германии, а нормы торговой эпохи в Германии совпадать с теми, которые царили в век торговли в Голландии, и т. д. Это соответствие всегда существовало в истории, нравственные нормы разных классов в одной и той же стране отличались друг от друга и в то же время были сходны с нравственными нормами соответствующих им сословий других стран.
Нравственные нормы современной английской буржуазии сходны с нормами немецкой, французской, итальянской, скандинавской и русской, отличаясь в то же время принципиально от норм, регулирующих половую жизнь английского мещанства и пролетариата, которые в свою очередь, похожи на те нормы, которым подчиняется половая жизнь мещанства и пролетариата других стран. Между половой моралью французского мелкого крестьянина и французской буржуазии существует целая пропасть, тогда как между половой моралью французского и немецкого крестьянина, поскольку они воплощают одинаковую степень общественного развития, различие сравнительно небольшое.
Так как не подлежит сомнению, что не климат, язык и географические границы определяют различия между нравственными нормами, а только экономические условия жизни, то допустимо рассматривать вместе страны, достигшие одинакового уровня хозяйственного развития, т. е. феодальную Францию с феодальной Германией, буржуазную Англию с буржуазной Францией, Германией, Голландией и т. д. Нет надобности делать постоянные принципиальные разграничения между Германией, Францией, Англией и т. д. Сопоставление разных государств важно еще по другой причине. Оно лучше подчеркивает связь между экономикой и идеологией.
Истинная наука та, которую опыт заставил пройти сквозь чувства.Конечно, никогда не следует упускать из виду, что нравственные нормы страны в данную эпоху — всегда результат многих причин. Ни в одной стране эти законы не проявляются в чистом виде. Буржуазная Англия получает кое-что от абсолютистской Франции, буржуазная Франция — от феодальной Германии или феодальной России и т. д. Так как одновременное историческое освещение нравов различных стран европейского культурного мира находит свое оправдание в вышеуказанных мотивах, то мы и будем пользоваться этим методом. Мы ограничиваемся здесь именно этими странами, игнорируя как полуазиатские государства, вроде Сербии, Болгарии и Турции, так и чисто крестьянские страны, вроде Венгрии и т. д. Мы начнем изучение Нового времени с возникновения денежного хозяйства, рассмотрим различные фазы культурной истории Европы, связанные с этим экономическим принципом. Так определяется построение нашего исследования, его план. Мы начнем со времени упадка средневекового натурального хозяйства и возникновения торгового капитала. Это век цехов и господства городской буржуазии. Затем мы перейдем к эпохе антагонизма между старыми феодальными силами и новыми экономическими факторами, позволившими князьям держать один класс в подчинении при помощи другого и восторжествовать, таким образом, над обоими. Это — век княжеского абсолютизма. Наконец, нам остается исследовать развитие современного капитализма и окончательную ликвидацию феодализма, что в одних странах привело к экономическому и политическому господству буржуазии, а в других — к тому, что дворянство хотя и осталось политически господствующим сословием, но только в качестве преторианцев буржуазии. Таковы три главные эпохи экономического развития Европы со времени возникновения денежных отношений. Материал нашего исследования распределен на три тома. Каждой эпохе будет посвящен один из них, охватывая четко обозначенную историческую фазу развития. Чтобы придать каждому из трех томов законченный и целостный характер, мы должны рассмотреть каждую из этих трех хозяйственных эпох в полном объеме. Это означает, что мы не должны делить материал строго хронологически, например так: с XIV до XVI столетия, XVII и XVIII столетия, XIX век. Это было бы деление чисто механическое и в высшей степени неисторическое, поскольку отдельные эпохи постоянно переплетались. Так, например, век княжеского абсолютизма уже достигал своей кульминационной точки во Франции, когда в Голландии северный Ренессанс переживал свой пышнейший расцвет. В Англии буржуазное общество уже прочно утверждается, индустрия мощно движется вперед в то самое время, когда во Франции и Германии феодализм еще в течение десятилетий празднует свои пышные оргии. Поэтому необходимо точнее определить и обосновать, как мы будем проводить хронологические и географические границы в рамках первого тома. Разграничение следующих фаз будет обосновано уже в остальных томах. Начало Ренессанса обычно относят к середине Кватроченто (XV в.). Вся предыдущая эпоха обозначается словами «средние века». Конец Ренессанса принято относить к концу Чинквеченто (XVI в.).Леонардо да Винчи

Десятая заповедь. XVI в.
Против такого хронологического определения ничего нельзя возразить, если под понятием «Ренессанс» подразумевать только известную эпоху в истории искусства, ограниченную, с одной стороны, веком готики, с другой — веком барокко. Если же придавать этому термину более широкое историческое значение, если видеть в Ренессансе проявление совершенно нового культурного фактора — а это возможно, так как Ренессанс давно стал определенным культурно-историческим понятием, — если далее не ограничиваться одной страной, а обследовать все страны, где этот принцип воплотился в жизнь, то период времени, занимаемый Ренессансом, следует считать шире, т. е. необходимо включить в эти рамки все то, что в конечном счете однородно.
Жена худая — злое зелье,
А добрая жена — веселье.
Чтоб мир в семье был укреплен,
Воспитывать должны вы жен.
Ганс Сакс

Фрагменты
Фрагмент 1. Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»[17]
«...A насчет того, что вы говорите, будто постройка стен должна обойтись слишком дорого, то пусть только отцы города выставят мне вина, а уж я научу их самоновейшему и весьма дешевому способу воздвигать стены. — Какому же это? — спросил Пантагрюэль. — Вам я его открою, — сказал Панург, — только никому про это ни слова. По моим наблюдениям, главные женские приманки здесь дешевле камней. Вот из них-то и надобно строить стены: сперва расставить эти приманки по всем правилам архитектурной симметрии, — какие побольше, те в самый низ, потом, слегка наклонно, средние, сверху самые маленькие, а затем прошпиговать все это наподобие остроконечных кнопок, как на большой башне в Бурже, теми затвердевшими шпажонками, что обретаются в монастырских гульфиках. Какой же черт разрушит такие стены? Они крепче любого металла, им никакие удары не страшны. И если даже передки орудий станут об них тереться, — вот увидите (клянусь Богом), из этих благословенных плодов дурной болезни тут же потечет сок, напоминающий мелкий, да зато спорый дождь. Вот черт их дери! И молния-то в них никогда не ударит. А почему? А потому что они священны и благословенны. Тут есть только одно неудобство. — Хо-хо! Ха-ха-ха! Какое же? — спросил Пантагрюэль. — Дело в том, что мухи страсть как любят эти плоды. В одну минуту налетят, нагадят, — горе нам, горе, Папа римский опозорен! Впрочем, и от этого найдется средство: нужно покрыть плоды лисьими хвостами или же большущими причиндалами провансальских ослов. Мы скоро будем ужинать, так вот я вам кстати расскажу занятную историйку, которую frater Lubinus[18] приводит в своей книге «О попойках нищих». Однажды, в те времена, когда животные еще умели говорить (то есть дня три тому назад), какой-то злосчастный лев гулял по Бьеврскому лесу и бормотал себе под нос молитвы, а на одном из деревьев, под которыми случилось ему проходить, сидел злой угольщик и обрубал сучья; и вот, увидев льва, угольщик запустил в него топором и сильно ранил в бедро. Лев на трех ногах бросился в чащу леса в надежде, что кто-нибудь ему поможет, и вскоре повстречал плотника; плотник охотно согласился осмотреть его рану, постарался как можно лучше обмыть ее, наложил туда мху, наказал льву, чтобы тот не давал мухам садиться и гадить на рану, а сам пошел за тысячелистником. Лев выздоровел, и вот однажды, гуляя в том же самом лесу, увидел он, что какая-то древняя старуха рубит и собирает хворост. При виде льва старушонка со страху грохнулась навзничь, да так, что и платье и сорочка задрались у нее до плеч. Движимый состраданием, лев бросился к ней узнать, не ушиблась ли она, и, узрев непоказанное место, вскричал: «О бедная женщина! Кто тебя так поранил?» Затем он окликнул и позвал бежавшего мимо лиса: «Лис, куманек! Поди-ка сюда, ты мне нужен по важному делу!» Как скоро лис подошел, лев ему сказал: «Куманек, дружочек! Эту бедную женщину опасно ранили между ног, отчего произошел явный перерыв в ее земном бытии. Посмотри, как велика рана, — от заднего прохода до пупа. Ампана четыре будет, — нет, пожалуй, все пять с половиной наберутся. Это ее кто-нибудь пестом так хватил. Рана, по-моему, свежая. Так вот я тебя о чем попрошу: чтобы на нее не насели мухи, обмахивай ее получше хвостом и внутри и снаружи. Хвост у тебя хороший, длинный. Махай, голубчик, пожалуйста, махай, а я пойду наберу мху, чтобы заткнуть рану, — все мы должны помогать друг другу, так нам Господь заповедал. Махай сильней! Так, так, дружочек, махай лучше, такую рану должно почаще обмахивать, иначе бедной женщине невмоготу придется. Махай, куманечек, знай себе махай! Господь недаром дал тебе такой хвост, — он у тебя большой, с толстым концом. Помахивай и не скучай. Добрый мухоотмахиватель, который, беспрестанно отмахивая мух, махает своим махалом, никогда не будет мухами отмахнут. Махай же, проказник, махай, мой дьячок! Я не стану тебе мешать». Затем он пошел за мхом и, немного отойдя, крикнул: «Махай, махай, куманек! Махай, куманечек, и не сердись, что приходится махать много. Я тебя сделаю платным махателем, хочешь — при королеве Марии, хочешь — при доне Педро Кастильском. Только смотри махай! Махай, и все!» Бедный лис усердно махал и так и сяк, и внутри и снаружи, а в это время старая притворщица издавала звуки и смердела, как сто чертей. Несчастный лис находился в весьма затруднительном положении, ибо не знал, как ему повернуться, чтобы благоуханные старухины ветры не дули прямо на него. Когда же он зашел с другой стороны, то увидел, что на заду у нее тоже дыра, не такая, впрочем, большая, как та, которую он обмахивал, и вот из нее-то и исходило это зловонное и отвратительное дуновение. Наконец, лев возвратился, принес мху столько, сколько едва поместилось в восемнадцати вязанках, и начал пропихивать мох палкой; когда же он засунул добрых шестнадцать с половиной вязанок, то пришел в изумление: «Что за черт! Какая глубокая рана! Да туда войдет мху больше двух тележек». Лис, однако ж, остановил его: «Лев, дружище! Будь добр, не запихивай туда весь мох, оставь немножко, — там, сзади, есть еще одна дырка: вонь оттуда идет, как от сотни чертей. Я задыхаюсь от этого мерзкого запаха». Так вот почему должно охранять эти стены от мух и иметь платных мухоотмахивателей. Тут Пантагрюэль обратился к Панургу с вопросом: — Откуда ты выдумал, будто женские срамные части здесь так дешевы? В этом городе много женщин недоступных, целомудренных, а равно и девственниц. — Et ubi prenus?[19] — спросил Панург. — Я вам сейчас выскажу не мое личное мнение, — таково действительное положение вещей.Скажу не хвастаясь: я успел поддеть на удочку четыреста семнадцать с тех пор, как я в этом городе, а я и всего-то здесь девять дней, и вот только нынче утром встретился мне один добрый человек, который нес в переметной суме, вроде Эзоповой, двух девочек по третьему, от силы — по четвертому годику, одну — впереди, другую — сзади. Он попросил у меня милостыню, я же ему на это ответил, что у меня куда больше яичек, чем денег, а потом спросил: «Добрый человек! Что, эти две девочки — девственницы?» — «Братец! — отвечал он. — Я вот уже два года как их ношу, и если говорить о той, которая впереди, потому как она всегда у меня перед глазами, то она вроде как будто девственница, — впрочем, руку на отсечение я за это не дам. А насчет той, которая сзади, ничего определенного сказать не могу». — Какой же ты славный малый! — воскликнул Пантагрюэль. — Я велю одеть тебя в ливрею моих фамильных цветов. И он, точно, вырядил Панурга по последней моде; Панург только пожелал, чтобы гульфик на его штанах был в три фута длиною, и притом не круглый, а четырехугольный, что и было исполнено, и на Панурга после этого было одно удовольствие смотреть. И сам Панург часто говаривал, что род человеческий еще не знает всех преимуществ и всей пользы длинного гульфика, но со временем он-де это поймет, ибо все полезные вещи изобретаются в свое время. — Да хранит Господь того, кому длинный гульфик спас жизнь! — твердил он. — Да хранит Господь того, кому длинный гульфик принес в один день сто шестьдесят девять тысяч экю! Да хранит Господь того, кто благодаря своему длинному гульфику спас целый город от голодной смерти! Нет, ей-Богу, когда у меня будет больше свободного времени, я непременно напишу книгу «Об удобствах длинных гульфиков»! И точно: он написал большую прекрасную книгу с картинками, однако, сколько мне известно, в свет она еще не вышла…» Перевод Н. М. Любимова. Стихотворный перевод Ю. Корнеева. (Цитируется по изданию: Франсуа Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль. М., 1961.)Фрагмент 2. Маргарита Наваррская[20]. «Гептамерон»
«День I. Новелла VIII
Некий Борне, задумав изменить жене, которая была ему всегда верна, и решив поразвлечься со служанкой, рассказал об этом намерении своему другу, который пожелал принять участие в этой забаве. И вышло так, что Борне был убежден, что спит со служанкой, тогда как в действительности это была его собственная жена, и он, ничего не подозревая, поделился со своим приятелем удовольствием, на которое только он один имел право, и сам наставил себе рога, уберегши, однако, свою жену от позора. В графстве Аллэ жил некий молодой человек по имени Борне, который женился на женщине весьма добродетельной и всегда высоко ценил ее ничем не запятнанную честь, как, я полагаю, ценят ее в своих женах и все присутствующие здесь мужья. Но хоть он и желал, чтобы жена оставалась ему верна, он нимало не считал себя обязанным отвечать ей тем же и прельстился собственной служанкой, причем удовольствия от этого он, по всей вероятности, мог испытать не больше, чем людям приносит подчас небольшое разнообразие в пище. У него был сосед, человек одинакового с ним положения, по имени Сандра, портной и любитель играть на барабане, и между ними была такая дружба, что они делили все, кроме жен. Само собой разумеется, Борне посвятил приятеля в свои намерения относительно служанки, и тот их не только одобрил, но и постарался помочь осуществить его план, надеясь впоследствии получить и свою долю. Служанка же решительно отказалась уступить просьбам своего господина и, видя, что тот никак не дает ей прохода, рассказала обо всем его жене и попросила ту отпустить ее к родителям, ибо она не в силах больше терпеть подобную муку. Госпожа ее, которая очень любила своего супруга и не раз уже подозревала его в измене, очень обрадовалась, что ей удастся наконец поймать его с поличным. И вот что она сказала служанке: — Будь с ним подобрее, моя милая, поговори с моим муженьком поласковее, а потом назначь-ка ему ночью свидание у меня в гардеробной. А как только он придет, дай мне знать, да смотри, чтобы никто ничего не проведал. Служанка исполнила в точности все, что велела ее госпожа. Супруг ее был так счастлив, что ему захотелось на радостях отблагодарить приятеля, а тот упросил его поделиться с ним удовольствием, которое его ожидало. Обещание было дано, и назначенный час настал. Хозяин отправился в гардеробную, чтобы свидеться там, как он полагал, со служанкой. Но жена его, отказавшись от прав хозяйки ради удовольствия послужить, расположилась в гардеробной на том самом месте, где должна была находиться служанка, и встретила вошедшего с притворным удивлением и страхом, свойственным девушкам, так что супруг ее ни о чем не мог догадаться. И уж не знаю, кто из них двоих чувствовал себя счастливее, — он ли, считая, что обманывает свою жену, или она при мысли, что проучила мужа за его неверность. Пробыв с нею не столько, сколько ему хотелось, но столько, сколько он мог выдержать, ибо был он уже не очень молод, Борне вышел из дома и, увидев приятеля, стал хвастаться перед ним тем, что нашел товар лучше, чем ожидал. Тогда приятель его сказал: — А обещание ты свое помнишь? — Беги туда поскорее, — сказал Борне, — а то она поднимется и уйдет или, чего доброго, жена моя ее позовет. Приятель его сразу же разыскал мнимую служанку, которая все еще лежала на прежнем месте, и, думая, что это возвращается ее муж, не отказала ему в том, о чем он ее просил (я имею в виду, что он просил молча, ибо заговорить с ней он не решился). И задержался он там дольше, чем ее муж; женщина осталась очень довольна и была приятно удивлена, так как не была избалована такими ночами. У нее, однако, хватило выдержки промолчать, ибо она задумала на следующий день напомнить мужу обо всем и как следует над ним посмеяться. На рассвете приятель Борне поднялся с кровати и напоследок поиграл с ней еще немного, а уходя, снял у нее с пальца обручальное кольцо. А в этих краях женщины очень суеверны и почитают тех, кто свято хранит обручальное кольцо до самой смерти. Если же одна из них случайно его потеряет, то это считается большим позором, как будто она действительно изменила мужу. Поэтому женщина эта была очень довольна, что именно муж снял у нее с пальца кольцо, решив, что у нее есть теперь против него улика. — Ну что? — спросил Борне, когда приятель его возвратился. Тот ответил, что он тоже очень доволен и что, если бы не страх, что с наступлением утра его там обнаружат, он остался бы у нее и подольше. Оба мужчины легли отдыхать и проспали долго. А на следующий день, одеваясь, Борне заметил вдруг на пальце приятеля кольцо, как две капли воды похожее на то, которое он подарил жене в день свадьбы, и спросил, откуда оно у него взялось. Когда же он услыхал, что тот снял его с пальца служанки, изумлению его не было границ…» Перевод А. М. Шадрина. (Цитируется по изданию: Маргарита Наваррская. Гептамерон. Л., 1967.)Фрагмент 3. Маргарита Наваррская. «Гептамерон»
«День V. Новелла XLV
По просьбе жены обойщик наказал свою служанку, которая ему нравилась, и сделал это так, что она получила то, на что, кроме жены, ни одна женщина не имела права. Жена же была настолько простодушна, что не поверила, что муж ее обманывает, несмотря на то что соседка сказала ей об этом. В городе Туре проживал обойщик, служивший у покойного герцога Орлеанского, сына Франциска Первого[21], человек неглупый и в своем деле очень искусный… Женился он на весьма достойной женщине, с которой жил в мире и дружбе… В доме их жила одна очень дородная служанка, в которую обойщик влюбился. Однако, опасаясь, как бы об этом не проведала его жена, он нередко делал вид, что недоволен ею, и всячески поносил ее, говоря, что такой ленивой девки он сроду не видывал, да и неудивительно, что она такая, ведь за все время хозяйка ее ни разу еще не отколотила. И вот однажды, когда приближался День избиения младенцев[22] и они заговорили об этом, обойщик сказал жене: — Непременно надо проучить эту ленивицу, но только ты для этого не годишься: в руках у тебя нет силы, а в сердце слишком много жалости. А вот если я этим займусь, то, увидишь, она исправится и будет работать лучше. Бедная женщина, которая была далека от мысли в чем-нибудь его заподозрить, попросила, чтобы он сам наказал служанку, признавшись, что она действительно слишком для этого слаба и что ей будет ее жалко. Муж охотно взялся учинить эту расправу и, приняв суровый вид, послал купить розги, причем велел выбрать самые тонкие, какие только продавались. А для того чтобы показать, что он действительно беспощаден, велел смочить эти розги в рассоле, так что его бедная жена преисполнилась жалости к служанке: ей и в голову не могло прийти в чем-нибудь заподозрить мужа. Когда настал День избиения младенцев, обойщик встал пораньше и поднялся наверх в комнату служанки, где та была одна. И там он действительно устроил ей «избиение», но совсем не такое, о котором помышляла жена. Служанка расплакалась, но он не обратил внимания на ее слезы. И, опасаясь, как бы не пришла жена, он стал хлестать розгами деревянную кровать — и с такою силой, что переломал все прутья, а обломки принес жене и сказал: — Ну, душа моя, эта негодница долго теперь будет помнить День избиения младенцев. Когда обойщик ушел из дома, несчастная служанка кинулась на колени перед своей госпожой и стала говорить, что ее муж нехорошо с нею поступил. Но та, решив, что она жалуется на то, что ее высекли, — ибо не сомневалась, что это действительно было так, — оборвала ее на полуслове: — Муж мой правильно сделал, вот уже больше месяца, как я его об этом просила. И если тебе было больно, то я этому только рада, вини в этом меня, да к тому же он еще мало тебя проучил. Служанка, видя, что хозяйка ее одобряет поведение мужа, решила, что, может быть, это не такой уж великий грех, как ей казалось, раз делается по наущению той, кого она считала образцом добродетели. И она об этом больше не заикнулась. Обойщик же, видя, что жене его столь же приятно быть обманутой, как ему — обманывать, решил почаще доставлять ей это удовольствие и так хорошо потрафлял этой девушке, что теперь, после «избиения младенцев», она уже больше не плакала. Так это тянулось долго, и жена ничего не замечала, а потом снова настала зима и выпало много снега. В летнее время обойщик устраивал «избиение младенцев» у себя в саду на траве, теперь же решил все это учинить на снегу. И однажды утром, пока весь дом еще спал, он вывел служанку в сад в одной рубашке, чтобы распять ее на снегу, и после того, как они вволю покатались по снегу, они стали играть и в «избиение младенцев». Это заметила одна из соседок, которая в это время подошла к окну, чтобы посмотреть, какая погода. Увидав сие непотребство, она так возмутилась, что решила все рассказать своей приятельнице, дабы ее нечестивцу супругу впредь было неповадно ее обманывать и дабы она больше не держала у себя в доме такую поганую девку. Насладившись игрою, обойщик огляделся вокруг, чтобы удостовериться, что их никто не заметил. И вдруг он увидел в окне соседку, чем был несказанно огорчен. Но человек этот умел придавать любой материи нужный ему цвет и решил, что и тут сумеет придать всему такой вид, что соседка попадется на его обман, так же, как попалась жена. Он поспешно пошел домой и улегся в постель, а потом сразу же встал и поднял жену и вывел ее в сад в одной рубашке, как перед этим выводил служанку. И долго забавлялся с нею, как перед этим забавлялся с той, а потом учинил и над ней «избиение младенцев», после чего оба снова улеглись спать. Когда наутро добрая женщина отправилась в церковь, соседка ее, бывшая с ней в большой дружбе, сидела уже там и, ничего ей не объясняя, очень настойчиво стала упрашивать ее прогнать служанку, говоря, что это дрянная и опасная девка. Но женщина эта решила сначала узнать, почему соседка ее стала так плохо думать об этой девушке. И в конце концов та рассказала ей, что видела служанку утром в саду вместе с ее мужем. Жена только расхохоталась и воскликнула: — Эх, кумушка, дорогая моя, да ведь это же была я! — Как так ты? Она была в одной рубашке, и это было утром, часов около пяти. — Клянусь тебе, дорогая, это была я, — ответила ей кума. — Но они катались в снегу, — продолжала соседка, — а потом хватали друг друга за грудь, потом за другие места и так друг друга ласкали. — Да, да, кумушка, это была я. — Послушай, дорогая, но ведь я же видела, как потом на снегу они делали то, что, по-моему, и некрасиво, и непотребно. — Кумушка, — сказала ее подруга, — я же сказала тебе и говорю еще раз, что это была я, это я делала все, что ты говоришь, мы с муженьком моим развлекаемся иногда такой игрой. Уж будь добра, не сердись на это, ты же ведь знаешь, что мужей надо ублажать. И добрая женщина ушла еще более довольная, что у нее такой муж, чем она была до разговора с соседкой. А когда обойщик вернулся к жене, она передала ему все, что о нем рассказала соседка. — Ну вот видишь, милая, — отвечал обойщик, — если бы ты не была женщиной порядочной и такой умницей, мы бы уже давно должны были расстаться. Но я надеюсь, что Господь поможет нам и впредь жить в дружбе — во славу Ему и на радость нам. — Аминь, друг мой, — сказала жена, — я тоже надеюсь, что тебе на меня никогда не придется жаловаться…» Перевод А. М. Шадрина. (Цитируется по изданию: Маргарита Наваррская. Гептамерон. Л., 1967.) Примечания, фрагменты и комментарииФрагмент 4. Джованни Боккаччо[23]. Декамерон
«День VI. Новелла VII
Мадонна Филиппа, захваченная мужем с ее любовником и вызванная в суд, освобождает себя быстрым, шутливым ответом и дает тем повод изменить закон. …В городе Прато был когда-то закон, не менее достойный порицания, чем жестокий, повелевающий безразлично предавать сожжению как женщину, захваченную мужем в прелюбодеянии с любовником, так и ту, которую нашли бы отдавшейся кому-нибудь за деньги. Пока действовал этот закон, случилось, что одна благородная и красивая дама, влюбленная более, чем какая-либо иная, по имени мадонна Филиппа, найдена была однажды ночью мужем своим, Ринальдо деи Пульези, в ее собственной комнате в объятиях Ладзарино деи Гваццалльотри, из того же города, благородного и прекрасного юноши, которого она любила, как самое себя. Когда увидел это Ринальдо, сильно разгневавшись, едва удержался, чтобы не броситься на них и не убить, и, если бы не опасение за самого себя, он так бы и сделал, следуя влечению своего гнева. Воздержавшись от этого, он не воздержался от желания потребовать от законов Прато того, чего сам не имел права учинить, то есть смерти своей жены. Потому, имея в доказательство ее проступка весьма достаточные свидетельства, лишь только настал день, он, ни у кого не спросившись, обвинил жену и вызвал ее в суд. Дама, очень решительная, как обыкновенно бывают все истинно влюбленные, твердо решила явиться, хотя ее и отговаривали многие друзья и родные, ибо желала скорее мужественно умереть, объявив истину, чем, бежав малодушно, жить вследствие неявки в изгнании и оказаться недостойной такого любовника, каков был тот, в чьих объятиях она провела прошлую ночь. В большом сопровождении женщин и мужчин, убеждавших ее отречься, она, представ перед подестой, со спокойным лицом и твердым голосом спросила, что ему от нее нужно. Подеста поглядел на нее и, видя, что она очень красива и держит себя очень похвально и, судя по ее речам, женщина сильная духом, ощутил к ней жалость и боязнь, как бы она не призналась в чем-нибудь, за что ему пришлось бы, оберегая свою честь, осудить ее на смерть. Тем не менее, не будучи в состоянии обойтись без допроса о том, что было на нее взведено, он сказал: «Мадонна, вот, как видите, муж ваш Ринальдо жалуется на вас, говоря, что застал вас в прелюбодеянии с другим мужчиной, и потому требует, чтобы я, согласно с одним существующим законом, наказал вас за это, приговорив вас к смерти; но я не могу сделать это, если вы не сознаетесь; поэтому подумайте хорошенько, что вы станете отвечать, и скажите мне, правда ли то, в чем обвиняет вас муж». Дама, ничуть не растерявшись, отвечала очень веселым голосом: «Мессер, верно, что Ринальдо — мне муж и что в прошлую ночь он нашел меня в объятиях Ладзарино, в которых, по истинной и совершенной любви, которую я к нему питаю, я бывала много раз. От этого я никогда не отрекусь; но вы знаете, — я в том уверена, — что законы должны быть общие, постановленные с согласия тех, которых они касаются, что не оправдывается этим законом, ибо он связывает бедных женщин, которые гораздо более, чем мужчины, были бы в состоянии удовлетворить многих; кроме того, не только ни одна женщина не выражала на него своего согласия, когда его постановляли, но ни одна не была и призвана, почему он по справедливости может быть назван злостным. Если вы хотите, в ущерб моего тела и своей души, быть его исполнителем, это ваше дело; но, прежде чем вы приступите к какому-либо решению, я попрошу у вас небольшой милости, то есть, чтобы вы спросили моего мужа, не принадлежала ли я ему всецело всякий раз и сколько бы раз ему ни желалось, или нет». На это Ринальдо, не выжидая, чтобы подеста спросил его, тотчас же ответил, что без сомнения его жена по всякой его просьбе всегда подчинялась его желанию. «Итак, — быстро продолжала жена, — я спрашиваю, мессер подеста: если он всегда брал с меня все, что ему было надобно и нравилось, что мне-то было и приходится делать с тем, что у меня в излишке? Собакам, что ли, бросить? Не лучше ли услужить этим благородному человеку, любящему меня более самого себя, чем дать ему потеряться или испортиться?» На это следствие, к тому же по поводу такой и столь известной дамы, собрались почти все жители Прато, которые, услышав столь потешный вопрос, вдоволь нахохотавшись, тотчас же почти единогласно закричали, что жена права и говорит ладно; и, прежде чем разойтись оттуда, с поощрения подесты, изменили жестокий закон и положили, чтоб он касался лишь тех жен, которые из-за денег проступаются против своих мужей. Таким-то образом Ринальдо, смущенный своею глупой затеей, удалился из суда, а жена, веселая и свободная, будто восстав из костра, вернулась домой со славой». Перевод Л. Н. Веселовского. (Цитируется по изданию: Джованни Боккаччо. Декамерон. М, 1999.)Фрагмент 5. Бонавентур Деперье[24]. «Новые забавы и веселые диалоги»
«Новелла V
Про трех сестер-невест, которые дали своим женихам в первую брачную ночь умный ответ. В провинции Анжу жил когда-то один дворянин, который был и богат, и знатен, и, только немного больше, чем следует, падок на увеселения. У него были три прелестных, обворожительных дочери в возрасте, когда уже самая младшая ждала битвы один на один. Они рано остались без матери. Не будучи еще старым, отец продолжал держаться своих прежних добрых обычаев: собирал в своем доме всякие веселые сборища, устраивал балы и задавал пиры. А так как он был от природы человеком снисходительным и легкомысленным и не очень заботился о своих домашних делах, то его дочери могли совершенно свободно забавляться с молодыми дворянами, которые обычно беседуют с девицами не о вздорожании хлеба и не о политике. Кроме того, отец, как и все люди, не чуждался любовных забав, и это давало его дочерям право позволять влюбляться в себя, а также и любить самим, ибо, имея доброе сердце и гордясь своим благородным происхождением, они считали неблагородным и невежливым позволять любить себя и не отвечать тем же. А поэтому, ежедневно и ежечасно преследуемые вздохами и ласками, они сжалились над своими поклонниками и начали с ними забавляться в уединенных местах. Этими забавами они так увлеклись, что вскоре обнаружились их последствия. Старшая, самая зрелая и бойкая, не доглядела, как у ней начал пухнуть живот, и, спохватившись, когда уже было поздно, изрядно струхнула, ибо не знала, каким образом удержать это в тайне. И вот дочь, не зная у кого попросить совета и не смея удалиться из общества без позволения отца, была вынуждена поведать ему о своем горе. Под предлогом болезни он немедленно отправил старшую дочь за несколько миль от дому к одной из своих теток (врачи-де сказали, что ей полезно переменить воздух) — пусть погостит у ней, пока не выйдут ножки. Но одно счастье всегда влечет за собой другое, и в то время, когда старшая заканчивала свои дела, средняя начинала. Может быть, Бог наказал ее за то, что она подсмеивалась над старшей сестрой. Словом, и у нее потяжелело на сердце, то бишь во чреве, и отец тоже узнал об этом. «Ну и слава Богу! — сказал он. — Пусть человеческий род умножается. И мы ведь тоже когда-то родились». А затем он отправился к младшей дочери, заподозрив и ее. Та еще не была беременной, хотя и исполняла свой долг, как умела. «Ну, а у тебя, дочь моя, как дела? Не идешь ли ты по стопам старших сестер?» Дочь, будучи еще очень молода, не могла сдержать румянца, и отец решил, что его подозрение подтвердилось. «Ну что ж? — сказал он. — Пусть Бог пошлет тебе счастья и избавит нас от худшей беды!» Однако же было время придумать какой-нибудь выход из этого неприятного положения, и он понял, что самый лучший выход — это выдать дочерей как можно скорее замуж. Он сошелся с одним богатым дворянином, у которого было трое рослых молодцов сыновей, мастерски танцевавших паспье и триори, отличных борцов, не боявшихся схватиться с любым силачом. Наш дворянин весьма обрадовался этой находке и, так как дело у него было спешное, немедленно условился с отцом и его тремя сыновьями, что они возьмут всех его трех дочерей и даже одновременно сыграют свадьбу, т. е. женятся все в один день. Накануне свадьбы отец позвал к себе всех трех дочерей. «Подите-ка сюда! — сказал он. — Все вы знаете, какую вы сделали ошибку и сколько причинили мне хлопот. Если бы я был строгим отцом, я отказался бы признавать вас своими дочерьми и лишил бы вас прав на мои владения. Но я решил, что лучше принять на себя один раз заботы и поправить дело, нежели причинить вам горе и жалеть о вашем глупом поступке всю жизнь. Я привез вам сюда по мужу. Постарайтесь оказать им хороший прием, не робейте, и вы не пропадете. Если они что-нибудь заметят — черт с ними! Зачем сюда приехали? За ними пришлось съездить. Когда ваше дело устроится, вы ведь не будете с ними церемониться, не так ли?» Все три дочери улыбнулись и ответили: «Так». — «Прекрасно, — сказал отец, — вы им еще ничем не напроказили, но если вы в будущем не сумеете вести себя как следует, то ко мне больше не обращайтесь. Зарубите себе это на носу. Я же обещаю вам забыть ваши прошлые ошибки, а чтобы вы были смелее, я прибавлю еще двести экю той, кто из вас сумеет лучше всех ответить своему жениху в первую ночь». На другой день состоялись свадьбы. Ели, пили, танцевали — чего еще больше? По окончании бала все три девы легли со своими женихами в постели. Жених самой старшей, лаская ее, ощупал у ней живот и обнаружил на нем небольшую складку. Он догадался, что его надули. «Ого! — сказал он. — Птички-то уже вылетели!» А невеста, весьма довольная, ответила: «Ступайте в гнездо». Такова одна! Жених второй сестры, гладя ее, нашел, что живот у нее несколько кругловат. «Как? — сказал он. — Амбар уже полнехонек?» — «Постучите в дверь», — ответила невеста. Вот уже и две! Жених третьей сестры, забавляясь с нею, скоро понял, что он не первый. «Дорожка проторена!» — сказал он. «Зато не заблудитесь!» — ответила младшая. Вот и все три! Ночь прошла. На другой день они пришли к отцу и поочередно изложили ему обо всем происшедшем. Queritur[25], которой из них отец должен был отдать обещанные двести экю? Подумайте. Мне кажется, вы согласитесь со мною, что они должны были либо поделить их между собою, либо получить каждая по двести экю, propter mille rationes, quarum ego dicain tantum unam brevitatis causa[26], ибо все они показали свое усердие, а всякое усердие подтверждается делом, ergo in tantum consequentia est in Barbara[27] и так далее. Кстати, если вы не рассердитесь, я задам вам по этому поводу вопрос: что вы считаете лучше, получить рога до брака или после брака? Не торопитесь с ответом, что до брака лучше, чем после брака, ибо вы понимаете, какое это редкое удовольствие жениться на девственнице. Ведь если она наставит вам рога после свадьбы, то это удовольствие навсегда остается за вами (я говорю не о рогах, а о том, что она досталась вам девственницей). Помимо того, она доставит вам всякие протекции и выгоды». Перевод В. И. Пикова. (Цитируется по изданию: Бонавентур Деперье. Кимвал мира. Новые забавы. М.—Л., 1936.)Фрагмент 6. Франко Саккетти[28]. «Триста новелл»
«Новелла XIV
Альберто, который имел дело со своей мачехой и которого застал отец, забавно оправдывается странными доводами. …У означенного Альберто была мачеха, очень молодая, крепкая и дородная, с которой, как это часто бывает, он никак не мог ужиться. Не раз жалуясь на свое положение некоторым из своих товарищей, он получал от них следующий совет: — Альберто, — говорили они, — если ты не найдешь способа иметь с ней дело, нипочем не надейся жить с ней иначе, как во вражде и в ссоре. Альберто говорит им: — Вы так думаете? А те отвечают: — Мы в этом твердо уверены. И говорит им Альберто: — Это был бы слишком большой грех! Если я это сделаю и это дойдет до ушей инквизитора, он с меня шкуру сдерет и, не задумываясь, отправит на тот свет. И, делая вид, что ему не хватит на это духу, он уклонился от разговора, а про себя решил последовать их совету. И не с глухим они говорили: в один прекрасный день, когда отец вышел, а жена его оставалась в спальне, Альберто без долгих слов, которых он толком и произнести-то не мог, приступил к делу, и оба они перебрались на кровать, и мир был заключен… Но в один прекрасный день, когда он и она улеглись в полдень, отец, уходивший по хозяйству, вернулся и, поднявшись неожиданно наверх, застиг на кровати жену и Альберто. Альберто, увидав отца, бросается на лавку у стены, а отец хватает дубинку, чтобы его отлупить, говоря: — Гнусный предатель, а ты — подлая блудница! И Альберто то приседает, то выпрямляется, следуя за взмахами отцовской дубинки, и оба они кричат что есть мочи, и все соседи сбегаются на шум, говоря: — Что это значит? Альберто говорит: — Это мой отец, который столько раз имел дело с моей матерью, а я ни разу не сказал ему дурного слова; а теперь, когда он увидел, что я лежу с его женой только из добрых к ней чувств, он, видите ли, хочет меня убить. Соседи, услыхав довод, приводимый Альберто, сказали отцу, что он не прав, и, отведя его в сторону, сказали, что с его стороны неразумно обнаруживать то, что следовало бы скрывать, и убедили его, что, судя по нраву Альберто, он залез на кровать не по злому умыслу, а просто из дружеского расположения к мачехе и потому, что ему захотелось спать. На этом отец успокоился, а жена его примирилась с Альберто благодаря завязавшейся между ними дружбе, и отныне каждый делал свои дела настолько скрытно и настолько тихо, что отцу, пока он был жив, больше не приходилось пускать в ход свою дубинку…» Перевод А. Габричевского. (Цитируется по изданию: Итальянская новелла Возрождения. М., 1964.)Фрагмент 7. Боккаччо. «Декамерон»
«День III. Новелла II
Один конюх спит с женой короля Агилульфа, о чем король тайно узнает и, разыскав его, остригает ему волосы. Остриженный конюх остригает всех других и таким способом выпутывается из беды. …Агилульф, король лангобардов, подобно тому, как делали его предшественники, поставил столицей своего царства ломбардский город Павию и взял себе в жены Теоделинду, вдову Аутари, бывшего также лангобардским королем, очень красивую, умную и очень честную, но мало удачливую на любовника. Когда благодаря доблести и уму короля Агилульфа дела лангобардов пребывали некоторое время в благополучии и мире, случилось, что один из конюхов означенной королевы, человек по роду низкого состояния, хотя во всем другом гораздо выше своего презренного ремесла, из себя такой же красивый и высокий, как и король, безмерно влюбился в королеву. Так как его низкое положение не лишило его понимания, что такая любовь была вне всякого благоприличия, он, как человек умный, никому в том не открылся, даже и ей не смел признаться хотя бы взглядом; и, хотя он жил без всякой надежды когда-либо понравиться ей, он все-таки гордился, что направил высоко свою мысль, и, как человек, всецело горевший любовным пламенем, более, чем кто-либо из его товарищей, с тщанием делал все, что, по его мнению, должно было понравиться королеве. Почему, бывало, при выезде верхом королева с большой охотой садилась на лошадь, за которой ходил он, а не другие; когда это случалось, он почитал это за величайшую милость и никогда не отлучался от ее стремени, считая себя счастливым, когда мог порой коснуться хотя бы ее платья. Но, как нам часто приходится видеть, что чем меньше становится надежда, тем сильнее любовь, так случилось и с бедным конюхом; ему было крайне тяжело выносить великую страсть, скрывая ее, как он то делал, и без поддержки какой бы то ни было надежды, и много раз, не будучи в состоянии отказаться от своей любви, он решил умереть. Раздумывая о способах смерти, он решился избрать такой, из которого было бы ясно, что он умер из-за любви, которую питал и питает к королеве. И он пожелал, чтобы этот способ был таков, чтобы при его помощи он мог попытать удачи: удовлетворить всецело или отчасти свое желание. Он не отважился ни говорить с королевой, ни в письме открыть ей свою любовь, ибо знал, что тщетно стал бы говорить или писать, но он пожелал испробовать, не удастся ли хитростью проспать с ней ночь. И не было другого способа и пути, как найти средство пробраться, проникнув в ее комнату под видом короля, который, как он знал, не всегда спал с ней вместе. Для того чтобы узнать, как и в какой одежде ходит король, когда посещает ее, он несколько раз прятался в большом зале королевского дворца (находившемся между покоями короля и королевы) и в одну из ночей увидал, как король вышел из своей комнаты, закутанный в большой плащ, с зажженным факелом в одной руке и с тростью в другой; как он подошел к комнате королевы и, не говоря ни слова, постучал этою тростью раз или два в дверь комнаты, и как ему немедля отперли и взяли из рук факел. Увидев это, а также увидев его возвращавшимся, он надумал поступить так же. Найдя возможность запастись плащом, похожим на тот, какой был на короле, факелом и тростью, вымывшись предварительно в ванне, дабы запах навоза не обеспокоил королеву и не дал ей заметить обмана, он со всем этим по обыкновению спрятался в большом зале. Когда он убедился, что все спят, и ему показалось, что настало время либо удовлетворить свое желание, либо столь достойным способом открыть себе путь к желанной смерти, он при помощи кремня и огнива, принесенных с собой, выбил немного огня, зажег свой факел и, закрывшись и закутавшись в плащ, подошел к двери комнаты и два раза постучал тростью. Дверь была отворена полусонной служанкой, факел взят из рук и припрятан, тогда как он, не говоря ни слова, пошел за полог и, сняв плащ, лег в постель, где спала королева. Он страстно заключил ее в объятия, но притворился расстроенным (так как знал, что у короля была привычка в дурном настроении духа никого не слушать), и, не говоря и не выслушав ни слова, несколько раз телесно познал королеву И как ни тяжело ему было уходить, но, боясь, чтобы долгое промедление не дало повод испытанному удовольствию обратиться в печаль, он встал, взял свой плащ и факел, ушел, не говоря ни слова, и насколько возможно скоро вернулся в свою постель. Но едва добрался он до нее, как король встал и направился в комнату королевы, чему она чрезвычайно удивилась, и, когда он был уже в постели и весело поздоровался с ней, она, ободренная его приветливостью, сказала: «Что это за новость сегодня, государь мой? Вы только что ушли от меня и, необычайно мною насладившись, возвращаетесь так скоро? Берегитесь этих дел». Король, услышав эти речи, тотчас догадался, что королева была обманута сходством повадки и наружности, но, как умный человек, видя, что ни королева, ни кто другой того не заметил, решил и ей не дать того заметить. Так не поступили бы многие глупцы, а сказали бы: «Я не приходил: кто тот, кто был здесь? Как было дело? Кто он?» Из чего произошло бы много неприятного, чем он напрасно опечалил бы королеву, дал бы ей повод пожелать в другой раз того, чего она уже отведала, и навлек бы на себя посрамление, рассказав о деле, умолчание которого не принесло бы ему никакого стыда. Итак, король ответил, раздраженный более в душе, чем по виду и на словах: «Жена, разве я не кажусь тебе мужчиной, способным вернуться сюда вторично после того, как был здесь?» На что та ответила: «О, конечно, государь мой, но тем не менее я прошу вас поберечь ваше здоровье». Тогда король сказал: «Мне хочется последовать твоему совету, и на этот раз, не досаждая тебе более, я уйду». С душой, полной гнева и негодования на то, что, как он уразумел, над ним проделали, он взял свой плащ, вышел из комнаты и задумал без шума разыскать того, кто это совершил, предполагая, что то должен был быть кто-либо из домочадцев и что он, кто бы то ни был, не мог еще скрыться из дома. Итак, взяв крошечную свечу в небольшом фонаре, он направился в длинную постройку над конюшнями дворца, где спала по разным постелям почти вся его челядь, и, полагая, что у того, кто бы он ни был, кто проделал рассказанное ему женой, ни пульс, ни биение сердца от совершенного усилия не могли еще успокоиться, стал потихоньку, начиная с одного конца зала, ощупывать грудь каждого, чтобы узнать, как бьется сердце. Хотя все другие спали крепко, но тот, который был у королевы, еще не спал, вследствие чего, увидев входящего короля и поняв, испугался, так что к биению сердца, вызванному усилием, страх присоединил еще больше, и он твердо был убежден, что, раз король это заметит, он тотчас же велит его убить. И хотя различные соображения приходили ему в голову относительно того, что ему предпринять, видя короля безоружным, он решился представиться спящим и выждать, что станет делать король. Осмотрев многих и не найдя никого, кого бы он признал за разыскиваемого, он подошел к нему и, найдя его сердце сильно бьющимся, сказал про себя: «Вот он!» Но как человек, не желавший, чтобы проведали что-либо о том, что он затевает сделать, он не учинил ему ничего иного, как только отрезал у него принесенными им ножницами с одной стороны клок волос, которые в то время носили очень длинными, и это для того, чтобы его этой примете он мог на следующее утро признать его; сделав это, он ушел и вернулся в свой покой. Конюх, который все видел, как парень хитрый, ясно понял, зачем он был так помечен, почему, не теряя времени, встал и, найдя ножницы, которых, к счастью, было несколько штук в конюшне для стрижки лошадей, тихонько подошел к лежавшим, сколько их ни было в том зале, и у каждого также выстриг над ухом по пряди волос. Совершив это, никем не замеченный, он снова пошел спать. Встав поутру, король приказал, чтобы, прежде чем будут отперты ворота дворца, все домочадцы явились к нему; так и было исполнено. Когда все с непокрытыми головами стояли перед ним, он начал оглядывать их, чтобы найти выстриженного им, но, увидев, что большинство обстрижено таким же точно способом, изумился и сказал про себя: «Тот, кого я ищу, хотя и низкого происхождения, но выказывает себя человеком высокого разума». Затем, уверившись, что без огласки он не мог бы найти того, кого искал, и решив из-за мелкой мести не навлекать на себя великого бесславия, он решил усовестить его одним словом и дать ему понять, что ему все известно, и, обратившись ко всем, сказал: «Пусть тот, кто это сделал, не делает того никогда более; ступайте с Богом!» Другой пожелал бы предать их пытке, мучениям, расследованиям и допросам и, поступив так, открыл бы то, что каждый должен стараться скрыть; а открыв виновного, хотя бы и отомстил ему вполне, не уменьшил бы, а увеличил тем свой позор и осквернил честь своей жены. Те, кто слышал эти слова короля, удивились и долго обсуждали промеж себя, что король хотел этим сказать, но не было никого, кто бы это понял, за исключением того, кого одного они касались. А он, как человек умный, никогда при жизни короля того не открывал и никогда более не подвергал своей жизни случайностям в подобного рода деле». Перевод А. Н. Веселовского. (Цитируется цо изданию: Джованни Боккаччо. Декамерон. М, 1999.)Фрагмент 8. Франческо Граццини Ласка. Из «Вечерних трапез»
«Новелла VI
Священник церкви Сан Фелине в Эме наслаждается с Меей, пообещав ей гусака, но обманывает ее. Затем он возвращается, но Мея в свою очередь ловко надувает его, так что священник, потеряв вновь принесенного гусака и каплунов в придачу, будучи не в состоянии передвигаться, в самом плачевном виде доставлен домой. Как вам должно быть известно, один из обычаев, неизменно исполняемый в нашей округе, таков: когда в церкви какого-нибудь селения отмечается церковный праздник, то ее священник приглашает на торжество пастырей из окрестных мест. Итак, когда черед дошел до церкви в Портико, туда, по приглашению местного пастыря, сошлись все соседние священники. Был среди них и некий мессер Агостино, священник прихода Сан Феличе в Эме, расположенного неподалеку. Сей священник во время песнопений торжественной мессы случайно обратил внимание на красивую молодую женщину весьма пристойного вида и, спросив кое-кого, кто она такая, узнал, что она местная жительница из простолюдинок. Эта прихожанка смутила и взбудоражила воображение священника, и он в течение всей службы любовался ею не без вожделения. Итак, когда положенные молитвы были прочитаны и служба окончена, прихожане разошлись по домам обедать; то же сделали и пастыри. Мессер Агостино, выйдя вечером на улицу, чтобы немного освежиться, увидел, к своему удовольствию, ту молодую женщину, что так приглянулась ему в церкви за обедней. Она сидела у порога своего дома. Это была Мея, жена каменщика, которая на свежем воздухе развлекалась в обществе соседок, балагуря с ними. Агостино, желая разузнать побольше о ее положении и о ней самой, обратился к местному священнику. Тот сказал, что она хорошая жена и очень приветлива ко всем, за исключением лиц духовного звания; неизвестно, откуда такая ненависть, но они для нее хуже головной боли, и она не только не желает оказывать духовным лицам возможную приятность, но не выносит даже напоминания о них… Итак, чтоб Мея потом не признала в нем священника, он, хотя и неохотно, держался в стороне и наблюдал за ней издали украдкой, ничем себя не выдавая. Но чем больше любовался он этой женщиной, тем сильнее загоралось в нем желание обладать ею… В ближайший понедельник, приблизительно около девяти часов вечера, он, нарядившись в крестьянское платье, не побрив бороды, в белом платке под широкополой соломенной шляпой потихоньку вышел из дому, прихватив с собой жирного гусака. Окольным путем выбрался он на большую дорогу, которая проходила несколько выше Портико и вела к Флоренции. Священник шел себе не спеша, останавливаясь на каждом шагу, пока издали не увидел Мею, сидевшую на пороге своего дома и приготовлявшую салат. Тогда он прибавил шагу и вскоре оказался прямо перед ней. Он остановился и начал ее бесцеремонно разглядывать. Мея, заметив простофилю, который вылупил на нее глаза, спросила его, не продает ли он гусака, что принес с собой. — Не продаю, — ответил священник. — Ну так подари мне его! — сказала женщина; она была бойка на язык. — Это вполне возможно, войдем к тебе в дом и договоримся, — сказал мессер Агостино. Мея любила вкусную стряпню и все время поглядывала на гуся, который был жирен и бел. Она немедля встала и вошла в дом, унося свой салат в фартуке; Агостино же последовал за ней, и она заперла за ним дверь. Когда священник увидел, что он в ее доме и дверь заперта, он Сказал Мее: — Слушайте меня, мадонна, этого гуся, столь белого и прекрасного, что вам приглянулся, я нес хозяину трактира, но, без сомнения, отдам его вам, если вы уступите мне частицу самой себя. Они договорились между собой, что она примет его в свои объятия, а он отдаст ей за это гуся. Так и сделали. Возбудив в нем превеликую страсть, она дала ему удовлетворение и среди взаимных ласк сказала: — Теперь можешь идти к себе домой, а гуся оставь мне. Но коварный пастырь сказал: — Нет, нет! Вы еще не заработали этого гуся. Пока я сам дал вам то, что должен был получить от вас, нужно поменяться местами, и тогда мы будем квиты. Мея, смеясь, ответила: «Я поняла тебя», — и согласилась. И так как наш мессер ей теперь более пришелся по нраву, чем при первом разговоре, ибо был дороден, красив и еще довольно молод, она охотно опрокинула его на спину и на совесть закончила вторую игру. Но мессер Агостино забрал гуся и сказал женщине: — Монна, если вы хотите получить гусака, вам следует еще доплатить мне, повторив то, что было сначала, ибо сейчас мы расплатились друг с другом. Чтобы честно заработать гуся, вы должны снова занять исходное положение. Смех исчез тогда с лица Меи, которая до той минуты отвечала торгашу шутками. Она вскочила и с гневом крикнула: — Как тебе не стыдно, скупой мужлан! Не воображаешь ли ты, что непотребную девку нашел? Такие тебе должны быть по вкусу, мошенник! Давай сюда гусака и убирайся вон! И она схватила гуся, но священник крепко его держал. Он уже приблизился к двери, отпер ее и был готов бежать, но Мея преградила ему дорогу, браня его на чем свет стоит; он отвечал ей тем же. Как раз в этот момент вернулся домой муж Меи, раньше, чем он это обычно делал. Услышав перебранку, он толкнул дверь, вошел в дом и увидел жену свою, вцепившуюся в незнакомого крестьянина. — Какого черта голосишь ты так, Мея? Чего тебе, прости господи, от этого проходимца нужно? Ему ответил мессер Агостино, не дожидаясь того, что последует дальше: — Да будет вам известно, добрый человек, что эта хозяйка сторговала у меня гуся за тридцать сольди на улице, а, войдя в дом, она дает мне только восемнадцать. — Ты лжешь, плут! — завопила Мея, но, считая, что это лучший способскрыть от мужа свои шашни, она продолжала так: — Я ведь двадцать тебе давала, и мы на этом порешили. — А я просил тридцать, — ответил Агостино. Тогда муж сказал Мее: — Провались он ко всем чертям, никогда вам не сговориться: ты ему «чет», а он тебе «нечет»! Или ты боишься без гусака остаться? Мало ли их продают! — Пусть он им подавится, — сказала Мея, — видит Бог, что никогда и никто не даст ему больше того, что я ему дала… Прошло с тех пор не то восемь, не то десять дней, а мессер Агостино думал все о своей Мее, которая полюбилась ему больше, чем он мог подумать, и решил он пойти навестить ее, а если удастся — снова соблазнить, но теперь уже не на даровщинку, как в прошлый раз; напротив, он хотел идти к ней с повинной. Нарядившись, как и прежде, в крестьянское платье, он забрал того же самого гусака и пару откормленных жирных каплунов, имея намерение отдать гуся за полученное уже удовольствие, а каплунов — за то, что он надеялся получить, желая с ней помириться… Ему повезло: проходя мимо дома Меи, он увидел свою возлюбленную в окне, и она тоже сразу признала его. Гусь и каплуны в его руках выдавали слишком явно его, намерения. Мгновенно это пробудило в ней чувство мести. Он глядел на нее, и этого нельзя было не заметить; засмеявшись, она поманила его рукой, потом отошла от окна; как раз в это время у нее находился любовник, которому это могло показаться странным. Она растолковала ему, что он должен делать, спустилась вместе с ним вниз и спрятала его за поворотом лестницы, а сама отворила входную дверь. Священник был уже у порога, он подошел к Мее и с поклоном сказал: — Я принес вам вашего гуся и еще вот этих каплунов, если вы пожелаете их взять. Женщина ответила насмешливо: — Ты пришел в самое подходящее время, входи же, милости прошу; просто удивительно, сколько трудов, чтобы меня навестить! Мессер Агостино, весьма обрадованный этим приемом, вошел. А Мея заперла дверь и, взяв его за руку, повела в верхнюю горницу, не то что в первый раз, когда она оставила его внизу. Итак, поднявшись наверх, она предложила гостю присесть, и священник, желая загладить свой проступок, стал извиняться. — Монна, в прошлый раз, когда я был здесь, я вел себя довольно грубо и даже дерзко, но если б не нагрянул тот мужчина, то, конечно, я оставил бы вам гусака; но, полагая, что это ваш муж, как и оказалось в действительности, я счел за лучшее поступить иначе, — чести вашей ради и ради моего спасения. Но сегодня я решил заплатить свой долг. Вот гусак, вами уже оплаченный, и каплуны, которых я вам предлагаю, будут ваши, ибо я намерен остаться с вами в дружбе и приносить вам в дом то одно, то другое. У меня есть голуби, куры, сыр, козлята, есть все, что полагается по сезону, и я буду являться не с пустыми руками… Она же спрятала то и другое в кладовку, сказав: — Теперь я исполню твое желание. Но в то время, как она приблизилась к нему, делая многообещающие знаки, раздался отчаянный стук во входную дверь, ибо любовник вышел из засады, осторожно выбрался на улицу и стал изо всех сил стучаться в дверь. Мея бросилась к окну, но мгновенно отшатнулась от него, притворно плача и приговаривая: — Горе мне, он меня убьет! Это мой брат, самый отчаянный и жестокий человек в мире! — и, обращаясь к Агостино, сказала: — Войди в эту каморку, ты погибнешь и я тоже, если он найдет нас вместе. И она втолкнула Агостино в каморку и заперла дверь на задвижку, а сама вышла из горницы на площадку лестницы и сказала громко, чтоб священник мог слышать: — Добро пожаловать, тысячу раз привет тебе, мой дражайший братец! А тот, заранее подготовленный, ответил громким и грозным голосом: — А тебе чтоб сто тысяч раз пусто было! Вижу, что я вовремя сюда нагрянул, а ты вообразила, что я нахожусь за тридевять земель. Где он, предатель? Говори, срамница! Где негодяй, что посмел наш дом опозорить? Где он, мошенник? Я убью и его и тебя заодно! Мея, плача и стеная, молила: — Братец мой, пощади! Нет у меня в доме никого! — Нет, он здесь, ты его спрятала! Я отыщу его сам! Так как он был одним из стражников, служащих под началом подесты города Галлуццо, он выхватил саблю и с шумом волочил ее за собой по кирпичным ступеням лестницы, отдуваясь и изрыгая проклятия. Агостино, слыша все это, почти лишился чувств. Мея плакала, умоляла, а тот разъяренно чертыхался и угрожал ей, превосходно играя свою роль. Наконец, «братец» пинком ноги ударил в дверь каморки с криком: — Открой! Хочу видеть, кто там спрятан, и проткнуть его этой вот шпагой! Священник слышал, как сотрясалась дверь, до него доносились ужасные угрозы, и ему казалось уже, что его насквозь проткнули шпагой, он метнулся к окну, которое было в задней стене дома на высоте двадцати локтей прямо над виноградником, прыгнул вниз и чуть было не повис на торчавшем среди лоз колу. Все же он достиг земли, но, падая, расшиб себе колено и вывихнул ступню. Сковавший его страх был, однако, столь велик, что он, онемев как рыба и не будучи в состоянии подняться на ноги, то ползком, то на четвереньках тащился с места на место, стараясь скрыться подальше от дома… Услышав шум, произведенный прыжком из окна, Мея, войдя в каморку со своим другом, удостоверилась в происшедшем. Этого с них было довольно. И они хохотали до упаду, а затем пошли полюбоваться гусаком и каплунами, такими жирными и отличными на вид. Мея ликовала, считая себя отмщенной в полной мере…» Перевод Н. Соколовой. (Цитируется по изданию: Итальянская новелла Возрождения. М., 1964.)
 Идеал физической красоты Ренессанса
Идеал физической красоты Ренессанса
Сущность Ренессанса
 се представления и идеи, с которыми мы встречаемся в истории, только кристаллизуют линию развития жизни, другими словами, общественного бытия человечества. Какие факторы обусловливают направление развития жизни? Мы уже ответили на этот вопрос. Этими определяющими факторами являются исключительно материальные интересы людей.
Материальные интересы людей, в свою очередь, находятся в процессе непрекращающейся эволюции. Постоянные изменения в производственном механизме создают новые потребности или же уничтожают потребности, недавно широко распространенные. Отсюда следует, что принципиальные коренные перевороты существующего производственного механизма обязательно приводят к обновлению духовной жизни, иногда даже к ее как бы повторному рождению (Renaissance).
Такие принципиальные перевороты, приводящие к возникновению новых взглядов и представлений, происходят тогда, когда возникает совершенно новый экономический принцип, следовательно, такая форма производства, которая требует полного переустройства общественной организации. Коренное преобразование состоит в том, что образуются новые сословия, а прежде существовавшие преобразовываются. Такие изменения в общественной жизни знаменуют собой завершение одной эпохи и начало другой.
В период исторических перемен перед человечеством раскрываются новые или по крайней мере другие возможности деятельности во всех областях. Вместе с этим расширяется жизненный горизонт, и не только отдельных индивидуумов или ограниченных групп. Как только для деятельности открываются новые перспективы и новые возможности, в обществе наступает духовный подъем. Развивается воображение, людям кажется, будто раньше густой, непроницаемый туман скрывал от взоров даже ближайшие предметы.
Когда же пелена спадает, перспектива в будущее человечества кажется безграничной. В такие эпохи каждый испытывает такое чувство, будто носит в самом себе будущее, новый мир.
В такие эпохи старые предрассудки обычно сразу уничтожаются. Так как старое кажется отжившим, то все, связанное с ним, воспринимается как ложное, неправильное и встречает на своем пути сомнения и издевательства. Все уже существующее подвергается критике.
Это касается правил, регулирующих половую жизнь людей, так как именно в этой области ярче всего ощущается давление традиционной морали.
Насколько решительны подобные эпохи в уничтожении всего старого, настолько они плодотворны в созидании нового. Об этом Г. Брандес в своей книге о Шекспире говорит: «В наши дни, когда на английском языке говорят сотни миллионов людей, нетрудно сосчитать английских поэтов. А тогда в стране насчитывалось около трехсот лириков и драматургов, творивших чрезвычайно продуктивно для публики, не превышавшей численно современную датскую, ибо из пяти миллионов населения четыре были безграмотны. Но способность писать стихи была среди англичан того времени так же распространена, как среди современных немок умение играть на рояле».
К вещам и людям предъявляются самые высокие требования, претензии всех безграничны и безмерны.
Вот почему преимущество отдается зрелости как в духовной, так и физической области. Не подающий надежды юноша, не девушка, похожая на нераспустившийся бутон, ценятся выше всего в такие эпохи, а мужчина, находящийся в зените своей силы, творящий, и женщина, достигшая вершины развития, понимающая. Мужчина должен быть заодно и Аполлоном и Геркулесом, женщина — Венерой и Юноной[29].
Строки итальянского поэта эпохи Возрождения Торквато Тассо также посвящены этому:
се представления и идеи, с которыми мы встречаемся в истории, только кристаллизуют линию развития жизни, другими словами, общественного бытия человечества. Какие факторы обусловливают направление развития жизни? Мы уже ответили на этот вопрос. Этими определяющими факторами являются исключительно материальные интересы людей.
Материальные интересы людей, в свою очередь, находятся в процессе непрекращающейся эволюции. Постоянные изменения в производственном механизме создают новые потребности или же уничтожают потребности, недавно широко распространенные. Отсюда следует, что принципиальные коренные перевороты существующего производственного механизма обязательно приводят к обновлению духовной жизни, иногда даже к ее как бы повторному рождению (Renaissance).
Такие принципиальные перевороты, приводящие к возникновению новых взглядов и представлений, происходят тогда, когда возникает совершенно новый экономический принцип, следовательно, такая форма производства, которая требует полного переустройства общественной организации. Коренное преобразование состоит в том, что образуются новые сословия, а прежде существовавшие преобразовываются. Такие изменения в общественной жизни знаменуют собой завершение одной эпохи и начало другой.
В период исторических перемен перед человечеством раскрываются новые или по крайней мере другие возможности деятельности во всех областях. Вместе с этим расширяется жизненный горизонт, и не только отдельных индивидуумов или ограниченных групп. Как только для деятельности открываются новые перспективы и новые возможности, в обществе наступает духовный подъем. Развивается воображение, людям кажется, будто раньше густой, непроницаемый туман скрывал от взоров даже ближайшие предметы.
Когда же пелена спадает, перспектива в будущее человечества кажется безграничной. В такие эпохи каждый испытывает такое чувство, будто носит в самом себе будущее, новый мир.
В такие эпохи старые предрассудки обычно сразу уничтожаются. Так как старое кажется отжившим, то все, связанное с ним, воспринимается как ложное, неправильное и встречает на своем пути сомнения и издевательства. Все уже существующее подвергается критике.
Это касается правил, регулирующих половую жизнь людей, так как именно в этой области ярче всего ощущается давление традиционной морали.
Насколько решительны подобные эпохи в уничтожении всего старого, настолько они плодотворны в созидании нового. Об этом Г. Брандес в своей книге о Шекспире говорит: «В наши дни, когда на английском языке говорят сотни миллионов людей, нетрудно сосчитать английских поэтов. А тогда в стране насчитывалось около трехсот лириков и драматургов, творивших чрезвычайно продуктивно для публики, не превышавшей численно современную датскую, ибо из пяти миллионов населения четыре были безграмотны. Но способность писать стихи была среди англичан того времени так же распространена, как среди современных немок умение играть на рояле».
К вещам и людям предъявляются самые высокие требования, претензии всех безграничны и безмерны.
Вот почему преимущество отдается зрелости как в духовной, так и физической области. Не подающий надежды юноша, не девушка, похожая на нераспустившийся бутон, ценятся выше всего в такие эпохи, а мужчина, находящийся в зените своей силы, творящий, и женщина, достигшая вершины развития, понимающая. Мужчина должен быть заодно и Аполлоном и Геркулесом, женщина — Венерой и Юноной[29].
Строки итальянского поэта эпохи Возрождения Торквато Тассо также посвящены этому:
Года тебе не нанесли урона,
И над тобой, одетою скромнее,
Не торжествует юная краса.
Цветок милей недавнего бутона,
И солнце в полдень жарче и светлее,
Чем поутру всходя на небеса[30].
Происхождение идеала красоты
XIV и XV вв. на исторической сцене вторично возник новый экономический фактор — развитие товарного производства и обусловленное им денежное хозяйство — и завершил собой средние века (впервые это произошло в античные времена). С завершением средних веков начался новый период истории, продолжавшийся в течение двух столетий, который привел к расцвету мировой торговли. В эпоху Возрождения появилось величайшее благо культуры: нация и национальный язык. Раньше не существовало ни того ни другого. До этой эпохи государства представляли собой враждующие между собой группы, которых мало что объединяло. Небольшие общины, включающие в себя одну или в лучшем случае несколько соседних деревень, были тогда целым миром. Кто не состоял в таком объединении, был бесправен и считался чужим. Все, что относилось к другой общине, казалось за границей, принадлежало к другому миру, с которым общались очень ограниченно и к которому обычно относились враждебно. Каждый из этих других миров имел свои интересы, к которым в лучшем случае относились равнодушно, так как они оставались непонятными. Основной чертой средневековой духовной жизни была разобщенность почти во всех областях. Даже язык не служил объединяющим началом для отдельных местностей, в которых пользовались различными диалектами. И даже на небольшом расстоянии эти местные наречия звучали так же непонятно, как чужая речь. В каждой стране говорили на тысяче различных языков. Только в очень критические моменты соседние общины учитывали общие интересы, но, как только причины, приведшие к объединению, исчезали, союзы тут же распадались. Такое положение дел было связано с экономикой средних веков. В ту эпоху повсеместно было распространено натуральное хозяйство. Продукты производились только для собственного потребления, т. е. все нужное для жизни: пишу, одежду, жилище, орудия труда — каждый производил для себя сам. Круг лиц, которым исчерпывалась частная и общественная деятельность каждого, состоял из производителя и его семьи, общины, к которой он принадлежал, а также феодального сеньора, от которого он зависел как данник. В пределах этого круга удовлетворялись все потребности. Феодал взамен дани предлагал защиту против любых врагов. Такой общественный порядок, основанный на изолированности и территориальной замкнутости, исключал необходимость в общении между различными общинами, потому тогда и не существовало шоссейных дорог. Не было общественной потребности, которая побудила бы к их постройке, предполагавшей совместную деятельность многих жителей. Там, где общению препятствовали еще и географические условия: разъединяющие реки, горы и болота, удаленность от других поселений, разобщенность сохранилась гораздо дольше. Такое положение вещей сохранялось довольно долго, пока не возникла естественная потребность в разделении труда, в связи с чем производство стало более рациональным. Первой формой разделения всюду было разграничение производительного и непроизводительного труда. Чем дольше человек пользовался каким-то одним орудием труда, тем лучше он его использовал, и, в связи с этим, мог работать более результативно. Так возникло в конце концов самостоятельное ремесло. Так как производство товаров вскоре превысило их потребление, то появилась необходимость в обмене излишка продуктов с другими группами, которая привела к возникновению рынков, ставших естественными узловыми пунктами сообщения. Одновременно с этим возникла необходимость их охраны от разбойничьих нападений. Накапливавшиеся в этих местах сокровища постоянно возбуждали аппетит как окрестных жителей, так и чужих народов, а в местах, лежавших на судоходных реках, — также и морских пиратов. Первоначально обменивались только излишком продуктов, обменивали товар на товар, — это было характерно для конца средних веков. По мере повышения производительности труда, по мере постоянного роста ремесла люди стали уже производить специально для обмена, т. е. ради торговли. А этот факт сделался решающим, он разграничил новое время от средних веков, в этот период приобрел большое значение такой фактор, как деньги. Деньги были тем необходимым средством обмена, в котором нуждалось товарное производство. Эпоха натурального хозяйства, производившая только для собственного потребления или для ограниченного круга членов общины, не нуждалась в таком средстве обмена. Подать феодалу также платили готовыми товарами. Появление денег уничтожило средневековую феодальную форму производства. Но еще важнее было следующее. Товарное производство создало в лице купца совсем новый класс, первую форму современной буржуазии, и до основания изменило быт всех остальных существовавших слоев общества. Так как производство для личного потребления ограничено достаточно узкими рамками, то индивидуальная энергия средневековых людей имела лишь слабые стимулы для развития. Иначе обстоит дело в эпоху товарного производства, приведшего к мировой торговле. Здесь инициатива уже не знает границ. Из коллективиста человек превратился в индивидуалиста. Процесс этот начался в Италии, точнее в Южной Италии, где в средние века завязались первые торговые отношения между Востоком и Европой. Греки и сарацины сначала напали на итальянцев, потом навязали им свои товары, преимущественно шелк и пряности. Тогда возникла морская торговля, прежде всего с Константинополем. За Южной Италией последовала Италия Северная, а затем, одна за другой, Испания, Франция, Германия и т. д. Всюду рост потребностей приводил к товарному производству, и всюду торговля в конце концов становилась мировой, выводя европейское человечество шаг за шагом за пределы средневековья.Если мы должны говорить о золотом веке, то это, конечно, век, который производит золотые умы. И что наш век именно таков, в этом не может сомневаться никто, рассмотрев его удивительные изобретения: наше время, наш золотой век привел к расцвету свободные искусства, которые почти было погибли, грамматику, поэзию, риторику, живопись, архитектуру и древнее пение лиры Орфея.Кульминацией этого периода были XV и, главным образом, XVI столетия. Если Треченто и Кватроченто везде еще только начальные периоды, то Чинквеченто сделалось веком величайших осуществлений. На его рубеже возникают великолепные произведения искусства. В эту эпоху во всех странах, во всех областях искусства было создано самое зрелое и прекрасное, литература обогатилась глубокими и эффектными произведениями, живопись заблистала самыми дивными красками, пластика отличалась совершенными формами, архитектура — грандиозными линиями. Предприимчивый купеческий дух дал толчок разнообразным открытиям. Потребность растущего капитализма в драгоценных металлах и в рынках для сбыта породила великий век географических открытий. Освоение новых материков и новых морских путей сделалось могучим рычагом быстрого развития. Цивилизованное человечество переступило естественные границы Европы. Если церковь не была универсальна, то капитал, всюду стремившийся действовать и получать прибыль, становился космополитичным под знаком мировой торговли. Он хотел вовлечь в свои доходные дела не только католическое, но и все платежеспособное человечество. Был ли человек евреем, язычником или христианином — было для капитала в начале его развития столь же безразлично, как и ныне, лишь бы с человеком можно было заключить выгодную сделку. Интересы торгового капитала способствовали образованию и централизации государств потому, что он имел интересы, прямо противоположные как феодальной знати с ее децентралистическими тенденциями, так и вообще всему феодальному обществу. Прибыль купеческого капитала была тем выше, чем более сильная центральная власть стояла за его спиной и могла защищать на чужбине честь его страны, т. е. его торговые интересы, требования и притязания. Купечество, а с ним и города, представителем которых оно было, всегда становилось на сторону княжеской власти, противостоявшей децентралистической феодальной знати. Так как интересы торгового капитала были однородны, то они и должны были восторжествовать повсеместно. С другой стороны, борьба между крепнувшим княжеским абсолютизмом и защищавшим свои частные интересы мелким дворянством должна была также окончиться победой абсолютизма и поражением феодальной знати, представлявшей исторически отсталый экономический принцип. Такова была логика истории. Торжество абсолютизма означало возникновение и рост сплоченных национальных государств в противоположность разобщенным и внешне бессильным государствам со средневековым способом производства, существовавшим в эпоху феодализма. Образование национальных государств происходит в этот период исключительно в интересах торгового капитала. Вместе с возникновением национальных государств должен был развиться и национальный язык. В эпоху феодализма, как было уже упомянуто, язык распадался на сотни диалектов соответственно разнообразнейшим экономическим условиям отдельных местностей. Местное наречие было во многих отношениях продуктом специфической экономической структуры отдельных местностей, следовательно, обособленности их общественного бытия. Вместе с возникновением сплоченных наций из диалектов развился единый национальный язык как выражение общих экономических интересов этого нового коллектива. А носителями языка стали люди, населяющие крупные города. Такова основная тенденция Ренессанса.Фичино

И. Томас. Пастух и пастушка. XVII в.
Мы уже знаем, что существенное значение для ответа на вопрос, в какой степени новая эпоха может разрешить стоящие перед ней задачи, имеют те средства, которыми она располагает. Другими словами, результаты, которых может достигнуть эпоха в своем беспрерывном движении вперед, обусловлены в конечном счете наследием, которое ей оставлено историей. Хотя вместе с новыми интересами всегда возникают и новые идеи, они сначала облекаются в старые формы. От их ограниченности зависит, как легко и как далеко может двигаться вперед новая эпоха. А средства, которые могла использовать новая эпоха для разрешения своих насущных задач, были чрезвычайно мало развиты, это были средства феодального времени, в большинстве случаев очень примитивные. Уже из одного этого следует, что творческим достижениям эпохи мешали непреодолимые препятствия и что, при всем величии и при всей грандиозности достигнутого, ее результаты были все же отрывочны и неполны. И даже эти достижения производили огромное впечатление. В области искусства все задачи были завещаны будущему в полурешенном виде. Даже и здесь эпоха не сумела завершить полный круг своего развития, а была задержана на полпути еще слишком мало развитой действительностью. Достаточно вспомнить об одной из величайших проблем живописи — о проблеме изображения воздуха, подчинения себе атмосферы, окружающей предметы. Эта проблема оставалась для Ренессанса книгой за семью печатями. Все созданное в этом направлении было только смелым предчувствием, а отнюдь не решением задачи. Процесс развития шел крайне неравномерно. Географическая замкнутость и изолированность во многих странах привела к тому, что в многочисленных районах феодальный способ производства сохранялся еще в течение столетий и продукты производились лишь в ограниченном количестве для торговли, а по существу — все еще для потребностей общины или в лучшем случае соседних деревень. Поэтому эпоха Ренессанса представляет в итоге картину странного смешения обоих способов производства: феодального и капиталистического на всех стадиях — от расцвета до увядания. Такое смешение отражалось в мышлении, чувствах и действиях людей в виде многочисленных различий и противоречий. Каждая тенденция развития раскрывает свои тайны лишь на известной ступени зрелости. Выступивший на историческую сцену в XV в. вместе с мировой торговлей капитализм должен был сначала пережить грандиозный подъем в XIX в., чтобы можно было познать его сущность и законы. Вот почему только в наше время и стало возможным в хаосе явлений XV и XVI вв. открыть закономерные и существенные черты этой великой эпохи и ясно отличить новое от старого. Сказанное здесь о Ренессансе применимо ко всем следующим главам нашего труда, ибо те же факторы определили в равной мере характерные для этой эпохи понятия о красоте, новые формы брака, развитие индивидуальной половой любви, начало развития женской эмансипации, законы приличия и моды, разные взгляды на проституцию и т. д.

Культ физической красоты
 есомненно, описательную часть нашей работы мы должны начать изображением взглядов и идеалов Ренессанса, касающихся человеческого тела. Для Ренессанса эта отправная точка зрения еще естественнее, чем для всякой другой эпохи, так как Возрождение открывает, как как было сказано, эру совершенно нового человечества в истории европейской цивилизации.
Творческие эпохи насквозь проникнуты и насыщены эротикой и чувственностью. Ибо понятия «творческий» и «чувственный» равнозначны. Эротика и чувственность лишь физическое выражение творческой силы. Каждая эпоха преобразований является вместе с тем эпохой огромной эротической напряженности, и поэтому Ренессанс был совершенно исключительным веком чувственности. Этот факт должен, естественно, отражаться во всех жизненных формах, во всех духовных областях, должен отражаться одинаково отчетливо как в важнейших, так и во второстепенных явлениях.
Вот что по этому поводу сообщает голландский историк Йохан Хейзинга[31]:
«На исходе средневековья, когда уже произошел поворот к новой духовности, выбор, в принципе, возможен был по-прежнему лишь между мирским и небесным: или полное отвержение красоты и великолепия земной жизни — или безрассудное приятие всего этого, не сдерживаемое более страхом погубить свою душу. Мирская красота из-за признанной ее греховности становилась вдвойне притягательной; если перед нею сдавались, то наслаждались ею с безудержной страстностью. Те же, кто не мог обходиться без красоты, не желая тем не менее отступать перед мирскими соблазнами, вынуждены были красоту эту облагораживать. Искусство и литература в целом, наслаждение которыми, по существу, сводилось к восхищению ими, могли быть освящены, будучи поставлены на службу вере. И если на самом деле поклонники живописи и миниатюры искали радость в цвете и линии, то религиозный сюжет освобождал художественное произведение от печати греховности».
Все, в чем обнаруживается возможность чувственного творчества, приковывает внимание эпохи. Только ею она в конце концов интересуется.
Чувственность становится, таким образом, единственным явлением, соответствующим природе. Она, так сказать, единственная категория познания, допускаемая разумом, логикой. Вне ее люди Ренессанса не могли себе представлять вещи. Она единственный разум эпохи. Конечно, это положение не было сознательным актом, программой, которую защищали и осуществляли. Но чего бы ни касалась эпоха, что бы она ни создавала — во всем чувственность звучит как непременный и явственный аккомпанемент. А так как способность к творчеству составляет самую суть жизненного процесса, то этим объясняется и тот секрет, что все произведения революционной эпохи носят печать вечной ценности. Все, что дышит истинной жизнью, бессмертно, непреходяще. И эта ценность тем выше, чем активнее была чувственная энергия, породившая эти создания.
Каждая эпоха, каждое общество выражают свою сущность в идеологиях и во всех духовных откровениях. Это проявляется в философии, в науке, в системах права, в литературе, в искусстве, в правилах поведения, а также представлениях о телесной красоте. Провозглашая известные законы красоты, общество конструирует тип, который считается идеалом. Так как все идеологии эпохи зависят от ее сущности — поскольку идеологии не что иное, как другое выражение жизненных законов и жизненных интересов эпохи в их главных тенденциях, — то они тем величественнее и смелее, чем грандиознее победа человечества, воплощающаяся в данной эпохе, и чем разнообразнее и многочисленнее открытые этой победой возможности. Все идеологии, созданные Ренессансом, должны были поэтому дышать величием. Свое выражение это величие нашло в художественном изображении человека, а последнее было лишь отражением общих представлений о человеческом теле.
есомненно, описательную часть нашей работы мы должны начать изображением взглядов и идеалов Ренессанса, касающихся человеческого тела. Для Ренессанса эта отправная точка зрения еще естественнее, чем для всякой другой эпохи, так как Возрождение открывает, как как было сказано, эру совершенно нового человечества в истории европейской цивилизации.
Творческие эпохи насквозь проникнуты и насыщены эротикой и чувственностью. Ибо понятия «творческий» и «чувственный» равнозначны. Эротика и чувственность лишь физическое выражение творческой силы. Каждая эпоха преобразований является вместе с тем эпохой огромной эротической напряженности, и поэтому Ренессанс был совершенно исключительным веком чувственности. Этот факт должен, естественно, отражаться во всех жизненных формах, во всех духовных областях, должен отражаться одинаково отчетливо как в важнейших, так и во второстепенных явлениях.
Вот что по этому поводу сообщает голландский историк Йохан Хейзинга[31]:
«На исходе средневековья, когда уже произошел поворот к новой духовности, выбор, в принципе, возможен был по-прежнему лишь между мирским и небесным: или полное отвержение красоты и великолепия земной жизни — или безрассудное приятие всего этого, не сдерживаемое более страхом погубить свою душу. Мирская красота из-за признанной ее греховности становилась вдвойне притягательной; если перед нею сдавались, то наслаждались ею с безудержной страстностью. Те же, кто не мог обходиться без красоты, не желая тем не менее отступать перед мирскими соблазнами, вынуждены были красоту эту облагораживать. Искусство и литература в целом, наслаждение которыми, по существу, сводилось к восхищению ими, могли быть освящены, будучи поставлены на службу вере. И если на самом деле поклонники живописи и миниатюры искали радость в цвете и линии, то религиозный сюжет освобождал художественное произведение от печати греховности».
Все, в чем обнаруживается возможность чувственного творчества, приковывает внимание эпохи. Только ею она в конце концов интересуется.
Чувственность становится, таким образом, единственным явлением, соответствующим природе. Она, так сказать, единственная категория познания, допускаемая разумом, логикой. Вне ее люди Ренессанса не могли себе представлять вещи. Она единственный разум эпохи. Конечно, это положение не было сознательным актом, программой, которую защищали и осуществляли. Но чего бы ни касалась эпоха, что бы она ни создавала — во всем чувственность звучит как непременный и явственный аккомпанемент. А так как способность к творчеству составляет самую суть жизненного процесса, то этим объясняется и тот секрет, что все произведения революционной эпохи носят печать вечной ценности. Все, что дышит истинной жизнью, бессмертно, непреходяще. И эта ценность тем выше, чем активнее была чувственная энергия, породившая эти создания.
Каждая эпоха, каждое общество выражают свою сущность в идеологиях и во всех духовных откровениях. Это проявляется в философии, в науке, в системах права, в литературе, в искусстве, в правилах поведения, а также представлениях о телесной красоте. Провозглашая известные законы красоты, общество конструирует тип, который считается идеалом. Так как все идеологии эпохи зависят от ее сущности — поскольку идеологии не что иное, как другое выражение жизненных законов и жизненных интересов эпохи в их главных тенденциях, — то они тем величественнее и смелее, чем грандиознее победа человечества, воплощающаяся в данной эпохе, и чем разнообразнее и многочисленнее открытые этой победой возможности. Все идеологии, созданные Ренессансом, должны были поэтому дышать величием. Свое выражение это величие нашло в художественном изображении человека, а последнее было лишь отражением общих представлений о человеческом теле.

Мужские и женские моды. XVI в.
В этой области Ренессанс заново открыл человека в его физическом проявлении. В аскетическом мировоззрении, не связанном с какой-нибудь определенной территорией, а охватывавшем все владения католической церкви, тело играло роль лишь мимолетной и преходящей оболочки бессмертной души. Так как средневековое мировоззрение провозгласило сверхземную душу высшим понятием и единственной целью жизни, то телесная оболочка, мешавшая осуществлению этой последней, должна была превратиться в простой, достойный презрения придаток. «Что можно потерять, того не стоит желать. Думай о непреходящем, о сердце! Стремись к небесам! Блажен на свете тот, кто в состоянии презирать свет». Так пел Бернард Клервоский, один из самых блестящих поэтов аскетизма, в середине XII в. Тело в глазах средневекового человека — только пища для червей. Средневековая идеология отвергала поэтому человеческое тело или, точнее, пренебрегала им, допускала его лишь в той степени, в какой оно менее всего могло мешать осуществлению его сверхземного содержания, лишь как видение души.

М. Шонгадер. Женский костюм
Это не значит, что чувственное начало было совершенно упразднено средними веками. Во все времена «плоть была сильнее духа», а, кроме того, феодальное общество не было однородным. Во всех странах оно распадалось на различные сословия. И так как господствующий класс часто навязывал массам идеологию, постулаты которой он для себя не считал обязательными, то суровое аскетическое учение церкви не помешало феодальной знати создать в рыцарской любви специфическую классовую идеологию, исключительно сосредоточенную на чувственном наслаждении. Романтический культ женщины был особенно реалистичен как раз в своих извращенных чудачествах. Рыцарская любовь ни словом не касалась бессмертной души, зато каждое слово было посвящено прекрасному телу. И хотя в этом культе чувственности скрыты первые зародыши индивидуальной половой любви, все же преданная ему феодальная аристократия была нисходящим классом, и потому ее чувственность выражалась только в рафинированном наслаждении. В ней не было ничего творческого, она носила характер вырождения, была игрой, извращенностью. А под неизбежным влиянием средневекового христианского мировоззрения мистические любовные идеалы рыцарства превратились в конце концов в простое систематизированное сладострастие. Доказательством служит идеал физической красоты, созданный рыцарством: физическая сторона была в нем подчеркнута под углом зрения рафинированного наслаждения. Прямой противоположностью в этом отношении был Ренессанс, создававший повсюду национальные рамки и массовую культуру. Представленный восходящим классом, он противопоставил рафинированности дышавшую силой идеологию здоровья. Этим путем Ренессанс становился в полном смысле слова реалистичным. Он низвел предметы с неба на землю и снял с них мистический покров. И в первую очередь он поступил так с человеком. Так как эпоха Возрождения, опираясь на мировую торговлю, послужила началом для великих географических открытий, то она вырвала человека из потустороннего мира, к которому он до сих пор принадлежал, и сделала его своим собственным господином. В качестве покупателя или продавца каждый представлял для нее интерес. Таким образом, человек стал в центре явлений, и притом человек как физическое понятие, а не только в смысле жалкой оболочки бессмертной души, какой он был до сих пор. Объект «червей» стал субъектом. Так родились совершенно новый Адам и совершенно новая Ева. Не человек изменился, изменилось представление о нем. В действительности никогда не существовали ни неземные призраки средневековых икон, ни чересчур героические поколения Рубенса. Другими словами: соответственно изменившейся общественной жизни людей изменились и чувственные представления об Адаме и Еве, и сам идеал человека. Перестав быть орудием сверхземной души, став орудием земной жизни, человек логически превратился в идеальное орудие земной радости. В этом и заключалось вторичное открытие понятия «человек». Идеал красоты каждой эпохи зависит, как сказано, от основной тенденции века. Как не существует вечная нравственная идея, так не существуют и абсолютные понятия о красоте. Таких понятий можно насчитать сотни, и все они имеют свой критерий в самой эпохе, так же, как и мораль, все они — необходимые и неотделимые составные части каждой культурной полосы. Наши современные знания помогли нам найти критерий, при помощи которого мы можем сопоставить и сравнить различные понятия о красоте, критерий, позволяющий нам выявить направление развития. Этим критерием является понятие «здоровье», естественность в подчеркивании того, что считается красивым. Естественность же равнозначна целесообразности, а последняя зависит от расового характера. Заметим в скобках: так как здесь речь идет исключительно о так называемой средиземной расе, то понятие «целесообразность» как основа красоты должно быть одинаковым и у всех ее представителей.
Поскольку желания людей чаще всего ненасытны, они хотят иметь в изобилии не только вещи полезные и необходимые, но и приятные бесполезные вещи.На вопрос, что же надо считать красивым и потому естественным, мы ответим: принципиальное стремление к выявлению полярной противоположности между мужчиной и женщиной, как можно более ясное выявление всех тех физиологических особенностей, которые отличают мужчину от женщины, а женщину от мужчины, категорическое устранение женственности из облика мужчины, а мужественности из облика женщины. Короче говоря, совершенная красота заключается в выявлении половых признаков мужчины и женщины. Как видно, подобное представление о телесной красоте вполне чувственно, поскольку целесообразность в области красоты никогда не бывает ничем иным, как красотой эротической. Эпоха Возрождения и провозгласила в конечном счете идеальным типом человека — чувственного человека, того, кто лучше всякого другого в состоянии вызвать у другого пола любовь, притом в строго животном смысле, следовательно, сильное половое чувство. Это применимо не только к целому, но и к частностям, т. е. к оценке отдельных проявлений красоты мужчины и женщины. Такая красота и восторжествовала, и притом чрезвычайно ярко, в эпоху Возрождения. После падения античного мира эта красота здесь праздновала свой триумф. Творческие эпохи не только здоровы, но прямо насквозь пропитаны здоровьем. Мужчина считается совершенным, т. е. красивым, если в нем развиты признаки, которые характеризуют его половую активность: сила и энергия. Женщина объявляется красивой, если ее тело обладает всеми данными, необходимыми Для предназначенного ей материнства. Прежде всего, грудыо. питательным источником жизни. Грудь получает все большее значение, чем дальше развивается Ренессанс. В противоположность средним векам. предпочитавшим женщин с узкими бедрами и стройным станом, предпочтение отдается широким бедрам, крепкой талии, толстым ягодицам.Жан Боден

Рембрандт. Любопытный пастух
В книге Дж. Б. Порта «Физиономия человека», появившейся в XVI в. во Франции, физическая внешность мужчины описывается следующим образом: «Вот ради чего мужчины от природы имеют крупный стан, широкие лица, немного загнутые брови, большие глаза, четырехугольный подбородок, толстые жилистые шеи, крепкие плечи и ребра, широкую грудь, впалый живот, костистые и выступающие бедра, жилистые крепкие ляжки и руки, твердые колени, крепкие голени, выступающие икры, стройные ноги, крупные, хорошо сложенные жилистые кисти рук, крупные, далеко друг от друга отстоящие лопатки, большие сильные спины, место между спиной и талией равноугольным и мясистым, костистую и крепкую талию, медленную походку, сильный и грубый голос и т. д. По своему характеру они великодушны, неустрашимы, справедливы, честны, простодушны и честолюбивы». Идеал красивой женщины Ариосто рисует в лице одной из героинь поэмы «Неистовый Роланд» следующими словами: «Шея ее бела как снег и кругла, горло подобно молоку, грудь широка и пышна. Подобно тому как морские волны набегают и исчезают под легкой лаской ветерка, так волнуются ее груди. Угадать то, что скрыто под светлым платьем, не сумел бы взор самого Аргуса[32]. Но каждый поймет, что оно так же прекрасно, как то, что видно. Прекрасная рука заканчивается белой кистью, точно выточенной из слоновой кости, продолговатой и узкой, на которой не выступает вперед ни одна жилка, ни одна косточка, как бы она ее ни повернула. Маленькая, круглая, изящная ножка завершает чудесную, полную величия фигуру. Сквозь густую ткань вуали сияет ее пышная ангельская красота».
Красоту своей возлюбленной воспевает и
Понтас де Тиар в «Песне к моей лютне»:
Пой, лютня, не о жалобе напрасной,
Которою душа моя полна—
Пой о моей владычице прекрасной…
…Ее златые волосы воспой —
Признайся, эти волосы намного
Прекрасней диадемы золотой…
…Пой мне об этой нежной белизне,
Подобной цвету розы, что раскрылась
В прекрасный день, в прекраснейшей стране…
…Воспой ее прекрасных глаз тепло:
От этого божественного взора
На небе солнце пламень свой зажгло.
Воспой улыбку, полную задора,
И щеки цвета ярко-алых роз,
Которым позавидует Аврора.
Еще воспой ее точеный нос
И губы, меж которых ряд жемчужин,
Каких никто с Востока не привез…
…Воспой и эту мраморную шею:
От этого кумира не спасти
Меня, склоняющегося пред нею.
Пой о красотах Млечного Пути,
О полюсах — о правом и о левом, —
Способных мне блаженство принести.
И пой мне о руках, что королевам
Под стать, когда их легкие персты
Тебя встревожат сладостным напевом.
Но о сокрытой доле красоты
Не пой мне, лютня, я прошу, не надо:
Не пой о том, к чему летят мечты[33].

Альбрехт Дюрер. Нюрнбергская модная картинка
Во Франции и в Испании, где абсолютизм уже подчинил себе весь общественный организм, идеал женской красоты должен был представить женщину как наиболее утонченное орудие наслаждения. Германия, наоборот, была, по существу, мелкобуржуазной страной. Свое социальное деление она получала главным образом от находившегося тогда в полном расцвете ремесла. В Германии идеал красоты носил поэтому, безусловно, мещанский характер. В Голландии мещанство стояло на особенно крепких и солидных устоях — идеал красоты, воцарившийся здесь, дышал поэтому силой и здоровьем. В XVI в. Фландрия отличалась наивысшим экономическим развитием, и здесь высшую красоту воплощали сверхчеловеческие образы Рубенса.
Люди меньше остерегаются обидеть того, кто внушает им любовь, нежели того, кто внушает им страх, ибо любовь поддерживается благодарностью, которой люди, будучи дурны, могут пренебречь ради своей выгоды, тогда как страх поддерживается угрозой наказания, которой пренебречь невозможно.То, что эпоха поднимает на щит, служит для нее вместе с тем и предметом культа. Эпоха Ренессанса подняла на щит сущность человека, и ему она устраивала, пока длилась, повсеместное поклонение. В каждом культе всегда переходят от общего к единичному, к живописи деталей. Люди открывают сотни красивых мелочей, и для каждой создается идеальный образец. Кодекс красоты, установленный эпохой Ренессанса для каждой детали телесной красоты, служит документальным доказательством в пользу как факта открытия нового человека, так и того культа, которым окружали тело. В этом кодексе женская красота, хотя и не является высшим объектом, все же стоит на первом плане. Женской красоте посвящены самые обстоятельные, детальные и многочисленные описания. И это понятно. Типы женской красоты, созданные мужчиной, встречаются чаще, чем идеалы мужской красоты, созданные женщиной. Это происходит не только потому, что мужчины чаще становятся товарищами, но и потому, что мужчина представляет активное и агрессивное, а женщина — пассивное начало. Правда, женщина тоже добивается любви мужчины, и даже еще более упорно, чем мужчина добивается женской любви, но она никогда не делает этого ясно и отчетливо, как мужчина. Мужчина облекает поэтому свои требования относительно физической красоты женщины в самые ясные и точные описания. Тридцатью шестью достоинствами — по другим, только восемнадцатью, двадцатью тремя или двадцатью семью — «должна обладать женщина, если хочет прослыть красавицей и быть миловидной». Эти требования касаются формы, цвета и т. д. Чтобы придать этому идеалу более конкретные очертания, обычно указывали на женщин определенных стран и городов. Уроженки Кельна славятся своими красивыми руками, уроженки Брабанту — красивыми спинами, француженки — округлыми животами, венки — пышной грудью, уроженки Швабии — достоинствами Венеры Каллипиги, баварки — красотою самых интимных частей женского тела. Люди Ренессанса ничего не пропускали и отличались большой точностью, а восходящим классам к тому же никогда не была присуща лицемерная стыдливость. Порой не ограничивались даже этими данными, вдаваясь в еще более интимное описание. Женщина, желающая прослыть красавицей, должна обладать не одним каким-нибудь из этих достоинств, а всеми вместе. «Женщина, которая отвечает всем этим требованиям, является в самом деле красавицей», — говорится в «Мемуарах» рыцаря Эйба. Этот кодекс красоты был повсюду облечен в форму стихотворных афоризмов и дошел до нас в целом ряде вариантов, притом иногда с иллюстрациями. Достаточно привести один пример. Очень распространенная свадебная песня перечисляет «тридцать пять достоинств красивой девушки» следующим образом: «Три должны быть белыми, три — черными, три — красными, три — длинными, три — короткими, три — толстыми, три — большими, три — маленькими, три — узкими, а в общем женщина должна быть высокого роста и полного сложения, должна иметь голову, как уроженка Праги, ноги — как уроженка Рейна, грудь — как венка, живот — как француженка, спину — как уроженка Брабанта, руки — как жительница Кельна». Подобные же и еще более детальные стихотворения встречаются как в «Denkwürdigkeiten» рыцаря Эйба, так и в книге песен Клары Гетцлерин (Hatzlerin). Тему эту обработал и Ганс Сакс, причем это стихотворение, как многие из его поэм, появилось в виде иллюстрированной листовки. Сравнение отдельных версий доказывает, впрочем, что взгляды разных городов на женскую красоту весьма различны. Если один прославляет уроженок Фландрии за их спину, то другой — за их руки, третий — за их бедра, четвертый — за их бюст и т. д. В одном стихотворении Клары Гетцлерин швабка обладает красивой грудью, тогда как достоинства Венеры Каллипиги более всего отличают польку. Подобные рифмованные кодексы красоты существовали не только на немецком, но и на латинском, французском, испанском и итальянском языках. Сохранился целый ряд и прозаических версий. Достаточно указать на фацетии Бебеля. Этому культу соответствует самое страстное возвеличение возлюбленной, а также и вообще женщины. Одна франкфуртская рукопись XV в. сохранила следующую серенаду, которую влюбленный поет в честь своей красавицы: «Она подобна светлому дню. Никто не в состоянии достойно воспеть ее красоту. У нее розовые уста, прекрасные щечки, золотистые волосы, ясные глаза, белые, как слоновая кость, зубы, маленькие круглые груди, длинные изящные бедра, тонкие белые пальцы, узкие ступни» и т. д. Вот отрывок из поэмы Франсуа Вийона о «Старухе, сожалеющей о поре своей юности»: …И ушки нежные такие, И взор, который так блистал, Губ соблазнительный коралл; И нос ни длинный, ни короткий, Лица пленительный овал И ямочка на подбородке? Культ физической красоты Грудь небольшая, но тугая, И руки гибкие вразлет, Сулящие объятья рая, Упругий, бархатный живот И бедра, для любви оплот, Когда она на спину ляжет, И в сад восторгов тайный вход, Укрытый между крепких ляжек?[34] Сюда относится и эпиграмма Клемана Маро о «студенте и девушке»… Нюрнбергские масленичные пьесы полны хвалебных гимнов в честь телесной красоты женщины вообще. Доказательством могут служить несколько стихов из масленичной пьесы «Прелестная игра». Это состязание, в котором победа остается за тем, кто сумеет лучше прославить женщину. «…Второй. Послушайте-ка меня вы, молодежь! Я имел такой успех у женщин, они внушили мне такое чувство, что я должен жить, как им хочется, и делать все, что они прикажут. Я скорее откажусь от славы и почестей. Только служа женщине, человек является героем. Третий. Нет на свете ничего лучше изящной и милой девушки со смеющимся от радости личиком, покрытыми краской любви щечками, красными, как пурпур, губами; такой она нравится мне, когда меня мучает по ночам голод любви… Четвертый. Женщину с глазами, похожими на окна, в которые смотрится солнце, с лицом, на котором черный цвет мешается с белым и красным, со лбом, блестящим, как слоновая кость, я пригласил бы с собой, хотя бы меня за это ненавидели целый год. Пятый! Если бы я встретил женщину высокую и стройную, держащую себя прямо, как стрела, с гордо поднятой головой и волосами, уложенными как корона, со сладким голосом и с белыми плечами, за которой все молодые парни бегут вослед, то я взял бы ее с собой на ночь за два грошена, хотя бы сам Папа отлучил меня от церкви. Шестой! Я предпочел бы хорошенькую женщину, с грациозными манерами, с миловидным личиком, смеющимся ротиком, в котором сверкают белые зубы, с ямочками на щеках, с красивым подбородком… Восьмой. Если бы я нашел женщину с ясным взглядом, хорошо сложенную, с прекрасной головой и шеей, с руками и ногами не слишком большими, не слишком маленькими, с узкими бедрами… которая согласилась бы на то, о чем я ее попросил бы, то ей я бы служил с утра до вечера». Как видно, здесь нет речи о духовной красоте. Если употребляются такие слова, как «Zucht» (порода) и «Sitte» (обычай), то имеется в виду исключительно половой акт. Никогда не говорится об уме, о душевном благородстве — только прекрасное тело возбуждает в мужчине любовь и только оно делает женщину интересной и соблазнительной, только оно вызывает восторг и преклонение. В некоторых стихах приведенной масленичной пьесы это высказано еще откровеннее.Николо Макиавелли

Костюм голландской проститутки. XVII в.
Особенно восторженно воспевается красота бюста. Груди белы, как слоновая кость, они подобны Венериным холмам или двум сахарным головам, они выступают из корсажа, как «два восходящих весенних солнца», они «поднимаются, как два копья» и т. д. Повсюду, где слагается гимн в честь женщины, прежде всего и громче всего воспевается грудь. Ганс Сакс поет о своей красавице: «У нее белая шейка, а под ней две груди, украшенные и испещренные голубыми жилками». Быть может, самый восторженный гимн в честь прекрасной груди принадлежит Клеману Маро, который сложил дифирамб всем ее достоинствам, прославил вызываемые ею чары сладострастия, все желания, которые она возбуждает в мужчине… Апофеоз прекрасной женской груди в искусстве не только не уступает, но даже превосходит гимн, сложенный в ее честь поэзией. Никогда в живописи не изображали с таким горячим упоением красоту груди, как в эпоху Ренессанса. Ее идеализированное изображение — один из неисчерпаемых мотивов эпохи. Для нее женская грудь — самое удивительное чудо красоты, и потому художники рисуют и изображают ее изо дня в день, чтобы увековечить. Какой бы эпизод из жизни женщины ни изображал художник, он всегда найдет повод вплести новую строфу в гимн, раздающийся в честь ее груди. Всегда прославляется ее здоровая естественная красота — красота, основанная на целесообразности. Это всегда такая грудь, которая точно создана для того, чтобы пить из ее источника жизненную силу.

Костюм венецианской дамы. XVII в.
С этим культом груди может сравниться только восторженное прославление интимных красот женщины. Наиболее характерным примером может служить древняя повесть о «Белом шиповнике», существующая в немецких, французских, испанских и итальянских версиях и неоднократно перерабатываемая вплоть до XIX в.: достаточно указать на известную переделку этой повести автором «Нескромных сокровищ» Дидро… Пластические искусства также отдали дань этому культу. Вспомним многочисленные гравюры на эту тему Бехама и Альдегревера, плакаты Петра Флетнера, «Флору» Донателло и многие другие. Как было показано выше, представления о мужской красоте в эпоху Ренессанса носили чисто чувственный характер. От мужчины требовали, чтобы он был заодно и Аполлоном и Геркулесом, причем больше Геркулесом, чем Аполлоном. Число предъявляемых к красавцу мужчине требований было поэтому гораздо скромнее. От женщины требовали тридцать шесть достоинств. Когда речь шла о мужчине, то можно было пренебречь всеми, за исключением одного, но зато это одно ценили особенно высоко[35]. Это достоинство давало мужчине право предъявлять к желанной женщине самые высокие требования, и оно же часто уничтожало даже классовые различия, делало слугу достойным любви княгини, казалось богатой невесте лучшим богатством мужа. Быть от природы созданным для любви — таково это достоинство[36]. Не то чтобы остальные черты мужской красоты не ценились и игнорировались. Но они получали высокую оценку, только если соединялись с сексуальной мощью. Без этого мужчина не считался красавцем, но он был им, если, обладая сексуальной притягательностью, не имел никаких других достоинств. Нам возразят, что с этой точки зрения мужчина оценивался всегда во все эпохи. Однако некоторые периоды в истории в этом отношении существенно отличались. Эпоха Ренессанса провозгласила это качество высшим требованием, предъявляемым к мужчине, она возвела индивидуальное желание женщины в степень всеобщего закона и сделала это как нельзя более ясно и отчетливо. Она подчеркнула это требование даже в моде. Отчетливое указание на сексуальные качества не было мимоходом брошенной остротой. Даже если мы скажем, что люди Ренессанса редко упускали случай упомянуть об этом свойстве, так как это было во вкусе их грубых шуток, то и этого будет недостаточно. Нет, это была главная тема, к которой возвращались вновь и вновь в многочисленных беседах, стихотворениях, афоризмах, поговорках, загадках, шванках, сотнях новелл и фацетий и т. д. Мы встречаемся с этой темой также часто у немцев Бебеля и Лиднера, у итальянцев Поджо и Корнацано, у французов Брантома и Рабле. Можно назвать еще сотни других авторов. Бесцельно было бы перечислять заглавия, так как любое собрание памятников эпохи полно таких тем. Если мы вспомним нюрнбергские масленичные пьесы XV в. «Die Fastnacht der Mullerin»[37] или «Ein hiibsch Fastnachtspiel»[38], то с таким же основанием могли бы мы процитировать еще десяток других заглавий или привести масленичные пьесы, возникшие в других городах и местностях. То же самое нужно сказать и о фацетиях. Новелла итальянца Корнацано «Он не он», основанная на итальянской пословице, может служить иллюстрацией, хотя мы ее и выбрали наугад среди десятка других. Излюбленной формой трактовки этого сюжета является его отрицательное изображение: сатирическое описание разочарования и возмущения женщины, когда она удостоверяется в половом бессилии у жениха, мужа или возлюбленного, — изображение девушки, которая в последний момент отказывает своему богатому ухажеру, или молодой женщины, сознающей себя на другой день после свадьбы «проданной, а не отданной замуж», или неверной жены, оправдывающей этим недостатком мужа свою неверность. Обычной формой такой сатиры является спор перед фантастическим судилищем по поводу того, что жена имеет право требовать от мужа. Таков, например, шванк «Unerhorte Zeitung eines Weibes, das an seinem Manne kein Genuge hatte»[39] или довольно объемистая тирольская масленичная пьеса «Развод». В последней пьесе выступает не менее десяти персонажей: истица, обвиняемый, судья, эксперты, среди последних несколько женщин, так как они особенно компетентны в этом вопросе. Мы едва ли преувеличим, если скажем, что как раз эта особенность — один из наиболее характерных и важных аргументов в пользу чисто чувственного идеала эпохи Ренессанса. В ней — ее сущность. Надо помнить, что такое представление было неизбежным результатом творческих порывов эпохи и потому органически с ней связано. Оно не существует вне рамок эпохи. И потому мы имеем право утверждать, что многочисленные историки Возрождения, проходящие мимо этого и тому подобных явлений или видевшие в них не более как извращенное проявление грубо эротической распущенности, этим только доказывают, что они не уяснили себе сущности эпохи. С этим фактом связано то обстоятельство, что зрелость ценилась Ренессансом выше всего. Мужчина и женщина в зените жизни — таков идеал эпохи. Мужчина — в апогее своей физической силы и половой способности, женщина — не как расцветающая девушка и еще менее как несложившаяся девочка, а в том возрасте, когда ее формы достигают полного развития, когда все ее существо в последний раз отдается во власть чувственности и сулит наивысшее блаженство. Плод ценится бесконечно выше цветка. Лучшим возрастом женщины считается возраст от 35 до 40 лет. «Ах, Филина, люблю я смеющуюся морщинку около твоего глаза, не сочной молодости, а опытности создание. Когда мои жадные руки охватывают твой пышный стан, грудь твоей дочки не прельщает меня. Я люблю зрелую осень, и для нее я забываю весну. Иди! Я укачаю тебя, пока зима не накроет белой пеленой виноград». Подобные произведения античной музы теперь снова нравились, так как отвечали потребностям сходного общественного уклада. Предпочтение, которое отдавалось зрелой матери перед только что расцветающей дочерью, мысль, что зрелые прелести гораздо соблазнительнее, выражалось в самых разнообразных формах. Грудь, уже ставшая источником жизни, более всего манит и интересует мужчин. Вот почему художники так охотно изображали Марию, кормящую младенца. Вот почему также в XV и XVI вв. колодцы и фонтаны так часто сооружались в виде женщины, из грудей которой струилась вода. Она лучший символ брызжущей во все стороны жизни, символ питающих сил.

Как антихрист вводит в грех блуда с собственной дочерью. Иллюстрация из народной книжки «Der Entchrist». 1475 г.
Достаточно вспомнить знаменитый «колодезь добродетели» в Нюрнберге. Можно было бы привести сотню других примеров. Все это одинаково драгоценные и прекрасные доказательства творческого пыла эпохи. Из таких фонтанов часто текло вино, которым в праздничный день город или князь угощали народ. Прекрасная женщина, достигшая зрелости, может, естественно, предъявлять к мужу самые высокие требования, о чем подробнее сказано в главе о любви в эпоху Ренессанса. Та же самая точка зрения объясняет нам, почему тогда, в противоположность другим эпохам, беременная женщина считалась эстетически прекрасной. И не только в переносном смысле, не только как символ материнства, нет — самое состояние беременности производило, эстетическое впечатление. Доказательством служит, на наш взгляд, тот факт, что искусство очень часто изображало беременную женщину, и притом со всеми характерными признаками беременности. Наиболее известна в этом отношении картина «La Gravida» («Беременная»), приписываемая Рафаэлю. Другим доказательством служит то, что, изображая нагих женщин, им охотно придавали вид беременных. Достаточно вспомнить Еву ван Эйка и другие подобные женские изображения. Историки искусства высказывали предположение, что художник, вероятно, имел перед собой натурщицу, находившуюся в начальной стадии беременности, и не разглядел этого. А сравнительно большое количество таких картин они объясняют всеобщим неведением относительно характерных признаков беременности. Л. Г. Штрац прямо говорит: художники не разглядели беременности. Такое объяснение кажется нам поверхностным. Несомненно, если художники изображали женщину беременной, то они поступали так бессознательно, подобно тому, как японец, копируя Венеру Милосскую, бессознательно придает ей японский тип. Но именно поэтому частое изображение женщины в период беременности представляет важную составную часть общих воззрений эпохи. Эпоха, а вместе с ней и творящий художник, очевидно, находили этот тип красивым, иначе от него отворачивались бы, да и сами художники не изображали бы его, все равно, понимали они или нет причину его безобразия. Гораздо более логичным кажется нам объяснение частого изображения великими художниками беременных женщин тем, что эпоха бессознательно отдавала преимущество тому, что служило особенно характерным выражением идеи творчества, и во всем подчеркивала эту творческую сторону. Оплодотворенная любовью женщина — лучший символ творческой силы. Высший идеал зрелости есть зрелость, уже приносящая плоды. В связи со всем сказанным находится тот факт, что люди Ренессанса видели в старости величайшее несчастье.
Любовь — над бурей поднятый маяк,
Не меркнущий во мраке и тумане,
Любовь — звезда, которою моряк
Определяет место в океане.
Уильям Шекспир
LIV
…Седой колтун, на лбу морщины,
Потух вскипавший смехом взгляд,
Тот, от которого мужчины
Сгорали дружно все подряд.
Повисший нос стал крючковат,
В ушах торчит щетина грубо,
И щеки дряблые висят,
Усохли сморщенные губы.
LV
Красы девичьей нет в помине!
Увял лица молочный цвет
И плеч округлых нету ныне.
А груди как? Пропал и след,
Все сморщилось — один скелет.
Вход в сад любви — фи! — не для ласки.
Упругих ляжек больше нет —
Две дряблых, сморщенных колбаски…[40]

Г. Фольц. Костюмы. XVI в.
Наиболее художественной и потому наиболее известной обработкой этого мотива является одноименная прекрасная картина Лукаса Кранаха в берлинском Музее императора Фридриха. Бесконечной вереницей тянутся старушки к чудодейственному источнику, в повозках, верхом, на носилках, которые несут слуги, на тачках, толкаемых батраками, даже на спине стариков. Все они, стоящие уже обеими ногами в могиле, свалившиеся уже под тяжестью жизни, хотят еще раз помолодеть, еще раз пережить жизнь, еще раз дать и испытать радость любви. И источник юности совершает свое дело. Старчески согнувшись, с истощенным телом и увядшей грудью, жалкие, несчастные, погружаются они (на левой стороне картины) в воду, чтобы выйти (на правой стороне) из воды исполненными новой жизнерадостности, юными существами с округленными формами и упругой грудью, снова пробуждающей в мужчинах желания. И новая жизнь начинается немедленно же танцами, шутками, ухаживанием. Тайна обновляющей силы источника юности открыта Г. С. Бехамом на его очаровательной гравюре, которую мы воспроизвели в нашей книге «Die Frau in der Karikatur». Если у Лукаса Кранаха новую жизнь из источника юности черпают главным образом женщины, то у Бехама и большинства других художников, трактовавших этот мотив, омолаживаются не только они, но и мужчины. По распространенному народному поверью, лучшее средство для женщины, желающей вечно оставаться молодой, состоит в том, чтобы по крайней мере раз в день испытать ласку здорового мужчины. Мужчине народные поверья рекомендовали иные средства помолодеть. Ванна, устроенная десятью девушками, приправленная разными ароматическими пряностями, «делает стариков снова молодыми», гласит народное поверье. А если он после ванны пойдет спать с девушкой, то на другое утро он проснется юношей. По другой версии, он должен провести после ванны ночь между двумя девушками, чтобы снова обрести силы молодости. В таких рецептах приходится видеть не что иное, как символическое изображение обновляющей силы молодости. Само собой понятно, что и «наука» спешила предлагать десятки средств тем, кто хотел помолодеть. Шарлатаны, цыгане, старухи продают их легковерным людям на улицах и ярмарках, иногда тайно, иногда открыто. Эта тема также часто затронута в масленичных пьесах.

Отношение к наготе
 е менее яркое доказательство в пользу основной чувственной тенденции Ренессанса — его отношение к наготе.
Известно, что тогда во всех странах к наготе относились довольно просто. Даже еще в XVI в. перед сном совершенно раздевались, спали голыми, причем оба пола и все возрасты. Обычно муж, жена, дети и слуги спали в общей, комнате, не разделенные даже перегородками. Такой обычай был характерен не только для крестьянства и других низших слоев населения, но и среди высшего бюргерства и аристократии. Даже гостя не стеснялись, и он спал, как правило, в общей спальне с семьей. Жена ложилась спать без платья (Kleiderbloss) в присутствии гостя, которого видела первый раз в жизни. Требования стыдливости считались выполненными, если она делала это «целомудренно».
Если гость отказывался разоблачиться, то его отказ возбуждал недоумение. Как долго продержался этот обычай, видно из одного документа, относящегося к 1587 г., в котором правила эти осуждаются, следовательно, еще существуют. Другим выражением этой простоты нравов служило то, что еще в XVI в. мужчины, женщины и девушки голыми перебегали улицу, когда содержатель бани звонил к ее открытию, или в лучшем случае прикрывались только веником. Ввиду того что бане будет посвящена особая глава, мы не будем вдаваться в подробности относительно этого обычая.
Здесь мы имеем в виду не эту простоту нравов, а демонстративное выставление напоказ своей наготы, гордая и надменная демонстрация ее. Физическая красота рассматривалась эпохой Ренессанса не как тайна, которая должна цвести в тиши и обнаруживаться лишь в комнате. Она сияла в праздничном зале, на улице, на ярмарке, где весь народ был зрителем и судьей, она была сокровищем, которым хотели часто вызвать зависть в других.
Сначала напоказ выставлялась, конечно, женская красота. Делалось это по-разному и в различных формах. Самым благородным средством было искусство. Демонстративность здесь заключалась в том, что художнику заказывали портрет жены или возлюбленной в обнаженном виде. Ее изображали или совсем обнаженной, или в особо претенциозном декольте, как эротическое чудо. Знаменитыми картинами в таком роде являются «Венера дель Трибуна» Тициана, изображающая герцогиню Урбинскую, две картины того же Тициана, изображающие, как король Карл II играет на музыкальном инструменте возле ложа своей возлюбленной, предстающей глазам в совершенно обнаженном виде.
Не менее известны обнаженные портреты Дианы Пуатье, метрессы Генриха II. Он неоднократно заказывал портреты своей юноновской возлюбленной в обнаженном виде, а также приказал высечь ее из мрамора и отлить из серебра. Габриэлла д'Эсте, метресса Генриха IV также неоднократно воспроизводилась обнаженной. Кажется, нет надобности доказывать, что во всех этих картинах речь шла о демонстративном выставлении напоказ эротической красоты. Относительно Дианы Пуатье надо заметить, что здесь главное внимание было обращено на ее пышную грудь. В таком же духе изобразил Рафаэль Форнарину, Тициан — свою дочь Ливию, Рубенс создал свой гимн в честь Марии Медичи, наполняющий целый зал Лувра. Сюда же относится и нагая статуя-портрет, которую прекрасная сестра Папы Джулия Фарнезе заказала для своего склепа в храме св. Петра.
Не поддается подсчету количество женских портретов, созданных специально ради прекрасной груди оригинала. Прекрасная грудь пользовалась, как уже было сказано, высшим почетом в эпоху Ренессанса. Бесконечное число женщин, обладавших этим достоинством, щедро раскрывали свой корсаж и сбрасывали все покровы, чтобы глаза каждого могли беспрепятственно наслаждаться этими сокровищами. Можно без преувеличения сказать, что часто муж или любовник заказывали не портрет возлюбленной, а портрет ее груди, ибо прекрасная обнаженная грудь многих женских портретов Ренессанса представляет не только центр, но и главную суть этих картин. Само собой понятно, что художники стремились сохранить «портретную» точность изображаемой груди. Достаточно сравнить различные портреты прекрасной Симонетты, изображенной как Боттичелли, так и другими художниками, различные портреты кисти Париса Бордоне и Паоло Веронезе, картину Тициана, изображающую Альфонсо д'Авалоса и его возлюбленную, портрет герцогини Лотарингской и др.
Самой рафинированной формой демонстрации красоты тела, и особенно груди, было изображение в виде мадонны. Самым известным историческим примером является портрет Агнессы Сорель, метрессы Карла VII, в виде мадонны, созданный Жаном Фуке. Держа на коленях младенца, lа belle des belles (красавица из красавиц), как называли мадонну на галантном языке эпохи, обнажала всю пышность своей прекрасной груди. Это был в самом деле заманчивый мотив. В образе Девы Марии можно было заодно изобразить самый священный, возвышенный символ и служить миру, выставив самым пикантным образом напоказ земную красоту. Женщина становилась таким образом в одном лице и святой и дьяволом, соблазнительницей и спасительницей. Женское честолюбие могло торжествовать свою высочайшую победу. Опускаясь в молитвенном экстазе перед мадонной, зритель вместе с тем преклонялся перед раскрывавшимся ему чудом красивого тела. Примеру Агнессы последовала, без сомнения, не одна женщина, обладавшая красивой грудью, и вот почему столько изображений Девы Марии, возникших в эпоху Возрождения, возбуждают в нас отнюдь не возвышенные мысли. Модель и художник думали не о небесах, а о самом земном на земле. Сюда относятся и статуи возлюбленных, воздвигнутые могущественными церковными сановниками в церквах, чтобы им воздавались почести, как святым. Достаточно указать на Сиджизмондо Малатесту, построившего в 1445–1450 гг. великолепную церковь в честь св. Франческо в Римини и поместившего в ней памятник своей прекрасной любовнице Изотте.
е менее яркое доказательство в пользу основной чувственной тенденции Ренессанса — его отношение к наготе.
Известно, что тогда во всех странах к наготе относились довольно просто. Даже еще в XVI в. перед сном совершенно раздевались, спали голыми, причем оба пола и все возрасты. Обычно муж, жена, дети и слуги спали в общей, комнате, не разделенные даже перегородками. Такой обычай был характерен не только для крестьянства и других низших слоев населения, но и среди высшего бюргерства и аристократии. Даже гостя не стеснялись, и он спал, как правило, в общей спальне с семьей. Жена ложилась спать без платья (Kleiderbloss) в присутствии гостя, которого видела первый раз в жизни. Требования стыдливости считались выполненными, если она делала это «целомудренно».
Если гость отказывался разоблачиться, то его отказ возбуждал недоумение. Как долго продержался этот обычай, видно из одного документа, относящегося к 1587 г., в котором правила эти осуждаются, следовательно, еще существуют. Другим выражением этой простоты нравов служило то, что еще в XVI в. мужчины, женщины и девушки голыми перебегали улицу, когда содержатель бани звонил к ее открытию, или в лучшем случае прикрывались только веником. Ввиду того что бане будет посвящена особая глава, мы не будем вдаваться в подробности относительно этого обычая.
Здесь мы имеем в виду не эту простоту нравов, а демонстративное выставление напоказ своей наготы, гордая и надменная демонстрация ее. Физическая красота рассматривалась эпохой Ренессанса не как тайна, которая должна цвести в тиши и обнаруживаться лишь в комнате. Она сияла в праздничном зале, на улице, на ярмарке, где весь народ был зрителем и судьей, она была сокровищем, которым хотели часто вызвать зависть в других.
Сначала напоказ выставлялась, конечно, женская красота. Делалось это по-разному и в различных формах. Самым благородным средством было искусство. Демонстративность здесь заключалась в том, что художнику заказывали портрет жены или возлюбленной в обнаженном виде. Ее изображали или совсем обнаженной, или в особо претенциозном декольте, как эротическое чудо. Знаменитыми картинами в таком роде являются «Венера дель Трибуна» Тициана, изображающая герцогиню Урбинскую, две картины того же Тициана, изображающие, как король Карл II играет на музыкальном инструменте возле ложа своей возлюбленной, предстающей глазам в совершенно обнаженном виде.
Не менее известны обнаженные портреты Дианы Пуатье, метрессы Генриха II. Он неоднократно заказывал портреты своей юноновской возлюбленной в обнаженном виде, а также приказал высечь ее из мрамора и отлить из серебра. Габриэлла д'Эсте, метресса Генриха IV также неоднократно воспроизводилась обнаженной. Кажется, нет надобности доказывать, что во всех этих картинах речь шла о демонстративном выставлении напоказ эротической красоты. Относительно Дианы Пуатье надо заметить, что здесь главное внимание было обращено на ее пышную грудь. В таком же духе изобразил Рафаэль Форнарину, Тициан — свою дочь Ливию, Рубенс создал свой гимн в честь Марии Медичи, наполняющий целый зал Лувра. Сюда же относится и нагая статуя-портрет, которую прекрасная сестра Папы Джулия Фарнезе заказала для своего склепа в храме св. Петра.
Не поддается подсчету количество женских портретов, созданных специально ради прекрасной груди оригинала. Прекрасная грудь пользовалась, как уже было сказано, высшим почетом в эпоху Ренессанса. Бесконечное число женщин, обладавших этим достоинством, щедро раскрывали свой корсаж и сбрасывали все покровы, чтобы глаза каждого могли беспрепятственно наслаждаться этими сокровищами. Можно без преувеличения сказать, что часто муж или любовник заказывали не портрет возлюбленной, а портрет ее груди, ибо прекрасная обнаженная грудь многих женских портретов Ренессанса представляет не только центр, но и главную суть этих картин. Само собой понятно, что художники стремились сохранить «портретную» точность изображаемой груди. Достаточно сравнить различные портреты прекрасной Симонетты, изображенной как Боттичелли, так и другими художниками, различные портреты кисти Париса Бордоне и Паоло Веронезе, картину Тициана, изображающую Альфонсо д'Авалоса и его возлюбленную, портрет герцогини Лотарингской и др.
Самой рафинированной формой демонстрации красоты тела, и особенно груди, было изображение в виде мадонны. Самым известным историческим примером является портрет Агнессы Сорель, метрессы Карла VII, в виде мадонны, созданный Жаном Фуке. Держа на коленях младенца, lа belle des belles (красавица из красавиц), как называли мадонну на галантном языке эпохи, обнажала всю пышность своей прекрасной груди. Это был в самом деле заманчивый мотив. В образе Девы Марии можно было заодно изобразить самый священный, возвышенный символ и служить миру, выставив самым пикантным образом напоказ земную красоту. Женщина становилась таким образом в одном лице и святой и дьяволом, соблазнительницей и спасительницей. Женское честолюбие могло торжествовать свою высочайшую победу. Опускаясь в молитвенном экстазе перед мадонной, зритель вместе с тем преклонялся перед раскрывавшимся ему чудом красивого тела. Примеру Агнессы последовала, без сомнения, не одна женщина, обладавшая красивой грудью, и вот почему столько изображений Девы Марии, возникших в эпоху Возрождения, возбуждают в нас отнюдь не возвышенные мысли. Модель и художник думали не о небесах, а о самом земном на земле. Сюда относятся и статуи возлюбленных, воздвигнутые могущественными церковными сановниками в церквах, чтобы им воздавались почести, как святым. Достаточно указать на Сиджизмондо Малатесту, построившего в 1445–1450 гг. великолепную церковь в честь св. Франческо в Римини и поместившего в ней памятник своей прекрасной любовнице Изотте.
Я предпочитаю общение с женщинами наедине. На глазах у всего света оно менее радостно и менее сладостно.Красивое тело выставлялось, однако, напоказ не только при помощи облагораживающего искусства, возносящего предметы над миром действительности, нет, в этом отношении шли гораздо дальше, смело щеголяя наготой перед всем миром, на улице, где ее окружали и ощупывали глазами десятки тысяч любопытных. Такая демонстрация обнаженного тела уже описана в первой главе в связи с обычаем, когда навещавшего город князя перед городскими стенами встречали совершенно обнаженные прекрасные женщины. История зарегистрировала целый ряд таких встреч, например, въезд Людовика XI в Париж в 1461 г., Карла Смелого в Лилль в 1468 г., Карла V в Антверпен в 1520 г. О последнем событии мы имеем более подробные сведения благодаря Дюреру, который присутствовал при нем и признавался, что он с особенным интересом разглядывал обнаженных красавиц. Не подлежит сомнению, что этот обычай был очень распространен и что эти три случая не были исключениями, иначе современные хронисты об этом упомянули бы. Во всяком случае, достоверно известно, поскольку подтверждено документами, что этот номер программы всегда возбуждал живейший интерес. О въезде Людовика XI в Париж сообщается следующее. У фонтана дю Пансо стояла группа мужчин и женщин, сражавшихся друг с другом, а возле них три обнаженные прекрасные девушки, изображавшие сирен, обладавшие такой чудной грудью и такими прекрасными формами, что невозможно было наглядеться. И если Дюрер открыто говорит о своем любопытстве, если он сообщает своему другу Меланхтону, что разглядывал этих девушек вблизи и довольно дерзко, так как он «художник», то у толпы были такие же побудительные причины, так как она состояла в значительной степени из чувственных юношей и стариков, не знавших на свете ничего интереснее красивой женщины. Эта часть зрителей спешила насладиться зрелищем, тем более что прекраснейшие из прекрасных украшали праздник своей наготой и выставляли все свои тайные прелести напоказ, причем каждая хотела быть самой прекрасной и желанной. Любопытство было в данном случае совершенно законно, так как именно эти группы находились в центре праздника, устроенного в честь посетителя. Обнаженным красавицам всегда отводились главные роли в приеме. Они или шли во главе кортежа, или разыгрывали символические пантомимы, выражавшие гордость горожан в связи с посещением высокого гостя.Мишель Монтень

Неравные пары. Гравюра. 1500 г.
Во время въезда Людовика XI в Париж в 1461 г. три обнаженные девушки по очереди декламировали перед королем стихи, прославлявшие его. Во время встречи городом Лиллем Карла Смелого Бургундского три обнаженные красавицы разыгрывали перед ним суд Париса[41]. По словам хрониста, ничто так не понравилось и так не заинтересовало народ, как именно это представление. При таких состязаниях, кроме того, каждый зритель был тоже «Парисом» и сравнивал прелести «Юноны» и «Венеры» и т. д. И, несомненно, в глазах красавиц главным вознаграждением, ради которого они и выставляли свою красоту напоказ, был этот всеобщий интерес, было сознание, что тысячи взоров завидуют им и пожирают их. Такие встречи пользовались сочувствием и государынь. Об английской королеве Елизавете сообщают, что «она не входила ни в один сад, где бы ее не встретили с приветствием нимфы, нереиды, тритоны, флоры и лесные боги». Одежды на этих языческих богах и богинях представляли наименьший интерес. Порой красавицы были одеты лишь в прозрачную ткань, ничего не скрывавшую и только повышавшую любопытство зрителей и пикантность зрелища. Такие покровы носили поэтому, как в древности, название «стеклянной одежды». Екатерина Медичи также не отличалась большой строгостью нравов. Об этом достаточно можно судить по тому банкету, который она задала королю в 1577 году в саду замка Chenonceaux, где самые красивые и благородные придворные дамы, полураздетые, с распущенными, как у новобрачных, волосами, должны были прислуживать за столом королю и его приближенным. Трудно придумать более грандиозный культ физической красоты, чем эти представления. В первой главе мы упомянули, что для этой роли предназначались обыкновенно самые красивые куртизанки города. В своем сочинении «О женщине» Плосс, однако, подчеркивает, что не только куртизанки пользовались этими случаями, чтобы выставить напоказ свою красоту, но и «дочери знатных патрициев считали для себя честью идти в обнаженном виде во главе императорского кортежа». Если подобное утверждение правильно — нам не удалось найти других данных в пользу него, — то оно еще более повысило бы значение этих смелых представлений для оценки культа тела в эпоху Ренессанса. Тот факт, что красивая женщина, обладательница безупречного бюста, позирует обнаженной перед художником, изображающим ее так, чтобы вся ее красота представала перед зрителем, вполне естествен и для многих других эпох, как и тот факт, что она для мужа или любовника заказывает портрет в костюме Евы и в эротической позе. Если же она выставляет свое нагое тело на улицах, то это предполагает во всех участниках: в актерах, распорядителях и в публике — такую смелость мысли, для оценки которой у нас нет подходящего масштаба, даже в том случае, если эта роль исполнялась не знатными патрицианками, а чуждыми городу красивыми проститутками из «женского переулка». Кто бы ни участвовал в этих представлениях, дамы или куртизанки, ясно одно: общество Ренессанса, обратившись к античным формам мысли, переняло античное мировоззрение в самом широком смысле. Выше приведенный обычай ставить любовницам статуи в церквах и требование поклоняться им как святым соответствуют чисто языческим представлениям. Все эти частности, как и слагающаяся из них общая картина, вполне логичны. Все эти явления — неотделимые составные части нравственного облика века. Когда чувственность восторжествовала под влиянием сходных с античным миром экономических условий, люди не только объективно взглянули на наготу, а дошли в этом направлении до самых смелых выводов. Им оставалось только снять все покровы, чтобы лучше всего оценить вновь открытые красоты. Чувственная идеализация тела обусловливала его культ, доведенный до крайности. Выражением этого и стал культ наготы, к которой не только относились непринужденно, но которую прямо выставляли напоказ. Следует прибавить, что часто в мистериях и мужчины играли без одежды. В этом также можно найти сходство с античным миром. Несомненно: раз человек как физическое явление представлялся эпохе Ренессанса высшей формой красоты, то она должна была логически видеть в нагом прекрасном человеке лучшее зрелище. Но так как в этих представлениях участвовали обычно только обнаженные женщины, то зрелища были далеки от чистого культа красоты. Мы имеем в виду аристократические нравы, придворные праздники. Вот почему разнообразные формы этого культа реже всего встречались в мелкобуржуазной Германии и чаще всего — в тех странах, где княжеский абсолютизм уже стал в эту эпоху не только господствующим политическим фактором, но и господствующей социальной силой, т. е. в Испании, Италии, Франции и во Фландрии, находившейся под испанским владычеством. Демонстрировалась именно женская нагота, что было в духе идеологии абсолютизма. Абсолютизм сделал из женщины драгоценный предмет роскоши, а ценность предмета роскоши повышается в глазах владельца, если он возбуждает всеобщую зависть, выставляя ее напоказ. Необходимо коснуться еще одной особенности частной жизни, служащей не менее классическим доказательством свойственного Ренессансу культа физической красоты. Мы имеем в виду описание и прославление интимной телесной красоты возлюбленной или жены мужем или любовником в беседе с друзьями, их готовность даже представить возможность воочию убедиться в этой хваленой красоте. Это одна из излюбленных разговорных тем эпохи. Мурнер говорит в своем «Лужке дураков»: «Немало можно найти дураков, хвалящих своих жен в лицо каждому встречному. Они говорят: у меня такая прекрасная жена, что, если бы ты ее увидел, ты бы изумился». Сеньор Брантом сообщает[42]: «Я знал нескольких сеньоров, которые хвалили своих жен перед своими друзьями и подробнейшим образом описывали им все их прелести». Один расхваливает цвет кожи жены, похожей на слоновую кость, с розовым налетом, как у персика, на ощупь мягкую, как шелк или бархат, другой — пышность ее форм, упругость ее грудей, похожих на «большие яблоки с грациозными остриями» или на «хорошенькие шарики с розовыми ягодами», твердые, как мрамор, тогда как ее бедра — «полушария, сулящие высшее блаженство». Другие хвастают «словно выточенными белыми ногами» жен, подобными «горделивым колоннам, увенчанным красивым фронтоном». Не забывают при этом даже и о самых интимных подробностях… О духовных качествах супруги или женщины говорят разве что в самом конце. Главную роль играет красивое тело, которое описывается с ног до головы и обратно. Описание нередко подкрепляется доказательством. Другу предоставляется возможность подглядеть за женой во время купания или туалета, или еще охотнее его приводят в спальню, где спящая жена, не подозревая, что она имеет посторонних свидетелей, предоставляет его взорам всю свою наготу. Порой даже сам муж откидывает скрывающие ее покровы, так что все ее прелести открываются взорам любопытных. Телесная красота жены демонстрируется как клад или сокровище, которые должны возбудить зависть. Вместе с тем обладатель этих сокровищ хвастает ими, чтобы подчеркнуть, что он их собственник. Он делает это открыто, и жена должна то и дело мириться с тем, что муж подведет к ее ложу своих друзей, даже в том случае, когда онаспит, и что он сорвет с нее одеяло, отчасти скрывающее ее тело от взоров. То, что это был часто встречающийся обычай, видно из того, что у писателей того времени упоминается целый ряд таких случаев и что рассказчики часто повторяли этот мотив. У Брантома мы находим следующий пример: «Я хочу рассказать об одном человеке, которого навестил приятель как раз в то время, когда тот одевался. Пользуясь случаем, муж показал ему жену, спавшую на постели совершенно обнаженной, без всякого прикрытия, так как было жарко. Он наполовину отдернул занавеску, так что восходящее солнце осветило всю ее красоту. Приятель насладился этим зрелищем, и потом оба отправились к королю». В новелле Фиорентино «La Niccolosa», которую мы цитируем во французском переводе, встречается следующее место: «Elle était ainsi, sans vergogne, couchee dans le lit, lorsque Buondelmonte et le mari, un flambeau a la main, arriverent dans la chambre. Buondelmonte l'empressa de prendre le coin du drap et de lui couvrir le visage; puis se mettant au pied du lit, il commenca a decouvrir les pieds et les jambes qui etaient ecartees»[43] и т. д. В этой новелле Фиорентино речь идет о том распространенном тогда наказании, которым мстил обманутый или отвергнутый любовник той даме, за которой он тщетно ухаживал. Он старался тем или иным путем завладеть ею, чтобы потом выставить ее напоказ в обнаженном виде или перед своими приятелями, или даже прямо на площади. Примеры мы находим у Боккаччо и у других новеллистов. Охотно показывали в таком виде жену также и мужу, чтобы насладиться ее страхом. Примером может служить одна новелла Страпаролы в его «Placevoli notti» («Приятные ночи»). Три замужние сестры посмеялись одна за другой над одним юношей. Все они дали ему понять, что благосклонны к нему, а в решительную минуту оставили его в дураках. Юноша задумал отомстить. Во время устроенного им бала ему удалось завладеть ими, он заставил их под страхом смерти раздеться и в таком виде показывал их мужьям, которые, разумеется, и не подозревали, что это их собственные жены[44]. Юмористическая и сатирическая трактовка такой демонстрации, направленная против глупости мужчин, слишком полагающихся на верность своих жен, сводится к тому, что любовник дамы подводит ее мужа к ложу, где они только что насладились любовью, и показывает ему все ее прелести. Муж по своей глупости никогда, разумеется, не догадается, что перед ним его собственная жена, так как он раньше и не замечал ее красоты. Она же отомстила ему тем, что взяла себе любовника, который к этой красоте был не слеп. Это, повторяем, очень частый мотив. Забавная обработка его под заглавием «Как мастер Матес не узнал своих собственных сокровищ» встречается среди описаний веселых подвигов и приключений монаха из Ленина. Красивая, но неверная жена судьи Матеса взяла себе в любовники отважного дворянина. При маркграфском дворе этим хотят воспользоваться для шутки. Судья Матес получает приказ арестовать в доме упомянутого дворянина государственного изменника, который будто бы там спрятался. Судья Матес добросовестно исполняет полученное приказание. Он, естественно, осматривает и постель, в которой как раз находится его неверная жена. Однако дворянин находит выход, надеясь на глупость рогоносца-судьи. Он предоставляет последнему право осмотреть все, что лежит в его постели, за исключением лица. Изменница ничего не имеет против, зная, что при таких условиях ей не грозит никакая опасность. Судья Матес убеждается, что в постели лежит не заросший щетиной померанский юнкер, и «под впечатлением от виденной красоты приходит к убеждению, что это, вероятно, померанская дворянка». «Это, несомненно, придворная дама, так как наши мещанки никогда не обладают такими прелестями», — говорит он. Другая версия этой темы — примитивно-грубоватый шванк «Auf den Esel gesetzt»[45]. Здесь муж-граф не узнает жены-изменницы, которая при помощи румян и краски превращается из русокудрой в брюнетку. Все это характерные документы, также доказывающие, что центром всеобщего интереса стало телесное, и притом чувственно-телесное, что оно было главным идейным содержанием эпохи. В заключение надо упомянуть, что такое демонстративное хвастовство исходило не только от мужчины, что и женщина любила хвастать физическими достоинствами любовника или мужа. Разумеется, она вела себя не так свободно, как мужчина. Тем не менее в нашем распоряжении имеется ряд более чем откровенных документов. Это главным образом жалобы вдов, покинутых невест и жен, расхваливающих сверх всякой меры добродетели покойного или отсутствующего. Не менее естественно, что не только женщина, но и мужчина выставлял свою красоту напоказ. А так как его красота заключалась главным образом в его активности, то он демонстрировал прежде всего те качества, которые служили ее выражением. Он становился атлетом, танцором, вертящим в воздухе женщину, он хвастал своей эластичностью и неутомимостью. Не довольствуясь, однако, этими косвенными доказательствами, он демонстрировал то, чему эпоха придавала главное значение, и путем моды.

Мода эпохи Ренессанса
 очти всегда идеал красоты, свойственный эпохе, переносится и на костюм, определяет основное направление моды. Мода — это применение идеала физической красоты эпохи к практике ежедневной жизни.
Мода является эротической проблемой, потому что цель разработки покроя платья заключается в подчеркивании эротической привлекательности тела. Эта цель наглядно прослеживается в женской одежде и моде, независимо от того, скрывает она или обнаруживает тело. В так называемые чувственные эпохи эротическим становится и мужской костюм. Эта основная черта моды служит, конечно, определенной цели — цели взаимного ухаживания. Для женщины мода — самое надежное средство эротического воздействия.
Этот общий характер моды, имеющий значение для всех эпох, приобретает различные формы в зависимости от стадии развития общественной жизни. Ренессанс был творческой эпохой, и потому веком здоровой и сильной чувственности, поэтому явное подчеркивание чувственного стало главной тенденцией моды Возрождения, так же как постоянная демонстрация индивидуальной физической красоты.
После того как в идеале красоты эпохи Ренессанса восторжествовал принцип целесообразности, это сразу же отразилось в моде. В мужском костюме подчеркивали силу широтой плеч, объемом груди и т. д., в женском — увеличивали бедра и грудь.
Мужская одежда состояла из плотно облегающего тело костюма, рельефно подчеркивающего мускулатуру. Верхняя одежда была укорочена и заменена своеобразной курткой, спускавшейся немного ниже пояса. «Она едва прикрывала заднюю часть тела. Такова была тогдашняя мода, царившая в Крейнцбурге», — говорится в крейнцбургской хронике. Так как платье делалось как можно уже, то оно напоминало как бы вторую кожу.
Вот что сообщает по этому поводу немецкий историк Герман Вейс:
«Об изменении одежды того времени, особенно мужской, дает верное понятие хроника Монстреле за 1469 год. "В это время, — говорится в хронике, — мужчины носили платье до того короткое, что из-под него виднелся во всей своей форме их зад, совсем как у одетых обезьян". Ддя того чтобы одежда как можно сильнее обтягивала тело, под нее стали надевать особый вид жилетов с узкими рукавами, открытых спереди и зашнуровывавшихся от самой шеи. В результате шнуровки талия делалась чрезвычайно гибкой и тонкой, что при тогдашней моде на большие подкладные плечи придавало фигуре неуклюжий вид. Тот же рассказчик далее замечает, что на рукавах мужских кафтанов и камзолов делались разрезы, предназначенные специально для того, чтобы показать блестящую белизну дорогой полотняной сорочки. Такие же разрезы ("окна") стали делать на талии, животе и даже на бедрах. Панталоны по-прежнему оставались узкими, с маленьким круглым мешочком спереди[46]. Они крепились под полами кафтана или камзола при помощи застежек».
Эта мода была более всего распространена в последних десятилетиях XIV в. и просуществовала почти все XV столетие. Так как в своем крайнем выражении она приводила к явной беспомощности в движениях, то стали намечаться изменения, которые привели ко второму решению поставленной эпохой задачи.
Чтобы одежда не сковывала движения, пришлось брюки и рукава разрезать во многих местах. Эти разрезы декоративно украшали, так что из куртки сквозь разрезы виднелась шелковая рубашка в виде буфов, а разрезы в брюках снабжались буфами других цветов. Так возникла первая форма моды на буфы, приблизительно в конце XV в. Она не только давала возможность дальше развить эту тенденцию, но и открывала безграничные возможности другой тенденции — демонстративному щеголянию богатством и великолепием костюма. И это имело решающее значение.
очти всегда идеал красоты, свойственный эпохе, переносится и на костюм, определяет основное направление моды. Мода — это применение идеала физической красоты эпохи к практике ежедневной жизни.
Мода является эротической проблемой, потому что цель разработки покроя платья заключается в подчеркивании эротической привлекательности тела. Эта цель наглядно прослеживается в женской одежде и моде, независимо от того, скрывает она или обнаруживает тело. В так называемые чувственные эпохи эротическим становится и мужской костюм. Эта основная черта моды служит, конечно, определенной цели — цели взаимного ухаживания. Для женщины мода — самое надежное средство эротического воздействия.
Этот общий характер моды, имеющий значение для всех эпох, приобретает различные формы в зависимости от стадии развития общественной жизни. Ренессанс был творческой эпохой, и потому веком здоровой и сильной чувственности, поэтому явное подчеркивание чувственного стало главной тенденцией моды Возрождения, так же как постоянная демонстрация индивидуальной физической красоты.
После того как в идеале красоты эпохи Ренессанса восторжествовал принцип целесообразности, это сразу же отразилось в моде. В мужском костюме подчеркивали силу широтой плеч, объемом груди и т. д., в женском — увеличивали бедра и грудь.
Мужская одежда состояла из плотно облегающего тело костюма, рельефно подчеркивающего мускулатуру. Верхняя одежда была укорочена и заменена своеобразной курткой, спускавшейся немного ниже пояса. «Она едва прикрывала заднюю часть тела. Такова была тогдашняя мода, царившая в Крейнцбурге», — говорится в крейнцбургской хронике. Так как платье делалось как можно уже, то оно напоминало как бы вторую кожу.
Вот что сообщает по этому поводу немецкий историк Герман Вейс:
«Об изменении одежды того времени, особенно мужской, дает верное понятие хроника Монстреле за 1469 год. "В это время, — говорится в хронике, — мужчины носили платье до того короткое, что из-под него виднелся во всей своей форме их зад, совсем как у одетых обезьян". Ддя того чтобы одежда как можно сильнее обтягивала тело, под нее стали надевать особый вид жилетов с узкими рукавами, открытых спереди и зашнуровывавшихся от самой шеи. В результате шнуровки талия делалась чрезвычайно гибкой и тонкой, что при тогдашней моде на большие подкладные плечи придавало фигуре неуклюжий вид. Тот же рассказчик далее замечает, что на рукавах мужских кафтанов и камзолов делались разрезы, предназначенные специально для того, чтобы показать блестящую белизну дорогой полотняной сорочки. Такие же разрезы ("окна") стали делать на талии, животе и даже на бедрах. Панталоны по-прежнему оставались узкими, с маленьким круглым мешочком спереди[46]. Они крепились под полами кафтана или камзола при помощи застежек».
Эта мода была более всего распространена в последних десятилетиях XIV в. и просуществовала почти все XV столетие. Так как в своем крайнем выражении она приводила к явной беспомощности в движениях, то стали намечаться изменения, которые привели ко второму решению поставленной эпохой задачи.
Чтобы одежда не сковывала движения, пришлось брюки и рукава разрезать во многих местах. Эти разрезы декоративно украшали, так что из куртки сквозь разрезы виднелась шелковая рубашка в виде буфов, а разрезы в брюках снабжались буфами других цветов. Так возникла первая форма моды на буфы, приблизительно в конце XV в. Она не только давала возможность дальше развить эту тенденцию, но и открывала безграничные возможности другой тенденции — демонстративному щеголянию богатством и великолепием костюма. И это имело решающее значение.

Женские моды. XVI в.
Все творческие эпохи любят роскошь и безумное расточительство. Этому стремлению теперь открывалось безграничное поле действия, так как век мировой торговли создал предпосылки для безмерной роскоши. Образовались огромные богатства, легче можно было нажиться. Роскошь как массовое явление обнаруживается, в свою очередь, в костюме. В мужской моде пределом этой роскоши была мода на шаровары (plunderhosen), достигшая в области злоупотребления сукном своего высшего проявления в первой половине XVI в. — один человек носил порой на себе до 60 аршин сукна — и господствовавшая во всех странах еще во второй половине столетия. Лучше всего эта мода описана бранденбургским придворным проповедником Андреасом Мускулусом в его сочинении «О черте в штанах». Относительно женской моды решение задачи было достигнуто не менее странными и смешными средствами, открывавшими широкий простор для проявления роскоши. Сначала и женщины одевались в плотно облегавшие тело платья, подчеркивавшие все их эротически-возбуждающие прелести — пышность груди и бедер, красивую линию ног и т. д. Постепенно все внимание было сосредоточено на эротическом выявлении груди и бедер — так называемых главных характерных признаков красоты, основанной на понятии целесообразности. Этот процесс в продолжение веков повторялся, разумеется, неоднократно, но иногда в умеренной, иногда, напротив, в изощренной форме. В эпоху Ренессанса эта тенденция носила более-менее умеренный характер, и это положение нисколько не колебалось от того, что найденное эпохой решение очень мало совпадает с нашими представлениями о красоте и гигиене. По этому поводу Герман Вейс сообщает: «Все больше открывались шея, грудь и руки, а в конце XV в., при кокетливой супруге Людовика XII, королеве Анне Британской (с 1491 г.), женщины стали обнажать даже икры ног. Еще во времена Людовика XI (около 1480 г.) декольте на груди и спине делались гораздо шире прежнего, а нагрудник спускался все ниже, порой едва прикрывая грудь. Иногда он заменялся тонкой и почти прозрачной материей. Вначале эта мода не пользовалась одобрением, а, наоборот, вызывала осуждение даже со стороны самих женщин, особенно из среднего сословия. Тем не менее ей продолжали следовать, дополняя новый фасон разрезами на рукавах, чтобы показать тонкое полотно сорочки, которую выпускали буфами». Стремление сделать талию пошире привело к так называемому wulstenrock (юбка-подушка, юбка-валик). Талии обматывали широкими, порой весившими 25 фунтов wulsten, получившими название «жир» (speck), формы тела приобретали колоссальные размеры. Женщины казались толстыми, как «пекари», по выражению проповедника Гейлера из Кайзерсберга, производили такое впечатление, будто они беременны, что соответствовало тенденции века, его преклонению перед зрелостью. Впечатление еще усиливалось благодаря тому, что женщины ходили в башмаках без каблуков, что заставляло их откидывать назад верхнюю часть тела, так что живот выступал поневоле вперед. Демонстративное подчеркивание груди достигалось при помощи корсажа, который в случае необходимости набивали ватой. Эпоха Ренессанса, как и античный мир, знала искусственную грудь. Женщины во что бы то ни стало хотели казаться полными, отличаться пышными формами. Грудь старались прежде всего искусственно поднять вверх. «Существующий уже в продолжение столетий обычай носить корсеты имел своим назначением не столько скрыть грудь (какова была тенденция средних веков: не иметь груди отвечало аскетическому мировоззрению), сколько, напротив, позволить ей тем яснее выступить вперед над все ниже опускавшимся верхним краем платья» (С. Н. Stratz. «Frauenkleidung» — Штратц. «Женская одежда»). Стремясь подчеркнуть красоту своих форм, женщины все больше декольтировали свои платья. Эпоха Ренессанса отличалась не только чувственностью, она не знала ни лицемерной стыдливости, ни страха. Эта прямолинейность привела к тому, что моды Ренессанса кажутся нам вычурными, причем эти особенности характеризуют одинаково как мужские, так и женские моды. «Я превосходнейшим образом создан для любви», — говорил мужчина женщине при помощи своего костюма. «Я достойный предмет твоей силы», — отвечала она ему не менее ясно при помощи своей одежды. А как предложение, так и ответ отличались в эпоху Ренессанса одинаковой смелостью. Начнем с женской моды.
Безудержный и низкопробный люд
Низводит красоту до вожделенья,
Но ввысь летит за нею светлый ум.
Микеланджело

Лукас Кранах. Венера, идеал женской красоты XVI в. Ксилография. 1506 г.
Чтобы подчеркнуть красоту груди, ее главные достоинства — упругость и пышность, женщины украшали ореолы алмазными кольцами и шапочками и обе груди соединялись золотыми цепочками, отягченными крестами и драгоценностями. Екатерина Медичи придумала для своих придворных дам моду, обращавшую на грудь внимание тем, что в верхней части платья справа и слева были сделаны два круглых выреза, обнаруживавших только груди, но зато целиком обнаженными, или тем, что груди искусственно воспроизводились на платье сверху. Аналогичная мода, в силу которой обнажались только грудь и лицо, царила и в других местах. Там, где обычай требовал, чтобы благородные дамы переходили улицу только под шалью или в маске, как в Венеции, они, правда, скрывали лицо, но зато тем щедрее выставляли напоказ грудь. Вейс пишет по этому поводу:
Подобно тому как есть две красоты, должны с необходимостью быть и две любви, низменная и небесная, ввиду того, что один стремится к обычной и чувственной красоте, а другой — к умопостигаемой.«Не ограничиваясь существовавшим прежде вырезом на груди, его стали еще больше расширять спереди, сзади и от середины к плечам, вырезая глубоким прямоугольником, порой оставлявшим плечи полностью обнаженными. Обычно перед лифа, спускавшийся чуть ниже талии, с середины груди собирали несколькими продольными складками или делали на нем широкий и глубокий вырез, стянутый шнурами соответствующей длины. Почти одновременно с обнажением груди и плеч их стали прикрывать кусками очень тонкой и прозрачной материи, которым придавали форму простого воротника или нагрудника, отделанного шитьем. Впоследствии такая мода настолько прочно укоренилась в некоторых богатых городах, что эрфуртский хронист даже описал ее в своей хронике за 1480 год. "Девушки и женщины, — рассказывает он, — носили роскошные нагрудники с широкими складками, вышитые шелком, жемчугом или блестками. Рубашки были особого покроя, поддерживающего грудь"». В среде бюргерства и городского дворянства женщины не декольтировались так сильно, как при королевском дворе. Только проститутки подражали этой моде, и им часто позволялось выходить на улицу с совершенно обнаженной грудью, во всяком случае, они имели полное право появляться в таком виде дома и на праздниках. «Женщины совершенно забыли стыд. Так низко пали нравы. В наготе они видят теперь красоту. Вся их спина видна, и они мастерски умеют показывать грудь, поддерживаемую корсетом. Чтобы не задыхаться в платье, они обнажают половину тела, так думают они привлечь глупцов. "Оставьте! Что это такое? — говорит женщина, когда мужчина касается ее груди. — Какой вы злой! Клянусь честью, я ни разу еще не видала такого дерзкого человека!" Она защищается против мужчины так, как осел, со спины которого упал мешок. Тайком подносит она руку к груди, и вся она выпадает из платья». Щедрость в этом отношении женщин некоторых городов вошла в поговорку. О флорентийках[47] говорили: «Они охотно показывают свою пышную грудь». В 48-й главе своего трактата «De sacerdotum et monachorum carnalium abominatione» Гус пишет: «Женщины делают в своих платьях около шеи такой большой вырез, что каждый может видеть ее блестящую кожу до половины обнаженной груди, притом везде, — как в храме, так и на площади, а еще более дома, а та часть груди, которая остается скрытой, так искусственно увеличена и так выступает вперед, что производит впечатление двух рогов». Особенно сильно декольтироваться разрешалось только девушкам. Это понятно. Грудь — главное ее средство эротически воздействовать на мужчину, привлечь его внимание. Девушка еще только добивается мужчины, поэтому она имеет право больше других выставлять напоказ свои заманчивые прелести. От замужней женщины, уже достигшей цели, обычай требовал, чтобы ее декольте было значительно скромнее. Она уже не имела права обнажать ореолы грудей. А вдова была обязана наглухо, до самой шеи, застегивать платье, так как ей уже не приходилось больше привлекать к себе внимание мужчин. В некоторых городах вдовы должны были закутаться в одеяло, как в мешок: они уже не имели права на утехи жизни. Впрочем, это требование ограничивалось только годом траура, а затем вдова могла снова демонстрировать свою красоту и даже конкурировать в этом отношении с девушками, так как теперь она снова добивалась любви и внимания мужчины. Такая дифференциация правил приличия лучше всего доказывает, что мода, по существу, эротическая проблема и служит прежде всего целям взаимного ухаживания. Наряду с хронистами, авторами шванков и рассказчиками новелл, наряду с современными рисовальщиками и художниками много сведений о смелом обнажении груди дают моралисты и проповедники, не упускающие при этом случая напомнить, что это дело дьявольское и грозит адскими муками всем, кто таким путем проявляет свою безнравственность. Еще из одного источника узнаем мы много положительных подробностей о господствовавшей в эпоху Ренессанса тенденции как можно больше обнажать публично грудь, а именно из многочисленных современных регламентаций костюма и законов против роскоши. Большинство историков видели в этой регламентации не более как выражение отеческого попечения городских властей и администрации, стремившихся поставить преграду роскоши, подтачивавшей народное благосостояние[48]. Нет сомнения, что такова была одна из причин, приводивших к официальной регламентации костюма и изданию законов против роскоши, но гораздо важнее два других фактора. В Франкфуртских летописях 1369 г. и в Богемской хронике Гагеццуса под 1367 г. упоминается: «В этом году, — замечает Гагеццус— в Богемии опять появились новые костюмы; многие носили на себе 300 или 360 пуговиц и такое узкое платье, что не могли ни нагнуться, ни двигаться. Богомерзкое дело эти короткие кафтаны и остроносые башмаки!» По поводу роскоши Герман Вейс пишет: «Со времен Людовика XI в моду вошли веера, в которых ценили не столько материал, сколько искусную работу. Все это послужило серьезным стимулом для развития ювелирного дела и близких к нему производств. Увеличилось употребление всевозможной дорогой косметики, благовонных мыл, эссенций, помад, постоянно возбуждавшее негодование духовных особ. Патер Мальяр свои поучения женщинам обычно оканчивал такими словами: "Вы раскрашиваете себе лицо и изменяете его цвет, чего никак не следовало бы делать порядочным женщинам. Но вы смеетесь и говорите, что все это пустяки и что проповедникам нельзя верить. Ну, как хотите: по мне, пусть вас всех черт возьмет!"» Роскошь проявлялась также в головных уборах и косметике. О придворных дамах Изабеллы, супруги Карла VI, Ювеналь дез Урсен в 1417 г. писал: «Они, несмотря на войну и смуты в государстве, рядились напропалую и украшали себя головными уборами, похожими на необыкновенные рога, чрезвычайной высоты и ширины, имевшие по бокам вместо валиков наушники или кольца такой величины, что в этом уборе нельзя было пройти в дверь иначе, как боком и нагнувшись, что очень не нравилось благопристойным людям».Пико

Костюмы венецианских дам. XVI в.
Мода является не только эротической проблемой, но и средством сословного обособления. В более ранние эпохи мода была даже самым важным из таких средств, и потому характерные черты, служившие в костюме признаками классового деления, определялись всегда законом, а именно в упомянутых регламентациях костюма. Границы всегда устанавливались не для верха, а для низа, только низшие классы не должны были переступать их. Таков один из этих факторов. По поводу головных уборов ученый Комиссаржевский сообщает[49]: «Жена Карла VI, Изабелла Баварская, первая ввела в моду огромные чепцы, совершенно скрывавшие волосы, и мода эта скоро привилась в Нидерландах, Германии и Англии. При дворе той же Изабеллы возник впоследствии отвратительный обычай брить брови и волосы на лбу, чтобы последний казался выше. Когда со временем французская мода освободилась от влияния бургундской, обычай прятать волосы все же продолжал еще существовать. Длинные волосы встречаются только у Мадонны и у святых на картинах живописцев. Некоторые английские чепцы имели вид двух рогов, над которыми развевается парус». Другой главной целью, которую преследовала регламентация моды и которую часто и не думали скрывать, была защита местной промышленности против иностранной конкуренции — торговли бархатом, шелком, вуалями, вышивками серебром, мехами и т. д. Запрещение носить и обрабатывать подобные материи не редкость в таких городах и в такие эпохи, когда цеха были сильными и держали в своих руках городское управление. Герман Вейс по этому поводу сообщает: «Указом Карла VIII (1485 г.) запрещалось всем, кроме высшего дворянства, носить платье из золотой или серебряной парчи и шелка. С нарушителей взимался значительный денежный штраф, и у них отбирались запрещенные вещи. Из богатых дворян только шевалье, имевшие 2 000 ливров дохода, могли иметь платье из шелковых тканей, а экюйе с таким же доходом ограничивались одеждой из сатина. Материи, затканные золотом и серебром, были доступны только самым знатным и высокопоставленным лицам». К подобным указам прислушивались, если власть, от которой они исходили, была прочной, в противном случае они игнорировались. Так как благородство костюма возрастало вместе с увеличением декольте и так как обнаженная грудь считалась лучшим украшением женщины, то аристократия присвоила эту привилегию только себе. Женщины простого сословия не имели права обнажать грудь. Вот почему многочисленные указы ограничивали как раз декольте. Там, где господствовала знать, они были обязательны для всего бюргерства, там, где власть находилась в руках городского патрициата, они были обязательны для жен ремесленников. Что мода служила средством сословного различия, ясно видно из указа французского короля Генриха III, указа, возобновленного им в 1576 г. В то время как в дворянской среде декольте было чрезвычайно распространено, «священный» ордонанс запрещал людям незнатного происхождения узурпировать костюм знати и превращать своих жен в desmoiselles (барышень). В тех случаях, когда угроза наказания за роскошь в костюме не приводила к желаемым результатам, что, как нам достоверно известно, бывало неоднократно, прибегали к следующей утонченной мере, которая также встречается нередко: закон не распространялся на проституток и от них даже требовали носить запрещенный костюм. Таким путем хотели, по-видимому, дискредитировать роскошь, удержать женщин от употребления запрещенных частей костюма боязнью быть похожей на проститутку или бесчестную особу. Такая мера встречается в регламентации, изданной в 1353 г. в Цитау: «Пусть шёффены (судебные заседатели) следят за тем, чтобы ни женщины, ни девушки не носили kogel (капюшон), за исключением публичных женщин, последним власти разрешают и даже предписывают носить такое "украшение"». Иногда прибегали одновременно к обеим мерам: к дискредитированию моды и к угрозе кары. Так поступил венецианский Высокий Совет в указе XVII в.: «Только публичным женщинам разрешается ходить и посещать церкви в оголенном виде. Каждый супруг должен удержать жену от такого оголения, иначе он обязан заплатить несколько сот дукатов, без различия, благородного ли он происхождения или нет». Но, по-видимому, и дискредитация той или другой моды не приводила к желанному результату, как видно из постоянного возобновления подобных указов. Из всего этого следует, что стремление публично выставлять напоказ свою красоту настолько вытекало из внутренней сущности эпохи, что женщины предпочитали подвергаться моральной опасности, чем скрывать свою красоту. Со второй трети XVI в., в течение нескольких десятилетий обычай глубокого декольте, и вместе с ним роскошь в костюме, уменьшились. Это объясняется в конечном счете не запрещающими указами и не влиянием Реформации, а экономической депрессией того времени. Какой бы откровенности и смелости ни достигала женская мода в обнажении груди — ей ни в чем не уступала в этом та особенность мужской моды, которая отличает Ренессанс от всяких других эпох. Здесь речь идет о том, что немцы называют latz (клапан, нагрудник), а французы — braquette (передник). Эта подробность придает мужской моде Возрождения в наших глазах поистине чудовищный характер… Богемский летописец 1367 г. сообщает: «…Щеголи придумали и постепенно распространили странную моду носить верхнюю одежду, сшитую из разноцветных кусков ткани и с рукавами разного фасона. Затем они переняли из Богемии новую моду, которая, — по словам летописца, — состояла в том, что мужчины подкладывали на груди хлопчатобумажную ткань, чтобы она казалась такой же пышной, как и женская. Такие фальшивые груди и животы "затягивали в узкие шнуровки"». Чувственному характеру эпохи Ренессанса как нельзя более отвечало стремление так женщин, как и мужчин демонстрировать то, что в их время ценилось выше всего. Литература Ренессанса имеет много доказательств того, что мужчины часто возбуждались при взгляде на обнаженную грудь женщины.
Фрагменты
Фрагмент 9.
Вот как поиздевался над различными «достоинствами» физического облика мужчины Франсуа Рабле в «Гаргантюа и Пантагрюэле»: «…Да будет вам известно, что все ели помянутый кизиль с удовольствием, ибо он был хорош на взгляд и приятен на вкус, но, подобно тому как Ной, этот святой человек, которому мы так обязаны и признательны за то, что он взрастил для нас виноград, из коего мы добываем нектароподобный, восхитительный, упоительный, веселящий, удивительный, божественный напиток, именуемый хмельным, — подобно тому как Ной, вкушая его, перехватил, ибо не подозревал о силе его действия и о его крепости, так же точно мужчины и женщины, жившие в те времена, накинулись на прекрасные крупные ягоды кизиля. И от сего с ними произошли всякие несчастья, ибо у всех у них появились ужасные опухоли, но только в разных местах. У иных пухнул живот, да так, что это уж был не живот, а здоровенная бочка; на них было написано: Ventrem omnipotentem[50], и все это были люди порядочные и изрядные шутники, от коих впоследствии произошли святой Пузан и Канунноста. У иных росли плечи, да так, что этих горбунов стали называть монтаферами, то есть гороносцами, — подобных им вы и сейчас еще можете наблюдать среди лиц обоего пола и разных состояний, и от них произошел Эзоп, о поучительных деяниях и изречениях коего вы имеете возможность прочитать в книге. У иных вытягивался в длину орган, именуемый пахарем, — он становился на диво длинным, дюжим, ражим, пригожим, цветущим, торчащим вверх на античный манер, и люди пользовались им как поясом и раз пять или шесть обматывали его вокруг туловища. Когда же он находился в стоячем положении, а ветер дул людям в спину, то в эту минуту при взгляде на них можно было подумать, что это играющие в кентен выставили пики. Порода этих людей исчезла, по крайней мере так утверждают женщины, ибо они постоянно плачутся, чтоНет больше этих толстячков и т. д., — конец песенки вам известен.У иных отрастали яички и принимали такие чудовищные размеры, что в мюид могло поместиться штуки три, не больше. Отсюда ведут свое происхождение лотарингские яички, которых гульфик не вмещает, так что они обретаются в глубине штанов. У иных росли ноги, росли стопы, и при взгляде на таких людей можно было подумать, что перед вами не то журавли, не то фламинго или же что это люди на ходулях, которых школяры называют на своем языке двустопными. У иных увеличивался в размерах нос до такой степени, что становился похож на трубку от перегонного куба, и был он весь испещрен жилками, усеян пупырышками, весь опухший, сизо-багровый, угреватый, порытый бутончиками бутонов, прошитый красными нитями, — такой нос вы могли видеть у каноника по имени не то Панзу, не то Пузу, да еще у анжерского лекаря по имени Культяп. Некоторые из тех, кто произошел от этой породы людей, возымели пристрастие к ячменному отвару, большинство же пристрастилось к виноградному соку. От них ведут свое происхождение Назон и Овидий, а равно и все те, о коих сказано: Ne reminiscaris[51]». Перевод Н. М. Любимова. Стихотворный перевод Ю. Корнеева. (Цитируется по изданию: Франсуа Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль. М., 1961.)
Фрагмент 10. Маттео Банделло[52]. Из «Новелл»
«Часть I. Новелла XIV Некий школяр в одно и то же время и в одной и той же кровати наслаждается с двумя своими возлюбленными, и одна не замечает другой. …Так вот, в городе Павии учился некий школяр, имя которого, по известным соображениям я не буду называть. Хотя он и был возвышенного образа мыслей и посвятил себя занятиям философией, однако, как это бывает в юности, был послушен зову любви и целиком отдался в руки одной красивой дамы, жены некоего горожанина, щедро взысканного всеми благами судьбы. Хитрый школяр сумел свести дружбу с этим горожанином, который очень часто приглашал его к себе то пообедать, то поужинать, так что благодаря этим посещениям он сблизился с любимой им дамой. Вскоре дело пошло так, что он стал постоянно твердить ей о своей любви, присоединяя к этому горячие мольбы, так что она, будучи не из мрамора, а из мяса и костей, быстро с ним сблизилась, и они частенько доставляли друг другу взаимные удовольствия; всякий раз, когда им представлялся удобный случай, они не обходились без того, чтобы недурно провести время и позабавиться. Но так как излишние наслаждения вызывают порой скуку, а юноши скольких женщин ни видят, стольких и желают, похотливый школяр заметил раз некую вдовушку, которая частенько бывала у его возлюбленной. Вдовушка эта была озорной и веселой, что ему очень нравилось, и он решил попытаться стать ее обладателем… Школяр был очень доволен, что вдовушка не догадывается о его отношениях с хозяйкой дома, и предался мечтам, как бы ему насладиться вдовушкой, которая столь же жаждала его объятий, как и он — ее. Случилось в скором времени так, что хозяин дома уехал из Павии и должен был вернуться не раньше, чем через четыре-пять дней. Ввиду этого жена пригласила школяра поужинать и провести с ней ночь, на что он с радостью согласился. Задолго до ужина школяр появился у своей дамы, ибо, как я уже вам сказал, он, благодаря дружбе с хозяином, без всякого стеснения бывал в доме, когда хотел. Дама же для того, чтобы свободнее встречаться со своим возлюбленным, держалась со своими домочадцами так, что все ей потворствовали. Пока они, болтая о разных вещах, поджидали часа ужина, явилась вдовушка, которую замужняя приняла очень любезно. После обычных приветствий вдовушка сказала: — Я слышала, что ваш муж уехал, а так как вы в одиночестве, я и пришла поужинать с вами. — Милости просим, дорогая моя, — ответила дама. Поговорив о том и о сем с дамами, школяр сказал им: — Оставайтесь с миром, я иду ужинать. Тогда замужняя поднялась и сказала: — Честное слово, вы не уйдете, — и добавила: — мужа моего нет, и вы останетесь с нами поужинать. Когда наступил час ужина, слуги подали им воду для омовения рук и прислуживали им, а они за столом беседовали о разных приятных и веселых вещах. Ужин закончился, и, так как час был довольно поздний, замужняя сказала школяру: — Друг мой, не откажите в любезности проводить эту даму, которая мне как сестра, до ее дома, что находится как раз на той улице, какая вам по пути. Школяр ответил, что весьма охотно сделает это. Тогда вдовушка, смеясь, сказала: — О нет, дорогая моя, ты меня угостила ужином, ты мне дашь и кровать, потому что сегодняшнюю ночь я намереваюсь провести с тобой. — Ну что ж, хорошо! — отвечала замужняя, в душе очень недовольная, ибо ей показалось слишком грустным потерять хорошую ночку, которую она рассчитывала провести со своим возлюбленным. Он также огорчился, видя, что его планы рушатся, так как надеялся проводить вдову и договориться с нею обо всем, а потом вернуться и провести ночь с замужней. И, беседуя меж собой, стараясь не внушать никакого подозрения вдовушке, они искали способа, который доставил бы им возможность насладиться друг другом. И вот замужняя шепнула школяру: — Я во что бы то ни стало хочу, чтобы ты провел со мной эту ночь. Послушай, нельзя ли придумать какую-нибудь уловку, чтобы мы могли убедить вдовушку лечь втроем в кровать, так как она очень широкая, на ней и четверо могут поместиться. Я сделаю вид, что не хочу, чтобы ты уходил. А пока что мы займемся играми. И вот все трое начали играть в джиле. Проведя за игрой продолжительное время, школяр сказал: — Ну, теперь пора спать. Этак мы можем всю ночь просидеть! Мне до дому далека. Тогда замужняя сказала: — Послушай меня, друг мой. Когда муж мой дома и ты остаешься с нами ужинать, ты обыкновенно ночуешь в проходной комнате; сегодня ты можешь там тоже переночевать. Согласившись на это, школяр в то время, как дамы укладывались спать, поделился своим намерением со служанкой, и она провела его наверх, в помещение, находившееся над комнатой дам. Затем служанка через окно постучала палкой в окошко к дамам, а школяр наверху стал производить такой шум, что казалось, будто в дом забрались воры. Услышав это, замужняя воскликнула: — Боже мой, сестричка, в доме воры! В это время служанка, подбежавши к комнате хозяйки, страшно запыхавшись, постучала в дверь, а школяр бросился вниз по лестнице, с обнаженной шпагой, вопя: — А, разбойник, умри же! Казалось, что он кого-то преследует. Потом, когда он вернулся обратно, служанка вошла в комнату и сказала дамам, что она видела, как убегал вор и как мессер школяр со шпагой в руке свирепо его преследовал. Все остальные слуги уже собрались в комнате, они делали вид, что страшно напуганы, и утверждали, что видели более, чем одного вора. Школяр уверял, что он гнался за двумя, но не сумел вовремя схватить их, и они выпрыгнули на улицу из нижнего окна, которое он потом закрыл. Тогда замужняя притворно рассердилась на слуг, наговорила им кучу грубостей и даже сделала вид, будто хочет их прибить за то, что они не исполнили приказания ее мужа каждый вечер закрывать окна. Но школяр ласковыми словами, казалось, несколько утишил мнимый гнев рассерженной дамы, которая сквозь зубы повторяла, что не заснет спокойно, если школяр не ляжет спать в той же комнате. Это не очень понравилось вдовушке. Но замужняя сумела ее уговорить; она расхваливала школяра, заверяя, что он скромный и хороший юноша и не способен на непристойный поступок и что в случае, если он захочет перейти границы дозволенного, то, поскольку их двое, они легко с ним справятся, так что вдовушка после долгого сопротивления согласилась. С общего согласия вдовушку положили в середку; словом, все трое улеглись на кровати, и замужняя, привыкшая во сне храпеть, одолеваемая сном, начала громко похрапывать. Вдовушке это не понравилось, и она сказала: — Боже мой! Разве можно спать, когда над твоим ухом так храпят? Тогда школяр, слегка пододвинувшись к ней и положив руку на ее упругие и твердые груди, тихонько сказал: — Жизнь моя, судьба посылает нам удачу. Не будите ее ни в коем случае; пусть себе почивает на своем месте, — и тут он стал в нежных словах изъясняться ей в любви и в пылкой страсти, какую он уже давно к ней питает, и так хорошо сумел своей болтовней улестить вдовушку, которая тоже его любила, что та под влиянием темноты, уюта и тепла простынь всецело отдалась в его власть, и школяр, к обоюдному удовольствию, приступил к обладанию столь желанными благами. Они договорились, что и впредь иногда будут доставлять себе это удовольствие. В это время проснулась замужняя и, желая насладиться со своим возлюбленным, просто не знала, как себя держать. Между тем вдовушка, немного уставшая после этой переделки, увидев, что замужняя проснулась, а ей самой было жарче, чем она хотела бы, сказала той, не помышляя уже о дальнейшем: — Сестричка, я охотно поменяюсь с вами местами, потому что здесь, в середке, я просто помираю от жары, а к школяру не смею повернуться. — А что он делает, соня этакий? — спросила замужняя. — Он, — отвечала вдовушка, — спит, как сурок. Он как лег, так сразу и уснул. А школяр три раза, не меняя лошадки, пробежал дистанцию. Итак, замужняя переместилась и легла рядышком со школяром, который, видя вскоре, что вдовушка заснула, вступил в обладание прелестями дамы, да так искусно, что другая ни о чем и не догадалась. Наутро дамы встали веселые и очень довольные. Однажды замужняя, ужиная в обществе мужа и школяра, рассказала мужу, под видом истории, будто бы приключившейся с ее соседкой, о том, что случилось с ней самой, изменив только имена вдовушки и школяра. Впоследствии она частенько, смеясь, говорила школяру, что вдовушка большая соня. Но школяр, знавший, как было дело, радовался втихомолку, что таким образом провел двух дам». Перевод Я. Георгиевской. (Цитируется по изданию: Итальянская новелла Возрождения. М., 1964.)Фрагмент 11. Джованфранческо Страпаролла[53]. «Приятные ночи»
«Ночь II. Сказка II В Болонье три прелестные дамы жестоко посмеялись над студентом Филеньо Систерна, и он воздает им тем же, устроив ради этого пышное празднество. В Болонье, матери наук[54], благороднейшем городе Ломбардии, где есть все, чего только можно пожелать, жил одинстудент, дворянин с острова Крита, по имени Филеньо Систерна, очаровательный и любезный юноша. Случилось так, что в Болонье было устроено прекрасное и великолепное празднество, на котором присутствовали многие дамы этого города, и притом из самых красивых; туда же сошлись множество местных дворян и студентов, среди которых был и Филеньо. Как это свойственно молодым людям, он восхищался то одной, то другою дамою, и, так как все они ему очень нравились, загорелся желанием протанцевать с одною из них. И подойдя к той, которую звали Эмеренцьяной[55] и которая была женой мессера Ламберто Бентивольо, попросил ее подарить ему танец. И она, любезная и столь же смелая, как красивая, не отвергла его. И вот Филеньо, неторопливо ведя ее в танце и время от времени сжимая ей руку, вполголоса произнес такие слова: «Высокочтимая дама, ваша красота такова, что вы, безусловно, красивее всех, кого я когда-либо видел. Здесь нет ни одной женщины, к которой я пылал бы такой любовью, как к вашей милости, а если вы ответили бы мне взаимностью, я счел бы себя самым довольным и самым счастливым человеком из всех живущих на свете; но если поступите иначе, то вскоре увидите меня бездыханным, и причиною моей смерти будет не кто иной, как вы. Итак, синьора, поскольку вы мною любимы — а я вас люблю и не могу не любить, — дозвольте мне быть вашим рабом и располагайте мною и моим достоянием, сколь бы незначительно оно ни было, как полною своей собственностью. И для меня не может быть большей милости неба, как сделаться подвластным такой госпоже, уловившей меня в любовные сети, наподобие птички, пойманной при помощи птичьего клея[56]». Эмеренцьяна, не пропустившая ни одного из этих сладостных и упоительных слов, как особа благоразумная, повела себя так, точно у нее заложило уши, и ничего не ответила. По окончании танца она направилась на свое место, а юноша Филеньо взял за руку другую важную даму и начал танцевать с нею; и едва он повел ее в танце, как обратился к ней с такой речью: «Разумеется, нет ни малейшей нужды, благороднейшая мадонна, чтобы я изобразил вам словами, сколь необъятна и сколь безгранична пламенная любовь, которую я к вам питаю и буду питать, пока мой жизненный дух будет властвовать над моими хрупкими членами и жалкими моими костьми. И я счел бы себя счастливым, больше того, наверху блаженства, в час, когда бы вы стали моей госпожой, больше того — моею самодержавной владычицей. И поскольку вы любимы мною так, как я вас люблю, и я целиком ваш, в чем вы легко можете убедиться, снизойдите приблизить меня к себе смиреннейшим слугой вашим, ибо в вас и ни в чем больше все мое благо и вся моя жизнь». Молодая дама, которую звали Пантемьей, хотя и слышала решительно все, тем не менее ничего не ответила и, полная достоинства, продолжала танцевать как ни в чем не бывало. По окончании танца, чуть-чуть улыбаясь, она села среди всех прочих дам. Немного спустя влюбчивый Филеньо взял за руку третью даму— самую прелестную, самую стройную и самую красивую, какая в то время была в Болонье, и повел ее в танце, побудив расступиться всех тех, кто столпился, чтобы полюбоваться ею, и, прежде чем они успели закончить танец, сказал ей такие слова: «Досточтимая госпожа, быть может, я покажусь вам слишком самонадеянным, признавшись в сокровенной любви, которую я питал и питаю к вам; но браните за это не меня, а свою красоту, которая возносит вас над любой другой женщиной и делает меня вашим рабом. Обхожу молчанием ваши достохвальные нравы, выдающиеся и поразительные добродетели ваши, которые столь многочисленны и таковы, что способны заставить спуститься с неба даже богов. Итак, если ваша красота, созданная самой природой, а не ухищрениями рук человеческих, нравится бессмертным богам, неудивительно, что она побуждает и меня пылать к вам любовью и лелеять ее в глубинах моего сердца. Итак, молю вас, прелестная повелительница моя, единственная отрада жизни моей, оцените того, кто из-за вас тысячу раз на дню умирает. Если вы это сделаете, я буду считать, что обязан вам жизнью, вам, на чью милость я себя отдаю». Красавица, которая звалась Симфорозьей, отлично слышала обольстительные и сладостные слова, исходившие из пламенного сердца Филе-ньо, и не могла подавить легкий вздох, но, памятуя о своей чести и о том, что она замужем, ничего в ответ не сказала и по окончании танца села на свое место. Когда все три дамы оказались рядом и составили как бы отдельный кружок, развлекаясь занятной беседой, Эмеренцьяна, жена мессера Ламберто, без всякого злого умысла, а просто шутя, сказала обеим своим приятельницам: «Милые мои дамы, не рассказать ли вам о забавной истории, приключившейся сегодня со мною?» — «О, какая история?» — спросили приятельницы. «Танцуя, — отвечала Эмеренцьяна, — я обрела влюбленного: самого красивого, самого стройного и самого прелестного, какого только можно найти, и он сказал, что так пленен моей красотой, что ни днем ни ночью не находит себе покоя». И она дословно пересказала все то, что наговорил ей Филеньо. Услышав это, Пантемья и Симфорозья в один голос воскликнули, что точно такое приключилось и с ними. И они не покинули празднества, пока легко не установили, что любезничавший со всеми тремя — один и тот же юноша. И тут они ясно поняли, что слова влюбленного порождены не искренним любовным порывом, а безрассудной и надуманной страстью и что этим словам следует верить не больше, чем сновиденьям больных или бредням романов[57]. И они расстались не прежде, чем связали себя, с общего согласия, уговором, что каждая из них, действуя самостоятельно, сыграет с влюбленным шутку, и, к тому же, такого рода, чтобы он твердо и раз навсегда запомнил, что и женщины также умеют шутить. Филеньо между тем продолжал любезничать то с одной из них, то с другой и, видя, что каждая как будто благосклонна к нему, задался целью, если будет возможно, добиться от всех трех завершающего плода любви. Но ему не довелось вкусить то, о чем он мечтал и что являлось предметом его желаний, ибо все его замыслы потерпели крушение. Эмеренцьяна, которой было невмоготу выносить притворную влюбленность незадачливого студента, позвала свою молоденькую служанку, миленькую и прехорошенькую, и поручила ей при первом удобном случае поговорить с Филеньо и поведать ему о любви, якобы питаемой к нему ее госпожой, и о том, что та, если ему угодно, готова принять его ночью у себя дома. Услышав это, Филеньо обрадовался и сказал служанке: «Иди и возвращайся домой и расхвали меня своей госпоже и передай ей от моего имени, чтобы она ждала меня этим вечером, как только муж ее уйдет из дому». Эмеренцьяна, не мешкая, распорядилась приготовить несколько связок колючих прутьев, сунула их под ложе, на котором спала по ночам, и стала дожидаться прихода возлюбленного. Настала ночь, и Филеньо, взяв шпагу, направился один-одинешенек к дому своего тайного недруга, и, по поданному им условному знаку, его сразу впустили. Проведя некоторое время в беседе за роскошным ужином, они оба перешли в спальню, и едва Филеньо разделся и собрался лечь в постель, как неожиданно явился мессер Ламберто, муж Эмеренцьяны. Узнав об этом, она прикинулась перепуганной насмерть и, ломая голову, куда бы спрятать своего возлюбленного, повелела ему залезть под ее ложе. Хорошо понимая, в какой опасности оказались и он и его дама, Филеньо, ничего на себя не накинув, в одной рубашке, сунулся под ложе и так искололся, что на всем его теле, с головы до ног, не осталось места, из которого не сочилась бы кровь. И чем больше старался он в этой кромешной тьме оберечься от шипов и колючек, тем сильнее они вонзались в него, а он и пикнуть не смел из боязни, как бы его не услышал мессер Ламберто и не убил. Предоставляю судить вам самим, каково пришлось этой ночью бедняге; и самой малости недостало, чтобы он не расстался со своим кончиком совершенно так же, как остался было без языка. Наступил день, муж ушел наконец из дому, и горемычный студент, облачившись, как мог, в свое платье, весь окровавленный, воротился к себе, причем его жизнь внушала немалые опасения. Однако, выхоженный искусным врачом, он пришел в себя, и к нему вернулось былое здоровье. Миновало несколько дней, как Филеньо вновь охватило любовное беспокойство, и он принялся обхаживать двух других, то есть Пантемью и Симфорозью, и настолько в этом преуспел, что изыскал способ побеседовать как-то вечером наедине с Пантемьей и, поведав ей о своих долгих мучениях и непрестанной пытке, закончил тем, что стал умолять ее пожалеть его и подарить ему свою милость. Хитрая Пантемья, прикинувшись, что сострадает ему, отговаривалась тем, что лишена возможности пойти навстречу его желаниям, но, в конце концов побежденная его красноречивыми мольбами и пылкими вздохами, уступила и впустила его к себе. И когда он уже сбросил с себя одежду и собрался лечь в постель со своей Пантемьей, она послала его в находившийся рядом чуланчик, где хранились ее апельсиновая вода и другие душистые притирания, ибо ему подобает как следует натереться и надушиться и лишь после этого лечь в постель. Студент, не догадываясь о коварной уловке, подстроенной ему злокозненной женщиной, вошел в чуланчик и ступил ногой на доску, оторванную от балки, на которой она держалась, и, не устояв на ногах, свалился вместе с доской в расположенное внизу помещение, где некие купцы держали хлопок и шерсть. И хотя он упал с большой высоты, все же при падении совсем не ушибся. Очутившись таким образом в непроглядной тьме, студент стал ощупью передвигаться вдоль стен в поисках лестницы или двери, но, не отыскав ни той, ни другой, принялся проклинать день и час, когда впервые узнал Пантемью. Занялась утренняя заря, и, поняв, — увы, слишком поздно, — как хитро обманула его эта дама, бедняга увидал с одной стороны склада тонкие полоски света, пробивавшегося сквозь несколько трещин в стене, и, так как она была ветхой и вся изъедена отвратительной плесенью, принялся изо всей силы вытаскивать из нее камни, где они казались ему сидящими менее прочно, и вытаскивал их до тех пор, пока не проделал настолько большое отверстие, что выбрался через него наружу. Оказавшись в переулке близ людной улицы, босой и в одной рубашке, он пустился к своему жилищу и, никем не узнанный, добрался до него и вошел к себе. Симфорозья, прослышав о той и другой проделке с Филеньо, задумала третью, не менее забавную, чем две первые. И она начала всякий раз, как он попадался ей на глаза, бросать на него искоса томные взгляды, всячески стремясь показать ему, что млеет и чахнет по нем. Студент, успев позабыть перенесенные оскорбления, стал прохаживаться перед ее домом, изображая собой страстно влюбленного. Подметив, что он сверх всякой меры воспламенился любовною страстью к ней, Симфорозья переслала ему с одной старухой письмо, в котором писала, что своей красотой и благородством своего поведения он настолько ее покорил и пленил, что она ни днем ни ночью не знает покоя, и если ему это по сердцу, то и она, со своей стороны, ничего так не хотела бы, как иметь возможность с ним побеседовать. Получив это письмо и ознакомившись с его содержанием, Филеньо, не распознав обмана и успев позабыть перенесенные оскорбления, почувствовал себя самым счастливым и самым довольным человеком на свете. И, взяв перо и бумагу, он ответил, что если она любит его и претерпевает сердечные муки, то вознаграждена за это сторицей, ибо он любит ее много больше, чем она любит его, и что в любой час, какой она сочтет для себя удобным, он к ее услугам и в ее полном распоряжении. Прочитав ответ и выбрав подходящее время, Симфорозья пригласила его к себе и, когда он пришел, после многих притворных вздохов сказала: «Мой Филеньо, право, не знаю, кто другой мог бы вынудить меня к тому шагу, на который ты меня вынудил. Ибо твоя красота, твое изящество, твоя речь заронили мне в душу такой огонь, что я готова вспыхнуть, точно сухое полено». Услыхав это, студент окончательно уверился в том, что она вне себя от любви. И вот среди усладительной и приятной беседы, когда злосчастному студенту казалось, что уже самое время отправляться в постель и лечь с Симфорозьей, она вдруг сказала: «Душа моя ненаглядная, прежде чем мы ляжем в постель, нам, по-моему, следует немного подкрепиться», — и, взяв его за руку, увлекла в соседнюю комнату, где был приготовлен стол с изысканными и дорогими сластями и лучшими винами. У этой лукавой женщины было припасено вино с подмешанным к нему сонным зельем, дабы студент по прошествии определенного времени погрузился в глубокий сон. Филеньо взял кубок, наполнил его этим вином и, не подозревая обмана, выпил его до дна. Укрепив дух, омыв себя апельсиновой водой и основательно надушившись, он лег в постель. Но напиток не замедлил оказать свое действие, и юноша так крепко заснул, что и гром пушечных выстрелов и любой другой грохот нелегко могли бы его разбудить. И вот видя, что он беспробудно спит и зелье наилучшим образом на него подействовало, Симфорозья покинула комнату и пошла за своей молодой служанкой, которая была посвящена в эти дела, и они вдвоем, подхватив студента за руки и ноги и тихонько отворив наружную дверь, вынесли его и опустили на улице на расстоянии хорошего броска камня от ее дома. Примерно за час до рассвета, так как напиток потерял свою силу, бедняга проснулся. Полагая, что рядом с ним Симфорозья, он обнаружил, что босой, в одной рубашке и полумертвый от холода лежит на голой земле. Злополучный студент, у которого почти начисто отнялись руки и ноги, едва-едва встал. Но хоть и встал он с превеликим трудом и на ногах почти не держался, все же, как смог и сумел, никем не замеченный, достиг своего жилья и сразу же стал лечиться. И, не помоги ему его молодость, он, несомненно, остался бы скрюченным и расслабленным. Поправившись и придя в свое прежнее состояние, Филеньо затаил в груди пережитые обиды и, никак не выказывая ни своего раздражения, ни ненависти к обидчицам, притворился, что влюблен во всех трех еще больше, чем прежде, и усердно ухаживал то за одной, то за другою. А они, не догадываясь о его затаенной вражде, испытывали от этого явное удовольствие и встречали его с веселыми лицами и тем выражением предупредительности, каким принято одарять истинного влюбленного. Юноша, который был довольно горяч, не раз собирался дать волю рукам и разукрасить синяками их лица, но, будучи вместе с тем рассудительным, помнил о высоком положении этих дам и о том, сколь постыдно было бы для него нанести побои трем женщинам, и сдержался. И все же он непрестанно думал и придумывал, как бы им отомстить, и, так как ему не приходило на ум ничего подходящего, немало про себя сокрушался. Спустя некоторое время у него наконец возник некий замысел, преуспев в котором он мог бы легко удовлетворить заветнейшее свое желание. И судьба благоприятствовала ему в осуществлении его планов. Филеньо занимал в Болонье снятый внаймы роскошный дворец с обширным залом и великолепно отделанными покоями. Вот он и решил устроить у себя пышное и блестящее празднество, пригласив на него многих дам и среди них Эмеренцьяну, Пантемью и Симфорозью. Итак, приглашение было послано и принято ими, и, когда пришел день этого пышного празднества, все три дамы, не заглядывая вперед и ничего не подозревая, легкомысленно явились к Филеньо. Между тем пришла пора угостить дам молодыми винами и дорогими конфетами, и хитрый юноша, обняв за плечи трех якобы пылко любимых им женщин, с веселыми шутками и остротами, предложив им слегка угоститься, повел в одну из комнат своего дворца. И когда эти три безрассудные и глупые дамы вошли в эту комнату, Филеньо запер за ними дверь и, подойдя к ним, сказал: «Так вот, коварные женщины, наступил час моего мщения, и я заставлю вас понести наказание за оскорбления, которыми вы вознаградили мою пламенную любовь». Услышав эти слова, дамы перепугались насмерть и принялись притворно сетовать, что причинили ему обиду, тогда как проклинали самих себя за чрезмерную доверчивость к человеку, которого должны были бы ненавидеть. Студент с нахмуренным и грозным лицом приказал всем трем раздеться донага, если они хоть чуточку дорожат своей жизнью. Выслушав это, лицемерки, переглянувшись друг с другом, разразились безудержными рыданиями и стали молить Филеньо, взывая уже не к его любви, а к его учтивости и вложенной в него самой природой человечности, пощадить их честь. Внутренне исполненный ликования, юноша обошелся с ними весьма учтиво, но тем не менее потребовал от них со всею решительностью, чтобы они догола разделись в его присутствии. Пав в ноги студенту, дамы, горестно всхлипывая, смиренно попросили выпустить их и не чинить им такого бесчестия. Но успевший придать своему сердцу твердость алмаза, он сказал, что цель его не унизить их, но им отомстить. Итак, дамам пришлось сбросить с себя все, что было на них, и они остались, как говорится, в чем мать родила, и нагие они были столь же хороши, как одетые. Молодой студент, рассматривая их с головы до пят и видя, сколь они прекрасны и сколь стройны и то, что тела их белее снега, начал в душе испытывать некоторое сострадание к ним, но, вспомнив про нанесенные ему оскорбления и смертельную опасность, которой он подвергался, отбросил прочь всякую жалость и остался при своем жестоком и бессердечном намерении. Больше того, предусмотрительный юноша, собрав их платья и остальные бывшие на них вещи, снес это в находившуюся по соседству каморку, после чего в достаточно неучтивых выражениях приказал всем трем лечь на постель бок о бок. Перепуганные и трепещущие от страха, они воскликнули: «О, мы безрассудные! Что скажут мужья, что скажут родичи наши, когда им станет известно, что здесь найдены наши останки и что мы были убиты нагими? Ах, лучше было бы нам умереть в колыбели, чем быть обнаруженными в таких постыдных и позорных обстоятельствах!» Удостоверившись, что они улеглись, прижавшись друг к другу, точно муж и жена, студент взял белоснежную, но достаточно плотную простыню, дабы сквозь нее нельзя было рассмотреть и узнать их тела, и всех трех накрыл ею с головы до пят. Выйдя затем из комнаты и заперев за собою дверь, он разыскал их мужей, танцевавших в зале, и по окончании танца, приведя их в комнату, где лежали на постели три дамы, сказал: «Синьоры мои, я увлек вас сюда, чтобы немножечко позабавить и показать вам самое что ни на есть прекрасное, такое, чего за всю свою жизнь вы никогда не видели». И, подойдя со светильником в руке к изножью постели, он начал приподнимать простыню и постепенно ее подворачивать, пока не открыл дам до колен. И их мужья узрели белые точеные икры с изящными проворными ножками — смотреть на них было просто загляденье. Потом он приоткрыл дам по. грудь и показал их безупречной белизны бедра, казавшиеся колоннами из безукоризненно чистого мрамора, с круглыми животами, точно изваянными из лучшего алебастра. Далее, подняв простыню еще выше, он показал их мужьям нежные, слегка приподнятые над животом груди с упругими, прелестными, округлыми персями, которые заставили бы самого Юпитера-вседержителя прильнуть к ним и жарко их лобызать. Мужьям это зрелище, как нетрудно представить себе, доставляло неизъяснимое удовольствие и наслаждение. Предлагаю судить вам самим, каково было состояние несчастных и злополучных дам, когда они слушали речи своих мужей, развлекавшихся рассмотрением их наготы. Они боялись пошевелиться и не смели пикнуть, чтобы те, упаси боже, их не узнали. А мужья между тем уговаривали студента открыть этим женщинам лица, но тот, более осмотрительный, когда дело шло о чужой беде, чем когда она свалилась на него самого, не пожелал уступить, их пожеланиям. Не удовольствовавшись проделанным с тремя дамами, он принес их платья и все, что было на них, показал эти вещи мужьям. При виде всего этого те испытали немалое недоумение, смутившее их сердца; а разглядев вещи внимательнее, в величайшем изумлении сами себя принялись вопрошать: «Не то ли это платье, что я подарил моей жене? Не тот ли это чепец, что я ей купил? Не та ли это подвеска, что обычно свисает у нее с шеи на грудь? Не те ли это кольца, что она носит на пальце?» Выйдя из комнаты, где находились их жены, мужья не ушли из дворца Филеньо, чтобы не омрачать празднества, и остались ужинать. Между тем юный студент, узнав, что ужин готов и что заботами старательного дворецкого все в полном порядке, распорядился, чтобы гости садились за стол. И пока они усердно работали челюстями, студент воротился в комнату, где лежали на постели три дамы, и, сдернув с них простыню, обратился к ним с такими словами: «Сударыни, здравствуйте, слышали ли вы ваших мужей? Они рядом, всего в двух шагах отсюда, и ждут не дождутся свидеться с вами. Что же вы медлите? Вставайте, сони вы этакие. Хватит зевать, хватит протирать глаза! Берите свои платья и, не мешкая, одевайтесь, ибо самое время отправиться в зал, где вас дожидаются прочие дамы». Так насмехался он над ними и с огромным наслаждением томил их своими речами. В конец павшие духом, дамы, трепеща, как бы приключившееся с ними не возымело рокового конца, горько рыдали и отчаивались в своем спасении. Удрученные и убитые горем, они встали с постели, не чая для себя ничего иного, как смерти, и, обернувшись к студенту, сказали: «Ты великолепно, сверх всякой меры, нам отомстил, Филеньо, и теперь тебе ничего другого не остается, как взять свою острую шпагу и заколоть нас ею насмерть, чего мы только и жаждем. Но если ты не хочешь одарить нас этою милостью, то умоляем тебя, дозволь нам вернуться домой по крайней мере неузнанными, дабы честь наша пребыла незапятнанной». Рассудив, что сделанного им предостаточно, Филеньо принес дамам вещи и, вручая их, повелел мигом одеться и, как только они оделись, выпустил из своего дворца через потайную дверь, и они, посрамленные, но никем не узнанные, разошлись по домам. Сняв с себя платья и все, что на них было, они убрали свои вещи в шкафы и, заперев их на замок, не легли в постель, а, прибегнув к хитрости, принялись за работу. По окончании ужина их мужья поблагодарили студента за отменный прием и еще больше за удовольствие, которое они испытали при виде прелестных тел, превосходивших красотой самое солнце. Распрощавшись с хозяином, мужья покинули его дом и возвратились к себе. Вернувшись домой, мужья застали жен сидящими по своим комнатам у очага за шитьем. И так как одежда, кольца и драгоценности, которые мужьям показал Филеньо, заронили в их души известное подозрение, каждый из них, чтобы рассеять свои сомнения, спросил у жены, где она провела этот вечер и где ее вещи. И каждая из трех дам ответила своему мужу, что этой ночью она не выходила из дому, и, взяв ключи от того шкафа, где хранилось ее добро, показала ему свои платья, кольца и все, что он когда-либо купил ей. Увидев это и не зная, что подумать, мужья успокоились и рассказали женам со всеми подробностями, что им довелось повидать этой ночью. Выслушав их рассказ, жены сделали вид, что ничего об этом не знают, и, немного посмеявшись, разделись и улеглись в постели. Прошло всего несколько дней, и Филеньо, не раз столкнувшись на улице со своими дорогими приятельницами, в конце концов обратил к ним такие слова: «Так кто же из нас натерпелся большего страху? Кто из нас испытал худшее обхождение?» Но они, опустив глаза в землю, ничего не ответили. Вот так-то студент, как сумел и смог лучше, не давая воли рукам, подлинно по-мужски отомстил нанесенные ему оскорбления». Перевод А. С. Бобовича. Перевод стихов Н. Я. Рыковой. (Цитируется по изданию: Джованфранческо Страпарола. Приятные ночи. М., 1993.)Фрагмент 12. Франко Саккетти. «Триста новелл»
«Новелла CXXXVI Мастер Альберта доказывает, что флорентийские женщины по своей тонкости превосходят лучших в мире живописцев, а также, что они любую дьявольскую фигуру превращают в ангельскую и чудеснейшим образом выпрямляют перекошенные и искривленные лица. …Во все времена высшим мастером живописи и ваяния фигур был Господь Бог. Однако, мне кажется, что, при всем их множестве, созданные Им фигуры обнаруживают большие изъяны, которые в наше время и научились исправлять. Кто же эти современные живописцы и исправители? Это флорентийские женщины. И был ли когда-либо живописец, кроме них, который делал бы по черному или из черного белое? Иной раз родится девочка, а то и не одна, черная, как жук. И вот ее здесь потрут, там помажут гипсом, выставят на солнце и сделают ее белее лебедя. И какой же красильщик по полотну или по шерсти или какой живописец сумеет из черного сделать белое? Разумеется, никакой, ибо это против природы. А если попадется особа бледная и желтая, ее при помощи всяких искусственных красок превратят в розу. А ту, которая от природы или от времени кажется высохшей, они сделают свежей и цветущей. И, не исключая ни Джотто, ни кого другого, нет такого живописца, который раскрасил бы лучше, чем они. Но больше того, если у кого-нибудь из них лицо окажется нескладным и глаза навыкате, они тотчас же станут соколиными; нос будет кривой — тотчас же выпрямят; челюсть ослиная — тотчас же подправят; плечи будут бугристые — тотчас же их обстругают; одно плечо будет выше другого — будут конопатить их хлопком до тех пор, пока они не покажутся соразмерными и правильными. А также и грудь, и бедра, и все без всякого резца — самому Поликлету это было бы не под силу. Словом, я говорю вам и утверждаю, что флорентийские женщины большие мастера живописи и резьбы, чем кто-либо из мастеров, ибо совершенно очевидно, что они восстанавливают то, чего не доделала природа. А если вы мне не верите, обыщите весь наш город, и вы не найдете почти ни одной женщины с черным лицом. И это не потому, что природа их всех сделала белыми, а потому, что большая часть из них побелела благодаря искусству. И это касается и лица их и туловища, так что все они, каковы бы они ни были от природы — прямые, кривые или перекошенные, — приобрели красивую соразмерность благодаря их собственной великой изобретательности и искусству. Дело мастера боится…» Перевод А. Габричевского. (Цитируется по изданию: Итальянская новелла Возрождения. М., 1964.)Фрагмент 13. Франко Саккетти. «Триста новелл»
«Новелла СХХХVII O том, как некогда флорентийские женщины, не изучив и не усвоив законов, но просто нося свои наряды, победили и посрамили собственными законами некоего доктора права. …Приехал некий ученый юрист в должности судьи, по имени мессер Америго дель Америги из Пезаро, мужчина очень красивой наружности, а также весьма преуспевающий в своей науке. Явившись по приезде в нашу управу и представившись с должной торжественностью и речами, он ушел и приступил к исполнению своих обязанностей. А так как в это время был издан новый закон о женских нарядах, за ним после этого несколько раз посылали и напоминали ему, чтобы он при проверке исполнения этих распоряжений проявлял как можно больше рвения, и он обещал это делать. Вернувшись домой, он в течение многих дней проверял исполнение этих распоряжений на своих домашних, а затем приступил к поискам по городу. И когда его уполномоченный к нему возвращался и докладывал, какие доводы приводила каждая из женщин, которая ему попадалась и на которую он хотел составить протокол, у него был такой вид, словно он совсем свихнулся… Попадается женщина с кружевной повязкой на чепце. Уполномоченный и говорит: «Назовите ваше имя. У вас повязка кружевная». Добрая женщина снимает повязку, которая была приколота к чепцу булавкой, и, взяв ее в руки, говорит, что это просто гирлянда. Идет он дальше и видит множество нашитых спереди пуговиц. Задержанной говорит: «Этих пуговиц вы не имеете права носить». А та отвечает: «Конечно, сударь, имею, ведь это не пуговицы, а запонки. Если не верите, посмотрите, в них нет петель и ни одной дырочки». Уполномоченный подходит к другой, в горностаях, и собирается составить протокол. Женщина говорит: «Не пишите. Это не горностай, это сосуны». Уполномоченный спрашивает: «Что такое сосуны?» Женщина отвечает: «Животное»…» Перевод А. Габричевского. (Цитируется по изданию: Итальянская новелла Возрождения. М., 1964.)
 Любовь и брак
Любовь и брак
Основной характер любви
 ир, — говорит Макс Адлер, — создан не единожды мистическим, сверхчеловеческим актом, а постоянно вновь создается в момент возникновения нового способа мышления, доводящего свое содержание до сознания мыслящего субъекта в совершенно новой форме».
Половая любовь в эпоху Ренессанса носила прямо вулканический характер и проявлялась обычно как вырвавшаяся из плена стихийная сила, подчинявшая себе все, пенясь и шумя, правда, порой и не без грубой жестокости. А так как каждая стихийная сила, проявляясь, обнаруживает свой основной закон, то в области любви главным принципом была производительность. Не подлежит сомнению, что мужчина хотел прежде всего оплодотворять, женщина — быть оплодотворенной.
Благодаря этому любовь получила в эпоху Ренессанса такой же героический оттенок, как и идеал физической красоты. То, что идеал прекрасного в эпоху Возрождения стал воплощением красоты в смысле целесообразности, должно было в реальной жизни привести к торжеству естественного закона любви. В таком направлении эпоха и идеализировала любовь, как мы видели на ряде примеров. Любовь превратилась из понятия в реальность, стала сознательным осуществлением закона природы и в конце концов культом воспламененных инстинктов. Повышенная половая активность стала явлением нормальным, вызывающим уважение. Совершенным, с точки зрения эпохи, был только тот мужчина, который кроме вышеуказанных физических достоинств отличался никогда не угасающими желаниями; совершенной женщиной — только та, которая вплоть до самого зрелого возраста жаждала любви мужчины.
Другими словами, высшими добродетелями считались вулканические страсти у обоих полов, неослабевающая даже в преклонных летах производительность мужчины и столь же неослабевающее плодородие женщины. Иметь много детей — было обычным и похвальным явлением, не иметь их — считалось наказанием за какой-нибудь грех и встречалось сравнительно редко.
ир, — говорит Макс Адлер, — создан не единожды мистическим, сверхчеловеческим актом, а постоянно вновь создается в момент возникновения нового способа мышления, доводящего свое содержание до сознания мыслящего субъекта в совершенно новой форме».
Половая любовь в эпоху Ренессанса носила прямо вулканический характер и проявлялась обычно как вырвавшаяся из плена стихийная сила, подчинявшая себе все, пенясь и шумя, правда, порой и не без грубой жестокости. А так как каждая стихийная сила, проявляясь, обнаруживает свой основной закон, то в области любви главным принципом была производительность. Не подлежит сомнению, что мужчина хотел прежде всего оплодотворять, женщина — быть оплодотворенной.
Благодаря этому любовь получила в эпоху Ренессанса такой же героический оттенок, как и идеал физической красоты. То, что идеал прекрасного в эпоху Возрождения стал воплощением красоты в смысле целесообразности, должно было в реальной жизни привести к торжеству естественного закона любви. В таком направлении эпоха и идеализировала любовь, как мы видели на ряде примеров. Любовь превратилась из понятия в реальность, стала сознательным осуществлением закона природы и в конце концов культом воспламененных инстинктов. Повышенная половая активность стала явлением нормальным, вызывающим уважение. Совершенным, с точки зрения эпохи, был только тот мужчина, который кроме вышеуказанных физических достоинств отличался никогда не угасающими желаниями; совершенной женщиной — только та, которая вплоть до самого зрелого возраста жаждала любви мужчины.
Другими словами, высшими добродетелями считались вулканические страсти у обоих полов, неослабевающая даже в преклонных летах производительность мужчины и столь же неослабевающее плодородие женщины. Иметь много детей — было обычным и похвальным явлением, не иметь их — считалось наказанием за какой-нибудь грех и встречалось сравнительно редко.

Развитие индивидуальной половой любви
 увственная тенденция Ренессанса могла свободно развиться потому, что в предыдущие, средние века, отношения между полами были более примитивными. Любовь исчерпывалась физическим актом, во всяком случае кульминировала в нем.
Это применимо в особенности к браку. Любовь играла в нем в основном второстепенную роль. Для аристократии брак имел политическое значение, был лучшим средством увеличения своего влияния и могущества. Интересы семьи, а не желания личности имели поэтому решающее значение. То же самое можно сказать и о цеховых мастерах средневековых городов. Круг, из которого они могли выбрать жену, был и без того ограничен, но они, кроме того, должны были еще подчиняться цеховым и семейным интересам, причем последние были тесно связаны с первыми. Когда в городах возник купеческий патрициат, вопрос о материальном благосостоянии также оттеснил личные склонности. Брак был в глазах этого слоя самой простой формой накопления капитала, быстрым способом постоянного присвоения прибыли.
Только низшие слои народа, неимущие классы, смотрели на брак не с такой условной точки зрения, и потому индивидуальная любовь играла в их брачных союзах большую роль. У всех других классов брак, основанный на денежных, классовых и сословных интересах, был в большинстве случаев не чем иным, как средством произведения на свет наследников. У этих сословий супружеская любовь имела не большое значение и была скорее обязанностью, «не причиной, а элементом брака». Религиозная и буржуазная идеология городов несколько скрашивала эту ситуацию, зато она сохранялась среди крестьянства в деревнях. Как уже было выяснено в первой главе, здесь половая способность мужчины и женщины ценилась так же высоко, как материальное благосостояние. Эти предпосылки, возникшие в средние века, представляли чрезвычайно благоприятную почву для развития эротики.
Эти факторы заключались в зарождавшейся в средние века индивидуальной любви. Взаимная любовь мужчины и женщины должна носить характер не примитивной арифметической задачи, а взаимной индивидуальной склонности и страсти — таково основное требование индивидуальной любви. Литература всех стран доказывает, что следы такой индивидуальной страсти встречаются уже в раннем средневековье.
В очаровательном любовном послании одной образованной дамы к ее возлюбленному, находящемся в собрании монаха Вернгера фон Тегернзе, имеется буквально классическое свидетельство. Мы не знаем ни даму, которая писала письмо, ни мужчину, которому оно было адресовано, но каждая строчка письма говорит нам, что слова эти были продиктованы самой чистой и благородной страстью женского сердца.
«Любимейший из дорогих! — так начинает она письмо, в котором главное — полное слияние с возлюбленным, дышащее высоким уважением и проникнутое твердым, как скала, доверием. — Тебя одного среди тысячи выбрала я, тебя одного приняла в святыню моего духа». Письмо заканчивается следующими проникновенными стихами, ставшими впоследствии как бы волшебным заклинанием, нежнейшей исповедью всех истинно любящих: «Ты мой, я твоя. Можешь быть в этом уверен. Ты заключен в моем сердце. Я потеряла ключик от него, и ты теперь не можешь выйти оттуда».
Однако если из этого документа можно сделать вывод, что любовь тогда уже имела большое значение в жизни, то на самом деле она существовала только как идеал, как принцип. Условный характер брака в среде имущих сословий по-прежнему сохранялся, был не только не уничтожен, но даже и не поколеблен.
По-прежнему большинство браков определялось классовыми, денежными и сословными соображениями. Поэтому личная симпатия имела для брака мало значения, в отличие от формального соблюдения верности.
Сперва индивидуальная любовь проявилась во всех странах не в форме супружеской любви, а в форме рыцарского культа дамы, принцип которого прямо гласил, что истинная любовь (Мinnе) не имеет ничего общего с браком. Иными словами: более высокая форма любви началась исторически с прелюбодеяния, с обоюдной измены, систематически организованной целым слоем общества.
В этом классе не было ни одного мужчины, не домогавшегося из года в год любви других женщин, только не жены, ни одной женщины, не позволявшей другим мужчинам публично при всех искать ее расположения, так что в конце концов все рыцарство представляло не что иное, как «общество для устроения обоюдного адюльтера».
Вот что говорит Ульрих фон Лихтенштейн в своем сочинении «О служении дамам»: «Я ехал к своей жене, которую люблю, хотя я и избрал дамой сердца другую особу». Между супругами рыцарская любовь невозможна и не приемлема, хотя муж может страстно любить свою жену, а жена — своего мужа. Они будут любить друг друга просто, а не по-рыцарски.
А вот еще один интересный случай того времени, разбираемый так называемым «судом любви», под председательством знаменитой Элеоноры Пуатье:
«Один рыцарь любил даму, которая не могла отвечать ему, потому что уже любила другого рыцаря. Не желая, однако, лишать его надежды, она обещала признать его своим рыцарем, когда потеряет того, которого любила. Спустя некоторое время она вышла замуж за любимого ею рыцаря. Тогда первый тотчас явился и потребовал обещанного… Она действительно потеряла своего рыцаря, выйдя за него замуж».
Приведем отрывок из рыцарской поэзии того времени:
«Муж будет противоречить чести, если будет любить жену, как рыцарь любит свою даму, потому что этим нисколько не увеличиваются достоинства ни того, ни другого и из этого не выйдет более того, что уже есть по праву».
Сама природа вещей обусловливала, разумеется, что желанная цель достигалась и рыцарь в огромном большинстве случаев на самом деле получал обещанные вознаграждения. Всякий протест чаще всего проявлялся в действиях, а рыцарский культ исторически возник именно как протест против условного брака, признававшего только обязанности. В данном случае в чем ином могло проявиться действие, как не в получении высшей награды любви (Minnesold)? Сущностью индивидуальной любви является именно сексуальный момент, желание мужчины обладать женщиной, отдающейся ему не по обязанности, а по любви, и такое же желание женщины отдаться тому мужчине, который симпатичен ей.
Тот факт, что «любовные дворы» короля Артура и другие, где обсуждались права и обязанности любви, никогда не существовали в действительности, а были только фантазией эпохи, ничего не меняет. В описаниях «любовных дворов» и в сведениях о будто бы происходивших там дебатах можно усмотреть обсуждение средними веками назревшей проблемы индивидуальной половой любви.
Среди рыцарства брак носил исключительно условный характер: молодые люди предназначались для брака еще детьми и только во имя семейных интересов. Благосостояние уже освободило женщину от домашней работы, по этой причине в XV и XVI вв. появились девушки-амазонки, virago[58], женщины, конкурировавшие с мужчиной в области науки и общего образования.
Принцип «chacune pour chacun» («каждая для каждого») восторжествовал как массовое явление в конце средних веков, потому что в жизнь вступил новый экономический фактор.
увственная тенденция Ренессанса могла свободно развиться потому, что в предыдущие, средние века, отношения между полами были более примитивными. Любовь исчерпывалась физическим актом, во всяком случае кульминировала в нем.
Это применимо в особенности к браку. Любовь играла в нем в основном второстепенную роль. Для аристократии брак имел политическое значение, был лучшим средством увеличения своего влияния и могущества. Интересы семьи, а не желания личности имели поэтому решающее значение. То же самое можно сказать и о цеховых мастерах средневековых городов. Круг, из которого они могли выбрать жену, был и без того ограничен, но они, кроме того, должны были еще подчиняться цеховым и семейным интересам, причем последние были тесно связаны с первыми. Когда в городах возник купеческий патрициат, вопрос о материальном благосостоянии также оттеснил личные склонности. Брак был в глазах этого слоя самой простой формой накопления капитала, быстрым способом постоянного присвоения прибыли.
Только низшие слои народа, неимущие классы, смотрели на брак не с такой условной точки зрения, и потому индивидуальная любовь играла в их брачных союзах большую роль. У всех других классов брак, основанный на денежных, классовых и сословных интересах, был в большинстве случаев не чем иным, как средством произведения на свет наследников. У этих сословий супружеская любовь имела не большое значение и была скорее обязанностью, «не причиной, а элементом брака». Религиозная и буржуазная идеология городов несколько скрашивала эту ситуацию, зато она сохранялась среди крестьянства в деревнях. Как уже было выяснено в первой главе, здесь половая способность мужчины и женщины ценилась так же высоко, как материальное благосостояние. Эти предпосылки, возникшие в средние века, представляли чрезвычайно благоприятную почву для развития эротики.
Эти факторы заключались в зарождавшейся в средние века индивидуальной любви. Взаимная любовь мужчины и женщины должна носить характер не примитивной арифметической задачи, а взаимной индивидуальной склонности и страсти — таково основное требование индивидуальной любви. Литература всех стран доказывает, что следы такой индивидуальной страсти встречаются уже в раннем средневековье.
В очаровательном любовном послании одной образованной дамы к ее возлюбленному, находящемся в собрании монаха Вернгера фон Тегернзе, имеется буквально классическое свидетельство. Мы не знаем ни даму, которая писала письмо, ни мужчину, которому оно было адресовано, но каждая строчка письма говорит нам, что слова эти были продиктованы самой чистой и благородной страстью женского сердца.
«Любимейший из дорогих! — так начинает она письмо, в котором главное — полное слияние с возлюбленным, дышащее высоким уважением и проникнутое твердым, как скала, доверием. — Тебя одного среди тысячи выбрала я, тебя одного приняла в святыню моего духа». Письмо заканчивается следующими проникновенными стихами, ставшими впоследствии как бы волшебным заклинанием, нежнейшей исповедью всех истинно любящих: «Ты мой, я твоя. Можешь быть в этом уверен. Ты заключен в моем сердце. Я потеряла ключик от него, и ты теперь не можешь выйти оттуда».
Однако если из этого документа можно сделать вывод, что любовь тогда уже имела большое значение в жизни, то на самом деле она существовала только как идеал, как принцип. Условный характер брака в среде имущих сословий по-прежнему сохранялся, был не только не уничтожен, но даже и не поколеблен.
По-прежнему большинство браков определялось классовыми, денежными и сословными соображениями. Поэтому личная симпатия имела для брака мало значения, в отличие от формального соблюдения верности.
Сперва индивидуальная любовь проявилась во всех странах не в форме супружеской любви, а в форме рыцарского культа дамы, принцип которого прямо гласил, что истинная любовь (Мinnе) не имеет ничего общего с браком. Иными словами: более высокая форма любви началась исторически с прелюбодеяния, с обоюдной измены, систематически организованной целым слоем общества.
В этом классе не было ни одного мужчины, не домогавшегося из года в год любви других женщин, только не жены, ни одной женщины, не позволявшей другим мужчинам публично при всех искать ее расположения, так что в конце концов все рыцарство представляло не что иное, как «общество для устроения обоюдного адюльтера».
Вот что говорит Ульрих фон Лихтенштейн в своем сочинении «О служении дамам»: «Я ехал к своей жене, которую люблю, хотя я и избрал дамой сердца другую особу». Между супругами рыцарская любовь невозможна и не приемлема, хотя муж может страстно любить свою жену, а жена — своего мужа. Они будут любить друг друга просто, а не по-рыцарски.
А вот еще один интересный случай того времени, разбираемый так называемым «судом любви», под председательством знаменитой Элеоноры Пуатье:
«Один рыцарь любил даму, которая не могла отвечать ему, потому что уже любила другого рыцаря. Не желая, однако, лишать его надежды, она обещала признать его своим рыцарем, когда потеряет того, которого любила. Спустя некоторое время она вышла замуж за любимого ею рыцаря. Тогда первый тотчас явился и потребовал обещанного… Она действительно потеряла своего рыцаря, выйдя за него замуж».
Приведем отрывок из рыцарской поэзии того времени:
«Муж будет противоречить чести, если будет любить жену, как рыцарь любит свою даму, потому что этим нисколько не увеличиваются достоинства ни того, ни другого и из этого не выйдет более того, что уже есть по праву».
Сама природа вещей обусловливала, разумеется, что желанная цель достигалась и рыцарь в огромном большинстве случаев на самом деле получал обещанные вознаграждения. Всякий протест чаще всего проявлялся в действиях, а рыцарский культ исторически возник именно как протест против условного брака, признававшего только обязанности. В данном случае в чем ином могло проявиться действие, как не в получении высшей награды любви (Minnesold)? Сущностью индивидуальной любви является именно сексуальный момент, желание мужчины обладать женщиной, отдающейся ему не по обязанности, а по любви, и такое же желание женщины отдаться тому мужчине, который симпатичен ей.
Тот факт, что «любовные дворы» короля Артура и другие, где обсуждались права и обязанности любви, никогда не существовали в действительности, а были только фантазией эпохи, ничего не меняет. В описаниях «любовных дворов» и в сведениях о будто бы происходивших там дебатах можно усмотреть обсуждение средними веками назревшей проблемы индивидуальной половой любви.
Среди рыцарства брак носил исключительно условный характер: молодые люди предназначались для брака еще детьми и только во имя семейных интересов. Благосостояние уже освободило женщину от домашней работы, по этой причине в XV и XVI вв. появились девушки-амазонки, virago[58], женщины, конкурировавшие с мужчиной в области науки и общего образования.
Принцип «chacune pour chacun» («каждая для каждого») восторжествовал как массовое явление в конце средних веков, потому что в жизнь вступил новый экономический фактор.
Чувственное представление о любви
 ногочисленные документы наглядно иллюстрируют чувственный характер любви и брака в эпоху Ренессанса: нравы, обычаи, общие и правовые воззрения, отражающиеся в своеобразных пословицах, поговорках, действиях, и в особенности литература и искусство, в которых половые отношения обычно становятся лейтмотивом. Приведем отрывок из новеллы Страпароллы:
ногочисленные документы наглядно иллюстрируют чувственный характер любви и брака в эпоху Ренессанса: нравы, обычаи, общие и правовые воззрения, отражающиеся в своеобразных пословицах, поговорках, действиях, и в особенности литература и искусство, в которых половые отношения обычно становятся лейтмотивом. Приведем отрывок из новеллы Страпароллы:
Я занят делом с дамою прелестной:
Вот юбочку приподнимаю eй
Чего она желает, мне известно,
И эта вещь уже в руке моей.
Она мне говорит: «Ой, больно, тесно,
Полегче надо бы и понежней».
Вот и стараюсь я не сделать больно
И так и сяк — была б она довольна[59].
Покров густой, о ночь — приют любви,
Раскинь скорей, чтобы людские взоры
Закрылись и Ромео трепетал
В объятиях моих, никем не зримый,
Не порицаемый. Светло с избытком
Любовникам среди восторгов их
От блеска собственной красы — и если
Любовь слепа, тем лучше ладит с ночью.
Приди же, о торжественная ночь,
Ты величавая жена, вся в черном,—
И проиграть, выигрывая, ты
Меня в игре таинственной, которой
Две непорочности залогом служат,
Наставь, о ночь! Прилив нескромной крови
Закрой ты на щеках моих своей
Мантильей черной, пока любовь,
Сначала робкая, смелей не станет,
Но обратится в долга чистоту.
Придите, ночь и Ромео, ты, мой день в ночи.

Герб М. Шеделя. XVI в. (На левой стороне женщина, опоясанная «поясом целомудрия»)
Эта тема также прослеживается как во многих народных песнях, так и в произведениях искусства. В амразском сборнике песен, содержащем такие стихотворения, есть одно, в котором выражена тоска покинутого юноши по своей возлюбленной: то, о чем он жалеет, — это только те чувственные радости, которыми его одаряла покинувшая его возлюбленная. Как дополнение можно привести литературное произведение, не распевавшееся, подобно этим народным песням, на улицах и площадях. Это очаровательные письма Иоанна Секундуса, как его восторженно окрестил Гете, «великого поэта поцелуя» («der grosse Kusser»). Его тоска по любви и по возлюбленной тоже дышит чувственностью, и высшим его желанием является бесконечное число сладострастных поцелуев, полученных и возвращенных: «Сказать тебе, какие поцелуи я люблю больше всего? Разве можно выбирать, возлюбленная! Когда ты отдаешь мне свои губы влажными, я благодарен им. Когда они горят, я люблю их такими. Как сладко целовать твои глаза, когда они подернуты томностью и угасают от желания, твои глаза, источники моих страданий. Как сладко оставлять на твоих щеках, шее и плечах, на твоей белой груди следы красных поцелуев… Продолжительны ли твои поцелуи или беглы, томны, кротки или страстны, — все они любы мне. Только об одном прошу я тебя: никогда не целуй меня так, как я тебя целовал, а всегда по-другому. Пусть то будет игра, полная разнообразия». Девушка этой эпохи не может дождаться, когда созреет для любви. В одном стихотворении Нейдхарта фон Рейенталя, изображающем деревенскую любовь, мать и дочь беседуют о праве последней на любовь[60]. Шестнадцатилетняя дочка настаивает на том, что ее тело уже давно созрело для любви, мать держится другого мнения, однако дочь знает прошлое матери: «Вам же было только 12 лет, когда вы перестали быть девушкой». Мать сдается: «Ну хорошо, возьми себе любовников сколько хочешь». Дочь не довольствуется этим разрешением, она хочет, чтобы ей не мешали, и тут выясняется, почему мать находила дочь еще слишком юной для любви. «Я бы охотно это сделала, если бы вы сами не отнимали у меня из-под носа мужчин. Черт бы вас побрал! Есть же у вас муж, на что вам еще другие мужчины?» Мать, видя, что ее обличили, соглашается на все: «Ну хорошо, дочка. Только смотри молчи. Будешь ли ты любить много или мало, я ничего не буду иметь против, и хотя бы тебе пришлось качать на руках младенца. Но и ты не болтай, когда увидишь, что я отдаюсь любви». Это взаимное соперничество женщин, особенно зависть матери к дочери, имеющей больше шансов на любовь, — довольно распространенный мотив в литературе эпохи. Классическим примером в этом отношении является нюрнбергская масленичная пьеса «Der Witwe und der Tochter Fastnacht»[61]. По существовавшему обычаю, вопрос отдавался на рассмотрение в суд, который, выслушав обе стороны, должен был вынести решение, кто из них, мать или дочь, имеет право первой выйти замуж. Мать мотивировала свое право первенства тем, что она молодая похотливая вдова и не может жить без мужчины, так как привыкла к «мужскому мясу», тогда как дочь ссылается на то чувство сладострастия, которое она испытывает, когда батрак ее обнимает и целует. После того как все десять судей высказали свое мнение, все согласились на том, что мать и дочь имеют одинаковые права, так как «ночной голод мучает и женщин и девиц»[62]. Теми же соображениями мотивируют свои «права на любовь» и молодые юноши. Ссылкой на «ночной голод» объясняют юноши и девушки также свое нежелание стать монахами и монахинями. Необходимо подчеркнуть, что вполне здоровому представлению Ренессанса о совпадении полового общения с периодом зрелости не соответствовала действительность: далеко не все мужчины и женщины могли вступать в брак рано. Очень часто классовые интересы мешали осуществлению этого. Правда, браки, заключенные в ранней юности, были довольно распространены как среди дворянства и бюргерства, так и в крестьянстве, там, где не существовало подворного права, исключавшего раздел земли и признававшего законным наследником только старшего сына. Проповедники часто выступали против ранних браков.

Похотливый старик. Французская гравюра
Мурнер восклицает: «Ныне он и она быстро женятся, хотя им вместе и нет тридцати лет». В некоторых деревнях уже четырнадцатилетняя девушка считалась способной к браку. Однако, с другой стороны, существовал целый класс, которому вступление в брак было запрещено или во всяком случае очень затруднено, а именно подмастерья. Вступать в брак имели право только самостоятельные ремесленники или те, кто готовились стать самостоятельными. Но так как большинство цеховых регламентов не допускало в ряды мастеров «сыновей не мастеров», то для многих из них это было равносильно запрещению жениться. Там же, где подмастерьям разрешалось вступать в брак, существовал другой закон, в силу которого женатый подмастерье не имел права стать мастером, т. е. косвенно и это постановление было равносильно запрету жениться. И все же эти указы были мало эффективны, так как в эпоху Ренессанса встречались даже женатые ученики, и они были не исключением. В цеховом регламенте существовал особый параграф, касавшийся «учеников, вступающих в брак». Так, например, в относящихся к 1582 г. статутах вюртембергских каменщиков и каменотесов говорится: «Если ученик в годы ученичества женится, то он все-таки обязан окончить свои два года выучки». Подобно тому как в эпоху Ренессанса браки заключались часто рано, так никогда, быть может, люди не вступали столь охотно в брак вторично. Характерно и то обстоятельство, что никогда больше немолодой вдовец так часто не вступал в брак с молодой девушкой, а вдова в зрелом возрасте не выходила замуж за молодого парня. Вполне соответствуя чувственной тенденции эпохи, эта черта, с другой стороны, противоречила здравому смыслу. То, что люди прекрасно понимали это противоречие, видно из того, что такие неравные браки часто высмеивались. Если юноше, женившемуся на старухе, предсказывали, что он на брачном ложе получит «насморк», то о молодых женах и старых мужьях говорили, что первые — те «лошади, на которых старики быстро доедут до могилы». Старикам, кроме того, предсказывались уже в брачную ночь рога, ибо в таких браках, по народной поговорке, «слишком мало молятся». Последнее выражение было насмешливым обозначением «брака между стариком и чувственной молодой женщиной» и связано с одним анекдотом, сообщенным Августом Тюнгером в его фацетиях, вышедших в 1480 г. Приведем отрывок из стихотворения французского поэта XV в. Франсуа Вийона:
Я знаю, кто работает, кто нет,
Я знаю, как румянятся старухи,
Я знаю много всяческих примет,
Я знаю, как смеются потаскухи,
Я знаю — проведут тебя простухи,
Я знаю — пропадешь с такой, любя,
Я знаю — пропадают с голодухи,
Я знаю все, но только не себя[63].

Де Жод. Радости Венеры. XVII в.
Такие благоразумные матери — новеллисты называют их обыкновенно самыми благоразумными — зорко присматривались к репутации мужчин, способных и готовых вступить в брак. Они наводили справки у знакомых, друзей, в церкви и на улицах. Прежде чем получат нужные сведения, они не позволят мужчине явиться в дом в качестве жениха. Подробнее всего развита эта тема в одной новелле-пословице итальянца Корнацано. Мать молодой красивой девушки выбрала ей в мужья бедного, но стройного юношу, который славился своей силой. Дочь, естественно, ничего не имела против того, что выбор мужа проводился с такой точки зрения. Автор новеллы доказывает правильность взгляда матери тем, что даже этот молодой силач не смог удовлетворить требовательности молодой женщины и спасся от ее бешеной влюбленности только путем грубоватого средства. Женщины, разумеется, отличаются неистощимой хитростью при достижении своей цели, и притом с первого же дня брака. В своих «Совместных приключениях» (III, 95) Гаген передает содержание новеллы, посвященной этой теме и составленной по стихотворению конца средних веков. При таком чисто физическом взгляде на любовь величайшее преступление, которое может совершить мужчина, заключается в том, что он обманывает ожидания женщины, что он на словах сильнее, чем на деле. Женская жалоба на подобное хвастовство — обычная тема современной сатиры, масленичных пьес и пластического искусства.
Добрачное половое общение
 динобрачие всегда и везде предполагало принципиальное требование добрачного целомудрия. На практике это требование применялось, однако, исключительно к женщине. От жены муж требовал прежде всего, чтобы она сохранила свою физическую нетронутость до брачной ночи. Ее девственность принадлежала только ему. Сколько бы это требование ни облекалось в хитроумные измышления, в нем отражается только цель единобрачия: рождение законных наследников. Тот факт, что жених в брачную ночь найдет невесту нетронутой, служил ему гарантией, что она и в браке будет соблюдать ему верность и что дети, которые будут рождены от этого брака, будут его детьми. Для жениха не было большего разочарования, как узнать в брачную ночь, что его невеста уже имела связь. Во «Freidank» («Благодарность жениха») говорится: «Лучше иметь на ложе ежа, чем невесту, лишившуюся своей невинности».
Высокая оценка, которая давалась девственности, обнаруживалась в эпоху Ренессанса в целом ряде откровенных обычаев, особенно свадебных, публично доказывающих всему миру, что женщина в этом отношении «достойна» или «недостойна». Девушке сплетали венок, женщину, до брака лишившуюся невинности, старались всячески унизить в глазах сограждан.
Наиболее распространенный признак отличия заключался в том, что достойная невеста подходила к алтарю с венком на голове: она носила «почетную корону целомудрия». Венок (Schapel, Schapelin) — признак девственности. Невесты-девственницы имели право распускать волосы на непокрытой голове. Наоборот, невеста, которая еще до брака сошлась с мужчиной, даже с женихом, должна была довольствоваться вуалью. В немецкой народной песне XV столетия девушка не впускает возлюбленного в спальню, ссылаясь на ожидающее ее в противном случае клеймо: «Кто стучится ко мне в дверь? Я его все равно не впущу. А то мне пришлось бы носить вуаль, когда другие девушки украшаются венком. Мне было бы стыдно, очень стыдно, и чем дальше, тем больше».
В Нюрнберге «падшая» девушка должна была идти в церковь с соломенным венком на голове, толпа осыпала место перед дверью ее дома сечкой и ее называли «испытанной девкой». В Ротенбурге церковная епитимья[67] заключалась в том, что невеста, потерявшая невинность, должна была стоять на паперти с соломенной косой, прикрепленной к волосам, а ее совратитель обязан был в продолжение трех воскресений появляться в церкви в соломенном плаще, а также возить свою возлюбленную в тачке по всему местечку, причем толпа забрасывала обоих грязью.
Везде там, где мелкая буржуазия имела власть, где процветало ремесло, все эти требования были подтверждены законом. Описанные народные обычаи не только санкционировались как церковные епитимьи, но и получали юридическую силу. Таким «запятнанным молодым» предписывались всевозможные ограничения: они имели право пригласить на свадьбу только определенное количество гостей, угостить их только определенным количеством свадебных блюд, и сама свадьба праздновалась не так долго, как у «достойных» молодых, и справлялась в день, в который обычно не было свадеб, например, в Меммингене в среду, которая в глазах народа пользовалась дурной славой. В соответствующих указах отражалось главное: заклеймить тех, кого они касались.
В одном нюрнбергском указе, изданном в XVI в. и неоднократно возобновлявшемся в XVII столетии, направленном против «растления девушек», говорится, что это делается для того, чтобы «молодые предстали публично пред всеми в том позоре, в котором они сами виноваты». Мало того. Обе стороны подвергались еще серьезным телесным наказаниям и денежным штрафам, особенно большим, когда добрачная связь жениха и невесты обнаруживалась только после свадьбы, будь то вследствие преждевременного рождения ребенка или благодаря доносу. Наказание было потому серьезнее в таких случаях, что жених и невеста «обманули своим молчанием церковь и общину Господа и не сообщили об этом эконому при священническом доме», как говорится в вышеупомянутом указе: «они хотели присвоить себе почести, на которые не имели права».
динобрачие всегда и везде предполагало принципиальное требование добрачного целомудрия. На практике это требование применялось, однако, исключительно к женщине. От жены муж требовал прежде всего, чтобы она сохранила свою физическую нетронутость до брачной ночи. Ее девственность принадлежала только ему. Сколько бы это требование ни облекалось в хитроумные измышления, в нем отражается только цель единобрачия: рождение законных наследников. Тот факт, что жених в брачную ночь найдет невесту нетронутой, служил ему гарантией, что она и в браке будет соблюдать ему верность и что дети, которые будут рождены от этого брака, будут его детьми. Для жениха не было большего разочарования, как узнать в брачную ночь, что его невеста уже имела связь. Во «Freidank» («Благодарность жениха») говорится: «Лучше иметь на ложе ежа, чем невесту, лишившуюся своей невинности».
Высокая оценка, которая давалась девственности, обнаруживалась в эпоху Ренессанса в целом ряде откровенных обычаев, особенно свадебных, публично доказывающих всему миру, что женщина в этом отношении «достойна» или «недостойна». Девушке сплетали венок, женщину, до брака лишившуюся невинности, старались всячески унизить в глазах сограждан.
Наиболее распространенный признак отличия заключался в том, что достойная невеста подходила к алтарю с венком на голове: она носила «почетную корону целомудрия». Венок (Schapel, Schapelin) — признак девственности. Невесты-девственницы имели право распускать волосы на непокрытой голове. Наоборот, невеста, которая еще до брака сошлась с мужчиной, даже с женихом, должна была довольствоваться вуалью. В немецкой народной песне XV столетия девушка не впускает возлюбленного в спальню, ссылаясь на ожидающее ее в противном случае клеймо: «Кто стучится ко мне в дверь? Я его все равно не впущу. А то мне пришлось бы носить вуаль, когда другие девушки украшаются венком. Мне было бы стыдно, очень стыдно, и чем дальше, тем больше».
В Нюрнберге «падшая» девушка должна была идти в церковь с соломенным венком на голове, толпа осыпала место перед дверью ее дома сечкой и ее называли «испытанной девкой». В Ротенбурге церковная епитимья[67] заключалась в том, что невеста, потерявшая невинность, должна была стоять на паперти с соломенной косой, прикрепленной к волосам, а ее совратитель обязан был в продолжение трех воскресений появляться в церкви в соломенном плаще, а также возить свою возлюбленную в тачке по всему местечку, причем толпа забрасывала обоих грязью.
Везде там, где мелкая буржуазия имела власть, где процветало ремесло, все эти требования были подтверждены законом. Описанные народные обычаи не только санкционировались как церковные епитимьи, но и получали юридическую силу. Таким «запятнанным молодым» предписывались всевозможные ограничения: они имели право пригласить на свадьбу только определенное количество гостей, угостить их только определенным количеством свадебных блюд, и сама свадьба праздновалась не так долго, как у «достойных» молодых, и справлялась в день, в который обычно не было свадеб, например, в Меммингене в среду, которая в глазах народа пользовалась дурной славой. В соответствующих указах отражалось главное: заклеймить тех, кого они касались.
В одном нюрнбергском указе, изданном в XVI в. и неоднократно возобновлявшемся в XVII столетии, направленном против «растления девушек», говорится, что это делается для того, чтобы «молодые предстали публично пред всеми в том позоре, в котором они сами виноваты». Мало того. Обе стороны подвергались еще серьезным телесным наказаниям и денежным штрафам, особенно большим, когда добрачная связь жениха и невесты обнаруживалась только после свадьбы, будь то вследствие преждевременного рождения ребенка или благодаря доносу. Наказание было потому серьезнее в таких случаях, что жених и невеста «обманули своим молчанием церковь и общину Господа и не сообщили об этом эконому при священническом доме», как говорится в вышеупомянутом указе: «они хотели присвоить себе почести, на которые не имели права».
Мне столько раз приходилось слышать о людях, которые умирают от любви, но за всю жизнь я не видела, чтобы кто-нибудь из них действительно умер.Чтобы профессия доносчиков не исчезла, тот получал третью часть денежного штрафа. Некоторые указы обязывали даже невесту, если донос был «обоснован», подвергнуться осмотру со стороны двух назначенных городским советом акушерок, которые должны были выяснить, «находится ли она еще в честном состоянии девственности»… Невеста, не подчинившаяся такому осмотру, не имела права на «честную» свадьбу. Таким же путем ей, впрочем, разрешалось и самой очиститься от павшего на нее подозрения. Еще более грубое, на наш взгляд, представление отражается в другом свадебном обычае, при помощи которого в разных странах и местностях невеста была обязана публично доказать или при помощи которого она доказывала, что вступила в брак девственницей. Обычай этот заключался в том, что на другой день после свадьбы простыню или рубашку невесты с торжеством вывешивали или показывали из окна. Только такое документальное доказательство спасало в глазах соседей и друзей честь новобрачной. Чем явственнее были следы крови, тем охотнее показывали простыню соседям. Брантом сообщает об этом обычае, каким он существовал в Испании, следующее: «Женщина имеет еще одно средство доказать свою незапятнанность, а именно: на другое утро после свадьбы показать кровавые следы борьбы, как это делается в Испании, где окровавленная простыня вывешивается из окна при громких криках: "Virgen la tenemos" ("Мы считаем ее девушкой", "она девственница")». Аретино и итальянские новеллисты сообщают, что подобный же обычай существовал и в Италии. В Швабии встречается аналогичный обычай. Если здесь муж обвинял жену, что она уже не была девушкой, когда выходила замуж, то ее родители могли или должны были доказать противное. С этой целью свадебная простыня представлялась на рассмотрение суда. Если муж был не прав, он подвергался денежному взысканию и сорока ударам. Если же он был прав, то брак считался несостоявшимся, а молодая к тому же еще изгонялась из родительского дома, «так как в доме отца предавалась разврату».Маргарита Наваррская

К. де Пасс. Аллегорическое изображение чувственности
Подобный обычай существовал и в славянских странах. В тех местах, где такие обычаи сохранялись по сей день, они принимали все более символический характер. Выставляли уже не сами следы или во всяком случае следы, очень ретушированные. Опыт очень скоро научил людей, что свадебная ночь может и не сопровождаться «кровавой бойней», а девственность невесты все же будет неоспоримым фактом. Высокая оценка, которая давалась физической нетронутости женщины, подтверждается еще и тем обстоятельством, что потеря девственности делала женщину в глазах всех низшим существом. Она имела поэтому право предъявить тому, кто ее обесчестил, иск о вознаграждении. С другой стороны, мужчина мог требовать от родителей невесты, лишившейся своей девственности, более значительного приданого. Поэтому родители как могли пытались скрыть этот факт. Антуан де ла Саль по этому поводу сообщает: «Приходит ночь. И тут будьте уверены, что мать хорошо просветила свою дочь и научила ее, как вертеться и кричать надо, дабы на девственницу походить. Матушка хорошо ее научила, чтобы она, едва почувствует штуку, сразу же издавала бы громкий вопль со вздохом, какой издает непривычный человек, вдруг оказавшись по грудь в холодной воде совершенно нагим. Так она и делает, и очень хорошо играет свою роль». Все эти обычаи и законы, с которыми к тому же совершенно совпадало общественное мнение в эпоху Ренессанса, однако, нисколько не мешали тому, что как раз в эту эпоху не только мужчины, но и женщины особенно часто нарушали предписание добрачного целомудрия. При общей напряженности эротического чувства число добрачных связей должно было неизбежно возрасти. В мелкобуржуазной среде такие взгляды всегда пользовались почетом и значением, так как экономическое существование мастера предполагало самую почтенную форму брака. Но если даже большинство мещанских девушек страшно боялись тогда публичного скандала, так как он клеймил их на всю жизнь в связи с ограниченностью круга общения, то очень часто горячая кровь оставалась победительницей. Поэтому старались соблюдать хотя бы внешние приличия. А что тогда считалось «внешним приличием», мы выяснили на ряде различных курьезных примеров. Чем утонченнее становились средства, позволявшие избежать опасности, тем более возрастала у женщин готовность подчиниться велениям чувств и испытать те радости, которые Ренессанс ценил более всякой другой эпохи. Добрачные связи женщин в эпоху Ренессанса были в порядке вещей почти во всех слоях населения. В литературе каждой страны встречается огромное количество упоминаний об этом. В литературе встречаются многочисленные документы, на основании которых можно было бы заключить, что небольшое число женщин вступали в брак девственницами. Ограничимся лишь немногими данными, свидетельствующими о добрачных связях девушек. Корнацано удостоверяет в новелле, основанной на поговорке: «Кто был свидетелем, того да благословит Бог», что в Италии нет ни одной честной девушки старше десяти лет. Епископ, выведенный в новелле, говорит своим слушателям: «Прежде чем стать епископом, я был исповедником, и все девушки старше десяти лет признавались мне, что у них уже было по крайней мере два любовника». О Франции говорится в одной новелле Тюнгера: «Немецкий дворянин, умевший немного говорить по-французски, въезжал верхом по мосту в Авиньон. Усталая лошадь начала спотыкаться, когда взошла на мост. Девица, очевидно легкого поведения, разразилась при виде этого смехом и стала издеваться над всадником. "Ах, мадам! — возразил он. — Вы едва ли удивитесь тому, что моя лошадь спотыкается, если узнаете, что она это делает всегда при виде женщины легкого поведения".— "Ох! — воскликнула та. — Если это так, то советую вам не въезжать в город, ибо иначе вы сломаете себе шею"». Важной причиной того, что люди тогда легче поддавались своим чувствам, была легкость вступления в брак. Она в значительной степени устраняла опасность публичного порицания. Пока церковное венчание не было еще принудительным законом — а мы видели, что против него долго и упорно восставали, достаточно было простого обещания женитьбы, чтобы брак считался законным. В Германии, например, достаточно было простого «предложения и согласия». А если за этим следовало разделение ложа, то брак считался и состоявшимся. Для законности брака не требовалось ни публичного оглашения, ни составления брачного контракта. Когда в брак вступали молодые люди, то даже в этом случае не требовалось согласия родителей и опекунов. В результате — целый ряд так называемых «случайных браков», Winkelehen (точнее, тайных браков), которые церкви пришлось признать, хотя она и делала это весьма неохотно. Если к этому прибавить, что число жалоб, поданных покинутыми женщинами на мужчин, было чрезвычайно велико, и такое положение вещей продолжалось целое столетие, то отсюда следует, что «случайные браки» представляли не более как удобную форму, в которой мужчины и женщины удовлетворяли свои горячие сексуальные желания. Иначе невозможно истолковать этот факт, раз известно, что большинство этих женщин было обмануто и покинуто. Другим доказательством в пользу чрезвычайно частых добрачных связей девушек является расцвет фабрикации искусственной девственности. Это «искусство» было известно уже Возрождению, а не только эпохе Рококо или нашему веку. Все аптекари и продавцы специй торговали тогда также и мазями и средствами, при помощи которых можно было завуалировать потерянную девственность, так что новый любовник или муж не только получал иллюзию, что он первый удостоился любви этой женщины, но и видел явные следы, подтверждавшие его уверенность. У Аретино можно прочесть грубоватое описание употребления такого «обновляющего девственность средства» и узнать по поводу этого, как невеста, достаточно сведущая в искусстве любви, сумела этим путем разбить самое основательное подозрение и прослыть образцом целомудрия. И, по-видимому, спрос на такие средства был очень велик, так как хронисты то и дело сообщают, что аптекари на них наживали значительные состояния. Поэтому не только аптекари и продавцы специй торговали такими средствами, а также бесчисленное множество шарлатанов, акушерок и даже странствующих студентов. В песне одного странствующего немецкого студента, относящейся к XV столетию, говорится: «Если девица потеряла свою невинность, то я состряпаю ей мазь». Мужчины в большинстве случаев прекрасно знали о распространенности таких фальсификаций и потому, желая удостовериться в нетронутости девушки, прибегали к разным волшебным средствам, пуская их незаметно в ход еще до свадьбы. Такие средства, призванные выяснить, является ли девушка еще невинной, были широко распространены. Приведем как единственный пример «воду гагат» (раствор смоляного угля). Об этом средстве в средние века говорили: «Если девушка выпьет эту воду и с ней ничего не случится, то она невинна, если же она после этого станет мочиться, то она уже не девушка». Так сами мужчины старались остаться в дураках! Ибо таким образом даже падшая женщина могла доказать, что она невинна. И, вероятно, женщины очень скоро поняли это. Вот что сообщает по этому поводу немецкий историк Блох: «…Из сочинений средневековых врачей мы знаем, что проститутки уделяли вообще много внимания гигиене половых органов. Так, в "Хирургии" Генриха Мондевилля (XIV век) сказано: "Половые органы женщин требуют двойного ухода: наружного и внутреннего. Внутренний уход необходим проституткам, испытанным в своем деле— особенно тем, у которых от природы или вследствие частых сношений вялая и мягкая вульва, — чтобы казаться девушками или по крайней мере не казаться публичными женщинами"». Если отсюда, с одной стороны, следует, какое большое значение придавалось тогда физической нетронутости девушки, то, с другой стороны, отсюда следует то, что предписание добрачного целомудрия тогда постоянно нарушалось. Отсюда необходимо сделать далее вывод, что часто женщина отдавалась будущему мужу еще до брака и что многие и многие порядочные девушки стыдливо носили «почетную корону целомудрия» (в день свадьбы), хотя раньше имели связь не с одним юношей в игре «метания копья в кольцо» (Ringestechen), как называют «турнир между мужчиной и женщиной, в котором мужчина остается победителем только тогда, когда захочет женщина». Так как путем приличного поведения и дешевых средств шарлатанов можно было, оставаться в общественном мнении девушкой, не будучи ею на самом деле, то больше всего боялись беременности, ибо только она влекла за собой опалу общества. Этот страх беременности очень трогательно выражается в целом ряде народных песен.

Благоразумная девица. Немецкая гравюра. XVII в.
Как пример приведем одну песню, относящуюся к XV в. и не забытую также и в продолжение всего XVI столетия, как видно из дошедших копий: «Споем мы вам новую песню о маленьком писаре, который посватался к невинной девушке, которую очень любил. Он подарил ей красную юбку. Зачем? Он хотел понравиться ей и получить разрешение спать в ее спальне. В полночь он постучался в дверь девушки, и дверь отворилась ему. И вот они покоятся рядом. Девушка спрашивает его: "А если родится ребенок, кто будет его отцом?"— "Дорогая, я позабочусь о ребенке, я дам ему золото и серебро и буду ему отцом!" И когда это случилось, отгадайте, чем все окончилось? Писарь покинул страну. Какой позор, не правда ли? И все-таки это бывало так часто». Неизвестный поэт прав: «Это бывало так часто». Каждый день случалось, что девушки оставались брошенными с ребенком на руках или под сердцем, а отец отправлялся на все четыре стороны — в «доброе старое время» чаще даже, чем теперь. У нас на этот счет достаточно данных. Ограничимся одним фактом. Выставив в своих статутах условием принятия в цех законность происхождения, мастера хотели избавиться самым простым для того времени средством от конкуренции, но если они постоянно пользовались этим, то это доказывает только, что число незаконнорожденных все возрастало. Так как это число было так велико, то «доброе старое время» не только торговало очень бойко испытанными средствами восстановления утраченной девственности, но и с большим успехом пускало в ход другое «искусство», а именно аборт. Да, и это тоже «часто бывало», чаще даже, чем воображают те, кто видят в наших предках образцы нравственности и целомудрия. Доказательством служит хотя бы длинный список средств, издавна практиковавшихся против «задержки кровей». Список таких «надежных» средств, рекомендовавшихся любой акушеркой девушкам, не желавшим обнаружить своего падения, был уже в эпоху Ренессанса чрезвычайно длинен. До нас дошел такой перечень, содержащий ровно 250 таких средств, обыкновенно настой из тех или других растений, вызывавший менструации. С некоторыми из них были связаны самые фантастические представления, так, например, «дип-там действует так сильно, что его нельзя положить даже на постель беременной». Одни средства были довольно невинного свойства, другие, напротив, чрезвычайно опасны. И однако, как раз последние пользовались особенной популярностью и величайшим доверием. Достаточно упомянуть о головнистой ржи или о донском можжевельнике. Об употреблении последнего у нас имеется наибольшее количество сведений.
Не действуй против божества влюбленных:
Какое бы ты средство не привлек;
Ты проиграешь битву, будь уверен.
Данте Алигьери
Она пошла в сад — сорвать можжевельник,
И сказать она только могла — дитя не умрет.

А. Бот. Бродяги в кабаке
Обычай «пробных ночей»
 уществовали целые классы, где добрачные половые связи женщины прямо санкционировались кодексом морали. Мы имеем в виду обычай «пробных ночей», преимущественно — заметьте, только преимущественно! — существовавший в деревне и распространенный во всей Европе. Совсем этот обычай никогда не исчезал и сохранился во многих местностях. Он восходит к давним временам и известен под разными названиями. Несмотря на древность этого обычая и на его распространенность, наши сведения о нем немногочисленны. Древнейшее его описание относится к XVIII в. и касается Швабии. Подробность этого обычая Фр. Г. Фишер описывает следующим образом в своей брошюре, посвященной этому вопросу:
«Почти во всей Германии, особенно в той части Швабии, которая именуется Шварцвальдом, среди крестьян существовал обычай, в силу которого девушки уступали своим ухажерам еще задолго до свадьбы права, принадлежащие обычно только мужьям. Но было бы совершенно неправильно думать, что эти девушки лишены женской нравственности и расточают свою любовь всем своим любовникам. Ничего подобного. Деревенская красавица умеет так же экономно распоряжаться своими прелестями и скрашивать редкие моменты наслаждения такой же сдержанностью, как и любая барышня, сидящая за туалетным столиком.
Как только деревенская девушка достигала зрелости, за ней начинали ухаживать парни, тем больше, чем больше у нее достоинств, пока они не заметят, что один из них пользуется ее особенными симпатиями. Тогда счастливец имеет право посещать ее по ночам. Однако он плохо соблюдал бы приличия, если бы вошел к ней через дверь. Деревенский этикет требовал, чтобы он совершал свои ночные визиты через окно под крышей.
Этот нелегкий подвиг давал возможность любовнику сперва только поболтать несколько часов с девушкой, лежащей в постели совершенно одетой, застрахованной против всех козней Эроса. Когда она засыпала, он был обязан покинуть ее, и только постепенно их беседа становилась откровеннее. Впоследствии девушка предоставляла ему возможность, среди всяческих шуток и забав в деревенском духе, удостовериться в ее скрытых прелестях, позволяла ему застать ее в легком одеянии и наконец разрешала ему все, чем женщину может удовлетворить чувственность мужчины. Но и теперь она соблюдала последовательность, хотя правила приличий не позволяют вдаваться в подробности. Многое можно угадать уже по самому названию "пробные ночи" хотя первые визиты назывались собственно "ночными посещениями" (Kommnachte).
Часто девушка отказывала любовнику в последнем доказательстве любви до тех пор, пока тот не прибегал к насилию. "Пробные ночи" устраивались каждый день, "ночные посещения" — только накануне праздников и во время праздников. Первые продолжались до тех пор, пока обе стороны не убеждались в своей пригодности к браку или пока девушка не забеременеет. Только после этого крестьянский парень официально сватался, и помолвка, а потом свадьба быстро следовали друг за другом. В тех деревнях, где господствовали патриархальные нравы, парень нечасто покидал беременную девушку. В противном случае он навлек бы на себя ненависть и презрение всей деревни. Зато очень часто бывало, что молодые люди расставались после первой или второй "пробной ночи". Девушка не рисковала потерять свою репутацию, так как вскоре появлялся другой парень, готовый снова начать с ней роман. Только если "пробные ночи" несколько раз подряд не приводили к браку, девушка могла попасть в двусмысленное положение. Деревенская публика считала себя тогда вправе предположить, что у нее есть какие-нибудь скрытые недостатки. Крестьяне считали этот обычай настолько невинным, что часто, когда священник спрашивал их о здоровье дочерей, они в доказательство того, что те растут и процветают, откровенно и с отеческой гордостью отвечали, что их дочки уже "принимают ночных посетителей"».
В своей брошюре Фишер приводит, кроме того, еще несколько более старинных документов, доказывающих существование этого обычая и в других местах. Так, в одном древнем документе сообщается: «У саксов существует отвратительный, законом признанный обычай, в силу которого жених сначала проводит ночь у невесты, апотом уже решает, женится ли он на ней или нет». Другой автор, Квардус из Кембриджа, говорит в своем описании Уэльса, что «прежде браки редко устраивались без предварительного соития, так как существовал обычай, в силу которого родители отдавали своих дочерей, причем деньги считались потерянными, если девушка отсылалась обратно домой».
В первой главе мы уже указывали, какое большое значение имеют для крестьянского хозяйства дети, что они даже главное условие его существования. В этой экономической необходимости и в некоторых характерных для крестьянства отношениях собственности лежит ключ к разгадке этого обычая, на первый взгляд не вяжущегося с прочей идеологией единобрачия.
В самом деле, каждая особенность этого обычая отражает отношения собственности данной местности, и прежде всего, конечно, особенности наследственного права. Это объясняет нам, далее, многочисленные различия в правовых последствиях, которые в разных местностях имели эти «пробные ночи» и «ночные посещения», почему в одной местности «проба» проводилась лишь накануне свадьбы, в другой местности половые отношения, сопутствовавшие ей, обязывали к заключению брака, а иногда такую принудительную силу имел лишь факт беременности и т. д.
уществовали целые классы, где добрачные половые связи женщины прямо санкционировались кодексом морали. Мы имеем в виду обычай «пробных ночей», преимущественно — заметьте, только преимущественно! — существовавший в деревне и распространенный во всей Европе. Совсем этот обычай никогда не исчезал и сохранился во многих местностях. Он восходит к давним временам и известен под разными названиями. Несмотря на древность этого обычая и на его распространенность, наши сведения о нем немногочисленны. Древнейшее его описание относится к XVIII в. и касается Швабии. Подробность этого обычая Фр. Г. Фишер описывает следующим образом в своей брошюре, посвященной этому вопросу:
«Почти во всей Германии, особенно в той части Швабии, которая именуется Шварцвальдом, среди крестьян существовал обычай, в силу которого девушки уступали своим ухажерам еще задолго до свадьбы права, принадлежащие обычно только мужьям. Но было бы совершенно неправильно думать, что эти девушки лишены женской нравственности и расточают свою любовь всем своим любовникам. Ничего подобного. Деревенская красавица умеет так же экономно распоряжаться своими прелестями и скрашивать редкие моменты наслаждения такой же сдержанностью, как и любая барышня, сидящая за туалетным столиком.
Как только деревенская девушка достигала зрелости, за ней начинали ухаживать парни, тем больше, чем больше у нее достоинств, пока они не заметят, что один из них пользуется ее особенными симпатиями. Тогда счастливец имеет право посещать ее по ночам. Однако он плохо соблюдал бы приличия, если бы вошел к ней через дверь. Деревенский этикет требовал, чтобы он совершал свои ночные визиты через окно под крышей.
Этот нелегкий подвиг давал возможность любовнику сперва только поболтать несколько часов с девушкой, лежащей в постели совершенно одетой, застрахованной против всех козней Эроса. Когда она засыпала, он был обязан покинуть ее, и только постепенно их беседа становилась откровеннее. Впоследствии девушка предоставляла ему возможность, среди всяческих шуток и забав в деревенском духе, удостовериться в ее скрытых прелестях, позволяла ему застать ее в легком одеянии и наконец разрешала ему все, чем женщину может удовлетворить чувственность мужчины. Но и теперь она соблюдала последовательность, хотя правила приличий не позволяют вдаваться в подробности. Многое можно угадать уже по самому названию "пробные ночи" хотя первые визиты назывались собственно "ночными посещениями" (Kommnachte).
Часто девушка отказывала любовнику в последнем доказательстве любви до тех пор, пока тот не прибегал к насилию. "Пробные ночи" устраивались каждый день, "ночные посещения" — только накануне праздников и во время праздников. Первые продолжались до тех пор, пока обе стороны не убеждались в своей пригодности к браку или пока девушка не забеременеет. Только после этого крестьянский парень официально сватался, и помолвка, а потом свадьба быстро следовали друг за другом. В тех деревнях, где господствовали патриархальные нравы, парень нечасто покидал беременную девушку. В противном случае он навлек бы на себя ненависть и презрение всей деревни. Зато очень часто бывало, что молодые люди расставались после первой или второй "пробной ночи". Девушка не рисковала потерять свою репутацию, так как вскоре появлялся другой парень, готовый снова начать с ней роман. Только если "пробные ночи" несколько раз подряд не приводили к браку, девушка могла попасть в двусмысленное положение. Деревенская публика считала себя тогда вправе предположить, что у нее есть какие-нибудь скрытые недостатки. Крестьяне считали этот обычай настолько невинным, что часто, когда священник спрашивал их о здоровье дочерей, они в доказательство того, что те растут и процветают, откровенно и с отеческой гордостью отвечали, что их дочки уже "принимают ночных посетителей"».
В своей брошюре Фишер приводит, кроме того, еще несколько более старинных документов, доказывающих существование этого обычая и в других местах. Так, в одном древнем документе сообщается: «У саксов существует отвратительный, законом признанный обычай, в силу которого жених сначала проводит ночь у невесты, апотом уже решает, женится ли он на ней или нет». Другой автор, Квардус из Кембриджа, говорит в своем описании Уэльса, что «прежде браки редко устраивались без предварительного соития, так как существовал обычай, в силу которого родители отдавали своих дочерей, причем деньги считались потерянными, если девушка отсылалась обратно домой».
В первой главе мы уже указывали, какое большое значение имеют для крестьянского хозяйства дети, что они даже главное условие его существования. В этой экономической необходимости и в некоторых характерных для крестьянства отношениях собственности лежит ключ к разгадке этого обычая, на первый взгляд не вяжущегося с прочей идеологией единобрачия.
В самом деле, каждая особенность этого обычая отражает отношения собственности данной местности, и прежде всего, конечно, особенности наследственного права. Это объясняет нам, далее, многочисленные различия в правовых последствиях, которые в разных местностях имели эти «пробные ночи» и «ночные посещения», почему в одной местности «проба» проводилась лишь накануне свадьбы, в другой местности половые отношения, сопутствовавшие ей, обязывали к заключению брака, а иногда такую принудительную силу имел лишь факт беременности и т. д.

Г. Гольциус. Аллегория сластолюбия
Этот обычай объясняется не одним только экономическим фактором, желанием узнать, годится ли женщина для деторождения, а также рядом других обстоятельств. Хотя последние и не содержат причину его возникновения, но они способствовали этому, упростили его существование, а также предопределили некоторые его формы. Одним из таких обстоятельств, имеющих особое значение для горных местностей, является разная роль, которую играют в процессе труда холостой парень и незамужняя девушка, роль, разъединяющая их на более продолжительное время, чем в других местах. В то время как мужчина был занят в горах рубкой леса, часто в отдаленных районах, девушка пасла скот на не менее отдаленном альпийском лугу. При таких условиях оба пола неизбежно должны были искать возможности для свиданий. Естественно, что это происходило ночью, в каморке девушки, так как только ночь освобождала парня и девушку от работы.
Жадный беден всегда. Знай цель и предел вожделения.Мы выше упомянули, что обычай «пробных ночей» и «ночных визитов» существовал преимущественно среди крестьянства. Но он был распространен в XV и XVI вв. также и среди городского бюргерства, по-видимому, во всей Европе. Один хронист сообщает, что итальянские горожанки разрешали своим возлюбленным «пробные ночи», причем те, однако, должны были воздерживаться, и что даже патриции не видели в этом ничего предосудительного. О существовании того же обычая в северной Франции говорит одно старофранцузское стихотворение, в котором обсуждается следующее: одна дама разрешила возлюбленному провести с ней ночь, но в полном воздержании. Вопрос гласит: кто из них приносит большую жертву? О существовании этого обычая в Германии есть точные сведения, так как они запротоколированы судебным производством и касаются известных исторических лиц. Речь идет о разбиравшихся на суде претензиях к Барбаре Леффельгольц, впоследствии жене знаменитого гуманиста Виллибальда Пиркхеймера, ее первого возлюбленного Зигмунда Штромера. В этом любовно-брачном деле, которое описал хранитель городской библиотеки в Нюрнберге Эмиль Рейке, напечатавший и объяснивший эти документы, речь шла о том, что истец, Зигмунд Штромер, требовал выполнения брачного обещания, данного ему Барбарой Леффельгольц. Прежняя его возлюбленная потом, однако, раздумала и отрицала это обещание. Так возникло довольно продолжительное дело, в котором с обеих сторон были выдвинуты свидетельства компетентных лиц. Во время этого процесса обсуждались и «пробные ночи». Именно в одну из таких ночей Барбара будто и дала обещание выйти замуж. Об этих ночах Рейке сообщает на основании документов: «Барбара должна была признаться, что она впускала истца по ночам в свою комнату, и, хотя она и утверждала, что он первоначально бывал у нее не более двух часов, ей было доказано, что она провела с ним по крайней мере шесть целых ночей. Обвиняемая не отрицала этого, но заявила, что ничего предосудительного в эти ночи не совершалось. Павел Имгоф и его жена — близкие родственники Барбары, в квартире которых она принимала визиты Зигмунда Штромера, — спокойно входили в комнату, по наивному обычаю времени, садились к ней на постель и спали в одной комнате с ней и с истцом. Один из молодых супругов, по-видимому, всегда присутствовал при ночных визитах Штромера в качестве блюстителя приличия. Этот вывод можно сделать из того, что Урсула Имгоф заявляла, что получила ключ от комнаты Барбары от нее самой. Впрочем, она их часто оставляла и одних». Прибавим в виде пояснения, что все эти ночные интимные посещения происходили в доме Гольцшуера, в одном из самых знатных патрицианских домов в Нюрнберге. Мартин Гольцшуер был дядей сироты Барбары Леффельгольц, а Павел Имгоф был его зятем, и в доме Гольцшуера молодые жили некоторое время. Прибавим далее, что в самом факте этих интимных ночей ни суд, ни компетентные лица не видели ничего предосудительного, и так как жалоба Зигмунда Штромера осталась без последствий, то они, стало быть, из этого не делали вывода, что Барбара Леффельгольц имела намерение впоследствии выйти за него замуж.Франческо Петрарка

Ночь любви. Гравюра на меди
Этот запротоколированный факт не оставляет никакого сомнения в том, что интересующий нас обычай был известен и весьма распространен и среди бюргерства. Только вступление носило у бюргерства менее романтический характер, так как любовник приходил не через окно под крышей и не какими-нибудь другими опасными для жизни путями, а в худшем случае черным ходом. И однако, несмотря на совпадение этого обычая у крестьян и у бюргерства, все же существовало значительное различие. Можно констатировать, что в разных местностях крестьяне устраивали своих достигших зрелости дочерей в возможно отдаленных комнатах. Отсюда следует, что здесь рано или поздно молодые люди в самом деле сходились, что они не проявляли никакой сдержанности, а удовлетворяли свою страсть с бешенством животных… В среде бюргерства этот обычай носил, по существу, иной характер и осуществлялся иначе; если девушка из этих кругов впускала к себе в комнату один или несколько раз симпатичного ей ухажера и даже в конце концов разрешала ему лечь с ней на одну постель, то это еще не значило, что молодые люди в самом деле сходились. Ибо каждое явление имеет свою собственную логику. А эта логика приводила к тому, что в бюргерской среде этот обычай был не более как примитивной и грубой формой флирта. Это доказывается не только целым рядом выражений, относящихся к этому обычаю, но и тем, что, как мы видим из процесса Барбары Леффельгольц, при этих ночных свиданиях присутствовала на краю постели dame de garde (дежурная дама). Разумеется, этот ангел-хранитель буржуазного кодекса приличий был настолько благоразумен, что неоднократно оставлял комнату, с той целью, чтобы дать больше простора интимным шуткам и забавам обоих флиртующих. Нарушение воздержания было довольно обычным явлением, и даже в «лучших семействах» в конце концов не довольствовались нежными ласками или удовлетворением эротического любопытства и т. д., а требовали всего и позволяли все. Жаждущие любви люди, одаренные здоровыми чувствами, просто не в силах устоять перед сильным искушением при таких благоприятных обстоятельствах. Это одинаково относилось как к юноше, так и к девушке. Отсюда следует, что девушка, практиковавшая «пробные ночи», часто бывала менее довольна мужчиной, исполнившим данное обещание, чем мужчиной, не сдержавшим своего слова, но оправдывавшимся тем, что при виде таких прелестей даже самые честные намерения тают, как воск в огне. Если в бюргерстве «пробные ночи» были не чем иным, как примитивной формой флирта, то у дворянства, где этот обычай также существовал, они служили не только флирту, но, как и у крестьянства, средством взаимного испытания. У дворянства эта традиция была известна с древних времен, так как все рыцарские героические легенды были полны подобными примерами. Мы находим их повсюду: в песне о Гудрун, в Парцифале, в легенде о Лоэнгрине, в песнях французских трубадуров и немецких миннезингеров, в испанских романсах. В песне о Гудрун о помолвке короля карадинов с сестрой Гервига говорится: «Она сдалась не без колебаний, как обычно поступают девушки. Ему предложили ее любовь, и витязь молвил: "Она мне нравится, я постараюсь ей так служить, что меня найдут на ее ложе". Рыцарь и девушка помолвились и с нетерпением ожидали пришествия ночи: тогда оба они испытали тайное блаженство». «Испытание» Эльзы Брабантской в «Лоэнгрине» описывается следующим образом: «Когда Эльза Брабантская, эта прекрасная, целомудренная девушка, была ночью приведена к князю, которому она была люба, императрица сама сопровождала ее к постели. Комната была разукрашена коврами, кровать блистала красным золотом и богатыми шелками. Одеяла были затканы разными животными. На это ложе легла девушка, чтобы испытать сладость любви. Пришел и император, приказал прислуге покинуть комнату и простился с молодыми. Девушку раздели, и витязь прижал ее к себе крепко и нежно. Больше я ничего не скажу, скажу только, что он нашел то, чего искал». О таком добрачном половом общении между благородной дамой и рыцарем свидетельствуют также многочисленные народные песни. Как на пример мы укажем на заключительные стихи старонемецкой поэмы «Сокол», облекающие в самые простые слова самую интимную тему: «Он сел к ней на траву и сделал ей сладко-больно. Он искал любви и нашел ее. Сладкая любовь обоих связала». Существование «испытания» в дворянской и княжеской среде доказывается не только изящной литературой, но и документальными данными. Так, император Фридрих III после помолвки с принцессой Леонорой Португальской получил от ее дяди, короля неаполитанского Альфонса, послание, в котором тот предлагал ему немедленно же подвергнуть племянницу «испытанию», потому что если оно состоится в Германии и если молодая дама не окажется во вкусе императора, то родне придется заплатить за ее дорогостоящую «обратную доставку». Вот соответствующее место этого письма: «Ты увезешь мою племянницу в Германию, и если она тебе не понравится, то ты ее пошлешь обратно или бросишь ее и женишься на другой, поэтому устрой брачную ночь уже здесь, чтобы, если она тебе понравится, ты мог бы ее взять с собою как приятный товар, а если нет, то оставить ее нам как обузу». В нашем распоряжении имеется даже документальное указание на неудачное княжеское «испытание». Мы имеем в виду «испытание», устроенное в продолжение полугода графом Иоганном IV Габсбургским Герцлауде фон Раппольдштейн в 1378 г. В данном случае вина была его. «Испытание» окончилось безуспешно, так как, по заявлениям дамы, на которой должен был жениться граф Габсбургский, последний в продолжение шести месяцев не обнаружил своей мужественности. Этот отрицательный результат был оформлен, и бумага передана даме, очевидно, чтобы не уронить ее в глазах других возможных претендентов. Что девушка полгода находилась в самом щекотливом положении, не порочило ее чести по тогдашним княжеским представлениям; ее честь была бы запятнана только в том случае, если бы претенденту удалось достигнуть своей цели. Подобные документы, конечно, куда важнее описаний, встречающихся в героических сказаниях. Из этих примеров ясно видно, какое принципиальное различие существовало между «пробной ночью» и официальным «разделением ложа»; видно, что первое в тех случаях, когда речь шла не только о государственных интересах, но и об индивидуальном наслаждении, всегда предшествовало второму, помолвке и бракосочетанию. Нет ничего удивительного, что обычаи дворянской и княжеской среды совпадали с обычаями крестьянства. И там и здесь действовали аналогичные интересы. В среде дворянства и князей главная цель брака — потомство, обязанное сохранять наследство и род.

Формы взаимного ухаживания
 конце средних веков формы взаимного ухаживания носили очень примитивный характер. Оба пола выражали друг другу свою симпатию недвусмысленными грубыми прикосновениями. Не только глаза, но и руки имели полную свободу действия. Разумеется, крестьянин поступал откровеннее и грубее дворянина или бюргера, с другой стороны, немецкое дворянство вело себя менее галантно, чем итальянское и испанское.
В старонемецком романе «Ruodlieb», изображающем вещи со свойственной средним векам откровенностью, встречаются места, характеризующие грубые приемы ухаживания крестьян. Укажем здесь лишь на следующую сцену. Дерзкий парень, названный автором «рыжим» за его огненно-красные волосы, заходит к немолодому уже крестьянину, женившемуся вторично, после смерти первой жены, на молоденькой, хорошенькой девке. При виде молодой пышногрудой крестьянки в страннике пробуждается желание ею обладать, и он придумывает соответствующий план. Желая усыпить ревность старика, он объявляет себя двоюродным братом его жены. Молодая крестьянка, которой крепкий парень пришелся чрезвычайно по вкусу, соглашается на эту мистификацию, и между ними завязывается беседа, в которой он намекает ей на свое желание, а она выражает согласие. Надо ждать ночи, когда старик заснет. Однако ничто не мешает получить и дать между тем несколько авансов. И молодые люди не мешкают. Не успел старик выйти на мгновение из комнаты, как они уже использовали момент. «Una manus mammas tractabat et altera gambas, quod celabat ea super expandendo, crusena»[68]. И так как это вполне во вкусе молодой крестьянки, то она распускает свое платье, так что «рыжий» даже в присутствии мужа может до известной степени продолжить свою любовную забаву.
конце средних веков формы взаимного ухаживания носили очень примитивный характер. Оба пола выражали друг другу свою симпатию недвусмысленными грубыми прикосновениями. Не только глаза, но и руки имели полную свободу действия. Разумеется, крестьянин поступал откровеннее и грубее дворянина или бюргера, с другой стороны, немецкое дворянство вело себя менее галантно, чем итальянское и испанское.
В старонемецком романе «Ruodlieb», изображающем вещи со свойственной средним векам откровенностью, встречаются места, характеризующие грубые приемы ухаживания крестьян. Укажем здесь лишь на следующую сцену. Дерзкий парень, названный автором «рыжим» за его огненно-красные волосы, заходит к немолодому уже крестьянину, женившемуся вторично, после смерти первой жены, на молоденькой, хорошенькой девке. При виде молодой пышногрудой крестьянки в страннике пробуждается желание ею обладать, и он придумывает соответствующий план. Желая усыпить ревность старика, он объявляет себя двоюродным братом его жены. Молодая крестьянка, которой крепкий парень пришелся чрезвычайно по вкусу, соглашается на эту мистификацию, и между ними завязывается беседа, в которой он намекает ей на свое желание, а она выражает согласие. Надо ждать ночи, когда старик заснет. Однако ничто не мешает получить и дать между тем несколько авансов. И молодые люди не мешкают. Не успел старик выйти на мгновение из комнаты, как они уже использовали момент. «Una manus mammas tractabat et altera gambas, quod celabat ea super expandendo, crusena»[68]. И так как это вполне во вкусе молодой крестьянки, то она распускает свое платье, так что «рыжий» даже в присутствии мужа может до известной степени продолжить свою любовную забаву.
…Наслаждение — это благо, к которому повсюду стремятся и которое заключается в удовольствии души и тела…Если в деревенских кругах, как видно из этого примера, ухаживание отличалось прямо грубостью[69], то и бюргерство и дворянство были еще далеки от всякой утонченности. Обе стороны всегда прямо направлялись к «конечной цели». Флирт, конечно, был распространен, его разрешали и им пользовались, но обычно им не ограничивались. Мужчина всегда пользовался случаем «взять плохо защищаемую крепость», как тогда выражались. Словом, обе стороны, в принципе, предпочитали кратчайший путь[70]. Более утонченные формы ухаживания и любви встречаются лишь среди куртизанок (как и в древности). Куртизанки знали, что в этом их главная притягательная сила в глазах мужчин[71]. И они высмеивали дам, не доросших до их конкуренции. Римские куртизанки, например, издеваясь, говорили о благородных римлянках, что они, правда, всегда готовы отдаться, но не понимают даже утонченности, которую придает любви речь. «Chiavono come cani, mа sono quiete della bocca, come sassi»[72]. Чем больше развивалось денежное хозяйство, тем многочисленнее становился слой общества, имевший возможность жить исключительно для наслаждения. Вместе с тем само наслаждение, и прежде всего наслаждение в любви, получало все более утонченную форму. «Порядочные» дамы стали не только понимать действие циничных слов в любви, но и использовать бесчисленные приемы, с помощью которых можно усилить любовное наслаждение. Законные жены, которые когда-то отдавались любви, как «бревна», стали превосходить самих куртизанок, так что, по словам современников, «было гораздо приятнее любить благородную даму» или «с благородной дамой вступить в турнир любви», чем с опытнейшими жрицами любви, «так как первые отличаются большими достоинствами ума и воспитания, а в искусстве любви не уступают последним». Брантом пишет по этому поводу: «Что касается наших хорошеньких француженок, то в прежние времена они все были очень неловки и отличались неуклюжей манерой любить. Однако за последние пятьдесят лет они научились у других наций стольким тонкостям и изысканностям, переняли у них такие ухищрения и обычаи, а может быть, и сами всему этому научились, что ныне превосходят в этом отношении все нации. Я слышал и от иностранцев, что в этом пункте они заслуживают преимущество. К тому же циничные слова звучат на французском языке гораздо приятнее, сладострастнее и гораздо более возбуждают, чем те же слова на других языках». Нации, у которых учились француженки, были испанцы и итальянцы, а французы в свою очередь стали отныне учителями немцев. Коснуться рукой груди хорошенькой женщины, притом при всех, было первым актом преклонения перед ней, и этот прием встречается повсеместно. Так делали при каждом удобном случае, в особенности во время танца. Такой шутливый жест нисколько не предполагал более интимных отношений, наоборот, он сам часто становился началом более близкого знакомства. Отсюда следует, что такое поведение тогда не казалось предосудительным, а считалось вполне естественным. Поэтому и женщина — если только была недурна — видела в этом не оскорбление, а лесть и комплимент, и притом вполне законные. И если она обладала красивой грудью, то она не очень и противилась этим жестам мужчины, а если и противилась, то больше для вида, или ради вящей пикантности, или прямо для того, чтобы дать возможность оценить ее прелести лучше, чем позволяла господствовавшая мода. О распространенности и популярности этого метода свидетельствует процитированная выше рифмованная проповедь Мурнера. Мужчина позволял себе подобные комплименты действием, если женщина побуждала его к этому и это ей нравилось. Эта тенденция объясняет другую: завоевание земной жизни обусловливает культ физического, культ тела обусловливает (по отношению к женщине) культ груди, культ груди — культ ее наготы, а этот последний — соответствующую ему форму признания мужчиной, ценящим телесную красоту выше всего. В «Spiel von Jungfrauen und Gesellen»[73] одна из девушек говорит: «Выслушайте теперь и меня. Из меня хотели сделать монашенку… Но по утрам я не люблю поститься и потому позволяю молодцам трогать меня. Я предпочитаю вино воде и потому не гожусь в монастырь». В одной эпиграмме Клемана Маро говорится: «Прекрасная Катарину воспламенила мое сердце. Шаловливо опустил я руку за ее корсаж, пока не воспламенилась и она». Особенно откровенны, разумеется, проповедники-моралисты, ополчавшиеся против безнравственности века. Гейлер из Кайзерсберга говорит в своей известной проповеди, представляющей переделку «Корабля дураков» Себастьяна Бранта: «Третий грех — любить касаться голого тела, т. е. хватать женщину и девушку за грудь. Некоторые люди думают, что если они разговаривают с женщиной, то непременно должны схватить за грудь. Это большая нравственная разнузданность». От Брантома мы узнаем из многочисленных приводимых им исторических примеров, что и высшие круги относились весьма неравнодушно к таким удовольствиям. Целую главу он посвящает теме «О касаниях в любви». Глава начинается словами: «Если говорить о касании, то надо признаться, что оно очень приятно, ибо завершение любви — наслаждение, а последнее невозможно без того, чтобы не касаться любимого предмета».Лоренцо Валла

Г. Гольциус. Любовь. XVI в.
Разумеется, ограничивались не одной только грудью. Гриммельсхаузен рассказывает о своем герое Симплициссимусе, что он должен был ежедневно искать блох у жены полковника, так как ей было приятно, когда молодой парень касался ее груди и других частей тела. Брантом сообщает разные случаи из придворного общества, когда дамы давали придворным кавалерам возможность касаться всего их тела и удостовериться таким образом в реальности их интимнейших прелестей. Английские придворные хронисты, например Гамильтон, говорят нам о таких же фактах из жизни английского двора и т. д. В пластическом искусстве, в рисунках и картинах изображение грубого прикосновения мужчин к женской груди — один из излюбленнейших мотивов. Все протягивали руку к этим заманчивым плодам любви: юноша, мужчина, старик. Это была первая победа юноши, ежедневная пища мужчины, последнее утешение старца. Влюбленный, как мужик, так и дворянин, обычно опускал руку за корсаж возлюбленной и не мог достаточно насладиться этой игрой. Он исследовал упругость, пышность, величину, форму, красоту ее груди. Если парень хотел обнять девушку, он одной рукой брал ее за грудь, другой за талию. Ландскнехт и мужик, сидящие в трактире, поступали так же. Каждая женская грудь, еще не отцветшая, пользовалось таким почетом. Когда с ней влюбленный старик, то женщина может даже и открыто опустошать его карманы, так как все равно платить за любовь он может уже только одной лишь монетой. Наслаждаясь красотой расцветающей девушки, забавляясь пышной прелестью зрелой женщины, старик спокойно смотрит, как она вытаскивает деньги из его мешков и считает их на столе. Последнее положение — это часто и сатирическая форма изображения брака между стариком и молодой девушкой. Изображая «блудного сына» в компании падших женщин, расстегивающим сразу двум из них корсаж, или старика, удовлетворяющим свою бессильную похоть созерцанием раскрытой пышной женской груди, художник вместе с тем изображает предмет, манящий к «грезе», с таким вдохновением и восторгом, что поступок как «блудного сына», так и старика кажется вполне естественным. Другой темой литературы и искусства служит тот факт, что вместе с деньгами исчезает и женская любовь. В старой немецкой народной песне говорится: «Моя милая улетела, как пташка, на зеленую ветвь. Кто будет со мною коротать длинные зимние ночи? Моя милая заставляла меня сидеть рядом с собой и смотрела через мое плечо на мой кошелек. Пока в нем были деньги, она меня ценила, а когда они вышли, погасла и любовь. Моя милая написала мне письмо, в котором говорит, что любит другого и забыла меня. Что она меня забыла, не очень-то печалит меня. Пусть потеряно, что нельзя удержать. Мало ли на свете хорошеньких девушек». В живописи мораль этой истории изображалась обычно так: мужчина, за которым недавно еще нежно ухаживали, бесцеремонно выставлялся на улицу. Само собой понятно, что во всех странах снисходительные девицы и женщины, охотно позволяющие дерзкому молодцу всевозможные вольности, пользовались большим спросом, чем сдержанные, отказывающие ему в них. Не одна строго нравственная девушка заплатила за свою сдержанность тем, что любовник бросил ее, предпочитая ей другую, которая охотно отдавала прелести своего тела в его власть за право хозяйничать в его кошельке. В стихотворной пьесе «Die Egon» выступает такая девушка, покинутая за свою скромность, и говорит: «У меня был жених, обещавший на мне жениться. Но прошло уже около четырнадцати недель, и он не хочет исполнить своего обещания. Другая отбила его у меня. Она позволяет ему трогать ее, а сама в это время занимается его кошельком. Хорошо это не закончится». Было бы неверно думать, что женщина, чтобы завоевать мужчину, не предпринимала для этого никаких действий. Главным средством для достижения этой цели была мода. Женщина слишком хорошо знала гипнотизирующее воздействие своих ног и еще более — интимных прелестей, хотя бы зрелище длилось всего секунду, другими словами, она скоро угадала, что мужчина любит глазами. Декольтирование снизу вверх достигалось в эпоху Ренессанса главным образом путем танца или игр, главная прелесть которых состояла часто в возможно большем оголении женщины. Ограничимся здесь этим простым указанием, так как танцу и играм будет посвящено детальное описание в главе об общественных развлечениях. По этому поводу Вейс сообщает: «…B 1491 г. по примеру королевы Анны, гордившейся красотой своих ног, юбки разрезались по бокам почти до самого колена. Если раньше в такой юбке ноги закрывались нижним платьем, то теперь и его приподнимали…» Хронисты разных стран сообщают нам, что женщина охотно сама старалась очутиться в щекотливом положении или охотно позволяла друзьям застигать ее в таком положении. В такой ситуации она оставалась часто очень долго, «чтобы убедиться, что мужчина удостоверился в ее прелестях и в ее красоте». Примеры можно найти в новеллах королевы Наваррской, у Брантома и почти у всех современных новеллистов. Брантом пишет: «Часто дамам доставляет удовольствие показываться нам без помех, так как они чувствуют себя безупречными и убеждены, что могут нас воспламенить». О многих благородных дамах французского двора сообщается далее, что они позволяли кавалерам исполнять при них обязанности камеристок. Так, они особенно охотно разрешали им надевать себе чулки и башмаки, так как это, по словам одной французской рукописи XVI в., дает «влюбленным дамам самый удобный случай показать мужчинам, которые им нравятся, те прелести, которые иначе они не могли бы обнаружить». Далее в этой рукописи говорится: «Дамы исходят при этом еще из той мысли, что мужчина с темпераментом никогда не упустит такого случая, чтобы не позволить себе некоторые вольности». С другой стороны, в этой ситуации дама всегда может помешать мужчине зайти в его галантных предприятиях дальше, чем «им позволяют их совесть и честь».

С. Сапредам. Лот развратничает со своими дочерьми. Гравюра на меди. 1597 г.
Также Брантом пишет: «Некогда я знавал весьма красивую и достойную девицу, которая, влюбившись в одного знатного сеньора, пожелала привлечь его к себе, дабы получить от него и пользу и удовольствие, но никак не могла своего добиться; вот однажды, проходя по аллее парка и завидев издали предмет своей любви, она притворилась, будто у нее распустилась подвязка, и, отойдя немного в сторону, подняла юбку и стала возиться с башмаком и натягивать ленты. Этот знатный сеньор пристально на нее поглядел, нашел, что ножка ее весьма недурна, и так увлекся созерцанием, что не заметил, как ножка произвела то, чего не смогло сделать красивое лицо девицы; он рассудил про себя, что такие стройные колонны поддерживают, наверно, не менее прекрасное здание…» В другом сочинении говорится: «В наше время найдется немного дам, которые не оказали бы подобных знаков милости не только друзьям, но даже и чужим. Некоторые уступали это право ухажеру уже по прошествии нескольких дней, так как женщины говорят: "Глаза и руки друга еще не делают мужа рогоносцем". И потому они предоставляют рукам и глазам друзей величайшую свободу… Есть немало благородных дам, относительно которых многие придворные кавалеры могут похвастать, что имеют представление об их тайных прелестях, и, все же, эти дамы считаются образцами нравственности и добродетели». Эта наиболее смелая форма эксгибиционизма представляла своего рода спорт, которым увлекались и приличные дамы. Эта форма позволяла им, по крайней мере в воображении, праздновать оргии. Подобные вольности разрешали кавалерам и незамужние девушки. И прежде всего, холостым кавалерам, которых хотели заставить сделать предложение. «Не одна благоразумная дама сумела тем, что ловко позволяла претенденту на ее руку удостовериться в ее красоте, крепче приковать к себе, чем при помощи влюбленных взглядов и остроумнейших слов». К тому же это было и безопасно, так как — говорили люди — «от взглядов еще не забеременела ни одна девушка». Напротив, если слава ее интимных прелестей переходила из уст в уста, то это в значительной степени повышало шансы дамы на успех. О тех женщинах, которые отказывали в таких пустяках, всегда ходил слух, что им нужно скрывать тайные пороки, которые неминуемо вызовут отвращение, как только о них узнают. Этот факт удостоверен и Брантомом в главе о «зрении в любви». При таких условиях немудрено, если мужчина, настолько несообразительный, что не понимал, чего хочет женщина, протягивая ему галантно ногу или требуя от него услуг камеристки, подвергался жесточайшим насмешкам. В эту эпоху путешествовали редко, особенно женщины. Если же обстоятельства вынуждали к этому, то люди за все время путешествия находились в большой тесноте. Если в путь отправлялась женщина, то, конечно, не только с мужем или братом, а также часто с другом или знакомым, потому что опасность дороги заставляла ее даже в случае недалекого путешествия заручиться защитником. Так как дороги были плохие, то повозки не годились для путешествия, к тому же это обходилось дороже и занимало больше времени. Поэтому предпочитали обычно ездить верхом. Если путешествовала дама, то она садилась или спереди, или сзади своего спутника на того же коня. Знатные дамы отправлялись так же и на охоту. Таким образом дама и ее спутник находились в течение целых часов в интимной близости. Мужчине к тому же часто приходилось поддерживать женщину там, где дорога пересекалась рытвинами или рвами. Так естественно, что желание водило часто рукой мужчины — и, конечно, и женщины! — если только они были добрыми друзьями или стали ими во время путешествия. Начиная с миннезингеров и заканчивая новеллистами, мы узнаем то и дело, что всадник порывисто прижимал к себе и нежно ласкал хорошенькую девушку из знати или здоровую крестьянку. Таково содержание очень грубого рассказа, записанного в XV в. Августом Тюнгером (речь идет о крестьянке и попе); аналогичный случай сообщает циммернская хроника, также возникшая в XV в., где речь идет уже о знатной даме, часто совершавшей недалекие путешествия, которые она использовала для флирта. Аналогичными привилегиями часто пользовались гости и посетители. Считалось почти честью для себя, если желанный гость через короткое время «вступал врукопашную» с женой или взрослой дочерью хозяина. Когда гость пользовался особенным почетом, то хозяйка нередко спешила послать ему для времяпрепровождения хорошенькую дочку. А гость доставлял дому честь, если находил дочку хорошенькой и оказывал ей внимание, которое не ограничивалось одними поцелуями, и все же это никому не казалось предосудительным. Еще со средних веков существовал обычай, о котором сообщают нам миннезингеры и хронисты: посылать на ночь знатному гостю красивую служанку или достигшую зрелости дочь, а порой эта роль выпадала и на долю самой хозяйки. Этот обычай назывался «отдать жену по доверию». В своем «Gauchmatt» Мурнер упоминает об этом обычае как о существовавшем еще в XVI в. в Нидерландах: «В Нидерландах еще держится обычай, в силу которого хозяин, если у него есть дорогой гость, посылает к нему жену по доверию».

Барр. Продажная любовь. Гравюра XVII в.
Как охотно исполняли женщины эту роль, когда речь шла о красивом госте, так как он наилучшим образом оправдывал «доверие» — конечно, не мужа, а жены, — видно из французской рыцарской поэмы, где жена должна отказаться от этой роли ради красивой служанки, так как ее муж еще не спит и, по-видимому, не поклонник этого обычая. Вот это место: «Графине было приятно иметь такого гостя. Она приказала изжарить для него жирного гуся и поставить в его комнате роскошную постель, на которой любо было растянуться. Отправляясь спать, графиня призвала самую красивую и благовоспитанную из своих служанок и сказала ей украдкой: "Дорогое дитя, пойди к нему и служи ему как подобает. Я сама бы охотно пошла, да не хочу этого сделать из стыдливости перед графом, моим господином, который еще не заснул"».

Дворянин и дворянка верхом. ХV в.
Были, впрочем, и такие гости, которые оправдывали доброе доверие мужей, но их было не очень много. Гартман фон дер Ауе говорит о наблюдениях, сделанных им в Германии: «Надо признаться, таких людей не очень-то много». Насколько эпоха находила флирт естественным, видно по тому, что его всячески поощряли. В Аугсбурге, например, еще в середине ХУЛ в. существовал обычай давать жениху и невесте возможность беспрепятственно удовлетворять свои желания. Один хронист говорит: «Если жених посещал невесту, им отводили особый стол в углу комнаты и загораживали его испанскими ширмами так, чтобы они были одни». Жениху и невесте даже разрешалось открыто обмениваться откровенными нежностями. Однако не обязательно было для этого быть женихом и невестой. Приведенный выше процесс Барбары Леффельгольц служит тому доказательством. Прекрасная Барбара, правда, утверждала, что во время ночных визитов Штромера «ничего особенного» не происходило, но надо думать, что она хотела сказать, что не произошло только самого главного. Как в этом частном случае, так и вообще во время ночных посещений происходило весьма многое. Этот обычай служил как в городе, так и в деревне прежде всего удовлетворению эротического любопытства и обмену грубоватыми нежностями. Необходимо еще раз это подчеркнуть. Смелые жесты были единственной беседой между молодыми людьми с того момента, как девушка впускала в свою каморку парня. Только ради этой цели приходил он, только этого ждала от него она, и потому оба играли свою роль соответствующим образом: одни с большим темпераментом, другие с большей утонченностью, третьи с большей неловкостью. Но всегда происходило одно и тоже. В этом общении не было ничего духовного, ничего душевного, царила одна животная чувственность. Немецкое выражение «In Zucht und Ehren» («По чести и приличию») значило только, что ограничивались допустимыми нежностями. В эпоху Ренессанса придерживались мнения, что в юности мужчина и женщина имеют полное право на подобные удовольствия. Оспаривать внутреннюю логику таких интимных визитов может только историк с предвзятой точкой зрения, ибо это значит не более, как превратить поколение пышущих здоровьем людей произвольно в жалкую компанию хилых стариков, страдавших размягчением спинного мозга. Эти грубые формы взаимного флирта стали более утонченными в эпоху Ренессанса. По мере того как под влиянием новых экономических сил богаче становилась общая культура, одухотвореннее становилась и любовь, все более превращаясь в искусство. Она постепенно переставала быть простой стихийной силой, возвышаясь до уровня сознательного, оформленного переживания. Конечно, эти изменения происходили не во всех слоях общества, например, крестьянство и мелкое дворянство пребывали по-прежнему в состоянии животной грубости, но зато тем более это наблюдалось у буржуазии, развивавшейся вместе с торговлей.

«Ты должна быть целомудренной». Иллюстрация к шестой заповеди. Из книги заповедей XV в.
Брак и верность
 рак считался в XV и XVI вв. высшим состоянием. Быть холостым или старой девой считалось, напротив, пороком, и к таким людям относились как к заклейменным. Поэты и писатели без удержу прославляют брак. На всех языках, в самых разнообразных видах раздается гимн в его честь: «На брачном ложе спится мягче всего». Кто живет в браке, тому открыты в будущем небеса, остальным грозит ад. Это постоянное восхваление брачной жизни имеет свои естественные причины. Развившаяся индустрия нуждалась в людях, в рабочих руках, в покупателях. Абсолютная княжеская власть нуждалась в солдатах. Чем больше людей, тем лучше. С другой стороны, росту населения противодействовали сильнейшие преграды. Если в средние века население не увеличивалось благодаря усилению могущества церкви — вместе с последним росло число монастырей и их обитателей, живших в принудительном безбрачии, — то теперь на. сцену выступили еще более опасные факторы.
Вместе с новым хозяйственным порядком родились и его страшные спутники — чума, алкоголизм, сифилис. Распространявшаяся во все стороны торговля создавала условия, придававшие болезням эпидемический характер. Они не только сокращали население, главным образом его мужскую половину, так как мужчины легче подвергались заболеванию — во время путешествий, посещения домов терпимости и т. д. — и им первыми приходилось расплачиваться за новый экономический порядок. Убыли мужского населения способствовали также учащавшиеся распри и походы. При таких условиях безбрачие становилось все более открытой социальной опасностью, каждый холостяк — прямым врагом общества.
Вот почему люди вдруг открыли моральные преимущества брака и усмотрели высшую его форму в возможно многодетном браке. Так как эта экономическая потребность совпадала с основной чувственной тенденцией века, то действительность совпала с этой важнейшей идеологией. Семьи с дюжиной детей были тогда не редкостью. От брака Виллибальда Пиркхейма с Барбарой Леффельгольц произошло тринадцать детей, аугсбургский хронист Буркхарт Цинк, дважды женатый, имел восемнадцать детей, отец Альбрехта Дюрера — столько же, у Антона Тухера было одиннадцать, папский секретарь Франческо Поджо оставил также восемнадцать признанных им детей, среди них четырнадцать незаконных. В некоторых и довольно многочисленных семьях число детей доходило и превышало цифру двадцать.
Если брак считался важнейшим учреждением, то речь шла всегда только об одной форме брака, а именно о патриархальной семье. Муж признавался неограниченным властителем. Этого требовала организация ремесленного производства, принуждавшая каждого подмастерья и каждого ученика «протянуть ноги под стол мастера», т. е. все участвовавшие в производстве были прикованы к дому мастера. Рядом с авторитетом в мастерской должен был стоять авторитет в семье. Прославляя брак, прославляли вместе с тем и все, что было в интересах безусловного господства в браке мужчины. «Муж да будет утешением и господином жены», «муж да будет хозяином ее тела и состояния», «женщина да слушается советов мужа и поступает как женственная женщина по его воле». Даже его возможной грубости жена обязана противопоставить тем большую кротость[74].
«Если он кричит, она да молчит, если он молчит, она пусть с ним заговорит. Если он сердит, она да будет сдержанна, если он взбешен, она пусть будет тиха и т. д.»
Кротость жены должна идти даже так далеко, чтобы стерпеть измену мужа. И даже когда это происходит у нее в доме, она должна молчать. Если муж ухаживает за молодой служанкой, она обязана делать вид, будто ничего не замечает, «если же она уличит их, то она пусть прогонит эту похотливую дрянь, дабы предотвратить худшее несчастие». Вместе с тем она обязана наставить мужа добрым словом на путь истинный, ибо уже тогда во всем всегда была виновата «похотливая дрянь». И по-прежнему жена обязана видеть в муже своего господина.
рак считался в XV и XVI вв. высшим состоянием. Быть холостым или старой девой считалось, напротив, пороком, и к таким людям относились как к заклейменным. Поэты и писатели без удержу прославляют брак. На всех языках, в самых разнообразных видах раздается гимн в его честь: «На брачном ложе спится мягче всего». Кто живет в браке, тому открыты в будущем небеса, остальным грозит ад. Это постоянное восхваление брачной жизни имеет свои естественные причины. Развившаяся индустрия нуждалась в людях, в рабочих руках, в покупателях. Абсолютная княжеская власть нуждалась в солдатах. Чем больше людей, тем лучше. С другой стороны, росту населения противодействовали сильнейшие преграды. Если в средние века население не увеличивалось благодаря усилению могущества церкви — вместе с последним росло число монастырей и их обитателей, живших в принудительном безбрачии, — то теперь на. сцену выступили еще более опасные факторы.
Вместе с новым хозяйственным порядком родились и его страшные спутники — чума, алкоголизм, сифилис. Распространявшаяся во все стороны торговля создавала условия, придававшие болезням эпидемический характер. Они не только сокращали население, главным образом его мужскую половину, так как мужчины легче подвергались заболеванию — во время путешествий, посещения домов терпимости и т. д. — и им первыми приходилось расплачиваться за новый экономический порядок. Убыли мужского населения способствовали также учащавшиеся распри и походы. При таких условиях безбрачие становилось все более открытой социальной опасностью, каждый холостяк — прямым врагом общества.
Вот почему люди вдруг открыли моральные преимущества брака и усмотрели высшую его форму в возможно многодетном браке. Так как эта экономическая потребность совпадала с основной чувственной тенденцией века, то действительность совпала с этой важнейшей идеологией. Семьи с дюжиной детей были тогда не редкостью. От брака Виллибальда Пиркхейма с Барбарой Леффельгольц произошло тринадцать детей, аугсбургский хронист Буркхарт Цинк, дважды женатый, имел восемнадцать детей, отец Альбрехта Дюрера — столько же, у Антона Тухера было одиннадцать, папский секретарь Франческо Поджо оставил также восемнадцать признанных им детей, среди них четырнадцать незаконных. В некоторых и довольно многочисленных семьях число детей доходило и превышало цифру двадцать.
Если брак считался важнейшим учреждением, то речь шла всегда только об одной форме брака, а именно о патриархальной семье. Муж признавался неограниченным властителем. Этого требовала организация ремесленного производства, принуждавшая каждого подмастерья и каждого ученика «протянуть ноги под стол мастера», т. е. все участвовавшие в производстве были прикованы к дому мастера. Рядом с авторитетом в мастерской должен был стоять авторитет в семье. Прославляя брак, прославляли вместе с тем и все, что было в интересах безусловного господства в браке мужчины. «Муж да будет утешением и господином жены», «муж да будет хозяином ее тела и состояния», «женщина да слушается советов мужа и поступает как женственная женщина по его воле». Даже его возможной грубости жена обязана противопоставить тем большую кротость[74].
«Если он кричит, она да молчит, если он молчит, она пусть с ним заговорит. Если он сердит, она да будет сдержанна, если он взбешен, она пусть будет тиха и т. д.»
Кротость жены должна идти даже так далеко, чтобы стерпеть измену мужа. И даже когда это происходит у нее в доме, она должна молчать. Если муж ухаживает за молодой служанкой, она обязана делать вид, будто ничего не замечает, «если же она уличит их, то она пусть прогонит эту похотливую дрянь, дабы предотвратить худшее несчастие». Вместе с тем она обязана наставить мужа добрым словом на путь истинный, ибо уже тогда во всем всегда была виновата «похотливая дрянь». И по-прежнему жена обязана видеть в муже своего господина.

Борьба из-за брюк. Анонимная гравюра
Женщина, не желавшая подчиняться этим законам, казалась эпохе величайшей преступницей. Образу мышления Ренессанса вполне соответствовало право, предоставленное мужу, телесно наказывать жену, если она систематически не покорялась его власти. Уже Рейнмар фон Цветер советует мужу следующим образом поступить с упрямой женой: «Брось ласковость и возьми в руку дубину и испробуй ее на спине, и чем чаще, тем лучше, со всей силой, чтобы она признала в тебе своего господина и забыла бы свою злость». Вот единственный способ «укрощения строптивой». В некоторых, в XVI в. очень распространенных, поговорках мужьям рекомендуются аналогичные и даже еще более драконовские меры наказания. Сами женщины находили такое обращение совершенно естественным — раб всегда мыслит так, как его господин, пока в нем не проснется самосознание. Закон также повсюду предоставлял мужу право телесно наказывать жену. Однако общественная мораль разрешала женщине естественное и нормальное удовлетворение своих чувств только в пределах брака. С другой стороны, брак был тогда в большей степени, чем теперь, для женщины средством устроиться в жизни. Существовало еще очень мало женских профессий. Если обратиться к документам, то мы увидим, что борьба женщины за мужчину велась тогда с таким ожесточением, которое в истории больше не повторялось. Причины этого явления также коренятся в эпохе. Городское ремесло, например, представляло только внешне однородный класс. Не всякое ремесло могло произвольно менять своего хозяина, т. е. быть продано другому, права его исполнения часто оставались в семье. Единственная дочь пекаря, портного, ювелира, могла выйти замуж только за сына пекаря, портного или ювелира если только не хотела рисковать потерей всей семейной собственности. Из-за таких и аналогичных постановлений женщина при выборе мужа была ограничена чрезвычайно узким кругом. В многочисленных рисунках и картинах, изображающих «борьбу за штаны», возникших в эту эпоху, надо поэтому видеть не, так сказать, общеобязательную для всех времен сатирическую тенденцию, а скорее всего иллюстрацию характерного для той эпохи вопроса. Естественным дополнением к женской «падкости к штанам» служат необычайные претензии мужчин. Мужчины знали, какой на них существует спрос. «Число их сокращается, а девушки все множатся», — гласит современная поговорка. Каждый может поэтому с гордостью сказать: «От меня зависит взять, какая мне понравится». А Гейлер из Кайзерсберга мог с полным правом заявить: «Теперь женщина должна обладать всеми качествами, если хочет найти мужа, а именно юностью, красотой, движимым и недвижимым». Подобно тому как общество присвоило мужу право телесно наказывать «строптивую» жену, так казнило оно его самого, если он находился под башмаком у жены, и особенно если дело заходило так далеко, что жена «переворачивала метлу другим концом» и сама била мужа. Подобная казнь выражалась во всех странах и местностях тем, что такой муж выставлялся на публичное посмеяние. Из числа разнообразных, в большинстве случаев очень забавных обычаев приведем для характеристики лишь несколько примеров. Статуты города Бланкенбурга, относящиеся к 1554 г., полагают следующую кару для супружеской четы — обыкновенно наказанию подвергалась жена в том случае, если она побила мужа: «Если жена задаст мужу трепку или побьет его, то она должна подвергнуться, смотря по обстоятельствам, денежному или тюремному наказанию, а если она состоятельна, то она обязана дать одному из слуг городского совета сукно на платье. Так как необходимо наказать и мужа, который был такой бабой, что позволил жене ругать и бить его и не подал соответствующей жалобы, то он обязан доставить обоим слугам совета сукно на платье, а если он не в состоянии этого сделать, то он должен подвергнуться наказанию тюрьмой или иным путем, а затем крыша его дома должна быть снята». Французский писатель Жан Фабье[75] пишет: «Когда кто-нибудь обращается к нему по делу, он отвечает: "Я поговорю об этом с женой" или "с госпожой нашего дома". Пожелает она — дело состоится. А не пожелает — ничего не получится. Потому что простак уже настолько укрощен, что становится смирным, как бык, которого впрягли в плуг. Таким безнадежно покорным, что дальше и некуда». «Есть женщины, что поначалу весьма преданы своим мужьям. Потом они видят, как мужья в них влюблены и любезны в обращении, что, кажется, можно радеть меньше, а они и не подумают рассердиться. И дают себе послабление. Мало-помалу начинают меньше их уважать, становятся менее внимательными и послушными, а самое главное, начинают пробовать свою власть, во все вмешиваться и командовать, сначала в маленьком деле, потом в более крупном и так с каждым днем все больше и больше. Так они на ощупь двигаются все вперед и все вверх и воображают, что их мужья, которые ничего не говорят из любезности или из хитрости, ничего не видят, а те на самом деле просто терпят». Наказание жены было очень распространено и встречалось в разных странах. В Гессене жена, побившая мужа, должна была прокатиться по местечку верхом на осле, лицом к хвосту. Высмеиванием мужа-бабы занимались сатирики в поэзии и искусстве. Для характеристики «женского господства» живописцы-сатирики выбирали главным образом два мотива. Женщина, заставляющая плясать мужа под свою дудку, или дурак-мужчина, пляшущий под эту мелодию, — таков один мотив. Другой, еще более распространенный, заимствован из «Аристотеля и Филлиды»: женщина едет верхом на спине мужчины, который, как настоящее покорное вьючное животное, водимое под уздцы, ползет на четвереньках под ее тяжестью, и часто над его головой грозно развевается бич. Из других мотивов, также довольно частых, следует упомянуть мотив мужчины, помогающего женщине надеть панталоны, и мотив Юдифи. Все эти символические изображения просты и понятны. Но именно благодаря этой простоте, остроумию сатирика удается показать, какая сила в конце концов превращает мужчину в дурака, заставляет его танцевать под дудку женщины, порабощает даже умнейшего из всех, Аристотеля, так что тот покорно тащит на себе эту ношу весь долгий и трудный жизненный путь, — то чувственность, овладевающая мужчиной. На всех этих картинах художник изображает женщину исключительно как воплощение чувственности, предстает ли она перед нами обнаженной, как на большом рисунке по дереву Ганса Бальдунга Грина, или в костюме, как на превосходной работе Луки Лейденского. Ирония его собственной судьбы обессиливает мужчину: то, что его делает божеством, вознося на небеса, исполнение его назначения делает его вместе с тем рабом его рабыни. Таков простой и вместе с тем глубокий смысл большинства этих символических карикатур. Частая обработка этой темы в эпоху Ренессанса[76] доказывает, во-первых, что эти листки становятся больше чем простыми карикатурами на комическую фигуру мужчины, находящегося под башмаком у женщины, а во-вторых, что чувственность была господствующим принципом в жизни Возрождения. Высшим законом брака во все времена была взаимная верность. Если эпоха Ренессанса ставила брак так высоко, то еще выше ставила она взаимную верность супругов: «Одно тело, две души, один рот, одно сердце, взаимная верность и обоюдное целомудрие, здесь двое, там двое, и все же соединены воедино постоянной верностью…» Так пел уже миннезингер Рейнмар фон Цветер. Эпоха Ренессанса не менее восторженно воспевала супружескую верность в сотне самых разнообразных мелодий: «Нет лучшего рая, чем брак, где верность, как у себя дома», «Где верность, там рай на земле». Без верности невозможно супружеское счастье. Муж, уходящий от доброй жены к другой, сравнивается со свиньей, валяющейся в луже. Шперфогель пел: «Если муж уходит от доброй жены к другой, то он подобен свинье. Что может быть сквернее этого? Он оставляет чистый источник и ложится в грязную лужу».

Господство женщин. Анонимная сатирическая гравюра
Верная жена беспощадно отплачивает тому, кто хочет ее совратить с пути добродетели. Порой она как бы склоняется на его предложения, но только для того, чтобы указать ему на дверь таким недвусмысленным путем, что у него навсегда пропадет желание «пристать к честной женщине». Бедность стала массовым явлением, а последствием этого стало то, что аскетическое мировоззрение низшего сословия исключало свободное половое общение. Нигде адюльтер не карался так строго, как в многочисленных общинах XV и XVI вв.
Истинная любовь сказывается в несчастье. Как огонек, она тем ярче светит, чем темнее ночная мгла.Обычной формой наказания было изгнание из общины, стало быть, самая тяжелая форма опалы. Такие же суровые взгляды царили и у мюнстерских анабаптистов, оклеветанных в продолжение столь многих столетий. Никогда в Мюнстере, пока там господствовали анабаптисты, не царили разврат, половая распущенность и т. д. Указ, которым городской совет начал свое правление, налагал за прелюбодеяние и соблазн девушек смертную казнь. В таком же духе и все прочие указы и апологии, которыми анабаптисты отвечали на возводимые на них обвинения. Из-за убыли мужского населения на восемь или девять тысяч женщин приходилось только две тысячи мужчин. Существовало немало хозяйств, состоявших только из женщин, служанок и детей, лишенных мужской защиты. Это неизбежно приводило к разным осложнениям, тем более что среди мужчин было много холостых солдат. Соединение нескольких домашних хозяйств под покровительством одного мужчины, практиковавшееся осажденными в Мюнстере, не имело ничего общего с полигамией. То было не половое, а экономическое объединение. И не найдется ни одного серьезного доказательства, которое опровергло бы это. Клеветническое изображение мюнстерских анабаптистов, как словесное, так и пластическое, продолжалось многие столетия. Одним из примеров может служить гравюра Виргиния Солиса, изображающая быт бань в эпоху Ренессанса, которую истолковывают как изображение «бани анабаптистов». Тогда все прекрасно знали, почему в это мощное движение вкладывалось совсем иное содержание. Движение мюнстерских анабаптистов было самым грозным возмущением угнетенного народа этой эпохи. Если относительно мюнстерских анабаптистов можно документально доказать, что приписываемая им общность жен не более как преднамеренная клевета и фантазия, то относительно секты адамитов, части таборитов, мы вынуждены основываться исключительно на логике этого движения, так как в нашем распоряжении нет документов этой эпохи. Нам известно, что эта община начала XVI в. в самом деле требовала общности жен. Секта адамитов была основана неким Продонусом, который был сторонником учения карпократов[77] и ввел публично отправление половых потребностей днем, говоря, что то, что хорошо ночью в темноте, не может считаться дурным при дневном свете. В своей истории Богемии современный этому движению историк и будущий Папа Энеа Сильвио говорит об общности жен, практиковавшейся у этих сект, следующее: «У них господствовала общность жен, однако было запрещено сойтись с женщиной без согласия настоятеля Адама. Если же кого охватывало желание обладать женщиной, то он брал ее за руку и отправлялся к настоятелю и говорил ему: "К ней пылает любовью мой дух". Настоятель отвечал в таких случаях: "Идите, растите, множьтесь и заселяйте землю!"» Таким же антиэротическим духом было проникнуто их отношение к наготе, в котором историки видели кульминационную точку их нравственной разнузданности. Фактически дело обстояло совсем иначе. Аскетическая секта адамитов стремилась вернуть человечество к первобытному адамову состоянию, так как видела в роскоши костюма исходную точку всякой греховности, а в наготе — состояние «безграничной невинности», к которому нужно стремиться. О том, как они применяли этот взгляд на практике, нам известно еще менее, чем об имевшей у них место общности жен. Энеа Сильвио сообщает, что они ходили нагими, известно, кроме того, что они собирались голые в местах собрания, которые у них назывались «раем». Но известие это существует только как слух, а древнейшие изображения возникли лишь двумя столетиями позже и почерпнуты просто «из глубины духа», к тому же «духа», стремившегося оклеветать эти движения, ибо эти изображения являются иллюстрациями к описанию движения анабаптистов, проникнутому именно такой полемической тенденцией. Если у нас нет никаких достоверных данных для того, чтобы утверждать, будто у этих сект и движений XV и XVI вв. господствовала общность жен в эротическом смысле и царила чувственная разнузданность, то, с другой стороны, мы имеем так же мало основания говорить об идеальном браке в этой среде. Брак носил здесь чисто физический характер, да и не мог быть ничем иным при тех экономических условиях, в которых существовал этот класс.Леонардо да Винни

Супружеская неверность
 распространением эротизма связаны не только более частые добрачные сношения между полами, но и более частые случаи супружеской неверности.
Бесчисленное множество словесных изображений адюльтера звучали не только как осуждение, но и как прославление неверности. Здоровый инстинкт эпохи сказался при этом в том, что почти всегда прославляли неверную жену и очень редко — неверного мужа и что более всего сочувствовали молодым женам, прикованным к старым или бессильным мужьям[78]. С неподдельным восторгом описывается часто ловкость такой жены, которой под конец удается превзойти преграды, воздвигнутые ее ревнивым мужем, так что молодой человек, к которому она неравнодушна, достигает обоими ими желанной цели. Наиболее восхваляется такая жена, которая хитростью добивается того, что сам ревнивец муж приводит к ней любовника и своими продиктованными ревностью предосторожностями сам заботится о том, чтобы тот беспрепятственно приходил к жене, когда ему только заблагорассудится[79].
Вот что по этому поводу пишет автор «Пятнадцати радостей супружества» Антуан де ла Саль:
«Она делает своему другу сотню дел, и показывает любовные секреты, и изображает всякие томности, которые никогда не осмелится ни сделать, ни показать своему мужу. И ее друг тоже доставит ей все наслаждения, которые только в его силах, и сделает множество маленьких ласк, от которых она получит большое наслаждение, которое никакой муж дать ей не сможет. И даже если муж умел хорошо это делать задолго до того, как женился, то позабыл, потому что обленился и поглупел. А еще потому не хотел бы он делать этого своей жене, что ему казалось бы, что он ее научает тому, чего она не знает совсем.
распространением эротизма связаны не только более частые добрачные сношения между полами, но и более частые случаи супружеской неверности.
Бесчисленное множество словесных изображений адюльтера звучали не только как осуждение, но и как прославление неверности. Здоровый инстинкт эпохи сказался при этом в том, что почти всегда прославляли неверную жену и очень редко — неверного мужа и что более всего сочувствовали молодым женам, прикованным к старым или бессильным мужьям[78]. С неподдельным восторгом описывается часто ловкость такой жены, которой под конец удается превзойти преграды, воздвигнутые ее ревнивым мужем, так что молодой человек, к которому она неравнодушна, достигает обоими ими желанной цели. Наиболее восхваляется такая жена, которая хитростью добивается того, что сам ревнивец муж приводит к ней любовника и своими продиктованными ревностью предосторожностями сам заботится о том, чтобы тот беспрепятственно приходил к жене, когда ему только заблагорассудится[79].
Вот что по этому поводу пишет автор «Пятнадцати радостей супружества» Антуан де ла Саль:
«Она делает своему другу сотню дел, и показывает любовные секреты, и изображает всякие томности, которые никогда не осмелится ни сделать, ни показать своему мужу. И ее друг тоже доставит ей все наслаждения, которые только в его силах, и сделает множество маленьких ласк, от которых она получит большое наслаждение, которое никакой муж дать ей не сможет. И даже если муж умел хорошо это делать задолго до того, как женился, то позабыл, потому что обленился и поглупел. А еще потому не хотел бы он делать этого своей жене, что ему казалось бы, что он ее научает тому, чего она не знает совсем.
Как минется зима, в леса вернутся птицы,
Рогатые мужья собьются в вереницы.
Мой встанет впереди, он знамя понесет,
Твой в арьергарде пузом затрясет.
А мы с тобой придем со стороны
Воззреть на шествие невиданной длины.
Старинная песенка XVI в.

Сатирическое изображение неверной жены. Анонимная французская гравюра. XVII в.
Вот, что по этому поводу сообщает Брантом: «…Мне доподлинно известна история об одной даме, жене адвоката, которая жила в Пуатье; ее прозвали "прекрасная Готрель" и, по всеобщему мнению, она впрямь блистала небесной красотой и превосходила прелестью и грацией всех знаменитых городских красавиц; не было мужчины, который не восторгался бы ею, не желал бы ее и не отдал бы ей свое сердце. Так вот, однажды по окончании обедни ею овладели сразу двенадцать школяров, один за другим, свершив это как в самой Консистории, так и на паперти или же, как говорили другие, под висилицей Старого рынка, и она не кричала и не оказывала никакого сопротивления, но лишь попросила их произнести отрывок из пасторской проповеди, а затем отдалась каждому покорно и с улыбкой, полагая их истинными братьями по вере. И долго еще творила сию любовную милостыню, хотя даже и за Дублин не уступила бы какому-нибудь паписту Однако несколько католиков, разузнав у друзей своих, гугенотов, заветное слово, звучащее на их собраниях, также ухитрились насладиться ею. Другие нарочно шли туда и притворно обращались в протестантскую веру, лишь бы научиться этому слову и вкусить блаженство с этой прелестной проповедницею…» Раз муж и жена признаются друг другу в своих супружеских прегрешениях, то они квиты. Эта тема неоднократно затронута народными песнями, например в «Исповеди мельника и мельничихи», существующей во всех странах в разных вариантах. К сожалению, эта характерная поэма понятна только в целом и, однако, слишком велика, чтобы привести ее здесь. Соль всех этих «исповедей» в том, что муж обыкновенно довольно снисходительно прощает жену, тогда как жена и слушать ничего не хочет о том, чтобы простить его, так как, по ее мнению, у него не было никакого основания пойти к другой, ввиду того что она ему никогда ни в чем не отказывала. Жена поэтому нисколько не раскаивается в своем поступке и намерена и впредь украшать голову мужа дурацким колпаком. Также часто встречаются серьезные или сатирические обвинения неверной жены. Жена готова обмануть самого честного и верного мужа; в то время, когда муж обманет ее один раз, она — десять. «Похотливая женщина скорее найдет путь сойтись с любовником, чем мышь — дыру». Это прослеживается во многих произведениях искусства. В то самое мгновение, когда муж собирается уехать по делам в чужие страны и жена машет ему на прощание из окна рукой, сводня-служанка уже отворяет черный ход нетерпеливо ожидающему любовнику. В не меньшем нетерпении и неверная жена. Еще не исчезла вдали фигура уезжающего мужа, как она уже стоит перед празднично разукрашенным ложем с любовником, которому позволит все, чего он от нее потребует. Если же уехавший муж получит от друга, оставленного им в качестве блюстителя своей чести, известие, что жена его, несмотря на бдительный надзор, утешается с любовником, то, прибавляет сатира, ему нечего удивляться, ибо опыт давно показал, что «легче каждое утро отправить в поле пастись саранчу, а вечером собрать ее домой так, чтобы ни одна не пропала, чем присмотреть за женщиной». Иметь счастливого соперника — такова неизбежная судьба мужа. А раз это так — ибо каждый день случается, что «девушки, когда-то нравственные и целомудренные, превращаются под конец в похотливых женщин, ведущих себя так, как будто хотят вознаградить себя легкомысленной жизнью за то, что ими упущено было благодаря стыдливости», — то сатирики советуют мужьям примириться с этим и ко всему отнестись добродушно. «Верь ей даже тогда, когда увидишь ее на ложе с любовником!» — саркастически советует Мурнер мужьям в своем «Gauchmatt». И совету этому буквально следовали сотни мужчин, так что Себастьян Брант был вполне прав, когда восклицал: «Ныне легко переносят позор, которым покрывает нас женщина. У мужчин крепкий желудок, и они могут многое вынести и переварить». Он также добавляет: «Прелюбодеяние не доставляет ни горя, ни страданий, ибо его не принимают близко к сердцу». Но если женщину бранят за то, что в ее верности можно быть уверенным только в момент, когда она «отдается», как это грубовато и остроумно символизировано в рассказе «Кольцо Ганса Карела», и если с женщиной нужно поступать, по насмешливому выражению французов, «Qui voudrait garder une femme — n'aille du tout a l'abandon. Il faudrait la fermer dans une pipe; Et en jouir par le bondon»[84], то женщины ловко парируют подобные обвинения. У них не одна, а сотни серьезнейших причин не соблюдать верности. В литературе новелл и шванков эти причины подробно изложены и выяснены. Первый и главный мотив, приводимый женщинами для оправдания их неверности, — это право мести за неверность мужа. Жена заявляет: «Тело мое еще прекрасно, и грудь моя еще не увяла, а ты пасешься на чужом лугу». При таких условиях мужу нечего удивляться, что и в его огород ворвется чужой и примется «обрабатывать его поле». Второй мотив, которым жены оправдывают свою неверность, — это неспособность к брачной жизни их мужей. У мужа в голове дела и заботы, он ночью нуждается в покое и не думает о любви, или он стар и бессилен, или он долго путешествует — все эти жены, которым «холодно в постели», нуждаются в друге, который разогнал бы их скуку, «всегда охватывающую одиноких женщин». Клеман Маро поет: «"Если у женщины плохой муж, она всегда будет печальна! — промолвила девушка. — Для нее было бы лучше спать одной". Однако ее кроткая сестричка воскликнула: "Против плохого мужа существует хорошее средство. Надо взять себе друга дома"». Частое, долгое отсутствие мужа дома — начнем с этой последней причины — делает женщину больной, так что она худеет, ибо ничто так не истощает женщину, как «неудовлетворенная любовь». Когда одинокая хозяйка скрашивает своей любовью гостеприимство, оказываемое симпатичному гостю, когда она посылает украдкой любовное письмецо молчаливому любовнику, приглашающее его на ночное свидание, то она делает это всегда исключительно из любви к отсутствующему мужу. «Она не хочет доставить ему огорчение встретить по возвращении вместо упитанной кобылки, которую он оставил, изнуренную клячу в конюшне». И так как жена редко хочет отстать от других в таком самоутверждении, то исключение только подтверждает правило. «Когда мужья отправляются на ярмарку, в доме не остывают постели для гостей». Последствия не заставляют себя ждать. В одном стихотворении говорится: «Многие удивляются, что мещане красивее благородных. Но это имеет свою причину. Часто благородные господа приезжают к ним и надолго остаются в городе, между тем как бюргер заседает в городском совете или отправляется с другим купцом в далекие страны. Его жена не боится господ, они ей милее мужа. Одна откажет, другая согласится. Вот почему ныне бюргеры выходят более благородными, чем господа».

Лука Лейденский. Жена Пентефрия. XVI в.
То же самое случается, когда мужья отправляются в Рим или на паломничество. В таких случаях сами представители церкви стоят за справедливость: пусть каждый, муж и жена, удостоятся благодати по-своему. «Когда мужья паломничают в Рим, монахи их женам дают отпущение на двести семьдесят дней». Когда паломники возвращаются домой, они могут воспользоваться «благословением, не затратив труда».
Любовную игру, что юность занимает,
Сравни с игрой за карточным столом:
Здесь даму только картой прижимают.
Когда ж, пришпоренный азарта жгучим злом,
В трик-трак ты сел, не дуйся напролом,
Будь начеку, иначе станет жарко:
Поманит игрока душа его, дикарка,
Бездумно постигать суть сладостных наук.
Того ж, кто банк сорвал с Венериным подарком,
Ждет скромная игра напастей, бед и мук.
Старинные стансы о любовной игре

Генрих Гольциус. Символическая гравюра на меди
Самым сильным успокаивающим совесть мотивом в глазах женщины нарушить данную клятву является ее убеждение в необычайной физической силе нравящегося ей мужчины. Если эта причина побуждает девушку выйти замуж за такого человека, даже не знатного происхождения, то она же заставляет замужнюю женщину забывать все клятвы верности, все свои обязанности и все правила приличия. Необычайная физическая сила облагораживает раба в глазах княгини, носильщика — в глазах аристократки, заставляет монахиню забыть свой обет, подчиняет гордую женщину грубому извозчику и окрыляет дух женщин, становящихся неистощимыми на хитрости, чтобы добиться своей цели. Поджо, Морлини и Корнацано доказывают справедливость этого наблюдения относительно итальянок, Бебель, Фрей и Линденер — относительно немок, Брантом и другие — относительно француженок, английские хронисты — относительно англичанок. Вот несколько заглавий таких рассказов: «О паразите, в которого влюбилась благородная дама», «О монахине, отдавшейся извозчику» (оба рассказа принадлежат Морлини), «О герцогине, возалкавшей мужской любви» (из хроники графа Фробена фон Циммерна), «Умному достаточно нескольких слов» (Корнацано), наконец, укажем на описания английских придворных дам в мемуарах Граммонта. Кроме того, этот взгляд довольно своеобразно обнаруживается в целом ряде поговорок, пословиц, загадок и стихов на всех языках. Брантом рассказывает об одной невинной «благородной девице», которая утешала своего слугу следующими словами: «Обожди, пока я выйду замуж, и ты увидишь, как мы под покровом брака, который скрывает все, будем весело проводить с тобою время». Главная причина женской неверности служит также частым сюжетом для сатиры. Достаточно привести для примера сатиру Ариосто на похотливых женщин, распространенную также в виде иллюстрированной листовки, притом, как часто бывает в таких случаях, на двух языках — итальянском и французском. Основная мысль этой сатиры следующая. Дворянин Джокондо призван ко двору. Грустно прощается он с женой, которую считает настолько же верной, насколько она прекрасна. Не успел он отъехать, как ему вспоминается, что он забыл на постели амулет, подаренный ему женой на прощанье. Он возвращается назад, неслышно входит в спальню и не верит своим глазам. Он видит жену, которую считал образцом супружеской верности, в объятиях одного из слуг. Так как они заснули, то и не замечают дворянина, который так же неслышно покидает комнату. Печаль его не знает границ, и он не может забыть нанесенного ему позора. Но вот однажды он видит королеву в объятиях безобразного карлика шута. Убедившись, что и королей ждет та же судьба, он снова проникается жизнерадостностью, и так как король также покидает жену, то оба принимаются странствовать по свету в сопровождении подруги, любовью которой они пользуются сообща. Они устраивают дело так, что им не приходится бояться ее измены. Однако их ожидает и здесь разочарование… Убедившись наконец в ее обмане, король и дворянин приходят к убеждению, что каждая женщина готова изменить, когда искушение велико, и оба возвращаются домой. В результате в календаре рогоносцев не осталось такого дня, когда бы у них не вырастали рога.

Свободное половое общение и нравственная испорченность
 сли свободная любовь противоречила интересам небогатой семьи, если в средних и низших сословиях неверность встречалась редко, то иначе обстояло дело с браком среди купечества, зажиточных горожан, а также придворной аристократии. Свободная любовь стала для этих сословий возможным, а затем и естественным явлением, так как не представляла уже опасности для семьи.
Женщина прежде всего эмансипировалась от своих материнских обязанностей. Она так поступила не потому, что предпочитала образование материнству, а потому, что материнство плохо влияло на ее внешние данные. «Другая женщина кормит ее ребенка, чтобы ее грудь и тело оставались чистыми и нежными».
В конце средних веков процесс преобразования коснулся двух классов: рыцарства и крестьянства.
Как уже говорилось, рыцарский культ любви не только обновлялся, но и разрушался. Романтичный характер этого культа придает эпохе рыцарства поэтическое очарование. Художественные документы, созданные рыцарской любовью, так своеобразны, что во всей литературе трудно найти что-нибудь аналогичное. Наиболее характерными и яркими произведениями являются прославленные провансальские альбы[87], немецкие «Песни утра», в которых изображается прощание рыцаря со своей дамой, осчастливившей его своей любовью. Страж на башне — патрон обоих тайных любовников. Стоя на башне, он трубит в рог, приветствуя утро, и звуки его песни должны пробудить ото сна утомившихся влюбленных, чтобы осчастливленный любовник мог вовремя покинуть гостеприимное ложе дамы обманутого феодала и последний не застал прелюбодеев in flagranti (на месте преступления).
«Пора, пора, настало время. Так пел нам на заре страж. Все, кто влюблены, слушайте и запомните: то поют птички в роще. Соловей и другие птицы звонко поют и будят нас своим пением. Я вижу, как занимается день».
Даже тот, кто лишен поэтического чувства, согласится, что от этих песен веет ароматом весеннего утра, времени надежд и обновлений. И в самом деле, в них отразилось утро только что родившейся индивидуальной половой любви, высшего завоевания человеческой культуры.
Брак есть беспрерывный обман — вот смысл этих песен. Обманывать мужа — высший закон любви. Правда, рыцарский брак, как брак всех господствующих классов, основывался исключительно на условности. Месть природы выражается в обмане, в стремлении сделать мужа отцом чужих детей.
Если во всех поэтических произведениях говорится только о награде любви, то решающим все же всегда является результат. В большинстве случаев этот конечный результат — незаконная беременность женщины, позволившей рыцарю служить ей. Большинство дам своим рыцарям не только разрешали это, но и чрезвычайно гордились, если рыцарь носил их цвета. Объятия дамы — вот та награда, которую добиваются и которую обещают. Это высшая награда, которую можно предложить, так как примитивная культура эпохи видит в половом акте высшее наслаждение, которое может даровать жизнь.
Хотя обе стороны стремились, на первый взгляд, лишь к тому, чтобы обмануть мужа дамы и доставить друг другу тайные наслаждения любви, их торжество было полным только в том случае, если дама забеременеет от своего рыцаря. Оставить после себя такое доказательство любви — составляло, без сомнения, гордость осчастливленного рыцаря и, вероятно, тайное желание многих дам. Таково было бы и логическое требование индивидуальной половой любви. Женщина хочет стать матерью от того мужчины, которого она любит. Во всяком случае, она считает эти последствия естественными. У нас есть данные, подтверждающие это, хотя и относящиеся к более позднему времени. Случается, что дамы жалуются на любовника, исполняющего «обязанности мужа». В этих жалобах обнаруживается, без сомнения, прежде всего нормальный чувственный аппетит. Женщина недовольна таким ограничением ее права на наслаждение, принадлежащего ей, когда она дарит мужчине свою любовь. Если подобное настроение и было бессознательным, то это ничего не меняет. Итог рыцарского культа любви гласит: законный супруг часто не является истинным отцом своих детей, и этому обману, достижению этой цели в продолжение целых лет посвящается все остроумие дамы и ее рыцаря.
В художественных документах эпохи «миннединства» дело никогда не заходит так далеко, и, однако, только здесь обнаруживается истинный характер явления — процесс
разрушения. Но и сам культ дамы очень далек от идеала. Достаточно вспомнить, что рыцарь сражается на турнире за даму, ему совершенно неизвестную, позволяет восторжествовать ее цветам и получает за это награду любви, «миннезольд». Приняв ванну и утолив голод, он имеет право разделить ложе дамы, и на другое утро он отправляется дальше, как неоднократно описано у Вольфрама фон Эшенбаха.
Однако еще более странно-смешным является тот случай, когда рыцарь терпит поражение. В таком случае он лишается своей награды. Но только он один уходит с пустыми руками. Дама, за которую он сражался, всегда получает свое, т. е. всегда получает возможность незаконного наслаждения. Ибо вместо рыцаря, который носил ее цвета, право на ее ложе получает теперь его победитель. Он должен доказать, что способен выйти победителем из борьбы не только с мужчинами, но и с женщиной. Другими словами, право произвести ребенка предоставляется теперь тому, кто еще недавно стоял враждебно лицом к лицу с ее другом.
То же самое надо сказать о всей семейной жизни рыцаря, так как этот систематический обман был взаимным: как мы уже заметили, все рыцарство содействовало обоюдному прелюбодеянию. Это должно было, естественно, отражаться и на всей семейной жизни. Дети, семейное чувство — все это лежало в стороне от идеального мира рыцаря, не вдохновляло его, семья была для него лишь внешней организационной формой его будничной жизни. Мы не должны поэтому создавать себе романтического представления о нравах, господствовавших в этой среде.
сли свободная любовь противоречила интересам небогатой семьи, если в средних и низших сословиях неверность встречалась редко, то иначе обстояло дело с браком среди купечества, зажиточных горожан, а также придворной аристократии. Свободная любовь стала для этих сословий возможным, а затем и естественным явлением, так как не представляла уже опасности для семьи.
Женщина прежде всего эмансипировалась от своих материнских обязанностей. Она так поступила не потому, что предпочитала образование материнству, а потому, что материнство плохо влияло на ее внешние данные. «Другая женщина кормит ее ребенка, чтобы ее грудь и тело оставались чистыми и нежными».
В конце средних веков процесс преобразования коснулся двух классов: рыцарства и крестьянства.
Как уже говорилось, рыцарский культ любви не только обновлялся, но и разрушался. Романтичный характер этого культа придает эпохе рыцарства поэтическое очарование. Художественные документы, созданные рыцарской любовью, так своеобразны, что во всей литературе трудно найти что-нибудь аналогичное. Наиболее характерными и яркими произведениями являются прославленные провансальские альбы[87], немецкие «Песни утра», в которых изображается прощание рыцаря со своей дамой, осчастливившей его своей любовью. Страж на башне — патрон обоих тайных любовников. Стоя на башне, он трубит в рог, приветствуя утро, и звуки его песни должны пробудить ото сна утомившихся влюбленных, чтобы осчастливленный любовник мог вовремя покинуть гостеприимное ложе дамы обманутого феодала и последний не застал прелюбодеев in flagranti (на месте преступления).
«Пора, пора, настало время. Так пел нам на заре страж. Все, кто влюблены, слушайте и запомните: то поют птички в роще. Соловей и другие птицы звонко поют и будят нас своим пением. Я вижу, как занимается день».
Даже тот, кто лишен поэтического чувства, согласится, что от этих песен веет ароматом весеннего утра, времени надежд и обновлений. И в самом деле, в них отразилось утро только что родившейся индивидуальной половой любви, высшего завоевания человеческой культуры.
Брак есть беспрерывный обман — вот смысл этих песен. Обманывать мужа — высший закон любви. Правда, рыцарский брак, как брак всех господствующих классов, основывался исключительно на условности. Месть природы выражается в обмане, в стремлении сделать мужа отцом чужих детей.
Если во всех поэтических произведениях говорится только о награде любви, то решающим все же всегда является результат. В большинстве случаев этот конечный результат — незаконная беременность женщины, позволившей рыцарю служить ей. Большинство дам своим рыцарям не только разрешали это, но и чрезвычайно гордились, если рыцарь носил их цвета. Объятия дамы — вот та награда, которую добиваются и которую обещают. Это высшая награда, которую можно предложить, так как примитивная культура эпохи видит в половом акте высшее наслаждение, которое может даровать жизнь.
Хотя обе стороны стремились, на первый взгляд, лишь к тому, чтобы обмануть мужа дамы и доставить друг другу тайные наслаждения любви, их торжество было полным только в том случае, если дама забеременеет от своего рыцаря. Оставить после себя такое доказательство любви — составляло, без сомнения, гордость осчастливленного рыцаря и, вероятно, тайное желание многих дам. Таково было бы и логическое требование индивидуальной половой любви. Женщина хочет стать матерью от того мужчины, которого она любит. Во всяком случае, она считает эти последствия естественными. У нас есть данные, подтверждающие это, хотя и относящиеся к более позднему времени. Случается, что дамы жалуются на любовника, исполняющего «обязанности мужа». В этих жалобах обнаруживается, без сомнения, прежде всего нормальный чувственный аппетит. Женщина недовольна таким ограничением ее права на наслаждение, принадлежащего ей, когда она дарит мужчине свою любовь. Если подобное настроение и было бессознательным, то это ничего не меняет. Итог рыцарского культа любви гласит: законный супруг часто не является истинным отцом своих детей, и этому обману, достижению этой цели в продолжение целых лет посвящается все остроумие дамы и ее рыцаря.
В художественных документах эпохи «миннединства» дело никогда не заходит так далеко, и, однако, только здесь обнаруживается истинный характер явления — процесс
разрушения. Но и сам культ дамы очень далек от идеала. Достаточно вспомнить, что рыцарь сражается на турнире за даму, ему совершенно неизвестную, позволяет восторжествовать ее цветам и получает за это награду любви, «миннезольд». Приняв ванну и утолив голод, он имеет право разделить ложе дамы, и на другое утро он отправляется дальше, как неоднократно описано у Вольфрама фон Эшенбаха.
Однако еще более странно-смешным является тот случай, когда рыцарь терпит поражение. В таком случае он лишается своей награды. Но только он один уходит с пустыми руками. Дама, за которую он сражался, всегда получает свое, т. е. всегда получает возможность незаконного наслаждения. Ибо вместо рыцаря, который носил ее цвета, право на ее ложе получает теперь его победитель. Он должен доказать, что способен выйти победителем из борьбы не только с мужчинами, но и с женщиной. Другими словами, право произвести ребенка предоставляется теперь тому, кто еще недавно стоял враждебно лицом к лицу с ее другом.
То же самое надо сказать о всей семейной жизни рыцаря, так как этот систематический обман был взаимным: как мы уже заметили, все рыцарство содействовало обоюдному прелюбодеянию. Это должно было, естественно, отражаться и на всей семейной жизни. Дети, семейное чувство — все это лежало в стороне от идеального мира рыцаря, не вдохновляло его, семья была для него лишь внешней организационной формой его будничной жизни. Мы не должны поэтому создавать себе романтического представления о нравах, господствовавших в этой среде.
Если безумный юноша овладевает девушкой, толпа называет это любовью, в то время как гораздо верней сказать, что это ненависть.Женское помещение в замке — помещение, где работали женщины, — было в большинстве случаев вместе с тем и гаремом рыцаря. Таково же и его отношение к женщинам. Помещик-рыцарь имел право делать с женами и дочерьми своих вассалов все, что он хотел, и он так и поступал. Если они ему нравились, то ничто не могло ему помешать удовлетворить свое желание. Так называемое jus primae noctis (право первой ночи), существование которого столь часто подвергалось сомнениям, было не более как совершенно «естественным правом», вытекавшим из понятий собственности. Поэзия «миннединства» была всегда связана только с высшей и богатой аристократией. Большая часть рыцарства принадлежала к мелкому дворянству, которое жило не в пышных замках и крепостях, а в жалких жилищах, чуждых всякой поэзии. Достаточно вспомнить описание родового замка Гуттена Штекельберга, сделанное им, хотя его замок и принадлежал к числу более завидных. Да и вся жизнь низшего дворянства была лишена всякой поэзии. Так или иначе, большинство из них занимались разбоем и грабежом. Сегодня их ожидала добыча, завтра — удары. При таких условиях нравственные представления этого класса должны были отличаться грубостью и низменностью.Эразм из Роттердама

Рыцарская жизнь. Мастер «Сада любви», XV в.
Любая беззащитная женщина, все равно, носила ли она еще детские башмаки или уже приближалась к старости, подвергалась насилию всей шайки, в руки которой попадала, как господина, так и его слуг. Так же поступали и с женами и дочерьми своих же товарищей по ремеслу. И каждый старался уже заранее отомстить другому, так сказать, авансом. Существовала характернаяпоговорка: «Мужики убивают друг друга, а благородные делают друг другу детей». У оседлой части низшего дворянства, живущей исключительно трудом крепостных и не занимавшейся грабежом или потому, что в данной местности нечего было грабить, или деревни и города так умели защищаться, что разбой был сопряжен со слишком большим риском, половая нравственность была менее дика, отличаясь, однако, и здесь достаточной снисходительностью. В хронике вюртембергского графа фон Циммерна приведен случай, несомненно типичный, прекрасно характеризующий нравственную распущенность мелкого дворянства XV и XVI вв. Жены рыцарей, впрочем, не отличались в большинстве случаев такой требовательностью в выборе любовника, как дама, о которой идет речь в указанной хронике, изменившая мужу с другим рыцарем, так как довольствовались охотно «конюхами, виночерпиями, истопниками и шутами», даже крепостными крестьянами, как видно из пословицы, отвечающей на вопрос: «В какой месяц мужик более всего занят?» — «В мае, так как ему приходится тогда еще ублажать жену своего господина». Эта нетребовательность объясняет тот удивительный факт — по ядовитому замечанию Бернгарта фон Плауена, — что среди знати и рыцарства встречалось гораздо больше безобразных физиономий, чем среди городского бюргерства. Большинство знатных, по его словам, родились от грязных мужиков и последних конюхов. Если низшее дворянство представляло класс, экономически не нужный, то крестьянство, ближе всего стоявшее к феодальной знати и имевшее с ним очень много точек соприкосновения, представляло из себя класс, находившийся тогда в процессе полного преобразования. Города нуждались все в большем количестве съестных припасов, а также сырья — шерсти, льна, кож, дерева, красящих веществ и т. д. Производителем всех этих предметов становилась деревня. Под влиянием этого радикального переворота изменилась и половая мораль крестьянства. Стерлись прежде всего старые патриархальные отношения внутри семейного союза, и быстрее всего там, где росло экономическое значение крестьянства, увеличивалось число батраков и батрачек, и последние превращались из помощников и членов семьи в простых наемных рабочих. Там, где новое дворянство само занималось производством, крестьянство, напротив, экономически разорялось, так как начался пресловутый процесс экспроприации крестьянства. Занятое производством дворянство нуждалось в крестьянской земле, и притом — в противоположность феодальной эпохе — в земле без крестьянина. С этой целью крестьянина систематически разоряли. Эта насильственная пролетаризация крестьянства привела его к аскетизму. Там же, где его экономическое разорение не сопровождалось этим результатом, оно сказывалось в распадении семейных связей, в усилении безразличия в области половых отношений. Народная мудрость выразила свой взгляд на супружескую верность крестьян в сжатой поговорке: «Попам нет надобности жениться, пока у крестьян есть жены». И этот взгляд рассказчики новелл и фацетий, авторы масленичных пьес и народные поэты комментируют сотней описаний, примеров, анекдотов и сатирических выпадов[88]. Надо, однако, иметь в виду, что в продолжение столетий крестьянин был излюбленным предметом насмешки, что остроумие горожан — все описания крестьянской жизни принадлежат именно перу горожан — с особенной охотой подчеркивало грубость и низменность его вожделений. Такое поведение было, впрочем, совершенно логично. Тип мужика противополагался горожанину не из простого желания злословить и клеветать, а потому, что крестьянство было не только угнетенным классом, но и классом враждебным: в интересах бюргерской классовой борьбы было навязать ему всевозможные пороки. Если мужика изображали не иначе как обжорой, пьяницей, развратником и грубым идиотом, то потому, что таким образом хотели унизить своего классового противника. Но если даже принять во внимание эту общую тенденцию приписывать мужику все грехи и пороки, изображать его вечно обманываемым — и прежде всего, конечно, его собственной женой, то нам придется сказать, что эти описания только до уродливо-смешного преувеличивали действительность. А что крестьянство действительно отличалось дикостью и грубостью, достаточно объясняется его некультурностью, обусловленной примитивными экономическими средствами существования. Столь же невежественный священник с его узким умственным горизонтом был единственным источником знания для деревни. При таких условиях разве могли возникнуть среди крестьянства более высокие этические воззрения, более утонченное нравственное чувство? Ничем не сдерживаемое подчинение инстинкту казалось ему высшим блаженством. Неизбежные последствия такого положения вещей подтверждаются хотя бы немногими данными. Бесспорно известно, например, что процент незаконных рождений в деревне всегда был выше, чем в городе. Далее, не менее бесспорно, что все указы, изданные властями против «растления девушек, разврата и прелюбодеяния в деревнях», проходили бесследно, несмотря на то что постоянно возобновлялись, и обыкновенно даже самые суровые церковные епитимьи не приводили к желаемому результату. Эта неискоренимость нравственной разнузданности имела свои основательные причины. Изнасилование девушек, например, было во многих местностях просто потому неискоренимо, что по господствовавшему наследственному праву сотни парней были лишены возможности жениться, раз старший брат, наследник двора, еще не обладал определенными средствами или если родители еще не передали детям наследство, еще не хотели удовольствоваться своей «старческой долей». Одно это обстоятельство объясняет нам в достаточной степени тот факт, что в таких местностях все указы против добрачного полового общения оставались безрезультатными, а также и то обстоятельство, что в этих местностях ни для девушки, ни для парня не считалось позором иметь незаконных детей. Надо прибавить еще и то, что в деревне не существовало проституции как суррогата брака или, во всяком случае, не в таком размере, как хотя бы в небольшом городишке. Это учреждение было в деревне, конечно, не потому мало распространено, что открытая проституция не вязалась с воззрениями деревни на нравы и нравственность, а потому, что любовь— товар, который можно обменять только на деньги, а деньги имелись у крестьянина лишь в очень_ ограниченных размерах. Так, оставалось только сходиться с крестьянскими женами и дочерьми, а в более богатых деревнях, где существовала женская прислуга, с последними. Если среди крестьянства господствовали, естественно, более разнузданные нравы, чем в городе, то по отношению к батрачкам и служанкам уже, несомненно, господствовал принцип «chacune pour chacun». Правда, о положении прислуги того времени у нас почти нет никаких данных, так как об этом мало было написано. Но мы знаем, в каких условиях жила прислуга в более позднее время, например, что очень часто батраки и батрачки спали в одной комнате, что одежда их часто состояла только из рубахи и штанов, из рубашки и юбки. Вся женская прислуга находилась тогда всецело во власти парней, батраков и, кроме того, еще хозяина-мужика.

Г. Балдунг Грин. Базельский знаменосец. 1527 г.
И несомненно, лишь очень немногие служанки избежали такой судьбы, зато было больше таких, которые в течение года отдавались не только одному мужчине, которые вечно бывали беременны и часто сами не знали, кто отец их ребенка, так как все мужчины, бывшие на крестьянском дворе, поочередно обладали ими. Раз батраки и батрачки спали в одном помещении, притом чрезвычайно тесном, если комнаты были в лучшем случае разделены дощатой перегородкой, так что одни постоянно должны были переходить через комнату других, то говорить о стыдливости и сдержанности во взаимных отношениях приблизительно так же остроумно, как говорить о чувстве осязания у носорога. А там, где отсутствовали такие естественные сдерживающие чувства, батрачка или служанка вынуждены были сегодня разделять ложе с одним, завтра с другим и только разве личная ревность может поставить здесь преграду: ревность крестьянки, выгоняющей мужа из спальни служанки, или мускулистого парня, не желающего терпеть рядом с собой соперника у понравившейся ему батрачки.

В. Солис. Костюм ландскнехта
Разумеется, здесь речь идет не о сознательном изнасиловании. Все считали такой порядок просто «естественным», так как иначе и не могли его себе представить. Да и сама девушка обычно думала, что иначе и быть не могло, ибо она сама была не только предметом желания и насилия, а также сама словами или жестами приглашала товарища по помещению разделить ее ложе или сама отправлялась к нему. И потому она, вероятно, сознавала свое положение не как позор, а скорее как наиболее приятную сторону жизни. Наряду с рыцарем и крестьянином необходимо упомянуть еще о ландскнехтах, вытеснивших в XVI в. рыцарское ополчение. В глазах романтиков всех стран ландскнехт — героическая фигура. Однако он отнюдь не является ею, даже в области военного искусства. В XV и XVI вв. большинство наемников вышло не из Швейцарии, а из Германии. Немецкие наемники составляли главный контингент наемных войск всех государей мира. Они сражались в Италии, Испании, Франции, Германии — словом, везде. И притом безразлично, во имя каких интересов и на службе у какого государя. Чаще всего сражались поэтому немцы против немцев. Поверхностные историки объясняли тот факт, что в продолжение столетий немцы составляли неисчерпаемый резервуар для всех наемных войск мира, прирожденной им жаждой передвижения и скитания, не менее прирожденным увлечением солдатской профессией. Это неверно. Эта странная потребность в передвижении и это увлечение солдатской профессией объясняется просто экономическим положением Германии… Из-за путаницы политических отношений экономическая шаткость была особенно велика именно в Германии. «Здесь всегда налицо было немало людей, которые сгонялись с насиженного места или иными путями вырывались из социальной почвы и попадали в положение авантюристов» (Гуго Шольц). Общая экономическая революция, вызванная в Германии перемещением торговых путей — под влиянием открытия Америки, — не только усилила эту экономическую шаткость, но и придала ей длительный характер. Такова истинная причина, из которой родилась пресловутая жажда бродяжничества, заставляющая немцев в течение столетий пополнять наемные войска всех стран. Главный контингент наемников составляли горожане: подмастерья, писари, опустившиеся студенты — словом, деклассированные элементы городского населения. Образ жизни, да и весь облик ландскнехта, носит поэтому чисто городской отпечаток. Это видно уже из того, что все обычаи солдатчины, ее социальные условия, ее идеологии и символы имеют свой прообраз в организации городских цехов. На это обстоятельство необходимо здесь указать по двум причинам. Этим объясняется, прежде всего, враждебная позиция наемников по отношению к крестьянам. Если бы наемные войска состояли хотя бы наполовину из крестьянских сыновей, мужик не третировался бы так жестоко ландскнехтами, и все источники крестьянской жизни — нивы, леса, фруктовые сады — не уничтожались бы ими так бессмысленно и без всякой для себя пользы, как это имело место в действительности. То было проявление естественной ненависти горожанина, видящего в мужике только получеловека, и эта ненависть находила свое самое грубое выражение в поведении ландскнехтов. Другая, более важная причина заключается в следующем: так как ландскнехты набирались преимущественно из среды городского люмпен-пролетариата, то их половая мораль также была продуктом этих условий существования и напоминала своей разнузданностью грубые нравы разбойничьего рыцарства. Так как условия существования как ландскнехта, так и разбойничьего мелкого дворянства отличались крайней неустойчивостью, наемный солдат жил исключительно одним днем. Не зная, что ждет его завтра, ландскнехт стремился получить все сегодня. Женщиной, как только появлялась такая возможность, овладевали насильно, не прибегая к предварительному ухаживанию. Для крестьянской жены или девушки было еще честью, если ее насиловали тут же на краю дороги или за соседним кустом, а еще большей честью, если на нее сразу претендовала дюжина ландскнехтов, бросавших жребий, чтобы установить очередь. Та же судьба, естественно, грозила всем женщинам, предпринимавшим путешествие без надежной мужской охраны и попадавшим в руки шайки солдат; в таких случаях последние брали аванс в счет выкупа или — если они бывали милостиво настроены — требовали от беззащитных женщин дорожную подать. О гнусностях всадников и рыцарей XV в. один хронист сообщает следующее: «В особенности страдали женские монастыри. Не щадили даже маленьких девочек, а жен прямо вытаскивали из домов мужей». Такие же сведения имеются у нас о поведении ландскнехтов в XV и XVI вв. Эти последние также никого не щадили — ни девочек-под-ростков, ни старух, ни беременных. Все без исключения подвергались насилию. Особенно варварски, конечно, вели себя ландскнехты при взятии осажденных мест. В таких случаях «право» ведь на их стороне, и правом этим пользовались, насилуя женщин особенно утонченным образом и потом убивая жертв своих скотских вожделений. Вот для примера описание событий, имевших место при взятии и опустошении городка, описание, которое мы находим у одного хрониста: «Много замужних женщин и девушек, даже беременных, подверглись насилию как в самом городе, так и за его чертой. У одной беременной женщины вырвали груди. Двенадцатилетнюю девочку растлили до смерти, изнасиловали даже почти столетнюю старуху. Одну благородную даму так обыскали, думая найти у нее золото, что та от ужаса и стыда скончалась. На глазах у мужа увели жену и молоденькую дочку, а его самого убили и т. д.» Эта картина типична, и из истории Тридцатилетней войны можно бы было привести еще сотню подобных описаний. Все сказанное здесь о ландскнехтах вполне приложимо и к морали большой дороги, кишевшей тогда всевозможными отбросами. О Баварии XVI в., например, сообщается: «Страна изобиловала бывшими ландскнехтами и солдатами, ставшими ворами и разбойниками, разнузданными голодными бродягами и босяками всех видов». Немало преступных элементов встречалось и среди «бродячего люда», среди тех многих людей без роду и племени, которыми тогда были полны проезжие дороги. Разумеется, в них нельзя видеть только преступников. Но, с другой стороны, не следует забывать, что среди бродяг находилось много разбойников, так как и эта группа еще в большей степени, чем ландскнехты, состояла из деклассированных. Там, где разбойники (Landzwinger, как их называли) были в большинстве, они, разумеется, не просили милостыню и не вступали в переговоры, а удовлетворяли свои желания силой — грабили, убивали, насиловали. Даже на улицах многих городов честь женщины никогда не была в безопасности, это видно из частых и строгих указов городских властей, направленных против возраставшего числа «насилий над честными женщинами и девушками», а также из постановлений, которые запрещали женщинам выходить на улицу без света и без мужской охраны.

Г. Гольциус. Сатирико-аллегорическое изображение брака по расчету
Неограниченная возможность наслаждаться жизнью вела к нравственной разнузданности крупного бюргерства и княжеского окружения. Там, где отсутствует производительный, доставляющий удовольствие труд, половой инстинкт искусственно доводится до крайности. Так как ни физические, ни психические силы человека не расходуются в борьбе за существование, то они направлены на беспрепятственное удовлетворение чувственных, инстинктов, и прежде всего половых. Удовольствие, которого ищут у Вакха и Церерь[89], не атрофирует желание и силу, а, напротив, подкрепляет их, постоянно создавая эротические мысли, представления и воздействия. Бсе чувства и мысли сосредоточиваются, таким образом, на эротике, все сводится к половому наслаждению. У культурного человека — любовь не только проявление инстинкта размножения, но и стремление к более интенсивной личной жизни, к индивидуальному психическому обогащению, к более успешному саморазвитию. И в самом деле, ничто так душевно не обогащает человека, как его интимные отношениях с представителем другого пола. Каждая из сторон получает, так сказать, две души, каждая дополняет другую, что позволяет им стать цельными и совершенными. Человек по своему существу моногамен, поэтому он может и должен удваиваться, чтобы обогатить свою индивидуальность и достигнуть полной внутренней гармонии, но он лишен возможности таким же образом умножать себя и обогащаться до бесконечности. Человек не в состоянии любить одновременно несколько представителей противоположного пола. Он способен разве что воспроизвести во множественном числе внешнее, животное проявление любви, повторять со многими сам половой акт. Но в таком случае любовь сведется к простому удовольствию. Везде там, где совершается эта подстановка, результатом ее как для отдельного индивидуума, так и для всего общества является уже не внутреннее обогащение, а оскудение. Из источника индивидуального и социального совершенствования любовь превращается в простое наслаждение. Там, где любовь сведена к удовольствию — это происходит повсюду, где чувственное удовольствие есть результат роскоши, — на первом плане стоит принцип разнообразия. Это разнообразие достигается одновременным половым общением с несколькими мужчинами или несколькими женщинами. Тенденция эта главным образом выражается в возникновении института постоянной любовницы или постоянного любовника. Муж имеет кроме жены еще одну или несколько метресс, порой тут же, в своем доме. Гейлер из Кайзерсберга пишет: «Есть и такие мужчины, которые содержат в своем доме рядом с женой еще публичную женщину». Жена часто не только супруга, но и метресса другого, порой третьего и т. д. Большинство сексу-ал-психологов ошибочно называют это «прирожденной склонностью женщины к проституции», потому что исходят из отдельных индивидуальных случаев. На самом деле это социальное и потому заурядное явление, обусловленное вышеприведенными экономическими причинами. Уже в романе о Розе говорится поэтому, правда грубовато, но не без основания: «Estes ou futes, g'effet ou de volonte putes»[90]. Бесчисленное множество мужчин в такие эпохи находят совершенно естественным, что их жены имеют любовников или являются метрессами других. Надо, впрочем, заметить, что чаще всего здесь сказывается рафинированность мужей, а не их снисходительность или справедливость, предоставляющая другим те же права, какие они сами присвоили себе. Мужчина находит у проститутки больше наслаждения — ибо она утонченнее решает проблему любви, сведенной к простому удовольствию, — и потому превращает в проститутку свою собственную жену. Молчаливым соглашением является при этом требование, чтобы жена, сходясь с любовником, избегала беременности. Только беременность дискредитирует, потому что компрометирует не самый факт, а неловкость, неумение соблюдать правила любви, ибо любовь не более чем игра. Женская неверность ограничена, таким образом, исключительно неудобными последствиями. Вместе с тем в таком классе совершенно видоизменяются и понятия о «приличии». Приличным считается муж, уважающий права любовника и умеющий так устроить дело, что ни любовник, ни жена не попадают перед ним в неловкое положение.

Г. Гольциус. Насилие над Лукрецией. Гравюра на меди
В нужный момент он покинет комнату или квартиру, никогда он не появится на сцене в неурочный час — если бы он поступил иначе, он нарушил бы правила приличия. Воплощением добродетели считается в такие эпохи женщина, отдающаяся другим только в период беременности, виновником которой является ее муж, так как последний уже не рискует в таком случае воспитать детей, принадлежащих не ему. «Беременная женщина не может быть неверной», — гласила распространенная поговорка. Под влиянием этого меняется и жизненная мудрость женщины. Один современник говорит: «Как только женщина забеременеет, она уже считает, что не может оскорбить мужа и сделать его рогоносцем, и ни в коем случае не отказывает своим друзьям». Последствия этой философии обрисовывает поговорка: «Беременные женщины отдаются тем охотнее». Однако, жена не всегда становится матерью от мужа, вместе с тем она желает избежать последствий и от связи с любовником, не отказываясь, однако, от радостей незаконной любви. Как быть в таком случае? Очень просто. Не следует ограничиться одним любовником, надо их иметь несколько. «Кто живет одновременно с многими мужчинами, не может забеременеть», — гласит поговорка. Материал, по которому мы могли бы судить об извращенности, царившей среди крупного бюргерства в эпоху Ренессанса, чрезвычайно богат, и мы можем здесь сослаться на те цитаты, которые приведены нами в других местах. В своей истории города Любека Бекер сообщает о том, как жаждавшие любви патрицианские жены, которым обстоятельства не позволяли держать официального любовника, вознаграждали себя за потерю любовных наслаждений: «В 1476 г. жены патрициев Любека отправлялись вечером под густой вуалью в винные погребки, чтобы в этих очагах проституции удовлетворять свои желания, оставаясь неузнанными». Как видно, те же методы, как в императорском Риме. И в этом нет ничего удивительного: экономическая ситуация культурных наций в эпоху Ренессанса походила на экономическое положение Рима. Институт любовников и метресс получил наиболее ясно выраженное официальное значение при дворах и среди придворной аристократии. Каждый князь содержал фавориток, т. е. при каждом дворе существовала целая свита обворожительных проституток. Большинство из них принадлежало к придворной аристократии, но и бюргерство поставляло очень часто метресс для княжеского ложа. Mezeray рисует в своей «Истории Франции» поразительные картины этой испорченности нравов. «Началась она, — говорит он, — в царствование Франциска I, получила всеобщее распространение во времена Генриха II и достигла, наконец, крайних степеней своего развития при королях Карле IX и Генрихе III». Генрих VIII, король Англии, по очереди приглашал двух хорошеньких дочек пекарей, Людовик XIII Французский имел несколько метресс из горожанок, бранденбургский курфюрст Иоахим I жил с развратной вдовой литейщика, красавицей Сидовин. Можно было бы привести сотню имен. Придворные дамы часто составляли не что иное, как официальный гарем князя. Приобщение к чину придворной дамы значило часто не более как то, что данная дама удостоилась чести украсить ложе короля или чести принять на своем ложе его или его принцев. О дворе Франциска I Саваль сообщает, что здесь каждая придворная дама в любой момент обязана удовлетворять султанские прихоти короля: «Король любил наносить неожиданные ночные визиты то одной, то другой придворной даме. Комнаты дам были так устроены, что король в любой момент мог явиться к ним, имея ключ от каждой комнаты». И те же нравы господствовали при многих других дворах. Так как назначение в чин придворной дамы здесь было равносильно назначению метрессы, то тем из придворных, жены которых отличались особой пикантностью или красотой, приходилось в продолжение десятилетий делиться ими с королем, а потом в продолжение годов — с дюжиной других мужчин, принцев и фаворитов. Для дамы это не считалось позором, ибо всеми признанная логика абсолютизма гласила: «Кто разделяет ложе с королем, не совершает позорного поступка, только кто отдается маленьким людям, становится проституткой, а не тот, кто дарит свою любовь королям и знати». Мужья, естественно, имели это в виду и порой даже строили на этом весь свой брак. В таких случаях «права» жены прямо заносились в брачный контракт, чтобы потом не возникало недоразумений.
За сладкое приходится горько расплачиваться.Брантом рассказывает о подобном случае: «Я слышал об одной благородной даме, которая при заключении брака выговорила у мужа право свободно отдаваться при дворе любви… В виде вознаграждения она выдавала ему ежемесячно тысячу франков карманных денег и ни о чем другом не заботилась, как только о своих удовольствиях». Если же находился муж настолько наивный, что отказывался понимать логику абсолютизма, то ему ее внушали таким убедительным образом, что он прекрасно усваивал ее себе. Доказательством пусть служит следующий случай, происшедший при дворе Франциска I. Хронист рассказывает: «Мне передавали, что однажды король Франциск хотел провести ночь с дамой, которую любил. Он встретил ее мужа со шпагой в руке: муж намеревался ее убить. Однако король направил свою шпагу ему в грудь и под страхом смерти приказал не трогать ее. Если он только посмеет хоть немного коснуться ее, король или убьет его, или велит отрубить ему голову. Он показал мужу на дверь и сам занял его место. Эта дама могла считать себя счастливой, что нашла такого покровителя, так как муж ничего ей не говорил и предоставил ей полную свободу действия. Мне передавали, что не только эта дама, но и многие другие пользовались покровительством короля. Многие люди в годы войны, желая спасти свои владения, украшают ворота королевским гербом. Так же точно многие женщины пришивали к платью королевский герб, так что их мужья ничего не могли им сказать, если не хотели лишиться жизни». Можно было бы привести массу аналогичных случаев из жизни других абсолютических дворов. Немало таких примеров, когда мужья, не желавшие понять своего положения, должны были в самом деле за это расплачиваться. Само собой понятно, что в таких случаях задача освободить княжескому любовнику дорогу к упорно защищаемому брачному ложу падала на какого-нибудь хорошо оплаченного браво (бандита)… Но все это было ничто в сравнении с кровосмешением, бывшим в аристократических семействах настолько частым явлением[91], что дочь, — по словам Саваля, — редко выходила замуж, не будучи раньше обесчещена своим собственным отцом. «Мне часто, — говорил он, — приходилось слышать спокойные рассказы отцов о связи их с собственными дочерьми, особенно одного очень высокопоставленного лица: господа эти, очевидно, не думали больше о петухе в известной басне Эзопа». Маргарита Валуа была в кровосмесительной связи со своим братом Карлом IX и с другими своими младшими братьями, из которых один, Франциск, герцог Алансонский, поддерживал с нею эту связь в течение всей своей жизни. Это не вызывало в тогдашнем обществе никакого скандала, а послужило разве материалом для нескольких эпиграмм и шутливых песен («Chansons»). Карл IX слишком хорошо знал свою сестрицу Марго, чтобы судить о ней иначе, чем было сказано в «Divorce satirique»: «Для этой женщины нет ничего священного, когда дело идет об удовлетворении ее похоти: она не обращает внимания ни на возраст, ни на положение в свете, ни на происхождение того, кто возбудил ее сладострастное желание; начиная с двенадцатилетнего возраста она еще не отказала в своих ласках ни одному мужчине». Вторым логическим выводом из мировоззрения абсолютизма было убеждение, что для мужа не составляет бесчестья служить ширмой для придворной наложницы и покрывать своей ширмой поступки своего господина. В этом сходились абсолютистические дворы мира, как и в том, что эта почтенная обязанность падала не только на низкие креатуры, но и на высших сановников государства, и на представителей древнейшей знати. Так, в Пруссии, чтобы привести только один пример, ширмой для метрессы Фридриха I служил граф Кольбе фон Вартенберг, первый канцлер ордена Черного Орла. Само собой понятно, что абсолютные князья имели преимущество у дамы даже перед ее мужем, не говоря уже о других ее избранниках. Если высокого владельца секретного ключа охватывало желание побеседовать с дамой и если он находил место уже занятым или мужем, или другим любовником, то как тому, так и другому приходилось уступить. Многочисленные исторические примеры, документально обоснованные, доказывают, что мужу красивой или почему-нибудь другому покровительствуемой дамы приходилось часто ночью оставлять ложе супруги, так как его высокому повелителю было угодно нанести ей визит, или потому, что ее пригласили в его спальню.Леонардо да Винни

Сатиры на недостатки мужчин. 1595 г.
Порою получивший отставку не успевал вовремя ретироваться, и тогда ему приходилось прятаться где-нибудь в комнате и быть свидетелем подвигов своего конкурента. Из ряда подобных случаев упомянем только один, касающийся Дианы Пуатье, официальной метрессы Генриха II, и особенно характерный своим цинизмом: «Однажды вечером Генрих постучал в дверь Дианы Пуатье, как раз когда у той находился маршал Бриссак. Последнему не оставалось ничего другого, как поспешно спрятаться под кроватью. Вошел король, делая вид, что ничего не знает о визите Бриссака… потом он попросил есть, и Диана принесла ему тарелку конфет. Генрих съел несколько штук и вдруг часть их бросил под кровать, воскликнув: "Ешь, Бриссак! Каждому надо жить"». Брантом по этому поводу сообщает: «Слыхал я, что король Франциск однажды явился в неурочное время к некоей даме, с которой у него была давняя связь— и принялся грубо стучать в ее дверь, как настоящий повелитель. Она же в то время пребывала в компании с господином де Бонниве, но не осмелилась передать ему на манер римских куртизанок: "Сейчас нельзя, синьора не одна". Ей пришлось тотчас решить, куда спрячется ее кавалер, чтобы не попасться на глаза. На счастье, дело было летом и камин был забит свежими ветками, как это было принято у нас во Франции. Вот она и посоветовала ему спрятаться в камине, за ветками, прямо в рубахе — тем более что в доме было тепло. Король же, совершив то, что ему надо было от дамы, вдруг захотел облегчиться и, не найдя подходящей посудины, направился к очагу и пустил струю прямо туда, сильно покропив бедного влюбленного кавалера; тот вымок, словно на него вылили ведро воды, — ибо она, как из садовой лейки, потекла ему на лицо, в глаза, в нос и рот; так что, возможно, несколько капель просочилось даже в глотку. Можете представить, как не повезло незадачливому кавалеру, который не посмел и пальцем пошевелить, проявив чудеса терпения и выдержки. Сделав дело, король попрощался с дамой и вышел. Та затворила за ним дверь и позвала своего любезника продолжить прерванную забаву. Она помогла ему умыться и дала другую рубаху. Все это они проделали, изрядно посмеявшись после того, как сильно перетрусили: если бы король заметил его — ни ему, ни ей не избежать бы большой беды. Дама эта была очень влюблена в господина Бонниве, но королю желала доказать обратное, хотя тот слегка ее ревновал…» Подобные неудобства были не единственными, с которыми приходилось безропотно мириться придворным. Они должны были молчать и тогда, когда высокий друг награждал их жен маленькими болезнями любви, которые затем передавались и им. Все эти и подобные неприятности были обычной и неизбежной расплатой за придворную карьеру. О Франциске I Саваль сообщает, что он всю жизнь страдал половыми болезнями и что ими поэтому страдали и весь двор, и даже королева, которую король порой все же навещал. Все это, однако, мелочи в сравнении с тем, что совершалось при дворах по мере роста рафинированности. Первым ее проявлением был обычай делать третьего человека свидетелем интимной сцены. Брантом сообщает о таком случае: «Как ни чудовищен такой разврат, он был, однако, только началом утонченности в наслаждении. Разврат систематизировался и организовывался шаг за шагом. Индивидуальное наслаждение то и дело расширялось до наслаждения массового, до оргии. Любили не только публично, но прямо в обществе, как в обществе пировали». Высшей точки этот разврат достиг, однако, не в Мадриде, Париже или Лондоне, а в Риме, при дворе различных Пап, Борджиа, Ровере и других. Многие из этих высших церковных сановников, а с ними большая масса их пышной, упоенной светом жизнерадостности свиты кардиналов, архиепископов и епископов превзошли смелостью поведения все светские дворы. В Ватикане, рядом с Папой, царила, гордая, золотом засыпанная куртизанка, прославившаяся своим искусством любви. Таким Папским любовницам, как Ваноцца, Джулия Фарнезе и дюжине других, воздвигались пышные дворцы, посвящались церкви и т. д. Сообщения хронистов изобилуют чудовищными пороками, бывшими здесь в ходу. При дворе Папы Александра VI любовь была превращена в зрелище, в котором участвовали красивые куртизанки и крепкого телосложения лакеи, и такими представлениями любовался весь двор. То, чему аплодировали в Риме, скоро вошло в моду в Париже и в Лондоне. Нам известно из описаний герцога Рочестерского, что при дворе английского короля Карла I почти столетием позже увлекались теми же увеселениями, какими восторгался Александр VI и его придворные. В связи с этим неудивительно, что распространились и всевозможные противоестественные пороки. Всюду процветали содомия, гомосексуализм и т. п. Пресыщение требовало все новых ощущений, все нового разнообразия. Те пороки, которые Аретино воспел в своих «Похабных сонетах», принадлежали еще к числу самых скромных. Порочные нравы, царившие при английском дворе в эпоху Шекспира, Брандес характеризует следующим образом: «Вместе с чувством достоинства были откинуты и все приличия. Даже старший Дизраэли, принципиальный защитник и поклонник короля Якова I, признается, что нравы двора были чудовищны, что придворные, разделявшие время между бездельем и безумным расточительством, отличались худшими пороками. Он сам цитирует стих Драйдена из его "Дурачка" о джентльмене и леди этих кругов: He's too much Woman and She's too Man»[92]. Нет ничего удивительного в том, что в этих кругах никто не хотел отказаться от своего права на разврат, обусловленного исторической ситуацией. Если обстоятельства лишали некоторых женщин — например принцесс — возможности открыто осуществлять это право, то они вели себя тем необузданнее под покровом тайны. Если любовник такого же ранга представлял для них некоторую опасность, то его заменяли кем-нибудь другим, любовью которого можно было пользоваться без опасения. Очень часто этим другим был камердинер.

Г. Гольциус. Символическое изображение прелюбодеяния. Гравюра. 1588 г.
По этому поводу Брантом сообщает: «Испорченность и извращенность нравов дошла до того, что многие мужчины вступали в связь с мужчинами, а женщины — с женщинами. Одна известная принцесса, например, будучи гермафродитом, жила с одной из приближенных. В Париже и даже при дворе было много женщин, занимавшихся лесбийской любовью, чем были даже довольны их мужья, не имевшие в таком случае никакого повода ревновать их… Я слышал от покойного господина Клермон-Тайара-сына, умершего в Лa-Рошели, что в детстве он имел честь сопровождать герцога Анжуйского, впоследствии короля Генриха III, в путешествиях и, по заведенному обычаю, учился вместе с ним, а воспитателем при них состоял господин де Гурне; и вот однажды, по прибытии в Тулузу он занимался с наставником и, сидя в уголку кабинета, вдруг углядел в узенькую щелочку (а стены кабинетов и спален были из досок, сбитых наспех, ибо кардинал д'Арманьяк, тамошний архиепископ, приказал выстроить это помещение спешно, специально для приема короля и его свиты) в соседней комнате двух весьма знатных дам; дамы эти, раздевшись до чулок, лежали одна на другой, целовались взасос, словно голубки, терли, гладили и возбуждали друг дружку и проделывали множество других развратных движений, какие присущи обычно лишь мужчинам; сие любовное действо продолжалось не менее часа, и дамы столь воспламенились и изнемогли от объятий, что даже побагровели и исходили потом, хотя стоял лютый холод; в конце концов, усталые донельзя, они недвижно раскинулись на постели. Он рассказывал, что наблюдал сию распутную игру еще несколько дней подряд, пока двор находился в Тулузе: нигде более ему не случилось видеть подобное, ибо в том месте он мог подглядывать за дамами, в других же — нет». «Некоторые женщины, — читаем мы в "Amours de rois de France"— никогда не отдавались мужчинам. Они имели у себя подруг, с которыми и делили свою любовь, и не только сами не выходили замуж, но и не позволяли этого своим подругам». Правда, искушение в этом отношении было чрезвычайно велико, так как последнему весьма благоприятствовали обстоятельства. Так как мировоззрение абсолютизма видело равного только в человеке одинакового социального положения, то дама этих кругов никогда не стеснялась перед камердинером и могла доверять ему самые интимные поручения. Немец Форберг пишет: «Благородные дамы заставляют своих рабов исполнять самые щекотливые поручения, ибо раб в глазах более высокопоставленных не является человеком, так что перед ним можно и не стыдиться, как и перед животным. По словам русских дам, надо быть одинакового с ними положения, чтобы заставить их покраснеть!» Один французский автор сообщает: «Так как слуги помогают дамам при одевании и раздевании, как то принято при наших дворах и часто практикуется и в других кругах, то им приходится видеть их прелести, и часто девушки нарочно показывают им свою красоту». Если же и связь с камердинером была сопряжена с опасностью или если она не доставляла удовольствия, то при помощи сводника или сводни устраивалось свидание с незнакомым человеком или с иностранцем, который так и не узнавал, с кем имел дело. Устройство таких приключений многократно описано не только скандальной хроникой, но и серьезной литературой. Такое приключение пережил, например, герой известного романа Гриммельсхаузена, честный малый Симплиций Симплициссимус, в бытность свою в Париже, и автор описывает это приключение со всей обстоятельностью и очаровательной пластичностью, свойственной его стилю. Речь идет о трех принцессах, обративших случайно свое внимание на статного Симплиция, а может быть, их внимание было кем-либо на него обращено. При посредстве сводни обходным путем его приводят ночью во дворец, он принимает ванну, тело его умащивается благовониями, ему дают какие-то возбуждающие средства, разжигающие кровь, общество его составляют соблазнительные декольтированные нимфы, все делается, чтобы распалить до крайности его чувство. После такой подготовки он выступает на сцену своей деятельности. Так как в комнате царит полный мрак, то он не знает, кто с ним, знает только, что это молодая, чрезвычайно красивая дама… Это повторяется каждую ночь в продолжение нескольких недель, и каждую ночь к нему приходит другая из принцесс. Из этой Венериной пещеры Симплиция отпускают, только когда он совершенно истощен и заболевает. В награду за свои услуги, в которых дамы не разочаровались, он получает значительную сумму денег.

Паоло Веронезе. Марс и Венера
Во многих других случаях приключение заканчивалось далеко не так счастливо. Когда грозила опасность разоблачения тайны, удовольствие обрывалось ударом кинжала какого-нибудь браво или сообщника, с чьей помощью герой авантюры безжалостно устранялся с пути. Разврат был, разумеется, не только самоцелью, не только вулканическим извержением таившихся в недрах эпохи сильных страстей и вожделений, но в большинстве случаев также и средством к цели. После того как любовь получила товарный характер, она стала в эту чувственную эпоху наилучше оплаченным товаром и вместе с тем наиболее ходким предметом торговли. Во всех переулках и на всех площадях стояла Венера и бесстыдно выставляла напоказ свою пышную красоту. Она стояла особенно охотно перед каждой дверью, за которой царили власть и могущество. Обладательница телесной красоты могла там получить в обмен за свою любовь не только деньги, но и власть, положение, права. И она на самом деле выторговывала все это для себя, для мужа, для братьев, для семьи. Для большинства молодых аристократок красота была тем капиталом, который они пускали в оборот и который почти всегда приносил им ростовщический процент. В своем описании английского двора конца XVI в. англичанин Вильсон говорит: «Многие молодые аристократки, очутившиеся благодаря расточительной жизни родителей в стесненном положении, смотрели на свою красоту как на капитал. Они приезжали в Лондон, чтобы продать себя, добивались значительных пожизненных пенсий, выходили затем замуж за выдающихся и состоятельных людей, и на них смотрели как на благоразумных дам, даже как на героические умы». Брантом также сообщает: «Екатерина Медичи для достижения своих политических планов пользовалась массой придворных дам и молодых девушек, которые были очень искусны в любовной стратегии. Женщины эти назывались "летучим отрядом королевы". Отряд этот состоял из 200–300 женщин, которые постоянно жили вместе, связанные друг с другом самым тесным образом». Повинуясь эротическим капризам могущественного покровителя, немало дам завоевали себе и мужьям общественное положение. Ничто так не просвещало князей относительно выдающихся способностей их подданных, как любовные таланты их жен. Соблазнительная красота жены, дочери или сестры упрощала самые сложные юридические дела. Для бесчисленного множества судей не было более убедительного аргумента, более серьезного довода в пользу обвиняемого, как прекрасная грудь или очаровательное тело его жены, в особенности если она была не прочь впустить судью в этот эдем.

Костюм французской дамы. XVII в.
В своей книге Брантом говорит: «Очень часто мужья оставляют своих жен в галерее или в зале суда, а сами уходят домой, убежденные, что жены сумеют лучше распутать их дела и скорее доведут их до решения.И в самом деле, я знаю многих, выигравших свой процесс не столько потому, что были правы, а благодаря ловкости и красоте их жен. Правда, в таких случаях жены потом часто бывали в "таком" положении». Эти слова могут быть иллюстрированы целым рядом случаев из истории всех стран. Это явление вызвало к жизни немало поговорок: «В суд надо идти с женой», «Молодые женщины имеют неопровержимые доводы», «Что может быть остроумнее красивого тела женщины, оно опровергнет доводы десяти юристов» и т. д. Так как разврат был не только целью, но и прежде всего надежнейшим средством к цели, то аристократия всегда считала наследственной привилегией своего класса право только ее дочерей на роль любовниц суверена. Иначе аристократия предоставила бы это право с готовностью бюргерству, а на самом деле она всегда оспаривала его у этого класса. Чем неблагороднее были средства, пускавшиеся в ход аристократией в борьбе за место королевской любовницы, тем выше была гордость плебеев, если женщина из этого класса побеждала своих аристократических конкуренток. И не только ее семья, удостоившаяся такой чести, утопала в блаженстве, если дочь или жена попадали в чин королевской любовницы, но часто и все бюргерство данного города исполнялось гордости и видело в этом честь, выпавшую на долю всего класса. В этой подробности ярко сказался характерный для эпохи и для классового развития момент. Чтобы ограничиться хотя бы одним примером, укажем на французского короля Людовика XI, неоднократно выбиравшего своих любовниц среди плебеев. Один хронист сообщает, что буржуазия Парижа чрезвычайно гордилась тем, что «король взял себе любовницу из ее числа». А когда потом король остановил в Дижоне свой выбор на Гюгетт Жаклин, а в Лионе на мадемуазель Жигонн, то эти города также увидели в этом для себя большую честь. Из этого общего воззрения вытекает, что, конечно, и дочери мещанства беспрестанно соперничали друг с другом в желании сделать карьеру королевской любовницы. Если, по мнению этих общественных кругов, высшим счастьем, которое могло выпасть на долю хорошенькой женщины, было стать королевской метрессой, то удостоиться внимания герцога, графа, кардинала, епископа, даже простого дворянина тоже было незаурядной честью… В конце концов, на свете существовал только один король и один Папа. Карьеру же сделать хотелось каждой. Так почему же не отдать тот чудесный капитал, который представляла собою физическая красота дочери или жены, в руки какого-нибудь платежеспособного и влиятельного аристократа? Очень многие порядочные мещанки придерживались поэтому всегда того мнения, что их любовный капитал должен по крайней мере таким образом приносить как можно больший процент. Эта столь обычная гордость горожан карьерой проститутки, делаемой их женами, представляла собой, впрочем, вполне естественное, проявление исторической ситуации. Везде там, где абсолютизм достигал господства, например в таких городах, как Париж, Лондон, Рим, Вена, Мадрид, и, кроме того, во многих епископствах, — вся буржуазия очень быстро попадала в полную экономическую зависимость от двора и потому логически воспринимала и его «мораль». Придворная роскошь, придворная нравственная разнузданность представляли собой самую доходную статью промышленного бюргерства. Там, где процветал режим метресс, процветала и торговля, ибо он был всегда связан с самой безумной роскошью. Уже одно это постоянно связывало с развратом. Далее, очень значительная часть населения состояла на непосредственной службе у двора: все государственные и городские чиновники назначались абсолютным государем. А так как королевская власть нуждалась в антураже, то все важнейшие административные должности также были приурочены к столице. По всем этим причинам бюргерство представляло собой не только тот резервуар, из которого двор черпал все новый материал людьми, но и тот резервуар, куда постоянно стекала придворная «мораль». Так неизбежно цитадели абсолютизма становились крепостями порока. Исключение составляли только те города, где мелкое ремесло было социальной и политической господствующей силой. Здесь царила всегда «сравнительная» нравственность. Многие мужчины бывали часто усерднейшими сводниками своих жен[93] и дочерей, и столько же браков были лишь замаскированными сводническими предприятиями. Эти мужья следующим образом доставляли добычу своим женам: «Они говорят любовнику: жена моя расположена к вам, она даже любит вас. Навестите ее, она будет рада. Вы можете поболтать и развлечься». Другие стараются объяснить своим женам ситуацию таким образом: «Такой-то в тебя влюбился. Я хорошо его знаю. Он часто у нас бывает, из любви ко мне, дорогая, прими его ласково. Он может доставить нам немало удовольствий, и знакомство с ним может быть для нас полезно». И когда этот человек явится, он всегда найдет красавицу жену не только одну, но вдобавок еще в восхитительном неглиже, которое и самого неуклюжего мужчину заставит найти подходящие слова. «Да и как могла бы умная жена лучше исполнить желания мужа?» И хитрая женщина превосходно умеет использовать ситуацию: «Как только друг (Gauch — точнее, простофиля, дурачок) чувствует любовный жар, ему приходится оставить золото и серебро, плащ и шубу, одежду и башмаки». Если уже приемы аристократов, продававших своих жен, не отличались особенной деликатностью, то у простонародья торговля эта велась прямо в открытую. Послушаем Гейлера из Кайзерсберга: «Если у них нет денег, то они говорят женам: "Пойди и постарайся достать денег. Пойди к тому или другому попу, студенту или дворянину и попроси взаймы гульден, а без денег домой не возвращайся, смотри заработай деньги…" И вот она покидает дом честной и благочестивой женой, а возвращается публичной женщиной». Конечно, не одни только мужчины были виновны в том, что их «благочестивые жены становились публичными женщинами», и не им одним принадлежала инициатива. Сами жены прекрасно знают, какой спрос существует у попов и дворян на капитал красоты, скрывающийся за их платьем, и, если муж отказывается купить красивые наряды и украшения, жена грозит ему просто отправиться к монахам и попам и позволить им «полакомиться ею».

Неравный брак. Сатира на влюбленных старух. 1570 г.
«Желаю, чтобы тебя лихорадка взяла! Если ты не купишь мне наряда, я побегу в монахам, к дворянам, к попам. Они купят мне платье, за которое я, как все, заплачу своим телом». Так говорит Мурнер в своем «Заклятии дураков». Если женская неверность и свободное половое общение женщин и считались тогда естественным явлением, то отсюда не следует заключать, что оно было вместе с тем и самым простым и безопасным делом. Лицом к лицу с изображенными здесь кругами и индивидуумами стояло немало и таких мужей, которые с величайшей страстностью и ревностью охраняли свои самодержавные права на супружеское ложе. В этих случаях жена должна была домогаться посторонней любви на собственный риск и страх. А если она так поступала, то это очень часто грозило жизни как неверной жены, так и любовника, ворвавшегося в чужую собственность. «Отсутствию предрассудков» у одних вполне соответствовала жестокая мстительность других, когда они застигали виновника на месте преступления. В нашем распоряжении немало описаний, рассказов и пластических изображений, знакомящих нас с такими актами мести. Здесь налицо все виды мести и кары со стороны оскорбленного в своих правах мужа. Вот что сообщает Брантом по этому поводу: «…Один бравый и отважный военачальник, заподозрив в неверности свою жену, взятую из весьма добропорядочного дома, не мешкая явился к ней и задушил собственноручно ее же белым шарфом, вслед за чем устроил самые пышные похороны, где и показался с видом искренней скорби, облаченный в глубокий траур, который носил еще долгое время спустя; вот какая честь выпала бедняжке, удостоенной столь торжественной церемонии. И тем же манером поступил он с наперсницей своей жены, помогавшей ей в любовных делишках…»[94] Наиболее распространенное наказание заключалось, как и во все времена, в том, что муж избивал обоих провинившихся. Часто он призывал соседей, чтобы выставить обоих прелюбодеев на публичное посмеяние, но так поступали только глупцы, забывавшие, что они тем выставляют напоказ свой собственный позор и сами же ставят себя в неловкое положение. Такого позора муж избегает только тогда, когда убивает обоих. Циники мстят так, что сначала подвергнут любовника на глазах неверной жены гнусному наказанию, а потом уже убивают его. Такие акты мести рассказаны нам многими новеллистами. Другая разновидность циничной мести состояла в том, что муж кастрировал любовника, а жена должна была присутствовать при этой ужасной процедуре, о чем у нас также имеется немало сообщений. Самое дьявольское наказание, какое только мог придумать обманутый муж, приписывается одному итальянскому дворянину, который имел право считать самого себя чрезвычайно сильным в любви. Так как его жене и этого было мало и она все-таки отдавалась любовникам, то он заметил цинично: «Надо дать ей возможность хоть раз в жизни насытиться» — и предал ее в руки двенадцати оплаченных носильщиков и гребцов, пока несчастная не скончалась, что произошло на третий день. Брантом сообщает: «Вот отчего мужьям следует укрощать своих жен после первой же бесчестной измены, не иначе как отпустив узду и только посоветовав им вести делишки шито-крыто, не допуская до скандала[95]; ибо все лекарства от любви, описанные Овидием, все неисчислимые изощренные средства, с той поры изобретенные, даже и те, что мэтр Франсуа Рабле открыл почтенному Панургу, все равно что мертвому припарки, разве только пустить в дело старинную припевку времен короля Франциска I:
Кто не хочет, чтоб жена
Хоть разок была грешна,
Посади ее в горшок,
Да на погреб, в холодок!»
«Пояс целомудрия»
 ести обманутого мужа соответствовал не менее жестокий прием предусмотрительного мужа искусственно обеспечить себе находившуюся в опасности верность жены. Мы имеем в виду механические средства защиты физической верности жены, которыми пользовались мужья в эпоху Ренессанса.
Как ни высоко ставили действие моральной проповеди, прославляя на все лады целомудрие, все же более хитрые мужья думали: «Чем безопаснее, тем лучше». И это «лучшее» находили в том, что дьяволу — в данном случае дьяволу разврата — ставили ножку, портили ему игру. А этой цели лучше всяких моральных принципов и восторженных похвал целомудрию достигали, по мнению предусмотрительных мужей, прочные механические средства, «запиравшие вход в эдем земной любви». Раз жена знала, что она лишена возможности удовлетворить просьбы любовника, то она могла из необходимости сделать добродетель, отвергнуть с гордым выражением лица нашептывания алчного любовника и с более спокойной совестью победить собственные дурные мысли.
Эта философия привела к изобретению железного охранителя целомудрия, известного под названием «пояса целомудрия», или «пояса Венеры». Он был устроен так, что носившая его на себе женщина могла исполнять свои естественные потребности, но не половой акт, и запирался очень сложным замком, ключ от которого находился в руках мужа, жениха или любовника.
«Пояс целомудрия» был, бесспорно, не единственным техническим средством, которым пользовались против неверности женщин[96]. Низшие сословия использовали другие средства. Эти приемы заключались в том, что в женский половой орган вводились предметы, которые нелегко изъять, или впрыскивались разные кислоты, вызывавшие длительные воспалительные процессы и доставлявшие женщине при малейшем прикосновении самые ужасные боли. Об употреблении таких средств в эпоху Ренессанса у нас более подробных сведений не имеется, и только косвенно, исходя из внутренней логики явлений, мы вправе заключить, что ревность господского права отличалась тогда не меньшей продуктивностью и жестокостью, чем теперь.
Безусловно достоверные сведения имеются у нас об употреблении «пояса Венеры», а также о распространенности этого средства. Установлено, что им пользовались во всех странах, и притом в течение целых столетий. Романтики, идеализирующие прошлое, ни за что не хотели допустить возможности подобной жестокости или в крайнем случае относили его употребление к средним векам, к эпохе крестовых походов. Поступая так, можно было оправдать применение этого средства тем, что рыцарь пользовался им поневоле не только для того, чтобы обеспечить себе верность жены во время своего отсутствия, а главным образом для того, чтобы обезопасить ее от возможного изнасилования.
Сомнение в фактическом существовании «пояса целомудрия», утверждение, что мы имеем здесь дело с придуманной более поздними эпохами эротической мистификацией, находили себе пищу в том обстоятельстве, что при ближайшем исследовании хранящихся в разных коллекциях и музеях поясов многие оказались более или менее рафинированными подделками. Но рядом с ними имеется и не меньшее количество настоящих, а кроме того, в последнее время удалось найти немало литературных свидетельств в пользу их существования. Еще гораздо более важно следующее обстоятельство: новейшие раскопки доказывают истинное существование этого средства. Последнее относится, например, к поясу коллекции Пахингера из Линца. Этот пояс был найден его владельцем на скелете молодой женщины, относящемся к XVI в., вырытом на одном австрийском кладбище случайно в его присутствии. Установить имя и социальное положение этой женщины оказалось невозможным. Что женщина эта принадлежала к высшему классу, видно было из того, что скелет находился в оловянном гробу.
ести обманутого мужа соответствовал не менее жестокий прием предусмотрительного мужа искусственно обеспечить себе находившуюся в опасности верность жены. Мы имеем в виду механические средства защиты физической верности жены, которыми пользовались мужья в эпоху Ренессанса.
Как ни высоко ставили действие моральной проповеди, прославляя на все лады целомудрие, все же более хитрые мужья думали: «Чем безопаснее, тем лучше». И это «лучшее» находили в том, что дьяволу — в данном случае дьяволу разврата — ставили ножку, портили ему игру. А этой цели лучше всяких моральных принципов и восторженных похвал целомудрию достигали, по мнению предусмотрительных мужей, прочные механические средства, «запиравшие вход в эдем земной любви». Раз жена знала, что она лишена возможности удовлетворить просьбы любовника, то она могла из необходимости сделать добродетель, отвергнуть с гордым выражением лица нашептывания алчного любовника и с более спокойной совестью победить собственные дурные мысли.
Эта философия привела к изобретению железного охранителя целомудрия, известного под названием «пояса целомудрия», или «пояса Венеры». Он был устроен так, что носившая его на себе женщина могла исполнять свои естественные потребности, но не половой акт, и запирался очень сложным замком, ключ от которого находился в руках мужа, жениха или любовника.
«Пояс целомудрия» был, бесспорно, не единственным техническим средством, которым пользовались против неверности женщин[96]. Низшие сословия использовали другие средства. Эти приемы заключались в том, что в женский половой орган вводились предметы, которые нелегко изъять, или впрыскивались разные кислоты, вызывавшие длительные воспалительные процессы и доставлявшие женщине при малейшем прикосновении самые ужасные боли. Об употреблении таких средств в эпоху Ренессанса у нас более подробных сведений не имеется, и только косвенно, исходя из внутренней логики явлений, мы вправе заключить, что ревность господского права отличалась тогда не меньшей продуктивностью и жестокостью, чем теперь.
Безусловно достоверные сведения имеются у нас об употреблении «пояса Венеры», а также о распространенности этого средства. Установлено, что им пользовались во всех странах, и притом в течение целых столетий. Романтики, идеализирующие прошлое, ни за что не хотели допустить возможности подобной жестокости или в крайнем случае относили его употребление к средним векам, к эпохе крестовых походов. Поступая так, можно было оправдать применение этого средства тем, что рыцарь пользовался им поневоле не только для того, чтобы обеспечить себе верность жены во время своего отсутствия, а главным образом для того, чтобы обезопасить ее от возможного изнасилования.
Сомнение в фактическом существовании «пояса целомудрия», утверждение, что мы имеем здесь дело с придуманной более поздними эпохами эротической мистификацией, находили себе пищу в том обстоятельстве, что при ближайшем исследовании хранящихся в разных коллекциях и музеях поясов многие оказались более или менее рафинированными подделками. Но рядом с ними имеется и не меньшее количество настоящих, а кроме того, в последнее время удалось найти немало литературных свидетельств в пользу их существования. Еще гораздо более важно следующее обстоятельство: новейшие раскопки доказывают истинное существование этого средства. Последнее относится, например, к поясу коллекции Пахингера из Линца. Этот пояс был найден его владельцем на скелете молодой женщины, относящемся к XVI в., вырытом на одном австрийском кладбище случайно в его присутствии. Установить имя и социальное положение этой женщины оказалось невозможным. Что женщина эта принадлежала к высшему классу, видно было из того, что скелет находился в оловянном гробу.

Железный «пояс целомудрия». XVI в.
Безусловно настоящие пояса находятся, далее, в Мюнхенском национальном музее, в Венеции, в королевских коллекциях в Мадриде, в музее, Toussand (Тюссо) в Лондоне, в музее в Пуатье. Следует заметить, что все эти пояса относятся к эпохе Ренессанса, среди них нет ни одного экземпляра, который восходил бы дальше начала XV в. Для оценки этого инструмента с точки зрения истории нравов важно знать, какие классы употребляли его и как часто его использовали. На первый вопрос необходимо ответить, что это были господствующие и имущие классы: купеческая крупная буржуазия и круги, связанные с княжеским абсолютизмом. Что же касается второго вопроса, а именно распространенности этого средства, то нужно думать, что оно было значительно в этих классах и в особенности в кругах абсолютизма и в группах, экономически и социально с ним связанных. Сфера распространения «пояса целомудрия» определяется их драгоценностью и изысканной обработкой — многие из них сделаны из серебра, золота, отличаются красивой чеканкой и инкрустацией. Распространенность поясов подтверждается немалым количеством литературных ссылок[97]. Другим доказательством служат многочисленные изображения, сохранившиеся до нас и иллюстрирующие его употребление. Если большинство изображений немецкого происхождения, то литературные данные встречаются во всех странах и рассеяны повсюду: в новеллах, стихотворениях, поговорках, пословицах, загадках, шванках, масленичных пьесах, а также в хрониках и современных сообщениях. Благодаря такому сравнительному изобилию литературных данных мы довольно точно осведомлены о возникновении этого обычая в разных странах и городах, о внешнем виде этого инструмента, о его конструкции, способе применения, об отношении к нему женщин и т. д. По наиболее распространенной версии, первым изобретателем этого пояса был падуанский тиран Франческа II, по другой версии, большинство поясов изготовлялось в Бергамо, поэтому они назывались не только «венецианскими решетками», но и «бергамскими замками», и было в ходу выражение «запереть свою жену или любовницу на бергамский лад». По всей вероятности, изобретение было сделано одновременно в разных местах. Что «пояс целомудрия» был до известной степени официальным средством, видно из того, как о нем упоминается. Молодому человеку, просящему руки дочери, мать с гордостью заявляет, что та уже с двенадцати лет носит днем и ночью «венецианскую решетку». Другой, которому важно жениться на нетронутой девушке, касается бедер невесты и, когда под платьем нащупывает железный пояс, объявляет себя удовлетворенным. Молодожен получает в тот момент, когда приводят жену к его ложу — свадьба обыкновенно справлялась в доме родителей невесты, — от ее матери добросовестно годами охраняемый ключ к искусно сделанному замку, и становится отныне его единоличным обладателем. На «замок целомудрия» обращены прежде всего взоры молодого мужа, и, торжествуя, заявляет он несколько мгновений спустя ожидающим перед дверью родителям и друзьям, что «замок и ворота оказались невредимыми».

Мартин Трей. Танцующие крестьяне
Иногда «изящная решетка Венеры» — первый подарок, подносимый молодым мужем своей молодой жене на другое утро после свадьбы. Она так наивна, что не знает, что делать с этим подарком. Муж объясняет любопытной, для какой цели она должна носить это своеобразное украшение, и сам опоясывает ее им. «Отныне закрыта возможность преступной любви», и жена носит эту «лучшую защиту добродетели почтенных женщин» всегда, когда не покоится рядом с мужем. Когда патриций или феодал отправляется в далекие страны, он заказывает для своей «похотливой жены друга, который лучше всего сумеет защитить ее верность». Этот надежный друг — «узда из железа, которой можно укрощать похотливых женщин», даже тогда, когда муж находится на чужбине. Обо всех этих подробностях современная литература и искусство дают более или менее детальные сведения. Внешний вид и конструкция «пояса Венеры» явствуют из одного диалога Меурзиуса между невестой и молодой женщиной: «О к т а в и я. В последнее время я слышала не одну беседу между Юлией и моей матерью о "поясе целомудрия". И однако, я не представляю себе, что это за пояс, который делает женщин целомудренными. Ю л и я. Я тебе скажу… Золотая решеточка висит на четырех стальных цепочках, обвитых шелковым бархатом и искусно прикрепленных к поясу из того же металла. Две цепочки приделаны спереди, две сзади решетки и поддерживают ее с двух сторон. Сзади поверх бедер пояс запирается на замок, отпирающийся совсем крошечным ключиком. Решетка приблизительно шесть дюймов вышины, три дюйма ширины и покрывает таким образом все тело между бедрами и нижней частью живота». Из этого описания видно, что существовали еще и другие конструкции, кроме тех, которые нам известны по дошедшим образцам.
Удачный брак, если он вообще существует, отвергает любовь и все ей сопутствующее; он старается возместить ее дружбой. Это — не что иное, как приятное совместное проживание в течение всей жизни, полное устойчивости, доверия и бесконечного множества весьма осязательных взаимных услуг и обязанностей.На распространенность «пояса Венеры» в Германии указывает следующая надпись, выгравированная на поясе, хранящемся в замке Эрбах в Оденвальде: «Мы хотим вам нажаловаться, что нас — женщин — изрядно замучили этими замками». Эта надпись служит пояснением к изображению, также находящемуся на поясе: на коленях мужчины сидит женщина, которая не прочь помочь ему достичь обоим желанной цели. Из Италии Морлини сообщает: «С той поры и по сию пору знатные люди Милана опоясывают своих жен золотыми или серебряными, искусно сделанными поясами, запирающимися у пупка на ключ и имеющими только несколько маленьких отверстий для естественных потребностей, и затем предоставляют им жить свободно и без надзора». В новеллах Корнацано встречается рассказ о том, как купцы, уезжающие на продолжительное время на чужбину, обеспечивают себе таким образом верность своих жен: «Был там и купец, муж прекрасной женщины. Так как он должен был ехать за море и не был уверен в жене, которую многие любили и желали, он решил сделать так, чтобы она не могла впасть в грех, даже если бы сама этого захотела. И вот он приказал сделать пояс ассирийского типа, изобретенный Семирамидой. Он опоясал ее этим поясом, взял ключ и спокойно решил ехать на Восток». О «поясе Венеры» как предохранителе против женской неверности упоминает и Рабле, указывающий на то, что его следует надевать на женщин каждый раз, когда выходишь из дома: «Да возьмет меня черт, если я не запираю свою жену на бергамский лад каждый раз, когда покидаю свой сераль». Вот несколько документов, свидетельствующих об употреблении «пояса целомудрия» в разных странах и у разных классов. Из них мы узнаем еще нечто — нечто более важное, а именно о злой иронии истории, обнаружившейся в данном случае. Эпоха, изобретшая «пояс целомудрия», сейчас же напала и на мысль о воровском ключе. Мы узнаем, что тот же торговец, который продавал мужьям за дорогие деньги «пояс целомудрия», в то же время продавал их женам за не меньшие деньги второй ключ — «противоядие против морали». Пословица выразила фатальную мораль истории в следующих сжатых словах: «На женщину, которая не желает защищаться, ты тщетно наденешь пояс». Если такая «Гименеем на замок запертая» дама сама не имела второго ключа, то для могущественного человека, который натыкался у снисходительной к нему дамы на такое препятствие, не было особенно трудно найти ловкого слесаря, способного в несколько, часов открыть сложный замок и соорудить другой ключ, при помощи которого любовник мог впредь по своему усмотрению отпирать мешавшие его предприимчивости врата и снова их запирать, не возбуждая в муже дамы ни тени подозрения. В предисловии, которым Клеман Маро снабдил свои эпиграммы, подобный случай описан очень подробно. Соблазнителем является в данном случае французский король Франциск I, этот второй царь Давид, а Урией — вассал короля, барон д'Орсонвиллье. Новая Батшеба[98], прекрасная баронесса д'Орсонвиллье, так же уступчива по отношению к своему соблазнителю, как и ее исторический прообраз, и охотно отдает себя в руки ловкого слесаря, который должен устранить замок и открыть ее любовнику врата эдема. Аналогичные случаи часто рассказаны в форме новелл, причем преступная любовь всегда достигает своей цели, ибо Амур[99] всегда в союзе с силой, домогающейся исполнения своих желаний. Сюжет этот часто служил мотивом и для художников. «Любовь моя на замке, о Амур, приди и раскрой ворота!» — и Амур появляется услужливо со связкой ключей, чтобы исполнить желание дамы. Превосходный политипаж в красках — «Неравный любовник», приписываемый, быть может, не без основания Петру Флетнеру, воспроизводит тот же мотив. Более молодой из двух мужчин гордо заявляет: «У меня ключ к подобным замкам». И красавица дама охотно покупает этот ключ за деньги, которые она полными пригоршнями вынимает из кармана старого ревнивого мужа. Эта великолепная картина допускает двоякое толкование. При помощи денег, на которые не скупится муж, жена может подкупить самого ловкого золотых дел мастера, но ближе к истине, вероятно, второе толкование: жена отдает любовнику не только свою любовь, но и деньги, которые муж в изобилии тратит на нее. В таком случае ключ, который она покупает, имеет еще другое, аллегорическое значение. Большинство женщин, как упомянуто, однако, сами обладали вторым ключом, который и передавали вместе с любовью избранному мужчине. Такой случай изображался и иллюстрировался чаще указанного. На одной гравюре Альдегревера красавица дама, опоясанная «поясом целомудрия», протягивает изумленному юноше любовнику ключ в тот момент, когда он ее обнимает. На гербе Мелхиора Шеделя опоясанная «поясом целомудрия» женщина держит в одной руке ключ, а в другой, протянутой искушающим жестом, — полный кошелек: здесь, следовательно, также любовника ожидает за любовь, которой он домогается, еще и звонкая награда. Всем этим, однако, не исчерпывается ирония, о которой мы выше говорили. Что эпоха, создавшая «пояс Венеры», изобрела и второй ключ, так что защита против женской неверности становилась не более как иллюзорной, — это только одна, и притом далеко не самая крупная фатальность. Главная ирония заключалась в том, что «пояс целомудрия», усыпив бдительность ревнивых мужей, сделался главным виновником неверности их жен. Муж уже не боялся галантных шуток, которые позволяют себе с его красавицей женой гости или друзья, и потому чаще и дольше отсутствовал дома, чем делал бы при других условиях. Так создавались сотни, ранее не существовавших возможностей для измены. И вполне в порядке вещей, что жены в большинстве случаев старались использовать все эти сотни возможностей. Или, как говорила пословица: «Пояс девственности с замком только усиливает неверность жен». И таков в самом деле итог всех сообщений и описаний, посвященных применению «пояса целомудрия». В небольшом сочинении «Le miroir des dames de notre temps»[100] говорится: «Я знал несколько женщин, славившихся во всем городе как образцы супружеской верности и целомудрия и, однако, всегда имевших одного или несколько любовников и часто менявших их в течение года. Некоторые из них имели детей от этих любовников, так как известно, что немало женщин предпочитают забеременеть от друга или любовника, даже от незнакомого человека, чем от мужа. Репутация этих женщин, вне всякого сомнения, в глазах их мужей стояла высоко. Это происходило оттого, что они носили те самые венецианские замки, которые считаются надежнейшей опорой против неверности жен». Такова высшая ирония, постоянно скрывавшаяся в обычае «пояса целомудрия». Он искусственно создавал из женщины проститутку. Трудно придумать более странную и смешную иронию!Мишель Монтень

Фрагменты
Фрагмент 14. Аньоло Фиренцуола[101]. Из «Бесед о любви»
«Новелла V Монна Франческа влюбляется в фра Тимотео, а в то время, когда она с ним тешится, ее дочь Äaypa, узнав об этом, принимает у себя своего любовника. Мать это замечает и ругает ее, но Лаура метким словом заставляет ее замолчать, и та, устыдившись своей неправоты, мирится с дочерью. …В Сьене на улице Кампореджи жила (а было это не настолько давно, чтобы каждый из вас не мог этого припомнить) некая монна Франческа из очень хорошей семьи и очень богатая, которая осталась вдовой, имея при себе замужнюю дочку. Не помню уж, за сколько месяцев до того она выдала ее за некоего Мео ди Мино да Росси, который, будучи занят по делам имений великолепного Боргезе, тогдашнего правителя города, проводил большую часть времени вне Сьены. Был у нее и сынишка, которому едва исполнилось семь лет. Не желая больше выходить замуж, она весьма скромно посвятила себя заботам о детях. Так она и жила, а между тем некий доминиканский монах, бакалавр богословия по имени фра Тимотео, увидав, что она еще свежа и красива, на нее позарился. А так как у него от многих послушаний, которые он на себя возлагал, и от великих постов, которые он часто справлял, так сияла кожа, что можно было бы даже в январскую стужу запалить лучину о его румяные щечки, добрая женщина, быть может, полагавшая, что для ее мирного вдовьего жития только и недоставало такого человека, который бы без лишнего шума обслуживал ее вдовьи потребности, подумала, что именно он-то ей и нужен… Она породнилась с Господом Богом и так часто ходила исповедоваться и так охотно проводила время в Сан Доменико[102], что по соседству шептались, будто она уже наполовину святая. И в то время как все это происходило так, как вы слышали, Лаура, так звали дочь монны Франчески, уже по многим признакам убедившаяся в мудрости своей матери и не желая опровергать прекрасную пословицу, гласящую: «куриному отродью и копаться след», решила во всем идти по ее стопам. И в короткое время ей удалось так хорошо все устроить, что, когда мать ее открывала свою совесть благочестивому монаху, она у некоего мессера Андреуоло Паннилини, который был доктором права, обучалась тому, как ей вести себя при исполнении супружеских обязанностей. И случилось в один из многих разов, что добрая вдова, приведя к себе в спальню своего духовного отца, не сумела это сделать достаточно скрытно, чтобы не заметила дочь, которая, не имея больше оснований ее остерегаться, как только в этом убедилась, вызвала через своего братишку некую соседку Аньезу, охотно обслуживавшую нужды бедных влюбленных, исполняя их поручения, и послала ее к любовнику сказать, чтобы он скорее приходил. Получив это сообщение, мессер не замедлил явиться и, проникнув в спальню привычным путем, спокойно улегся с Лаурой в постель. Лаура же, вместо того чтобы вести себя так, чтобы ни мать, ни кто другой их не слышал, громким голосом, как если бы она была с мужем, расточала ему самые нежные слова… Но и доктор, который был обо всем предупрежден, со своей стороны не отставал в исполнении своих обязанностей, так что в конце концов они подняли такой ужасный шум, что он достиг ушей монны Франчески. Как только она это услыхала, она, тихо-тихо подойдя и приложившись к двери, за которой они находились, окончательно уяснила себе, что шум этот был не от слов, а совсем от другого. И, как бывает с теми, кто больше печется о чужом грехе, чем о своем, она безмерно огорчилась и, толкнув дверь с невероятной яростью, войдя и застав Лауру в постели, накинулась на дочь с таким бешенством, что, казалось, готова была проглотить ее живьем, и стала осыпать ее самой разнузданной бранью, какую когда-либо приходилось слышать женщинам дурного поведения… Она подняла такой крик, какого еще никогда не поднимала ни одна бедная бабенка, потерявшая петуха вместе с курами. На это Лаура, которая, пока мать так на нее кричала, все время стояла с опущенными в землю глазами, словно ей было стыдно, отвечала, делая вид, что она вроде как бы теряется: — Дражайшая мать моя, я признаю, что поступила дурно, и прошу у вас прощения; считаясь как с вашей, так и с моей честью, соблаговолите извинить меня на этот раз и не говорить об этом моему мужу, ибо клянусь вам своей к нему любовью, что никогда больше ничего не сделаю против вашей воли. А для того чтобы Господь Бог мне простил этот тяжкий грех и извлек меня из пасти Люцифера, что в Санта Мария де Серви[103], и вынул великое жало, сидящее в глубине моей совести, я намереваюсь исповедаться перед тем, как лечь спать, и потому соблаговолите послать в вашу спальню за святым отцом, которого вы держите там взаперти. Мне хочется, чтобы именно он совершил это доброе дело. Теперь сами подумайте, милые дамы, что сталось с бедной матерью, когда она услыхала такие слова, и не пожалела ли она, что столько причитала над тем, в чем увидела себя так позорно уличенной. И пока она, чтобы скрыть свой стыд, собиралась наговорить совсем некстати не знаю уж каких глупостей, мессер Андреуоло, который все время оставался за занавеской, потешаясь над тем, что происходило, считая, что ему, как хорошему юристу, полагается разрешить этот казус, неожиданно появившись, сказал ей: — Монна Франческа, к чему столько слов и все это изумление? Если вы застали вашу дочь с юношей, а она вас застала с монахом, игра вничью, и потому отдайте двадцать четыре динария за один сольдо. Самое лучшее для вас — это вернуться к нему в спальню и сделать так, чтобы я остался здесь с Лаурой и чтобы мы все четверо в священном согласии насладились каждый своей любовью…» Перевод А. Габричевского. (Цитируется по изданию: Итальянская новелла Возрождения. М., 1964.)Фрагмент 15. Джованни Боккаччо. «Декамерон»
«День IX. Новелла VI Двое молодых людей заночевали в гостинице; один из них идет спать с дочерью хозяина, жена которого по ошибке улеглась с другим. Тот, что был с дочерью, ложится затем с ее отцом и, приняв его за своего товарища, рассказывает ему обо всем. Между ними начинается ссора. Жена, спохватившись, идет на постель к дочери и затем улаживает все несколькими словами. …В долине Муньоне не так давно жил некий человек, который за деньги кормил и поил проезжавших; хотя он был беден и дом у него был маленький, он, в случае большой нужды, пускал к себе на ночлег, если не всех, то знакомых людей. У него была жена, очень красивая женщина, с которой он прижил двоих детей: дочь, красивую и милую, пятнадцати или шестнадцати лет, еще не выданную замуж, и маленького сына, которому не было еще и года и которого мать кормила сама. Молодая девушка обратила на себя взоры одного молодого человека, красивого и приятного, из родовитых людей нашего города, который, часто бывая там, полюбил ее горячо, а она, очень гордясь любовью такого юноши и изо всех сил стараясь привлечь его приветливым обхождением, также влюбилась в него, и много раз, при обоюдном их желании, их любовь увенчалась бы успехом, если бы Пинуччо, так звали юношу, не боялся бесчестья девушки и своего. Между тем страсть их росла изо дня в день, и у Пинуччо появилось желание сойтись с нею во что бы то ни стало, и он стал придумывать повод, чтобы заночевать у ее отца, а так как он был знаком с внутренним расположением дома девушки, он рассчитывал, что если это удастся, то он останется у нее, никем не замеченный; лишь только эта мысль у него возникла, он немедля приступил к действию. Однажды вечером в довольно поздний час он вместе со своим верным товарищем, по имени Адриано, знавшим о его любви, взяли наемных лошадей, привязали к ним два чемодана, может быть набитых соломой, выехали из Флоренции и, сделав объезд, прибыли верхом в долину Муньоне уже к ночи; здесь, повернув коней, как будто они возвращались из Романьи, они подъехали к дому и начали стучаться; хозяин, хорошо знавший обоих, тотчас же отворил им дверь. Пинуччо сказал ему: «Тебе придется приютить нас на ночь, мы думали, что успеем добраться до Флоренции, но замешкались и вынуждены были приехать сюда, видишь, в какой поздний час». На это хозяин ответил ему: «Ты хорошо знаешь, Пинуччо, что я не в состоянии оказать приют таким господам, как вы, но, так как поздний час застал вас здесь и нет времени ехать в другое место, я охотно устрою вас, как могу». Сойдя с лошадей и направившись в гостиницу, молодые люди прежде всего поставили своих коней, затем, захватив с собою хороший ужин, поели вместе с хозяином. Была у хозяина всего одна очень маленькая комнатка, где он поставил три кровати; свободного места оставалось мало, ибо две постели помещались вдоль одной стены комнаты, третья напротив их по другой, так что пройти там можно было лишь с трудом. Из этих трех постелей хозяин велел приготовить ту, что получше, для обоих товарищей и уложил их. Немного погодя, когда никто из них еще не заснул, хотя они и притворились спящими, хозяин велел в одну из оставшихся постелей лечь дочке, а в другую лег сам с женой. Та поставила рядом с постелью, где спала, люльку, в которой спал малолетний сын. Когда все так устроилось, Пинуччо, видевший все это, полагая, что все заснули, через некоторое время тихо встал и, подойдя к постели, где лежала любимая им девушка, прилег к ней, принявшей его радостно, хотя делала она это и не без страха; с ней он и остался, предаваясь тем утехам, которых они наиболее желали. Пока Пинуччо был с девушкой, случилось, что кошка что-то уронила, и это услышала, проснувшись, хозяйка; боясь, что шум от чего-либо другого, она, поднявшись впотьмах, как была, пошла туда, откуда ей послышался шум. Адриано, не обративший на это внимания, случайно встал за нуждою; идя за этим делом, он наткнулся на люльку, поставленную хозяйкой, а так как, не убрав ее, не было возможности пройти, он снял ее с места, где она стояла, и поместил рядом с постелью, где сам спал; совершив все, зачем поднялся, и возвращаясь, он, не заботясь о люльке, лег в постель. Хозяйка, поискав и убедившись, что упало не то, что она воображала, не захотела зажигать огонь, чтобы посмотреть, что это было, и, покричав на кошку, вернулась в комнатку и на ощупь направилась прямо к кровати, где спал муж. Не найдя люльки, она сказала себе: «Ох, какая же я дура, поди-ка, чего было не наделала! Ведь я, ей-богу, угодила бы прямо в постель моих гостей!» Пройдя немного далее и натолкнувшись на люльку, она легла в ту постель, что была с ней рядом, и улеглась с Адриано, полагая, что лежит с мужем. Адриано, еще не успевший уснуть, почувствовав это, встретил ее хорошо и приветливо и, не говоря ни слова, пошел на парусах, к великому удовольствию хозяйки. Так было дело, когда Пинуччо, убоявшись, чтобы сон не застал его с его милой, получив от нее то наслаждение, какого желал, поднялся от нее, чтоб вернуться в свою постель, и, встретив на пути люльку, вообразил, что это постель хозяина; поэтому, подойдя к ней поближе, он лег рядом с хозяином. Тот проснулся от прихода Пинуччо. Пинуччо, вообразив, что рядом с ним Адриано, сказал: «Говорю тебе, не было ничего слаще Никколозы, клянусь Богом, я насладился более, чем когда-либо мужчина с женщиной, и уверяю тебя, что раз шесть и более ходил на приступ с тех пор, как ушел отсюда». Когда хозяин услышал эти вести, очень ему не понравившиеся, он прежде всего подумал про себя: «Какого черта он здесь делает?» Затем, больше под влиянием гнева, чем благоразумия, сказал: «Пинуччо, ты сделал великую мерзость, и я не понимаю, зачем ты мне ее учинил; но, клянусь Богом, ты мне за это поплатишься!» Пинуччо, как молодой человек не из особенно рассудительных, заметив свой промах, не поспешил загладить его, а говорит: «Чем это ты мне отплатишь? Что можешь мне сделать?» Жена хозяина, полагая, что она с мужем, сказала Адриано: «Ахти мне! Слышишь ли, наши гости о чем-то бранятся». Адриано ответил, смеясь: «Пусть их, да пошлет им Господь всего худого, вчера они выпили лишнее». Жена, которой послышалось, что ругается муж, услышав теперь голос Адриано, тотчас же поняла, где она и с кем; вследствие этого, как женщина находчивая, она, не говоря ни слова, тотчас же встала и, схватив люльку с сынком, хотя в комнате и не было света, наугад пронесла ее к постели, где спала дочка, и с ней улеглась; затем, будто проснувшись от крика мужа, окликнула его и спросила, что у него за спор с Пинуччо. Муж отвечал: «Разве ты не слышишь, что он говорит, какое у него ночью было дело с Никколозой?» Жена сказала: «Он отъявленно врет. С Никколозой он не спал, я легла с нею и с тех пор никак не могла заснуть, а ты ― дурак, что ему веришь. Вы так напиваетесь по вечерам, что ночью вам снится, и вы бродите туда и сюда, ничего не понимая, и вам кажется, вы бог знает что творите. Очень жаль, что вы не сломите себе шею, но что ж делает там Пинуччо, почему он не в своей постели?» С другой стороны, Адриано, видя, как умно покрывает хозяйка свой стыд и стыд дочки, сказал: «Сто раз говорил я тебе, Пинуччо, не броди, у тебя дурной обычай вставать во сне, выдавать небылицы, которые тебе видятся, за быль; сыграют с тобой когда-нибудь злую шутку. Ступай сюда, да пошлет тебе Господь лихую ночь!» Услышав, что говорит жена и что Адриано, хозяин стал приходить к полному убеждению, что Пинуччо снится, потому, схватив его за плечи, он стал его трясти и будить, говоря: «Пинуччо, проснись же, вернись к себе в постель». Поняв, о чем говорилось, Пинуччо принялся, словно сонный, нести и другую околесицу, что страшно смешило хозяина. Наконец, чувствуя, что его трясут, он сделал вид, что проснулся, и, окликнув Адриано, спросил: «Разве уже рассвело, что ты зовешь меня?» — «Да, поди сюда», — ответил Адриано. Тот, притворяясь и представляясь совсем сонным, поднялся наконец от хозяина и вернулся в постель Адриано. Когда наступил день и все встали, хозяин начал смеяться и издеваться над ним и его снами. Так, среди шуток, молодые люди оседлали своих лошадей, взвалили чемоданы и, выпив с хозяином, верхом поехали во Флоренцию, не менее довольные тем, что произошло, чем исходом самого дела. Впоследствии, изыскав другие меры, Пинуччо виделся с Никколозой, продолжавшей утверждать матери, что ему в самом деле приснилось, почему хозяйка, помнившая объятия Адриано, была убеждена, что она одна лишь бодрствовала». Пер. А. Н. Веселовского. (Цитируется по изданию: Джованни Боккаччо. Декамерон. М., 1999.)Фрагмент 16. Джованни Боккаччо. «Декамерон»
«День Ill. Новелла X Алибек становится пустынницей; монах Рустико научает ее, как загонять дьявола в ад; вернувшись оттуда, она становится женой Неербала. …В городе Капсе в Берберии был когда-то богатейший человек, у которого в числе нескольких других детей была дочка, красивая и миловидная, по имени Алибек. Она, не будучи христианкой и слыша, как многие бывшие в городе христиане очень хвалят христианскую веру и служение Богу, спросила однажды одного из них, каким образом с меньшей помехой можно служить Богу. Тот отвечал, что те лучше служат Богу, кто бежит от мирских дел, как то делают те, кто удалился в пустыни Фиваиды. Девушка, будучи простушкой, лет, быть может, четырнадцати, не по разумному побуждению, а по какой-то детской прихоти, не сказав никому ничего, на следующее утро совсем одна тихонько пустилась в путь, направляясь к пустыням Фиваиды, и с большим трудом, пока не прошла еще охота, добралась через несколько дней до тех пустынь. Увидев издали хижинку, направилась к ней и нашла на пороге святого мужа, который, удивившись, что зрит ее здесь, спросил ее, чего она ищет. Та отвечала, что, вдохновленная Богом, идет искать, как послужить Ему, и кого-нибудь, кто бы наставил ее, как подобает Ему служить. Почтенный муж, видя, что она молода и очень красива, боясь, чтобы дьявол не соблазнил его, если он оставит ее у себя, похвалил ее доброе намерение и, дав ей немного поесть корней от злаков, диких яблок, фиников и напоив водою, сказал ей: «Дочь моя, недалеко отсюда живет святой муж, лучший, чем я, наставник в том, что ты желаешь обрести; к нему отправься». И он вывел ее на дорогу. Дойдя до него и получив от него ту же отповедь, она пошла далее и добралась до кельи одного молодогоотшельника, человека очень набожного и доброго, по имени Рустико, и к нему обратилась с тем же вопросом, какой предлагала и другим. Он, для того чтобы подвергнуть большому испытанию свою стойкость, не отослал ее, как другие, а оставил с собою в своей келье и, когда настала ночь, устроил ей постель из пальмовых ветвей и сказал, чтобы она на ней отдохнула. Когда он это сделал, искушение не замедлило обрушиться на его крепость; познав, что сильно в ней обманулся, он без особых нападений показал тыл, сдался побежденным и, оставив в стороне святые помыслы, молитвы и бичевания, начал вспоминать молодость и красоту девушки, а кроме того, размышлять, какого способа и средства ему с нею держаться для того, чтобы она не догадалась, что он, как человек распущенный, стремится к тому, чего от нее желает. Испытав ее наперед некоторыми вопросами, он убедился, что она никогда не знала мужчины и так проста, как казалось: потому он решил, каким образом, под видом служения Богу, он может склонить ее к своим желаниям. Сначала он в пространной речи показал ей, насколько дьявол враждебен Господу Богу, затем дал ей понять, что нет более приятного Богу служения, как загнать дьявола в ад, на который Господь Бог осудил его. Девушка спросила его, как это делается. Рустико отвечал ей: «Ты вскоре это узнаешь и потому делай то, что, увидишь, стану делать я». И он начал скидывать немногие одежды, какие на нем были, и остался совсем нагим; так сделала и девушка; он стал на колени, как будто хотел молиться, а ей велел стать напротив себя. Когда он стоял таким образом и при виде ее красот его вожделение разгорелось пуще прежнего, совершилось восстание плоти, увидев которую Алибек, изумленная, сказала: «Рустико, что это за вещь, которую я у тебя вижу, что выдается наружу, а у меня ее нет?» — «Дочь моя, — говорит Рустико, — это и есть дьявол, о котором я говорил тебе, видишь ли, теперь именно он причиняет мне такое мучение, что я едва могу вынести». Тогда девушка сказала: «Хвала тебе, ибо я вижу, что мне лучше, чем тебе, потому что этого дьявола у меня нет». Сказал Рустико: «Ты правду говоришь, но у тебя другая вещь, которой у меня нет, в замену этой». — «Что ты это говоришь?» — спросила Алибек. На это Рустико сказал: «У тебя ад; и скажу тебе, я думаю, что ты послана сюда для спасения моей души, ибо, если этот дьявол будет досаждать мне, а ты захочешь настолько сжалиться надо мной, что допустишь, чтобы я снова загнал его в ад, ты доставишь мне величайшее утешение, а небу великое удовольствие и услугу, коли ты пришла в эти области с тою целью, о которой говорила». Девушка простодушно отвечала: «Отец мой, коли ад у меня, то пусть это будет, когда вам угодно». Тогда Рустико сказал: «Дочь моя, да будешь ты благословенна; пойдем же и загоним его туда так, чтобы потом он оставил меня в покое». Так сказав и поведя девушку на одну из их постелей, он показал ей, как ей следует быть, чтобы можно было заточить этого проклятого. Девушка, никогда до того не загонявшая никакого дьявола в ад, в первый раз ощутила некое неудобство, почему и сказала Рустико: «Правда, отец мой, нехорошая вещь, должно быть, этот дьявол — настоящий враг Божий, потому что и аду, не то что другому, больно, когда его туда загоняют». Сказал Рустико: «Дочь моя, так не всегда будет». И дабы этого не случалось, они, прежде чем сойти с постели, загнали его туда раз шесть, так что на этот раз так выбили ему гордыню из головы, что он охотно остался спокойным. Когда же впоследствии она часто возвращалась к нему, — а девушка всегда оказывалась готовой сбить ее, — вышло так, что эта игра стала ей нравиться и она начала говорить Рустико: «Вижу я хорошо, правду сказывали те почтенные люди в Капсе, что подвижничество такая сладостная вещь; и в самом деле, я не помню, чтобы я делала что-либо иное, что было бы мне таким удовольствием и утехой, как загонять дьявола в ад; потому я считаю скотом всякого, кто занимается чем иным». Потому она часто ходила к Рустико и говорила ему: «Отец мой, я пришла сюда, чтобы подвизаться, а не тунеядствовать; пойдем загонять дьявола в ад». И, совершая это, она иногда говорила: «Рустико, я не понимаю, почему дьявол бежит из ада, потому что, если бы он был там так охотно, как принимает и держит его ад, он никогда бы не вышел оттуда». Когда таким образом девушка часто приглашала Рустико, поощряя его к подвижничеству, она так ощипала его, что порой его пробирал холод, когда другой бы вспотел; потому он стал говорить девушке, что дьявола следует наказывать и загонять в ад лишь тогда, когда он от гордыни поднимает голову; а мы так его уличили, что он молит оставить его в покое. Таким образом, он заставил девушку несколько умолкнуть. Увидев, что Рустико не обращается к ней, чтобы загнать дьявола в ад, она однажды сказала ему: «Рустико, твой дьявол наказан и более тебе не надоедает, но мой ад не дает мне покоя, потому ты хорошо сделаешь, если при помощи твоего дьявола утишишь бешенство моего ада, как я моим адом помогла сбить гордыню с твоего дьявола». Рустико, питавшийся корнями злаков и водою, плохо мог отвечать ставкам и сказал, что слишком много понадобилось бы чертей, чтобы можно было утишить ад, но что он сделает, что в его силах; так он иной раз удовлетворял ее, но это было так редко, что было не чем иным, как метаньем боба в львиную пасть, вследствие чего девушка, которой казалось, что она не настолько служит, насколько бы желала, начала роптать. В то время как между дьяволом Рустико и адом Алибек, от чрезмерного желания и недостаточной силы, шла эта распря, случилось, что произошел в Капсе пожар, от которого сгорел в собственном доме отец Алибек со всеми детьми и семьей, какая у него была, так что Алибек осталась наследницей всего его имущества. Поэтому один юноша, по имени Неербал, расточивший на широкое житье все свое состояние, услышав, что она жива, отправился ее искать и, найдя ее, прежде чем суд завладел имуществом ее отца, как человека, умершего без наследника, к великому удовольствию Рустико и против ее желания привезя ее обратно в Капсу, взял ее себе в жены и с нею унаследовал большое состояние. Когда женщины спрашивали ее, прежде чем ей сочетаться с Неербалом, чем она служила Богу в пустыне, она отвечала, что служила тем, что загоняла дьявола в ад, и что Неербал совершил великий грех, отдалив ее от такого служения. Женщины спросили: как это она загоняла дьявола в ад? Девушка то словами, то действием показала им это. Те начали над этим так сильно смеяться, что и теперь еще смеются, и сказали: «Не печалься, дочка, не печалься, потому что и здесь это прекрасно делают; Неербал отлично послужит этим Богу вместе с тобой». Когда они разнесли это по городу, свели это к народной поговорке, что самая приятная Богу услуга, какую можно совершить, — это загонять дьявола в ад; и эта поговорка, перешедшая сюда из-за моря, и теперь еще держится. Потому вы, юные дамы, нуждающиеся в утешении, научитесь загонять дьявола в ад, ибо это и Богу очень угодно, и приятно для обеих сторон, и много добра может от того произойти и последовать…» Перевод А. Н. Веселовского. (Цитируется по изданию: Джованни Боккаччо. Декамерон. М., 1999.)Фрагмент 17. Франсуа Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль»
«…— Я бы с удовольствием обратился к женщине, — сказал Панург, — но я опасаюсь двух вещей. Во-первых, что бы женщины ни увидели, они непременно представят себе, подумают и вообразят, что это имеет касательство к священному фаллосу. Какие бы движения и знаки ни делались и какие бы положения ни принимались в их присутствии, все это они толкуют в одном направлении и все подводят к потрясающему акту трясения. Следственно, мы будем введены в обман, так как женщины вообразят, что помнят один случай, который произошел в Риме двести шестьдесят лет спустя после основания города. Один юный патриций встретил на холме Целий римскую матрону по имени Верона, глухонемую от рождения, но так как юноша и не подозревал, что имеет дело с глухонемой, то, сопровождая свою речь свойственными италийцам жестами, он обратился к ней с вопросом, кого из сенаторов встретила она, поднимаясь на гору. Слов его она не разобрала и решила, что речь идет о том, что всегда, было у нее на уме и с чем молодой человек, естественно, мог обратиться к женщине. Тогда она знаками, — а в сердечных обстоятельствах знаки неизмеримо более пленительны, действенны и выразительны, нежели слова, — завлекла его к себе в дом и знаками же дала понять, что эта игра ей по вкусу. В конце концов они, не говоря ни слова, вволю набарахтались. А еще я боюсь, что глухонемая женщина вовсе ничего не ответит на наши знаки, а сей же час упадет на спину: она, дескать, согласна удовлетворить молчаливую нашу просьбу. Если же она ответит нам какими-либо знаками, то знаки эти будут столь игривы и столь потешны, что мы сами истолкуем ее помыслы в амурном смысле. Вы, конечно, помните, что в Кроки-ньольской обители монашка сестра Толстопопия забеременела от молодого послушника Ейвставия, и как скоро аббатиса о том проведала, то призвала ее к себе и при всем капитуле обвинила в кровосмешении; монашка же привела в свое оправдание тот довод, что это, мол, совершилось против ее воли, что брат Ейвставий овладел ею насильно. Аббатиса возразила: «Негодница! Ведь это было в дормитории, почему же ты не закричала? Мы бы все поспешили тебе на помощь». Провинившаяся ей, однако, на это ответила, что она не посмела кричать, так как в дормитории вечно должна царить тишина. «А почему, негодница ты этакая, — спросила аббатиса, — почему ты не подала знака своим соседкам по комнате?» — «Я и так изо всех сил подавала им знаки задом, — отвечала Толстопопия, — да никто мне не помог». — «Но отчего же ты, негодница, немедленно не прибежала ко мне и не рассказала, — допытывалась аббатиса, — чтобы мы могли по всей форме притянуть его к ответу? Доведись до меня, я бы так и сделала и тем доказала свою невиновность». — «Я вот чего боялась, — молвила Толстопопия. — Ну как я умру внезапно и свой грех и окаянство унесу с собой на тот свет? Того ради, прежде чем он ушел из комнаты, я у него исповедалась, и он наложил на меня такую епитимью: никому ничего не разглашать и не рассказывать. Уж больно великий это грех — открыть тайну исповеди. Бог и ангелы Его такого греха не потерпят. Не ровен час, огонь сошел бы с небе-си и спалил все наше аббатство, а мы бы все низринулись в преисподнюю, как это случилось с Дафаном и Авироном»…» Перевод Н. М. Любимова. Стихотворный перевод Ю. Корнеева. (Цитируется по изданию: Франсуа Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль. М., 1961.)Фрагмент 18. Джованни Боккаччо. «Декамерон»
«День IX. Новелла X Дон Джанни по просьбе кума Пьетро совершает заклинание с целью обратить его жену в кобылу, и, когда дошел до того, чтобы приставить ей хвост, кум Пьетро, заявив, что хвост ему не надобен, портит все дело. …Со своей стороны и кум Пьетро, человек очень бедный, имевший домишко в Тресанти, едва вмещавший его с молодой женой и ослом, всякий раз, когда дон Джанни являлся в Тресанти, оставлял его у себя в доме и чествовал, как мог, в благодарность за гостеприимство, оказанное ему в Барлетте. Но поскольку у кума Пьетро была всего одна небольшая кровать, в которой он спал со своей красавицей женой, то устроить друга на ночлег по всем правилам у него возможности не было; и дону Джанни ничего не оставалось делать, как спать на соломе в стойле, куда ставили его кобылу рядом с ослом. Зная, как хорошо священник принимает мужа в Барлетте, жена Пьетро не раз, при его приезде, хотела было идти ночевать к соседке, по имени Зита Карапреза, дочери Джудиче Лео, чтобы освободить место в кровати для священника. Не раз она говорила о том самому священнику, но тот никак не соглашался, и однажды, между прочим, сказал ей: — Кума Джеммата, ты обо мне не беспокойся, я отлично устроился: стоит мне только пожелать, я обращаю свою кобылу в хорошенькую девушку и забавляюсь с нею, а затем, когда захочу, снова превращаю ее в кобылу. Так что мне не резон с моей кобылой расставаться. Молодая женщина удивилась, но поверила и рассказала о том мужу: — Если, как ты говоришь, он твой друг, почему б не попросить научить тебя этому колдовству, чтоб ты мог обращать меня в кобылу. Мы тогда стали б зарабатывать вдвое больше, а по возвращении домой ты превращал бы меня обратно в женщину. Кум Пьетро, человек недалекого ума, поверил тому, что рассказала жена, и, последовав ее совету, принялся упрашивать дона Джанни научить его колдовству. Дон Джанни старался разубедить его в этой глупости и, видя, что все напрасно, сказал: — Хорошо, если уж вам так хочется, встанем завтра, по обыкновению до рассвета, и я вам покажу, как это делается. Правда, самое трудное в этом деле, как ты сам увидишь, — это приставить кобыле хвост. В предвкушении чуда кум Пьетро и кума Джеммата почти всю ночь не сомкнули глаз и незадолго до рассвета поднялись с постели и окликнули дона Джанни; тот встал и, как был в одной рубашке, вошел в спаленку кума Пьетро, сказав при этом: — Я не знаю на свете человека, для которого я бы это сделал, кроме вас, если вы уж того желаете, и потому я учиню это; правда, вам следует исполнить все, что я вам скажу, если хотите, чтобы дело удалось. Те ответили, что согласны сделать все, что он скажет. Тогда дон Джанни взял свечу и, передав ее в руки Пьетро, сказал ему: — Смотри в оба и вникай, что я буду творить, да хорошенько запоминай, что я буду говорить. Но если не хочешь все дело испортить, сам не говори ни слова, что бы ни увидел и ни услышал. Да моли Господа, чтобы хвост ладно пристал. Взяв свечу, кум Пьетро обещал все в точности исполнить. Тогда дон Джанни велел куме Джеммате сбросить с себя все одежды и в чем мать родила встать на четвереньки, наподобие лошади. Главное, он просил ее молчать, что бы ни случилось. При этих словах он провел рукой ей по голове и по лицу, приговаривая: — Да будет это головой красивой, как у лошади. Затем, погладив волосы, сказал: — Да будет это красивой конской гривой. Дотронувшись до ее руки, сказал: — Да будут они стройными, как у лошади, ногами и копытами. Ощупав ее груди и почувствовав их крепкую округлость, так что незваный пробудился и восстал, он промолвил: — Да будет это красивой грудью кобылицы. И, продолжая в том же духе, он ощупывал ее спину, живот, бедра и ноги. Наконец, когда осталось только приделать хвост, он задрал рубаху и, взяв в руку орудие, недолго думая, всадил его в уготовленную борозду со словами: — А вот это пусть будет красивый конский хвост! Кум Пьетро, внимательно за всем наблюдавший, при виде последнего действа почуял неладное и воскликнул: — Эй, дон Джанни, пусть остается без хвоста, пусть остается без хвоста! Между тем влага, без коей не может размножаться ни одно растение, уже излилась. — Эх, кум Пьетро, что же ты наделал! — проговорил дон Джанни, извлекая свое орудие. — Я же велел тебе молчать как рыба, что бы ты ни увидел. Кобылица-то была почти готова, а ты одним словом испортил дело. Повторить заговор уже нельзя. На что кум Пьетро сказал: — Ну ладно. Обошелся бы и без этого хвоста! Почему не сказал: «Приделаешь его сам»? К тому же ты приставлял его слишком низко. Дон Джанни ответил: — Потому что в первый раз тебе самому не удалось бы приделать так хорошо. При этих словах молодая женщина поднялась на ноги и совершенно чистосердечно сказала мужу: — Дурень! Зачем испортил то, что нам обоим пошло на пользу. Где ты видел кобылу без хвоста? О, Господи! И так-то беден, а теперь будешь еще беднее. И поскольку из-за одной оброненной ее мужем фразы превращение женщины в кобылу сорвалось, то она, сетуя и печалясь, снова оделась; а куму Пьетро пришлось, как раньше, обходиться одним ослом; вместе с доном Джанни он поехал на ярмарку в Бигонто, но никогда более не просил у него подобной услуги». Перевод А. Н. Веселовского. (Цитируется по изданию: Джованни Боккаччо. Декамерон. М., 1999.)Фрагмент 19. Бонавентур Деперье. «Новые забавы и веселые диалоги»
«Новелла LXIV О парижанине, который сходил с ума по одной молодой вдове, и о том, как она, задумав над ним посмеяться, оказалась посрамленной более, нежели oн. Один парижанин, происходивший из хорошей семьи, юноша ловкий и знавший себе цену, влюбился в молодую и красивую вдову, которая была очень довольна тем, что в нее влюблялись, умела искусно разнообразить приманки, пленявшие ее поклонников, и наслаждалась анатомией сердец молодых людей. Но свою благосклонность она дарила только тем поклонникам, которые ей нравились, притом нередко самым худшим, и молодого человека, о котором здесь идет речь, лишь водила за нос, делая вид, что готова для него на все. Он беседовал с ней наедине, трогал и даже целовал ее груди, касался ее тела, но никак не мог добиться позволения умереть возле нее заживо. Тщетно он умолял, заклинал ее и носил ей подарки, — она оставалась непреклонной, за исключением разве того случая, когда во время одной уединенной беседы с нею, в ответ на его красноречиво изложенное желание, она сказала: «Нет, вы ничего от меня не получите, пока не поцелуете мне зад». Эти слова вырвались у нее совершенно необдуманно, и она полагала, что молодой человек не примет их всерьез, но он, несмотря на свое смущение, после того как все его средства оказались бессильными, решил, однако, испытать и это средство, надеясь, что никто о нем не узнает, и ответил, что если ничем другим он не может ей угодить, то он готов. Дама, пойманная на слове, поймала и его и заставила его поцеловать свой зад без всякого прикрытия. Но когда дело дошло до переда — он опять остался ни с чем. Он обратился наконец за помощью к одной старухе, которая знала эту даму. Так или иначе, но старухе сделать ничего не удалось. Она пришла к молодому человеку и сказала, что безуспешно испробовала все ивановские травы и что помочь его горю больше ничем нельзя. По ее мнению, у него осталось только одно средство: он должен переодеться нищим и пойти к дверям дамы просить милостыню — может быть, хоть этим ему удастся чего-нибудь добиться. Это показалось юноше исполнимым. «Но что я должен буду делать?» — спросил он. «А вот что, — ответила старуха. — Вам нужно сперва замазать себе лицо, чтобы она вас не узнала, а затем — притвориться дурачком. Она догадлива на диво». — «Но как мне притвориться дурачком?» — спросил молодой человек. «А я почем знаю? — ответила старуха. — Ну, смейтесь все время и говорите первое слово, какое взбредет в голову, и о чем вас ни спросят, говорите только это одно слово». — «Я так и сделаю». И они решили, что он будет только смеяться и говорить слово «сыр». Он оделся в лохмотья и вечером, когда народ уже начал расходиться, отправился к дверям своей дамы. Хотя уже миновала Пасха, погода стояла еще довольно холодная. Подойдя к двери, он начал громко кричать и смеяться: «Ха-ха! Сыр!» Окна комнаты, где жила вдова, были обращены на улицу, и поэтому, услышав его крик, она сейчас же послала служанку узнать, кто это кричит и что ему нужно. Но он только и отвечал: «Ха-ха! Сыр!» Служанка вернулась и сказала даме: «Боже мой! Сударыня, это какой-то нищий — мальчуган и дурачок. Он только смеется да кричит «сыр!» Дама пожелала узнать сама, что это значит, сошла вниз и спросила: «Кто ты, друг мой?» Но и ей он отвечал: «Ха-ха! Сыр!» — «Ты хочешь сыру?» — спросила она. — «Ха-ха! Сыр!» — «Хочешь хлеба?» — «Ха-ха! Сыр!» — «Ступай отсюда, друг мой, ступай!» — «Ха-ха! Сыр!» Убедившись, что он совсем дурачок, дама сказала служанке: «Перетта, да он в такую ночь совсем замерзнет. Надо его впустить. Пусть обогреется». — «Мананда, — сказала служанка. — Вы правы, сударыня. Войди, дружок, войди. Обогрейся». — «Ха-ха! Сыр!» — сказал он и вошел со смехом на устах и в душе, увидев, что дело идет на лад. Он подошел к огню и выставил напоказ свои толстые крепкие ляжки, на которые дама и служанка прищурили глазки. Они спросили его, не хочет ли он пить или есть, но он по-прежнему ответил: «Ха-ха! Сыр!» Настало время ложиться спать. Дама, раздеваясь, сказала служанке: «Перетта, это — очень красивый мальчуган. Жаль, что он такой дурачок». — «Мананда, — ответила служанка. — Вы правы, сударыня. Мальчуган — хоть куда!» — «А если мы положим его на нашу кровать?» — сказала дама. — Что ты об этом думаешь?» Служанка рассмеялась: «А почему бы и не положить? Он ведь не выдаст нас, коли умеет говорить только одно слово». Словом, они его раздели, причем для него не потребовалась и чистая сорочка, ибо надетая на нем сорочка оказалась не грязной, а только немного разорванной, и удобно уложили промеж собой на кровать. Наш герой предался утехам с дамой. Служанке тоже кое-что досталось, но он дал ей понять, что ему больше нравится дама, и, забавляясь с нею, он не забывал, однако, про свои: «Ха-ха! Сыр!» На другой день рано утром его выпустили, и он пошел своей дорогой. С этого времени он стал часто ходить за своей добычей, весьма довольный своими успехами, и по совету старухи старался себя не выдавать. А иногда, одевшись в свое обычное платье, он приходил к даме, вел с нею обычные разговоры и ухаживал за нею, как и прежде, без всякого успеха. Наступил май месяц. Молодой человек решил нарядиться в зеленую куртку и сказал даме, что он хочет надеть эту куртку в знак того, что он ее любит. Даме это весьма понравилось, и в награду за его любовь она обещала при первом же удобном случае ввести его в общество красивых женщин. В этом наряде она и представила его однажды собранию женщин, среди которых находилась и сама. Кроме него, пришли и другие молодые люди. Уйдя в сад, все собравшиеся дамы и кавалеры уселись вперемешку в кружок. Молодой человек сел рядом со своей дамой. Мастерица на всякие затеи и игры, она предложила начать игру, и все общество охотно согласилось на ее предложение. Между тем она уже давно задумала высмеять молодого человека и решила, что настал удобный случай привести этот замысел в исполнение. Она затеяла игру, состоявшую в том, что каждый из участников был обязан прочесть какой-нибудь любовный стишок или сказать что-либо смешное, что ему придет на ум. Все начали выступать по очереди. Когда очередь дошла до вдовы, она с выразительными, заранее заученными жестами, прочла:Какого вы мненья о госте в зеленом,
Столь преданном даме и страстно влюбленном,
Что, зад ей целуя, шептал: «Мой кумир!»
Какого вы мненья о госте в зеленом,
Что, с вами играя в углу потаенном,
Ваш зад трамбовал и кричал: "Ах! ах! Сыр!"»
Фрагмент 20. Франко Саккетти. Из «Трехсот новелл»
«Новелла LXXXVI Фра Микеле Порчелли встречает на одном постоялом дворе строптивую хозяйку и говорит про себя: «Будь она моей женой, я скрутил бы ее так, что она переменила бы свой нрав». Муж этой женщины умирает, фра Микеле на ней женится и наказывает ее по заслугам. Лет тридцать тому назад жил некий уроженец Имолы по имени фра Микеле Порчелли; фра Микеле звали его не потому, что он был монахом, а потому, что он был из тех, кто принадлежит к третьему ордену св. Франциска. Он был женат и был человеком хитрым, злым и буйного нрава. Он разъезжал по Романье и по Тоскане, торгуя своими товарами, а затем возвращался в Имолу, когда считал это для себя выгодным. Однажды, возвращаясь в Имолу, он как-то вечером добрался до Тосиньяно и спешился у постоялого двора, хозяина которого звали Уголино Кастроне. У этого Уголино была жена, женщина крайне противная, и к тому же кривляка, по имени монна Дзоанна. Сойдя с лошади и расположившись, он сказал хозяину: — Сооруди-ка нам ужин получше. Хорошее вино у тебя есть? — Непременно! Будете довольны! И сказал фра Микеле: — Послушай, ты и салат нам приготовь. Уголино сказал, подзывая жену: — Дзоанна, поди-ка нарви салату! Дзоанна поморщилась и говорит: — Поди сам нарви! Муж говорит ей: — Да иди же. Она отвечает: — Не хочу. У фра Микеле при виде ее поведения зачесались руки. А когда фра Микеле захотелось выпить, хозяин говорит жене: — Сходи-ка за таким-то вином, — и протягивает ей кувшин. Мадонна Дзоанна говорит: — Сам сходи. Ты скорее вернешься, кувшин у тебя в руках, и ты лучше меня знаешь, в какой бочке… Фра Микеле не находил себе места от бешенства при виде несносного поведения жены Уголино и говорил про себя: «Господи Боже мой, окажи Ты мне великую милость, чтобы умерла моя жена и умер бы Уголино; мне наверняка следовало бы жениться на этой бабе, чтобы выбить у нее дурь из головы»..; Случилось так, что на следующий год Романью посетил мор, от которого померли и Уголино и жена фра Микеле. Несколько месяцев спустя, когда мор прекратился, фра Микеле приложил все свои старания к тому, чтобы добиться руки мадонны Дзоанны. И наконец желания его исполнились. После того как эта добрая женщина обвенчалась и вечером направилась к брачному ложу, где она надеялась получить то угощение, которым угощают невест, фра Микеле, еще не проглотивший тосиньянского салата, угостил ее дубинкой. Ударив раз, он без передышки надавал ей столько, что всю ее искалечил. И сколько она ни кричала, ему было все нипочем, словно он просто-напросто ее накормил; а потом пошел спать. На третий вечер фра Микеле приказывает ей нагреть воды, так как он, мол, хочет вымыть себе ноги. Жена так и делает и уж не говорит: «Иди, сам нагрей». Но когда она сняла воду с огня и перелила ее в таз, фра Микеле обжег себе все ноги, настолько вода была горяча. Почувствовав это, он, недолго думая, снова наполняет кувшин, ставит его на огонь, чтобы вода вскипела. Как только она закипела, он берет таз, наливает в него воду и говорит жене: — А ну-ка, сядь. Я хочу вымыть тебе ноги. Та не хотела, но наконец — от греха подальше — решила согласиться. Муж моет ей ноги кипятком, а жена визжит и подбирает под себя ноги. Фра Микеле снова опускает их в воду и, дав ей тумака, говорит: — Не болтай ногами. Жена говорит: — Несчастная, я вся сварилась. А фра Микеле: — Говорят: бери жену, чтобы она тебе варила, а я взял тебя, чтобы тебя сварить, пока ты меня не сварила. Коротко говоря, он так ее сварил, что больше двух недель она не могла ходить, так как ступать ей было уже не на что. И как-то в другой раз фра Микеле ей сказал: «Сходи за вином». Жена, которая едва могла ходить, взяла кувшин и с трудом, как могла, пошла за вином. Когда она стояла на верху лестницы, фра Микеле сзади дал ей тумака, говоря: — А ну-ка, живей, — и сбросил ее вниз по лестнице, прибавив — Ты воображаешь, что я Уголино Кастроне, которому, когда он говорил: «Сходи за вином», ты отвечала: «Сам сходи!» И так этой самой донне Дзоанне, ошпаренной, бледной и избитой, пришлось делать то, чего она не хотела делать, когда была здоровой…» Перевод А. Габричевского. (Цитируется по изданию: Итальянская новелла Возрождения. М., 1964.)* * *
Уильям Шекспир. «Укрощение стороптивой» «Действие II. Сцена первая П е т р у ч ч о Пришлите лучше. Здесь я подожду. Баптиста, Гремио, Транио и Гортензио уходят. Примечания, фрагменты и комментарии Придет она — ухаживать примусь; Начнет беситься — стану ей твердить, Что слаще соловья выводит трели; Нахмурится — скажу, что смотрит ясно, Как роза, окропленная росой; А замолчит, надувшись, — похвалю За разговорчивость и удивлюсь, Что можно быть такой красноречивой; Погонит — в благодарностях рассыплюсь, Как будто просит погостить с недельку; Откажет мне — потребую назначить День оглашения и день венчанья. Она идет. Петруччо, начинай! Входит Катарина. День добрый, Кет! Так вас зовут, слыхал я? К а т а р и н а Слыхали так? Расслышали вы плохо. Зовусь я от рожденья Катариной. П е т р у ч ч о Солгали вы; зовут вас просто Кет, То милой Кет, а то строптивой Кет, Но Кет, прелестнейшей на свете Кет. Кет — кошечка, Кет — лакомый кусочек, Узнай, моя сверхлакомая Кет, Моя любовь, отрада, утешенье, Что, услыхав, как превозносят люди Твою любезность, красоту и кротость, — Хоть большего ты стоишь, несомненно, — Я двинулся сюда тебя посватать. К а т а р и н а Он двинулся! Кто двинул вас сюда, Пусть выдвинет отсюда. Вижу я, Передвигать вас можно. П е т р у ч ч о То есть как? К а т а р и н а Как этот стул. П е т р у ч ч о Садись же на меня. К а т а р и н а Ослам таким, как ты, привычна тяжесть. П е т р у ч ч о Вас, женщин, тяжесть тоже не страшит. К а т а р и н а Ты про меня? — Ищи другую клячу. П е т р у ч ч о О, я тебе не буду в тягость, Кет. Я знаю, молода ты и легка. К а т а р и н а Я так легка, что не тебе поймать, А все же вешу столько, сколько надо. П е т р у ч ч о Жужжишь, пчела! К а т а р и н а Ты на сыча похож! П е т р у ч ч о Так горлинка достанется сычу! К а т а р и н а Побьет, пожалуй, горлинка сыча. П е т р у ч ч о Спокойнее, оса; ты зла не в меру. К а т а р и н а Коль я оса — остерегайся жала. П е т р у ч ч о А я его возьму да вырву прочь. К а т а р и н а Сперва найди его. П е т р у ч ч о Да кто не знает, Где скрыто жало у осы? В хвосте. К а т а р и н а Нет, в языке. П е т р у ч ч о А в чьем, скажи? К а т а р и н а Дурак! В твоем, раз о хвосте сболтнул. Прощай. П е т р у ч ч о Как! Мой язык в твоем хвосте! Ну нет! Я дворянин! К а т а р и н а А вот сейчас проверим. (Бьет его.) П е т р у ч ч о Ударь еще — я сдачи дам, клянусь. К а т а р и н а Тогда с гербом простись: Меня прибьешь — так ты не дворянин, А герб не дворянину не положен. П е т р у ч ч о Выходит, ты геральдики знаток? Тогда внеси мой герб к себе в гербовник. К а т а р и н а А что на шлеме — петушиный гребень? П е т р у ч ч о Пусть я петух — будь курочкой моей. К а т а р и н а Хорош петух! Боится кукарекать. П е т р у ч ч о Ну полно, Кет! Ну, не смотри так кисло. К а т а р и н а Я кисну от кислятины всегда. П е т р у ч ч о Здесь нет кислятины — так и не кисни. К а т а р и н а Нет, есть; нет, есть. П е т р у ч ч о Где, покажи? К а т а р и н а Нет зеркала с собой. П е т р у ч ч о Так это я? К а т а р и н а Хоть молод, а догадлив. П е т р у ч ч о Да, молод — для тебя. К а т а р и н а Ты весь в морщинах. П е т р у ч ч о Все от забот. К а т а р и н а А мне заботы нет! П е т р у ч ч о Ну, Кет, послушай, так ты не уйдешь. К а т а р и н а Останусь — только рассержусь. Пустите. Примечания, фрагменты и комментарии П е т р у ч ч о Сердись — не страшно. Мне с тобой приятно. Мне говорили — ты строптива, зла, Но вижу я — все эти слухи ложны. Ты ласкова, приветлива на редкость, Тиха, но сладостна как цвет весенний; Не хмуришься, не смотришь исподлобья И губы не кусаешь, словно злючка; Перечить в разговоре ты не любишь И с кротостью встречаешь женихов Любезной речью, мягким обхожденьем. Кто говорил мне, будто Кет хромает? Клеветники! Нет, Кет стройна, как прутик Ореховый. Смугла же, как орешек, Но много слаще ядрышка его. Пройдись, а я взгляну. Ты не хромаешь? К а т а р и н а Ступай, болван, командуй над прислугой! П е т р у ч ч о Могла ли в роще выступать Диана Так царственно, как в этом зале Кет? Ты стань Дианой, а Диана — Кет; Кет станет скромной, а Диана резвой. К а т а р и н а Да где таким речам вы научились? П е т р у ч ч о Экспромты — от природного ума. К а т а р и н а Природа-мать умна, да сын безмозглый. П е т р у ч ч о Я не умен? К а т а р и н а Пошли б вы лучше спать. П е т р у ч ч о Я собираюсь спать в твоей постели. Оставим болтовню. Я буду краток: Отец тебя мне в жены отдает; В приданом мы сошлись, а потому Я на тебе женюсь добром иль силой. Клянусь тем светом, что позволил мне Узрить и полюбить твою красу,— Ни за кого другого ты не выйдешь. Рожден я, чтобы укротить тебя И сделать кошку дикую — котенком, Обычной милою домашней киской. Вот твой отец. Отказывать не вздумай! Я должен мужем быть твоим — и буду! Возвращаются Баптиста, Гремио и Транио. Б а п т и с т а Ну как, синьор? Поладили вы с дочкой? Во всем сошлись? П е т р у ч ч о Могло ли быть иначе? Нам невозможно не поладить с ней. Б а п т и с т а Но, дочка, что же ты невесела? К а т а р и н а И вы меня еще зовете дочкой! Так вот отцовская забота ваша— Меня за полоумного просватать, Разбойника, нахала, грубияна, Что наглостью рассчитывает взять! П е т р у ч ч о Скажу вам, тесть: и вы, и все другие, Болтавшие о ней, болтали зря. Она сварлива так, для виду только, На деле же голубки незлобивей; Не вспыльчива совсем, ясна как утро; Терпением Гризельду превзойдет, А чистотой Лукреции подобна. Ну, словом, так сумели мы сойтись, Примечания, фрагменты и комментарии Что свадьба состоится в воскресенье. К а т а р и н а Увижу раньше, как тебя повесят! Г р е м и о Ого, Петруччо! Раньше вас повесят! Т р а н и о Вот так сошлись! Ну, наше дело плохо! П е т р у ч ч о Я выбрал для себя ее, синьоры, А раз довольны мы — что вам за дело? Условились мы с ней, что при других Она по-прежнему сварливой будет. Поверить невозможно, говорю вам, Как влюблена в меня! О, Кет моя! Она повисла у меня на шее И щедро поцелуй за поцелуем, За клятвой клятву расточала мне, Покуда страсть мою не разожгла. Эх, суслики! Не знаете вы, видно, Что может приручить наедине Любой тихоня злейшую чертовку.— Дай ручку, Кет. В Венецию я еду, Куплю уборы свадебные там.— Отец, готовьте пир, гостей зовите, Пусть будет Кет моя прекрасней всех. Б а п т и с т а Что мне сказать? Соедините руки. Петруччо, будьте счастливы! Я рад.* * *
Действие IV. Сцена первая Загородный дом Петруччо. Входит Грумио. Входят Петруччо и Катарина. П е т р у ч ч о Где эти олухи? Никто не встретит, Коня не примут, стремя не подержат! Где Грегори, Филипп, Натаниэль? С л у г и Мы тут, синьор, мы тут, синьор, мы тут! П е т р у ч ч о «Мы тут, синьор, мы тут, синьор, мы тут!» Мужланы неотесанные, плуты! Ни рвенья, ни заботы, ни старанья! Где тот болван, кого вперед я выслал? Г р у м и о Я здесь, синьор, и так же глуп, как прежде. П е т р у ч ч о Ах ты, растяпа, сукин сын, прохвост! Ведь я тебе велел встречать нас в парке И всех этих мерзавцев привести. Г р у м и о У Натаниэля не готова куртка, Разлезлись башмаки у Габриэля, А Питер не успел покрасить шляпу, Кинжал Уолтера еще в починке. Лишь Ралф, Адам и Грегори одеты, А остальные босы и в отрепьях, Но даже в этом виде все пришли. П е т р у ч ч о Ступайте, дурни! Подавайте ужин. Слуги уходят. (Поет.) «Где ты, жизнь моя былая, Где…» — Кет, добро пожаловать, садись. Ух-ха-ха-ха! Входят слуги с ужином. Мой милый котик, будь повеселее. — Тащите сапоги с меня, мерзавцы! (Поет.) «Жил монах, молился Богу, Раз он вышел на дорогу…» — Прочь, ротозей! Ты ногу оторвал мне. Вот, получай! (Бьет его.) Не оторвешь другую! — Развеселись же, Кет! — Эй, дайте воду! — А где мой пес Троил? — Беги, болван, Да позови кузена Фердинанда.— Ты, Кет, должна поцеловаться с ним. — Где туфли? Ну, дождусь ли я воды? Входит слуга с кувшином и тазом. Помойся, котик, сделай одолженье. Слуга роняет кувшин. Ах, сукин сын, еще ронять ты вздумал! (Бьет его.) К а т а р и н а Ну, успокойтесь. Он ведь не нарочно. П е т р у ч ч о Пес, олух, вислоухая каналья! — Садись же, Кет. Ты голодна, конечно. Прочтешь молитву, или мне читать? — Барашек это? С л у г а Да. П е т р у ч ч о Кто подал? С л у г а Я. П е т р у ч ч о Он подгорел! Все начисто сгорело. Ну что за псы! А где мошенник-повар? Как смели вы из кухни принести И мне подать к столу такую мерзость? Долой ножи, тарелки — все убрать! (Сбрасывает блюда с мясом и посуду на пол.) Лентяи! Бестолковые рабы! Еще ворчите? Я вам покажу! К а т а р и н а Супруг мой, я прошу вас, не волнуйтесь. Вам показалось, мясо неплохое. П е т р у ч ч о Кет, я сказал — жаркое подгорело. Нельзя такое есть. От этих блюд Желчь разливается, рождая злобу. Уж лучше попоститься нам сегодня, Чем пережаренное мясо есть: У нас с тобой и так довольно желчи. Ну, потерпи! Мы утром все исправим. А ночью попостимся за компанию. Я в спальню провожу тебя, пойдем. Петруччо и Катарина уходят. Возвращаются несколько слуг. Н а т а н и э л ь Ну, Питер, видел ты что-нибудь подобное? П и т е р Он ее бьет ее же оружием. Возвращается Кертис. Г р у м и о Где он? К е р т и с В спальне. Читает ей проповедь о воздержании. Орет, буянит, а она не знает, Куда деваться, что ему ответить; Сидит, бедняжка, будто в полусне. Уйдем скорее! Он идет сюда. Уходят. Вводит Петруччо. П е т р у ч ч о Свое правление я мудро начал. Надеюсь, что и завершу успешно. Мой сокол голоден и раздражен. Пока не покорится — есть не дам, А то глядеть не станет на добычу. Еще есть способ приручить дикарку, Чтобы на зов хозяина бежала: Мешать ей спать, как ястребу, который Не хочет слушаться, клюет и бьется. Кет голодна и снова не поест; Ночь не спала, другую спать не будет. Сперва придрался к мясу, а теперь К постели придерусь: перину сброшу, Подушки, одеяла расшвыряю, Твердя при этом, что скандал я поднял Единственно из-за вниманья к ней. Всю ночь она, конечно, спать не сможет, А чуть задремлет — я начну ругаться И ей не дам уснуть ни на минуту. Вот способ укротить строптивый нрав. Кто знает лучший, пусть расскажет смело — И сделает для всех благое дело. Уходит.* * *
Действие V. Сцена вторая Падуя. Комната в доме Люченцио. Входят Баптиста, Винченцио, Гремио, учитель, Люченцио, Бьянка, Петруччо, Катарина, Гортензио и вдова, Транио, Бьонделло и Грумио. Грумио и слуги вносят угощение. Л ю ч е н ц и о Ну, наконец все споры позади И мы пришли к желанному согласью. Война окончена, настало время Над страхами былыми посмеяться.— Проси же, Бьянка, моего отца, Я ж твоего с почтеньем приглашу. — Сестрица Катарина, брат Петруччо, Гортензио с женой своею милой, Пируйте. Рад вас видеть у себя. Сейчас нам подадут вино и сласти. Садитесь, я прошу. Мы можем здесь Беседовать и продолжать наш пир. Садятся за стол. П е т р у ч ч о Вот так все и сиди, сиди да ешь. Б а п т и с т а Добром встречают в Падуе всегда. П е т р у ч ч о Да, в Падуе мы доброе нашли. Г о р т е н з и о Хотел бы я для нас двоих того же. П е т р у ч ч о Клянусь, Гортензио, я в страхе за вдову. В д о в а Страх на меня нагнать вам не удастся. П е т р у ч ч о Смышлены вы, а смысла не постигли. Хочу сказать: он страх как вас боится. В д о в а Кружится мир у пьяного в глазах. П е т р у ч ч о Кругло отвечено. К а т а р и н а (Вдове) Как вас понять? В д о в а Поймала я его! П е т р у ч ч о Меня поймала! — Ты слыхал, Гортензио? Г о р т е н з и о Поймала смысл твоих речей она. Петруччо Сумел поправить! (Вдове.) Поцелуйте мужа. К а т а р и н а «Кружится мир у пьяного в глазах…» Так что же этим вы сказать хотели? В д о в а Ваш муж, с женой строптивою измучась, И моему пророчит ту же участь. Понятна стала мысль моя теперь? К а т а р и н а Дрянная мысль. В д о в а Я думала о вас. К а т а р и н а Да, знаясь с вами, я бы стала дрянью. П е т р у ч ч о А ну, задай ей, Кет! Г о р т е н з и о А ну, вдова! П е т р у ч ч о Готов поспорить, Кет ее уложит. Г о р т е н з и о Нет, это уж обязанность моя. П е т р у ч ч о Прекрасно сказано! Твое здоровье! (Чокается с Гортензио.) Б а п т и с т а (Гремио) Что скажете об этих остроумцах? Г р е м и о Они бодаются, синьор, отлично. Б ь я н к а Бодаются! Ну, как здесь не сострить, Что зуд во лбу рога вам предвещает? В и н ч е н ц и о А, молодая! Вот вы и проснулись! Б ь я н к а Не беспокойтесь, я усну опять. П е т р у ч ч о Ну нет! Вы сами начали острить — Стрельнем и в вас мы парочкой острот. Б ь я н к а Что я вам — птица? Ну так упорхну! Попробуйте преследовать меня. Счастливо оставаться вам, синьоры. Бьянка, Катарина и вдова уходят. П е т р у ч ч о Не удался мой выстрел. В эту птичку Вы метили, да не попали, Транио. Так выпьем же за тех, кто промахнулся! Т р а н и о Я спущен был как гончая, синьор; Что изловил — хозяину принес. П е т р у ч ч о Недурно, хоть сравнение собачье. Т р а н и о Но вы-то лань травили для себя, А вас она, слыхать, не подпускает. Б а п т и с т а Ого, Петруччо! Это выстрел в цель. Л ю ч е н ц и о Ну, Транио, спасибо за остроту! Г о р т е н з и о Сознайтесь же, он ловко в вас попал! П е т р у ч ч о Задел меня немножко, признаюсь, Но тотчас же насмешка отскочила И вас пронзила, бьюсь я об заклад. Б а п т и с т а Увы, как мне ни жаль, сынок Петруччо, Твоя жена строптивей, чем у всех. П е т р у ч ч о «Нет» говорю, — и докажу немедля. Пошлите каждый за своей женой; Тот, чья жена окажется послушней И прибежит по первому же зову,— Пускай возьмет заклад, что мыпоставим. Г о р т е н з и о Согласен. Сколько ставим? Л ю ч е н ц и о Двадцать крон. П е т р у ч ч о Как, двадцать крон? Но двадцать крон я ставлю На лошадь иль на гончую собаку, А на жену раз в двадцать надо больше. Л ю ч е н ц и о Ну, сто тогда. Г о р т е н з и о Согласен. П е т р у ч ч о Решено. Г о р т е н з и о Кто начинает? Л ю ч е н ц и о Я. — Иди, Бьонделло, Скажи хозяйке — пусть придет сюда. Б ь о н д е л л о Иду. Уходит. Б а п т и с т а (Люченцио) За Бьянку в половине я, сынок. Л ю ч е н ц и о Нет, нет, зачем? Поставлю я один. Возвращается Бьонделло. Ну что? Б ь о н д е л л о Синьор, хозяйка говорит, Что занята, прийти никак не может. П е т р у ч ч о Ах, занята? Прийти никак не может? Вот так ответ! Г р е м и о Еще весьма любезный, Дай Бог, чтоб вы не получили худший. П е т р у ч ч о Надеюсь я на лучший. Г о р т е н з и о Эй, Бьонделло, Ступай и попроси мою жену Прийти ко мне. Бьонделло уходит. П е т р у ч ч о Ах, вот как! Попроси! Ну, отказать не сможет. Г о р т е н з и о Я боюсь, Что вашу упросить вам не удастся. Возвращается Бьонделло. А где моя жена? Б ь о н д е л л о Ответила, что вам шутить угодно, И не придет. Велит вам к ней идти. П е т р у ч ч о Еще не легче! Не придет! Видали? Нельзя стерпеть! Невероятно! Дерзко! Эй, Грумио, иди к своей хозяйке И передай, что я велю прийти. Грумио уходит. Г о р т е н з и о Ответит просто. П е т р у ч ч о Как же? Г о р т е н з и о «Не приду». П е т р у ч ч о Ну что ж, тем хуже для меня — и только. Б а п т и с т а Помилуй Бог! Смотрите! Катарина! Входит Катарина. К а т а р и н а Синьор, меня вы звали? Что угодно? П е т р у ч ч о А где жена Гортензио и Бьянка? К а т а р и н а Болтают там в гостиной, у камина. П е т р у ч ч о Тащи-ка их сюда. А не пойдут — Пинками их гони без церемоний! Ступай и приведи обеих к нам. Катарина уходит. Л ю ч е н ц и о Коль чудеса бывают — это чудо! Г о р т е н з и о Да, чудо. Только что оно сулит? П е т р у ч ч о Сулит оно любовь, покой и радость, Власть твердую, разумную покорность, Ну, словом, то, что называют счастьем. Б а п т и с т а Так будь же счастлив, милый мой Петруччо! Ты выиграл. А я тебе прибавлю К их проигрышу двадцать тысяч крон. Другая дочь — приданое другое! Совсем переменилась Катарина. П е т р у ч ч о Чтоб мой заклад достался мне по праву, Я покажу вам, как она послушна, Какою стала кроткой и любезной. Вот ваших дерзких жен ведет она, В плен взяв их женской силой убежденья. Возвращается Катарина с Бьянкой и вдовой. Кет, шапочка уродует тебя: Скинь эту гадость, на пол брось сейчас же. Катарина снимает шапочку и бросает ее на пол. В д о в а Дай Бог мне в жизни горестей не знать, Пока такой же дурой я не стану! Б ь я н к а Такое поведенье просто глупо. Л ю ч е н ц и о Вот бы и вам вести себя так глупо, А то на вашем мудром поведенье Я сотню крон сегодня потерял. Б ь я н к а Так ты ведешь себя еще глупее, Коль ставишь деньги на мою покорность. П е т р у ч ч о Кет, объясни строптивым этим женам, Как следует мужьям повиноваться. В д о в а Вы шутите? К чему нам наставленья? П е т р у ч ч о Смелее, Кет! С нее и начинай. В д о в а Не будет этого! П е т р у ч ч о Нет, будет, говорю! С вас и начнет. К а т а р и н а Фи, стыдно! Ну, не хмурь сурово брови И не пытайся ранить злобным взглядом Супруга твоего и господина. Гнев губит красоту твою, как холод— Луга зеленые; уносит славу, Как ветер почки. Никогда, нигде И никому твой гнев не будет мил. Ведь в раздраженье женщина подобна Источнику, когда он взбаламучен, И чистоты лишен, и красоты; Не выпьет путник из него ни капли, Как ни был бы он жаждою томим. Муж — повелитель твой, защитник, жизнь, Глава твоя. В заботах о тебе Он трудится на суше и на море, Не спит ночами в шторм, выносит стужу, Пока ты дома нежишься в тепле, Опасностей не зная и лишений. А от тебя он хочет лишь любви, Приветливого взгляда, послушанья — Ничтожной платы за его труды. Как подданный обязан государю, Так женщина — супругу своему. Когда ж она строптива, зла, упряма И не покорна честной воле мужа, Ну чем она не дерзостный мятежник, Предатель властелина своего? За вашу глупость женскую мне стыдно! Вы там войну ведете, где должны, Склонив колена, умолять о мире; И властвовать хотите вы надменно Там, где должны прислуживать смиренно. Не для того ль так нежны мы и слабы, Не приспособлены к невзгодам жизни, Чтоб с нашим телом мысли и деянья Сливались в гармоничном сочетанье. Ничтожные, бессильные вы черви! И я была заносчивой, как вы, Строптивою и разумом и сердцем. Я отвечала резкостью на резкость, На слово — словом; но теперь я вижу, Что не копьем — соломинкой мы бьемся, Мы только слабостью своей сильны, Чужую роль играть мы не должны. Умерьте гнев! Что толку в спеси вздорной? К ногам мужей склонитесь вы покорно; И пусть супруг мой скажет только слово, Свой долг пред ним я выполнить готова. П е т р у ч ч о Ай да жена! Кет, поцелуй! Вот так! Л ю ч е н ц и о Да, старина, твой счастлив будет брак. В и н ч е н ц и о Нам послушание детей — отрада. Л ю ч е н ц и о Зато строптивость женщин хуже ада. П е т р у ч ч о Кет, милая, в постель нам не пора ли? Ну, что ж, друзья, вы оба проиграли. Хоть мне никто удачи не пророчил, Моя взяла! Желаю доброй ночи! Петруччо и Катарина уходят. Г о р т е н з и о Строптивая смирилась. Поздравляю! Л ю ч е н ц и о Но как она сдалась — не понимаю! Уходят. Перевод П. Мелковой. (Цитируется по изданию: Уильям Шекспир. Трагедии, комедии, сонеты. М., 1999.)Фрагмент 21. Страпарола. «Приятные ночи».
«Ночь II. Сказка II Два побратима, оба солдаты, женятся на двух сестрах; один из них ласково обращается со своей женой, а она поступает наперекор приказаниям мужа; другой держит свою жену в страхе, и она исполняет все, что он не прикажет. Первый спрашивает о том, как заставить жену быть послушной. Второй наставляет его. Первый угрожает жене, но она над ним потешается, и в конце концов муж остается осмеянным и посрамленным. …Не так давно служили в Корнето, крепости, находящейся во владениях святого Петра[104], два побратима, которые любили друг друга так, как если бы родились из одного материнского чрева; одного из них звали Писардо, другого Сильверьо; кормились и тот и другой ремеслом солдата и получали жалованье от Папы. И хотя любовь между ними была велика, тем не менее они жили врозь. Сильверьо, младший годами и никем не руководимый, взял в жены дочь одного портного, которую звали Спинеллой, — девушку красивую и стройную, но весьма своенравную. Справив свадьбу и приведя жену в дом, Сильверьо так пленился ее красотой, что она казалась ему несравненною, и он стал угождать ей во всем, чего бы она у него ни потребовала. По этой причине Спинелла так осмелела и забрала над мужем такую власть, что стала ставить его ни во что или почти ни во что. И дело дошло до того, что, когда бедняга приказывал ей то-то и то-то, она делала совершенно другое, и, когда он ей говорил: «Поди-ка сюда», — она неизменно уходила в сторону и смеялась над ним. И так как простак смотрел на все глазами жены, он не решался ни одернуть ее, ни принять меры к ее обузданию, но позволил ей своевольничать и делать все, чего бы ей ни хотелось. Не прошло и года, как Писардо женился на другой дочери того же портного, носившей имя Фьореллы, девушке не менее красивой наружности и не менее своенравной, чем ее сестрица Спинелла. Отпраздновав свадьбу и доставив жену к себе в дом, Писардо взял пару мужских штанов и две палки и, обратившись к новобрачной, сказал: «Фьорелла, вот мужские штаны; бери одну из палок и давай сразимся с тобой за штаны, кому из нас их носить, и кто окажется победителем, тот пусть их и носит, а кто — побежденным, тому быть в беспрекословном повиновении у одержавшего в поединке победу». Выслушав слова мужа, Фьорелла без малейшего промедления и колебания мягко ответила: «Ах, муженек, что за слова я слышу от вас? Разве вы не муж, а я не жена? И не должна ли жена беспрекословно повиноваться мужу? И как могла бы я впасть в такое безумие? Носите сами эти штаны, ведь это приличествует скорее вам, нежели мне». — «Итак, — заключил Писардо, — я буду носить штаны и буду мужем, а ты, как моя обожаемая жена, будешь находиться у меня в беспрекословном повиновении. Но смотри, не меняй своих мыслей, не вздумай стать мужем, а меня сделать женою, иначе пеняй на себя». Фьорелла, будучи разумной и рассудительной, еще раз подтвердила то, что сказала пред тем, и муж тут же вручил ей бразды правления домом и, передав в веденье жены все свое добро и пожитки, разъяснил, каковы у него порядки и какого образа жизни он держится. Затем он сказал: «Фьорелла, следуй за мною, ибо я хочу показать тебе моих лошадей и научить тебя, как обращаться с ними, если в этом явится надобность». И, придя в конюшню, он продолжал: «Фьорелла, как тебе нравятся мои лошади? Красивы ли? Хорошо ли ухожены?» На это Фьорелла ответила: «Да, синьор». — «Смотри, — говорил Писардо — до чего они послушливы и проворны!» И, взяв в руку хлыст, стал касаться им то одной, то другой из них, приговаривая: «Стань сюда, стань туда!» И лошади, зажимая между ногами хвосты, становились в ряд, торопясь выполнить волю хозяина. Среди других лошадей была у Писардо одна превосходная с виду, но норовистая и ленивая, которой были нипочем его приказания. Подойдя к ней с хлыстом, Писардо стал ее уговаривать: «Стань сюда, стань туда!» — и ее стегал. Но лошадь, ленивая от природы, сносила побои, однако не исполняла того, чего требовал от нее хозяин, и брыкалась то одною ногой, то другою, а то и сразу обеими. Убедившись еще раз в упорстве лошади, Писардо схватил прочную и крепкую палку и принялся так усердно причесывать ее шерсть, что сам вконец утомился. Но лошадь, заупрямившись еще больше, сносила побои, но не трогалась с места. Столкнувшись с неодолимым упрямством лошади, Писардо воспылал гневом и, обнажив висевший у него сбоку меч, тут же ее убил. Фьорелла, на глазах у которой это произошло, прониклась состраданием к лошади и сказала: «Ах, муженек, зачем вы убили лошадь? Ведь она была так красива! То, что вы сделали, — великий грех!» Писардо, с лицом, искаженным яростью, на это ответил: «Знай, что всякого, что ест мое, но поступает наперекор мне, я награждаю такою монетой». Услышав этот ответ, Фьорелла глубоко огорчилась и сказала сама себе: «Увы мне, несчастной и горемычной! Как это я оказалась в такой беде! Я считала, что мой муж человек рассудительный, а попала к человеку зверски жестокому. Погляди, из-за какой малости или даже ни за что ни про что он убил такую красивую лошадь!» Так про себя она сетовала и сокрушалась, не догадываясь о том, с какою целью муж ей это сказал. Этот случай нагнал на Фьореллу такой ужас и страх перед мужем, что, услышав какое-нибудь его движение, она начинала дрожать всем телом и, если он что-либо приказывал ей, тотчас же исполняла его приказание, и едва муж успевал открыть рот, как она угадывала его желание, и никогда между ними не возникало размолвок и препирательств. Сильверьо, очень любивший Писардо, часто бывал у него и обедал и ужинал с ним и, наблюдая поведение и образ действий Фьореллы, немало им удивлялся и сам себе говорил: «О, Господи, почему не мне выпал жребий иметь женою Фьореллу, как это произошло с моим побратимом Писардо? Смотри, как превосходно ведет она дом и как спокойно и без суеты справляется со своими делами. Смотри, как во всем она повинуется мужу и выполняет все, что он ни прикажет. А моя — о я несчастный! — что бы она ни делала, поступает наоборот. И ведет себя со мною до того худо, что хуже и не придумаешь». Однажды, когда Сильверьо был у Писардо и они разговаривали о том и о сем, он, среди прочего, произнес такие слова: «Писардо, названый брат мой, ты знаешь, как мы любим друг друга. Мне бы очень хотелось услышать, какие способы ты применял, наставляя жену, и как ты добился того, что она у тебя такая послушная и так заботится о тебе. Что бы я ни сказал Спинелле и как бы ласково ни сказал, она отвечает мне дерзко и неприязненно и, кроме того, поступает наперекор моим приказаниям». Улыбаясь, Писардо рассказал Сильверьо со всеми подробностями о приемах и способах, которые он применил, приведя Фьореллу в свой дом, и убедил его проделать похожее и посмотреть, не поможет ли это, ну а если и это ему не поможет, то он и вправду не знает, какие еще наставления он мог бы ему преподать. Сильверьо пришлось по вкусу это отличное наставление и, попрощавшись с Писардо, он ушел от него. Придя домой, он, не мешкая, кликнул жену и, взяв пару своих штанов и две палки, проделал то, что ему посоветовал Писардо. Увидев это, Спинелла сказала: «Что за новости? Что вы делаете? Какие бредни взбрели в вашу голову? Или, может статься, вы спятили? Или думаете, будто нам неизвестно, что носить штаны подобает мужчинам, а не женщинам? И чего ради ни с того ни с сего проделывать такие нелепости?» Но Сильверьо ничего не ответил и, продолжая держаться предписанного ему образа действий, принялся поучать Спинеллу, как надлежит вести дом. Пораженная этим, Спинелла, ухмыляясь, сказала: «Может быть, вы считаете, что я все еще не знаю, как управляться с вашим хозяйством, и потому с таким пылом наставляете меня в этом деле?» Но муж, промолчавши на это, отправился с женою в конюшню, где проделал с лошадьми то же, что проделал Писардо, и одну из них так же, как тот, убил. Увидев, сколь бессмысленно он поступает, Спинелла подумала, что ее муж и в самом деле лишился рассудка, и обратилась к нему с такими словами: «Послушайте, муженек, заклинаю вас всем святым, скажите, какие беды свалились на вашу голову? Что должны означать сумасбродства, которые вы совершаете, не думая о последствиях. Быть может, вы свихнулись из-за того, что с вами стряслось какое-нибудь несчастье?» Сильверьо ответил: «Я не сошел с ума, но всех, кто живет на мой счет и не оказывает мне должного повиновения, я караю так, как ты видела». Оказавшись свидетельницею зверской жестокости ошалевшего мужа, Спинелла воскликнула: «Ах, жалкий тупица! Разве не очевидно, что, дав себя так нелепо убить, ваша лошадь была робкой и несмышленою тварью? Но что вы задумали? Уже не хотите ли вы проделать со мною то же, что сделали со своей лошадью? Если вы на это рассчитываете, то, бесспорно, глубоко заблуждаетесь. И вы слишком поздно стали принимать меры, которые хотите применить ныне. Кость чересчур затвердела, язва переродилась в рак, и нет у вас больше средств против этого. Вам надлежало своевременно принять меры против воображаемых ваших невзгод. О сумасшедший и безмозглый! Неужто вам невдомек, какой ущерб и какое бесчестье нанесли вам ваши неисчислимые глупости? И чего вы ими достигнете? Разумеется, ничего». Выслушав речь своей проницательной и умной жены и хорошо зная, что до сих пор бездействовал, потому что любил ее чрезмерно пылкой любовью, Сильверьо решил, на свою беду, смириться с выпавшим ему грустным жребием и до самой смерти терпеливо нести свое бремя. Убедившись, что чужие советы не пошли впрок ее мужу, Спинелла, если прежде своевольничала на один палец, то в последующем стала делать это на целый локоть[105], ибо женщина, упрямая от природы, скорее претерпит тысячу смертей, чем откажется от твердо принятого решения…» Перевод А. С. Бобовича. Перевод стихов Н. Я. Рыковой. (Цитируется по изданию: Джованфранческо Страпарола. Приятные ночи. М., 1993.)Фрагмент 22. Джованни Боккаччо. «Декамерон»
«День VII. Новелла X Лидия, жена Никострата, любит Пирра, который, дабы увериться в этом, требует от нее исполнения трех условий, которые она все и исполняет; кроме того, она забавляется с ним в присутствии Никострата, которого убеждает, что все, им виденное, недействительно. …В Аргосе, древнейшем городе Ахайи, гораздо более славном своими древними властителями, чем обширном, жил когда-то именитый человек, по имени Никострат, которому, уже близкому к старости, судьба даровала в супруги достойную женщину, не менее отважную, чем красивую, по имени Лидия. Как человек родовитый и богатый, он держал много прислуги, собак и ловчих птиц и находил большое удовольствие в охоте; в числе других слуг был у него юноша, приятный, изящный, красивый собою и ловкий на все, что он захотел бы сделать, по имени Пирр, которого Никострат любил более всех других и на которого более всего полагался. В него-то сильно влюбилась Лидия, так что ни днем ни ночью ее мысль никуда не направлялась, как только к нему; а Пирр, потому ли, что не замечал этой любви или не желал ее, казалось, вовсе не обращал на нее внимания. Это наполняло душу дамы невыносимой тоской; решившись во что бы то ни стало дать ему понять это, она позвала к себе свою служанку по имени Луска, которой очень доверяла, и сказала ей так: «Луска, благодеяния, полученные тобою от меня, должны были сделать тебя послушной и верной, поэтому смотри, чтобы никто никогда не услышал того, что я скажу тебе теперь, кроме того, кому я велю тебе открыться. Как видишь, Луска, я — женщина молодая и свежая, и у меня полное изобилие всего, чего только можно желать; одним словом, я не могу пожаловаться, разве на одно, а именно, что лет у моего мужа слишком много, сравнительно с моими, почему я мало удовлетворена тем, в чем молодые женщины находят наибольшее удовольствие; а так как я желаю того же, что и другие, я давно решилась, — если уже судьба была ко мне враждебна, дав мне такого старого мужа, — не быть враждебной самой себе, не сумев найти пути к своему удовольствию и благоденствию; Пирр а для того чтобы получить их, я задумала, чтобы наш Пирр, как более других того достойный, доставил мне их своими объятиями. Я чувствую к нему такую любовь, что мне тогда лишь и хорошо, когда я вижу его или о нем думаю; если я не сойдусь с ним немедленно, я уверена, что умру. Поэтому, если дорога тебе моя жизнь, сообщи ему о моей любви таким способом, какой признаешь лучшим, и попроси его от моего имени прийти ко мне, когда ты за ним явишься». Служанка ответила, что сделает это охотно, и, выбрав время и место, отведя Пирра в сторону, как умела, сообщила ему поручение своей госпожи. Услышав это, Пирр сильно изумился, ибо он никогда ничего такого не замечал, и побоялся, не велела ли дама сказать ему это, дабы искусить его; поэтому он тотчас же грубо ответил: «Луска, я не могу поверить, чтобы эти речи исходили от моей госпожи, потому берегись, что ты это говоришь; если б они и от нее исходили, я не думаю, чтобы она велела тебе передать их от сердца; но если б она и велела сказать их от сердца, то мой господин чествует меня более, чем я стою, и я ни за что в жизни не нанесу ему такого оскорбления; потому смотри, никогда более не говори мне о таких делах». Луска, не смутившись его строгими речами, сказала ему: «Пирр, и об этих делах и обо всем другом, что прикажет мне моя госпожа, я буду говорить тебе столько, сколько бы раз она ни велела, будет ли это тебе в удовольствие, или в досаду; а ты — дурак». Несколько рассерженная словами Пирра, она вернулась к даме, которая, выслушав их, готова была умереть, но через несколько дней снова заговорила со служанкой и сказала: «Луска, ты знаешь, что с первого удара дуб не падает, потому мне кажется, тебе бы еще раз вернуться к тому, кто, в ущерб мне, желает проявить столь невероятную верность; выбрав удобное время, открой ему всецело мою страсть и постарайся всячески устроить, чтобы она имела исполнение, ибо, если это оставить так, я умру, а он будет думать, что над ним посмеялись, и где я искала любви, последовала бы ненависть». Служанка утешила госпожу и, отыскав Пирра, найдя его веселым и в хорошем расположении духа, сказала ему так: «Пирр, я рассказала тебе несколько дней тому, какою любовью пылает к тебе твоя и моя госпожа; теперь я заверяю тебя снова, что, если ты останешься жесток так, каким обнаружил себя третьего дня, будь уверен, что ей недолго жить. Потому прошу тебя согласиться исполнить ее желание; если же ты будешь твердым в твоем упрямстве, я, считавшая тебя очень умным, сочту тебя большим глупцом. Разве не честь, что такая женщина, такая красивая и благородная, любит тебя более всего? А затем, разве ты не признаешь себя обязанным счастливой судьбе, когда сообразишь, что она устроила тебе такое дело, отвечающее желаниям твоей юности, и еще такое убежище в твоих нуждах? Кого знаешь ты из своих сверстников, который в отношении удовольствия был бы в лучшем положении, чем ты, если ты окажешься разумным? Кого найдешь, который мог бы быть так снабжен оружием и конями, платьем и деньгами, как будешь ты, если захочешь отдать ей свою любовь? Итак, открой душу моим словам и приди в себя: помни, что лишь однажды, не более, случается, что судьба обращается к кому-нибудь с веселым челом и открытым лоном, и кто не сумеет принять ее тогда, впоследствии, узрев себя бедным и нищим, должен пенять на себя, а не на нее. Кроме того, между слугами и господами нечего соблюдать такую верность, как между друзьями и родными; напротив, слуги должны с ними обходиться, где могут, так же, как те обходятся с ними. Неужели ты воображаешь, что, если бы у тебя была красивая жена или мать, дочь или сестра и она понравилась бы Никострату, он стал бы раздумывать о верности, которую ты хочешь сохранить к нему по отношению к его жене? Глупец ты, если так думаешь: поверь, что, если б недостаточно было ласк и просьб, он употребил бы силу, как бы тебе то ни показалось. Итак, будем обходиться с ними и с тем, что им принадлежит, как они обходятся с нами и с нашим. Пользуйся благодеянием судьбы: не гони ее, а пойди ей навстречу и прими приходящую, потому что, поистине, если ты этого не сделаешь, то, не говоря уже о смерти твоей госпожи, которая, несомненно, последует, ты столько раз покаешься, что и сам пожелаешь умереть». Пирр, несколько раз обдумавший слова, сказанные ему Луской, решился, коли она вернется к нему, ответить на желание дамы, если только он в состоянии будет увериться, что его не искушают; поэтому он отвечал: «Видишь ли, Луска, все, что ты мне говоришь, я признаю справедливым; но, с другой стороны, я знаю, что мой господин очень умен и рассудителен, и, так как он сдал мне на руки все свои дела, я сильно опасаюсь, не делает ли все это Лидия по его совету и желанию, дабы испытать меня: потому, если она захочет в доказательство своей любви сделать три вещи, которые я у нее попрошу, поистине не будет ничего, чего бы я не исполнил, коли она прикажет. А три вещи, которых я желаю, следующие: во-первых, чтобы в присутствии Никострата она убила его лучшего ястреба; затем, чтобы она послала мне клочок волос из бороды Никострата; наконец, один из его зубов, из самых здоровых». Луске все это показалось трудным, а даме и более того; тем не менее Амур, хороший поощритель и великий податель советов, побудил ее решиться на это дело, и она послала служанку сказать Пирру, что то, чего он потребовал, будет ею скоро исполнено вполне; а кроме того, сказала, что, хотя он и считает Никострата таким умным, она в его присутствии станет забавляться с Пирром, а Никострата уверит, что это неправда. И вот Пирр начал ожидать, что станет делать благородная дама. Когда через несколько дней Никострат давал большой обед нескольким дворянам, как то часто делал, и со столов было уже убрано, она, одетая в зеленый бархат и богато украшенная, вышла из своей комнаты и, вступив в зал, где они находились, на виду Пирра и всех других направилась к жерди, на которой сидел ястреб, столь дорогой Никострату; отвязав его, точно желая взять его на руку, схватила за цепочку и, ударив об стену, убила. Когда Никострат закричал на нее: «Увы, жена, что это ты сделала!», она ничего ему не ответила, а, обратившись к обедавшим у него дворянам, сказала: «Господа, плохо я отомстила бы королю, если б он оскорбил меня, кабы у меня не хватило смелости отомстить ястребу! Вы должны знать, что этот ястреб долго отнимал у меня время, которое мужчины должны посвящать удовольствию женщин; ибо, как только, бывало, покажется заря, Никострат, поднявшись и сев на коня, едет в чистое поле со своим ястребом на руке посмотреть, как он летает, а я, сами видите — какая, оставалась в постели одна, недовольная; потому у меня несколько раз являлось желание сделать то, что я теперь сделала, и не что иное удерживало меня от того, как стремление удовлетворить это желание в присутствии людей, которые были бы справедливыми судьями моей жалобы, каковыми, надеюсь, окажетесь вы». Дворяне, выслушав это и полагая, что ее любовь к Никострату была не иная, чем звучали ее слова, смеясь, обратились все к расстроенному Никострату и стали говорить: «Как хорошо поступила дама, отомстив смертью ястреба за свою обиду!» Разными шутками по этому поводу они обратили гнев Никострата в смех, между тем как дама уже вернулась в свою комнату. Когда увидел это Пирр, сказал себе: «Великий почин дала дама моей счастливой любви; дай Бог ей выдержать!» Прошло всего несколько дней после того, как Лидия убила ястреба, когда она, будучи в своей комнате с Никостратом, лаская его, начала с ним болтать; а так как он шутки ради потянул ее несколько за волосы, она нашла в этом повод исполнить и второе условие, которое поставил ей Пирр; быстро схватив небольшую прядь его бороды, она, смеясь, так сильно дернула ее, что всю оторвала от подбородка. Когда Никострат стал пенять на это, она сказала: «Что такое с тобою сталось, что ты строишь такое лицо? Не оттого ли, что я вырвала у тебя из бороды каких-нибудь шесть волосков? Ты того даже не почувствовал, что я, когда недавно ты дернул меня за волосы». Так, переходя от одного слова к другому и продолжая шутить с ним, дама осторожно припрятала клок бороды, который у него вырвала, и в тот же день послала его своему дорогому любовнику. Относительно третьей вещи дама задумалась более; тем не менее, так как она была большого ума, а Амур сделал ее и еще умнее, она придумала, какого способа ей следует держаться, чтобы достигнуть цели. У Никострата было двое мальчиков, отданных ему их отцами, дабы они, будучи благородного происхождения, научились у него в доме хорошим манерам; один из них разрезал Никострату пищу, когда он был за столом, другой подносил ему пить. Велев позвать их обоих, она уверила их, что у них пахнет изо рта, и научила их, прислуживая Никострату, держать голову как можно более назад, но чтобы о том они никогда никому не говорили. Мальчики, поверив ей, стали делать так, как научила их дама. Поэтому она однажды спросила Никострата: «Заметил ли ты, что делают те мальчики, когда служат тебе?» Никострат сказал: «Разумеется, я даже хотел спросить их, зачем они так делают». — «Не делай этого, я тебе скажу, почему, я долго об этом молчала, чтобы не досадить тебе, но теперь вижу, что другие начинают замечать это, и более нечего от тебя скрывать. Происходит это оттого, что у тебя страшно пахнет изо рта, и я не знаю, какая тому причина, потому что этого раньше не было; а это крайне неприятно, ибо тебе приходится общаться с благородными людьми, потому следовало бы найти средство излечить это». Тогда Никострат сказал: «Что же это может быть? Нет ли у меня во рту какого испорченного зуба?» — «Может быть, что и так, — сказала Лидия и, подведя его к окну, велела ему открыть рот и, осмотрев ту и другую сторону, сказала: — О Никострат, и как мог ты так долго терпеть? У тебя есть с той стороны зуб, который, кажется мне, не только испорчен, но совсем сгнил, и, если ты сохранишь его еще во рту, он, наверно, испортит тебе те, что сбоку, почему я посоветовала бы тебе выдернуть его, прежде чем это пойдет дальше». Тогда Никострат сказал: «Если тебе так кажется, то и я согласен, пусть тотчас же пошлют за зубным мастером, чтобы выдернуть его». Жена говорит ему: «Не дай бог, чтобы из-за этого приходил мастер, мне кажется, зуб так стоит, что безо всякого мастера я сама его отлично выдерну. С другой стороны, эти мастера так немилосердны в своем деле, что мое сердце никоим образом не вынесло бы — увидеть тебя в руках кого-нибудь из них; потому я решительно желаю сделать это сама, по крайней мере если тебе будет слишком больно, я тотчас же оставлю, чего мастер не сделал бы». Итак, велев принести себе инструменты для такого дела и выслав всех из комнаты, она оставила при себе одну Луску; запершись изнутри, она велела Никострату растянуться на столе, всунула в рот клещи и схватила один из его зубов; и хотя он сильно кричал от боли, но так как его крепко держали с одной стороны, то с другой со всей силой вытащен был зуб; спрятав его и взяв другой, совсем испорченный, который Лидия держала в руке, она показала его ему, жаловавшемуся и почти полумертвому, со словами: «Смотри, что ты так долго держал во рту!» Он поверил этому и, хотя вынес страшную муку и сильно жаловался на нее, тем не менее, когда зуб был выдернут, счел себя излеченным; его подкрепили тем и другим, и, когда боль унялась, он вышел из комнаты. Взяв зуб, дама тотчас же послала его своему любовнику, который, уверенный теперь в ее любви, объявил, что готов исполнить всякое ее желание. Но дама пожелала еще более уверить его, и, так как каждый час, пока она не сошлась с ним, казался ей за тысячу и ей хотелось исполнить, что она ему обещала, она притворилась больной, и, когда однажды после обеда Никострат пришел к ней, увидев, что с ним никого нет, кроме Пирра, она попросила их, для облегчения своей немочи, помочь ей дойти до сада. Потому Никострат взял ее с одной, Пирр с другой стороны, понесли в сад и опустили на одной лужайке под прекрасным грушевым деревом. Посидев там немного, дама, уже научившая Пирра, что ему следует сделать, сказала: «Пирр, у меня сильное желание достать этих груш, потому влезь и сбрось несколько». Быстро взобравшись, Пирр стал бросать вниз груши и, бросая, начал говорить: «Эй, мессер, что вы там делаете? А вы, мадонна, как не стыдитесь дозволять это в моем присутствии? Разве вы думаете, что я слеп? Вы же были только что сильно нездоровы; как это вы так скоро выздоровели, что творите такие вещи? А коли уже хотите делать, то у вас столько прекрасных комнат, почему не пойдете вы совершить это в одну из них? Это будет приличнее, чем делать такое в моем присутствии». Жена, обратившись к мужу, сказала: «Что такое говорит Пирр? Бредит он, что ли?» Тогда Пирр отвечал: «Я не брежу, мадонна; вы разве полагаете, что я не вижу?» Сильно изумился Никострат и говорит: «Пирр, я в самом деле думаю, что тебе видится во сне». Пирр отвечал ему: «Господин мой, мне ничуть не снится, да и вам также, напротив, вы так движетесь, что, если бы так делало это грушевое дерево, на нем не осталось бы ни одной груши». Тогда жена сказала: «Что это могло бы быть? Может ли то быть правда, что ему действительно представляется то, о чем он говорит? Спаси Господи, если б я была здорова, как прежде, я бы влезла наверх, поглядеть, что это за диковинки, которые, по его словам, ему видятся». А Пирр с верха грушевого дерева все говорил, продолжая рассказывать об этих небылицах. На это Никострат сказал: «Слезь вниз». Он слез. «Что, говоришь, ты видел?» — спросил он его. «Я полагаю, вы считаете меня рехнувшимся либо сонным, — отвечал Пирр, — я видел, что вы забавляетесь с вашей женой, если уж надо мне о том сказать, а когда слезал, увидел, что вы встали и сели здесь, где теперь сидите». — «В таком случае ты, наверно, был не в своем уме, — сказал Никострат, — потому что с тех пор, как ты влез на грушу, мы не сдвинулись с места, как теперь нас видишь». На это Пирр сказал: «К чему нам о том спорить? Я все-таки видел вас». Никострат с часу на час более удивлялся, так что наконец сказал: «Хочу я посмотреть, не зачаровано ли это грушевое дерево и точно ли тому, кто на нем, представляются диковинки». И он влез на него; как только он был наверху, дама с Пирром начали утешаться; как увидел это Никострат, стал кричать: «Ах ты, негодная женщина, что это ты делаешь? А ты, Пирр, которому я всего более доверял?» Так говоря, он начал слезать с груши. Жена и Пирр говорят: «Мы сидим»; увидев, что он слезает, они снова сели в том положении, в каком он оставил их. Когда Никострат спустился и увидел их там же, где оставил, принялся браниться. А Пирр говорит на это: «Никострат, теперь я поистине признаю, что, как вы раньше говорили, все виденное мною, когда я сидел на дереве, было обманом; и я сужу так по тому, что, как я вижу и понимаю, и вам все это представилось обманно. А что я правду говорю, то вы поймете, хотя бы сообразив и представив себе, зачем было вашей жене, честнейшей и разумнейшей изо всех, если б она желала опозорить вас таким делом, совершать его на ваших глазах? О себе я и говорить не хочу, ибо я дал бы себя скорее четвертовать, чем помыслить о том, не то что совершить это в вашем присутствии. Потому причина этого обмана глаз должна наверно исходить от грушевого дерева, ибо весь свет не мог бы разуверить меня, что вы не забавлялись здесь с вашей женой, если б я не слышал от вас, что и вам показалось, будто и я сделал то, о чем, знаю наверно, я и не думал, не только что не совершал». Тогда дама, представившись очень разгневанной, поднялась и стала говорить: «Да будет тебе лихо, коли ты считаешь меня столь неразумной, что, если б я желала заниматься такими гадостями, какие, по твоим словам, ты видел, я пришла бы совершить их на твоих глазах. Будь уверен, что, явись у меня на то желание, я не пришла бы сюда, а сумела бы устроиться в одной из наших комнат, так и таким образом, что я диву бы далась, если б ты когда-либо о том узнал». Никострат, которому казалось, что тот и другой говорят правду, то есть что они никогда не отважились бы перед ним на такой поступок, оставив эти речи и упреки подобного рода, стал говорить о невиданном случае и о чуде зрения, так изменявшегося у того, кто влезал на дерево. Но жена, представляясь, что раздражена мнением, которое выразил о ней Никострат, сказала: «Поистине, это грушевое дерево никогда более не учинит такого сраму никому, ни мне, ни другой женщине, если я смогу это сделать; потому сбегай, Пирр, пойди и принеси топор и заодно отомсти за тебя и за меня, срубив его, хотя много лучше было бы хватить им по голове Никострата, так скоро и без всякой сообразительности давшего ослепить свои умственные очи: ибо, хотя глазам, что у тебя на лице, и казалось то, о чем ты говоришь, тебе никоим образом не следовало перед судом твоего разума допускать и принимать, что так и было». Пирр поспешно пошел за топором и срубил грушевое дерево; когда жена увидела, что оно упало, сказала, обратившись к Никострату: «Так как, я вижу, пал враг моего честного имени, и мой гнев прошел»; и она благодушно простила Никострата, просившего ее о том, приказав ему впредь никогда не подозревать в таком деле ту, которая любит его более самой себя. Так бедный обманутый муж вернулся с нею и с ее любовником в палаццо, где впоследствии Пирр часто и с большими удобствами наслаждался и тешился с Лидией, а она с ним». Перевод А. Н. Веселовского. (Цитируется по изданию: Джованни Боккаччо. Декамерон. М., 1999.)Фрагмент 23. Бонавертур Деперье. «Новые забавы и веселые диалоги»
«Новелла VI О пикардийце, который отучил жену от шашней, сделав ей хорошее наставление при ее родственниках. Один магистрат, живущий еще и поныне, лишившись жены после долгого и счастливого супружества, решил жениться вторично и выбрал себе в жены молодую красивую девицу благородного происхождения, несмотря на то, что она не подходила к нему ни по характеру, ни по возрасту, ибо он уже прожил половину своей жизни, а она находилась еще в самых цветущих летах и поэтому не могла быть особенно рассудительной. Ей взбрело в голову обзавестись на стороне тем, чего ей недоставало дома. Она завела себе дружка и стала с ним забавляться. Потом, не довольствуясь одним, нашла другого, третьего, и скоро у ней завелось их так много, что они стали ссориться из-за нее и приходить к молодой женщине, забывшей за своими удовольствиями о чести, и в урочное и в неурочное время. Сначала муж об этом не догадывался или делал вид, что не догадывается, и терпеливо выносил все ее проделки, считая это наказанием себе за то, что он, пожилой человек, женился на такой молодой женщине. Но это продолжалось, однако, так долго, что уже по всему городу пошли толки. Его родственники, узнав об этом, крайне огорчились, и один из них, не выдержав наконец, пришел к нему и рассказал ему о ходивших по городу слухах. Он заявил, что если муж не примет никаких мер, то его самого сочтут дурным человеком, и им будут гнушаться все родственники и все порядочные люди. Выслушав его речь, муж придал своему лицу подобающее выражение, т. е. притворился крайне рассерженным и огорченным, и дал ему обещание, что сделает все, что нужно. Но, оставшись наедине, он пришел к убеждению, что не может уже восстановить чести жены, что первая обязанность жены — хранить свое доброе имя и страшиться дурной славы, а иначе никакие стены не скроют ее от позора. Более того, как человек рассудительный, он понял, что развеяна прахом также и честь мужа, если жена запятнала свою репутацию. Поэтому он уже не очень спешил принимать какие-нибудь меры. Однако, чтобы не казаться чересчур небрежным к своим семейным неурядицам, столь сильно порочившим его в общественном мнении, он все-таки придумал некоторое средство, показавшееся ему наиболее подходящим, а именно, купил себе дом, прилегавший к заднему фасаду его дома, и соединил оба дома в один, желая, по его словам, иметь в своем доме вход и выход с двух сторон. Устроив с задней стороны дома удобный вход, он присоединил к нему для большего удобства посетителей еще галерею и заказал для этого входа полдюжины ключей. Покончив с этим, он в досужий день пригласил к себе родственников жены на обед. Он очень любезно принял их и хорошо попотчевал. По окончании обеда, когда гости еще не успели подняться из-за стола, он обратился к ним в присутствии жены со следующими словами: «Милостивые государи и милостивые государыни! Вам известно, как давно я состою супругом вашей родственницы, которая здесь присутствует. Я имел уже возможность убедиться, что, взяв ее в жены, я сделал ошибку, ибо мы друг другу — не пара. Но так как сделанного уже воротить нельзя, то мне надлежит испить мою чашу до дна». И, повернувшись к жене, он сказал: «Дорогая моя! Недавно меня упрекнули в том, что вы плохо исполняете обязанности хозяйки. Это меня крайне огорчило. Говорят, что к вам постоянно ходят сюда на свидание молодые люди, а это наносит большой ущерб как вашей, так и моей чести. Если бы я вовремя это заметил, я принял бы против этого какие-нибудь меры пораньше… Но лучше поздно, чем никогда. Скажите своим посетителям, что ходить к вам на свидание теперь для них будет удобнее, чем раньше. Я сделал для них с задней стороны дома особый ход и дарю вам полдюжины ключей, чтобы вы их роздали им. Если этого для вас окажется недостаточно, то мы закажем еще. Слесарь всегда в нашем распоряжении. Скажите же им, что они могут проводить теперь с вами время с большими удобствами и для вас и для них, ибо если вы не можете удержаться от своих забав, то, по крайней мере, можете скрыть их от людей, чтобы о вас и обо мне не было никаких пересудов». Выслушав эту речь в присутствии своей родни, молодая женщина почувствовала стыд и с этого дня стала терзаться угрызениями совести за бесчестие, которое она нанесла мужу, себе и своим родственникам, закрыла двери для всех своих любовников, прекратила все свои шашни и сделалась добродетельной и честной женой». Перевод В. И. Пикова. (Цитируется по изданию: Бонавентур Деперье. Кимвал мира. Новые забавы. М.—Л., 1936.)Фрагмент 24. Франсуа Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль»
«…— Я, ни дать ни взять, сновидец Гийо. Мне что-то много чего снилось, да только я ровным счетом ничего не понял. Запомнил я лишь, что привиделось мне, будто у меня есть жена, молодая, статная, красавица писаная, и будто обходится и забавляется она со мной, как с малым ребенком. Так я был рад-доволен, что и сказать нельзя. Уж она меня и ласкала, и щекотала, и цапала, и лапала, и целовала, и обнимала, и для потехи приставляла к моему лбу пару хорошеньких маленьких рожек. Я в шутку стал уговаривать ее приставить мне рожки под глаза, чтобы лучше видеть, куда мне ее бодать, и чтобы Мом не признал то место, которое выбрала она, неудачным и неподходящим, каковым он в свое время нашел положение бычьих рогов. Сумасбродка моя однако ж не сдавалась на уговоры и приставляла мне рожки все выше и выше. При этом — удивительное дело! — мне совсем не было больно. Немного погодя мне почудилось, будто я неизвестно каким образом превратился в барабан, а она в сову. Тут мой сон был прерван, и я, недовольный, недоумевающий и разгневанный, внезапно пробудился. Вот вам целое блюдо снов. Кушайте на здоровье и рассказывайте, как вы их понимаете. Пойдем завтракать, Карпалим! — Я понимаю так, если только я хоть что-нибудь смыслю в разгадывании снов, — начал Пантагрюэль, — жена ваша не наставит вам рогов в прямом смысле, зримых рогов, какие бывают у сатиров, но она не соблюдет супружеской верности, станет изменять вам с другими и сделает вас рогатым. Этот вопрос с исчерпывающей полнотой освещен у Артемидора. Равным образом вы не превратитесь в барабан на самом деле, но жена будет вас бить, как бьют на свадьбах в барабан. Она также не превратится в сову, но она вас оберет, а это как раз в совиных нравах. Итак, сны ваши лишь подтверждают гадания по Вергилию: быть вам рогатым, быть вам битым, быть вам обобранным. Тут вмешался брат Жан. — А ведь и правда! — воскликнул он. — Быть тебе, милый человек, рогатым, можешь мне поверить, — чудные рожки у тебя вырастут. Хо-хо-хо! Храни тебя Господь, господин Роголюб! Скажи-ка нам сейчас краткую проповедь, а я пойду с кружкой по приходу. — Как раз наоборот, — возразил Панург, — сон мой предвещает, что когда я буду состоять в браке, то на меня посыплются все блага, как из рога изобилия. Вы говорите, что рога эти будут, как у сатира. Amen, amen, fiat, fiatur ad differentiam Papa[106]. Значит, буравчик мой всегда будет стоять на страже и, как у сатиров, никогда неустанет. Все этого хотят, да немногим удается вымолить это у Неба. Следственно, рогоносцем мне не быть вовек, ибо недостаток этот и есть непосредственная, и притом единственная причина рогов у мужей. Что заставляет попрошаек клянчить милостыню? То, что дома им нечем набить суму. Что заставляет волка выходить из лесу? Недостаток убоины. Что заставляет женщин блудить? Сами понимаете. Сошлюсь в том на господ судейских: на господ председателей, советников, адвокатов, прокуратов и прочих толкователей почтенного раздела de frigidis et maleficiatis. Быть может, это с моей стороны слишком смело, но мне кажется, что, понимая рога, как положение рогоносца, вы допускаете явную ошибку. Диана носит на голове рога в виде красивого полумесяца, — что ж, по-вашему, она рогата? Как же, черт подери, может она быть рогата, коли она и замужем-то никогда не была? Будьте любезны, выражайте свою мысль точнее, а не то Диана сделает с вами то же, что сделала она с Актеоном. Добрый Вакх также носит рога, и Пан, и Юпитер-Аммон, и многие другие. Ну так разве они рогаты? Разве же Юнона шлюха? А ведь по фигуре metalepsis выходит так. Если при наличии отца и матери вы назовете ребенка подкидышем и приблудным, это значит, что вы в вежливой форме и обиняками дали понять, что отца вы почитаете за рогача, а мать за потаскушку. Нет, я ближе к истине. Рога, которые мне приставляла жена, суть рога изобилия — изобилия всех благ земных. Это уж вы мне поверьте. Одним словом, я все время буду веселиться, как барабан на свадьбе, буду звенеть, буду греметь, буду гудеть, буду п….ть! Для меня настанет счастливое время, уверяю вас. Жена моя будет мила и пригожа, как совушка. А кто не верит, тому скатертью дорожка к чертям в пекло….* * *
…Тут Панург направился к выходу, однако ж старуха опередила его: с веретеном в руке она вышла в палисадник. Там росла старая смоковница. Старуха три раза подряд тряхнула ее, а затем на восьми упавших листьях начертала веретеном несколько коротких стихов. Потом пустила листья по ветру и сказала: — Коль хотите, так ищите, коли сможете, найдите: там написано, какую семейную жизнь уготовала вам судьба. С этими словами она двинулась к своей норе и, остановившись на пороге, задрала платье, нижнюю юбку и сорочку по самые подмышки и показала зад. Увидевши это, Панург сказал Эпистемону: — Мать честная, курица лесная! Вот она, сивиллина пещера! Старуха внезапно захлопнула за собой дверь и больше уже не показывалась. Тут все бросились искать листья и отыскали их с превеликим трудом, оттого что ветер разбросал их по кустам. Разложив листья по порядку, они прочли следующее изречение вЖена шелуху сорвет
С чести твоей.
Набит не тобою живот
Будет у ней.
Сосать из тебя начнет
Соки она.
И шкуру с тебя сдерет.
* * *
… — Эпистемон, родной мой, мне приспичило жениться, — объявил Панург. — Вот только я боюсь, что мне наставят рога и что я буду несчастлив в семейной жизни. Между тем я дал обет святому Франциску Младшему, особо чтимому всеми жительницами Плеси-ле-Тур за то, что он основал орден женолюбивых, то бишь боголюбивых братьев миноритов, к которым они испытывают естественное влечение, носить очки на шляпе и не носить гульфика, пока я окончательно не разрешу обуревающие мой дух сомнения. …Он спросил Панурга, какой гороскоп был составлен при его появлении на свет. Панург ответил ему на этот вопрос, тогда гер Триппа, нимало не медля, построил его небесную камеру со всеми соответствующими отделениями и, изучив ее расположение и треугольные ее аспекты, испустил глубокий вздох и молвил: — Я сразу же ясно тебе сказал, что ты будешь рогат, — это неизбежно. Теперь у меня есть новое тому доказательство, и я тебя уверяю, что ты будешь рогат. Притом жена будет тебя бить и будет тебя обирать. Аспекты седьмого отделения камеры все до одного зловещи: здесь смешались в кучу все рогоносные знаки Зодиака, как-то: Овен, Телец, Козерог и прочие. В четвертом же отделении камеры Юпитер — на ущербе, а четырехугольный аспект Сатурна примыкает к Меркурию. Ты подцепишь дурную болезнь, дорогой мой. — А я к тебе прицеплю лихоманку, старый дурак, болван, противная твоя рожа, — подхватил Панург. — Когда все рогоносцы построятся, ты понесешь знамя. Скажи-ка лучше, что это у меня за чесоточный клещ между пальцев? С этими словами он протянул геру Триппе два пальца в виде рогов, все же остальные загнул.* * *
…— Не всякий желающий может быть рогоносцем, — возразил брат Жан, — Если ты окажешься рогоносцем, ergo[107], жена твоя будет красива; ergo, она будет с тобой хорошо обходиться; ergo, у тебя будет много друзей; ergo ты спасешь свою душу. Такова монашеская топика. Ведь это для тебя же к лучшему, греховодник! Это будет для тебя верх блаженства. Убытка ты не потерпишь ни малейшего. Зато достояние твое приумножится.* * *
…— Женись, черт побери, женись, но уж потом не ленись. Словом сказать, ты этого дела не откладывай. Нынче же вечером должно совершиться ваше сношение, то бишь оглашение. Бог мой, чего ты тянешь? Разве ты не знаешь, что близится конец света? Нынче мы стали на два трабюта и полтуазы ближе к нему, чем были позавчера. Я слышал, антихрист уже народился. Правда, пока он только царапает кормилицу и нянек и до времени не обнаруживает своих сокровищ: он еще мал. Crescite, nos qui vivimus, multiplicamini[108] — так сказано в служебнике, а ведь мешок зерна стоит у нас от силы три патака, а бочонок вина шесть бланков. Ты что же это, хочешь и на Страшный Суд, dum venerit judicare[109], явиться с полными яичками? — У тебя светлый и ясный ум, брат Жан, блудодей ты мой столичный, и говоришь ты дело, — заметил Панург. — Леандр Абидосский, плывя через Геллеспонт из Азии в Европу, в Сеет, к своей подружке Геро, именно об этом молил Нептуна и прочих морских богов:Коль скоро вы в пути меня хранили,
То хоть бы уж теперь не потопили!
В брак не вступай, в брак не вступай,
ай-ай-ай-ай.
Если ж вступишь, — нет, не вступай,
ай-ай-ай-ай,—
уподобишься рогатому козлу:
будет то ко злу.
* * *
…— Господа! Речь идет только об одном: стоит мне жениться или нет. Если вы не рассеете моих сомнений, то я сочту их такими же неразрешимыми, как Аллиаковы Insolubilia[110], ибо вы, каждый в своей области, люди избранные, отобранные и сквозь решето пропущенные. В ответ на вопрос Панурга и на поклоны всех присутствующих отец Гиппофадей с необычайной скромностью заметил: — Друг мой! Вы спрашиваете совета у нас, однако ж прежде надобно посоветоваться с самим собою. Сколь сильно беспокоит вас плотская похоть? — Прошу прощения, отец мой, — отвечал Панург, — чрезвычайно сильно. — Дело житейское, друг мои, — молвил Гиппофадей. — Однако, видя затруднительность вашего положения, Господь, уж верно, посылает вам дар и благодать воздержания? — По чести, нет, — отвечал Панург. — В таком случае женитесь, друг мой, — заключил Гиппофадей, — лучше жениться, нежели гореть в огне любост-растия. — Ах, как вы умно рассудили, — воскликнул Панург, — и при этом нимало не циркумбиливагинируя вокруг горшка! Чувствительно вам благодарен, ваше высокопреподобие. Теперь уж я твердо решил жениться, в самом скором времени. Приходите ко мне на свадьбу. Ах, шут возьми, ну и погуляем же мы с вами! Вы получите свадебную ленту, как полагается гостю, и, ей-же-ей, мы отведаем гуська, которого жена нам не зажарит. И вот еще о чем я вас попрошу: сделайте мне такое великое одолжение и окажите мне такую великую честь — откройте бал и пройдитесь в первой паре с какой-нибудь из девиц. Остается еще одна маленькая загвоздочка, совсем маленькая, малюсенькая: буду ли я рогат? — Если Бог захочет, отнюдь нет, друг мой, — отвечал Гиппофадей. — Силы небесные! — возопил Панург. — Куда вы меня отсылаете, добрые люди? К условным предложениям, которые порождают в диалектике всякого рода противоречия и бессмыслицу. Если бы мой заальпийский лошак летал, то у моего заальпийского лошака были бы крылья. Если Бог захочет, я не буду рогат, и я же буду рогат, если Бог того захочет. Вот тебе раз! Если б еще это было такое условие, которое можно преодолеть, я бы не отчаивался, но вы меня отсылаете в тайный совет Господа Бога, в палату частных Его определений. А как нам, французам, найти туда дорогу? Ваше высокопреподобие! По-моему, вам нет расчета ехать ко мне на свадьбу. От свадебного гама и суматохи вы с ума свихнетесь. Вы же любите покой, безмолвие, уединение. Я думаю, вы не приедете. Вдобавок и танцуете вы неважно и, открывая бал, чего доброго, осрамитесь. Лучше я вам пришлю на дом шкварочек и свадебную ленту. У себя дома вы и за здоровье молодых выпьете, коли придет охота. — Друг мой, — возразил Гиппофадей, — прошу вас, поймите меня правильно. Когда я вам сказал: «Если Бог захочет», то разве же я вас этим обидел? Разве это плохо сказано? Разве это условие кощунственное или же оскорбительное? Ведь я этим прославил Бога как нашего сотворителя, спасителя и промыслителя. Ведь я этим только хотел сказать, что Он — единственный податель всякого блага. Ведь я этим только хотел выразить ту мысль, что мы всецело зависим от Его благости, а без Него мы ничто, ничего не стоим и ни на что не способны — до тех пор, пока на нас не снизойдет Его святая благодать. Ведь я этим только хотел сказать, что все начинания наши должны сообразоваться с установлениями каноническими и что на какой бы то ни было шаг нам надлежит решаться с мыслью о том, что на все Его святая воля — как на земле, так и на небе. Ведь я же только чистым сердцем восхвалил благословенное имя Его. Друг мой, если Бог захочет, вы не будете рогаты. Не отчаивайтесь, полагая, будто узнать, что именно восхотел Господь, невозможно, ибо воля Его от нас, мол, сокрыта и, дабы постигнуть ее, должно-де обратиться в Его тайный совет и скитаться по палате священных Его определений. Господь явил нам особую милость: Он нам их открыл, возвестил, объявил и явно для всех начертал в Священном Писании. Из него-то вы и вычитаете, что никогда не будете рогаты, то есть что жена ваша никогда не будет развратничать при том условии, если вы возьмете ее из хорошей семьи, если она будет воспитана в духе строгой добродетели и непорочности, если она будет вращаться и находиться в обществе людей добронравных, будет любить и бояться Бога, будет стараться угодить Ему своею верою и соблюдением святых Его заповедей, будет бояться прогневить Его и лишиться Его благодати из-за своего маловерия или же вследствие нарушения божественного Его закона, который строго воспрещает прелюбодеяние и повелевает прилепиться к мужу своему, его единого ублажать, ему единому служить и, после Бога, его единого любить. Дабы она твердо сии правила усвоила, вы, со своей стороны, обязуйтесь обходиться с нею дружески, быть во всех отношениях безукоризненным, подавать ей благой пример и вести скромный, целомудренный, добродетельный образ жизни, какой, по вашему разумению, надлежит вести ей самой, ибо не то зеркало почитается прекрасным и безупречным, которое щедрее других украшено позолотою и самоцветными камнями, а то, которое верно отражает предметы — равным образом не та женщина вящим пользуется уважением, которая отличается богатством, красотою, статностью или же благородством происхождения, а та, которая наибольше стремится с помощью Божией во благочестии себя соблюсти и себя вести так же точно, как ее супруг. Обратите внимание, что Луна заимствует свет не от Меркурия, не от Юпитера, не от Марса и не от какой-либо другой планеты или же звезды небесной; она получает свет не от кого другого, как от своего супруга — Солнца, и получает ровно столько, сколько Солнце способно излучить, и в зависимости от того, в каком оно аспекте. Будьте же и вы для своей супруги покровителем, образцом добродетели и чистоты душевной и непрестанно молите Бога, чтобы Он по милосердию Своему вас не оставил. — Стало быть, вы хотите, — покручивая усы, заключил Панург, — чтобы я вступил в брак с той мудрой женой, которая описана у Соломона? Да ведь ее давно нет в живых, можете мне поверить. Сколько мне известно, я и в глаза-то ее никогда не видел, прости, Господи, мое согрешение! Во всяком случае, я вам очень признателен, отец мой. Скушайте вот этот марципанчик — он способствует пищеварению, и запейте сладким вином с корицей — это полезно для желудка. А мы пойдем дальше. — Продолжая свою речь, Панург объявил: — Первое, что сказал человек, кастрировавший сосиньякских черноризцев, как скоро он выхолостил брата Обобратия, было: «Следующий!» И я тоже скажу: «Следующий!» Так вот, господин магистр Рондибилис, без дальних слов: жениться мне или нет? — Клянусь иноходью моего лошака, не знаю, что вам на этот вопрос ответить, — молвил Рондибилис. — Вы сами говорите, что плоть ваша бунтует. На медицинском факультете меня учили (а восприняли мы это от древних платоников), что подобного рода возбуждение можно успокоить пятью способами. Во-первых, вином. — Вот это верно, — вставил брат Жан. — Когда я пьян, мне бы только спать да спать. — Я разумею, — продолжал Рондибилис, — неумеренное потребление вина, ибо пьянство производит в человеческом теле охлаждение крови, истощение нервов, непроизводительное растворение семени, притупление чувств и беспорядочность движений, а все это служит препоной для акта оплодотворения. В самом деле, вам известно, что Бахуса, бога пьяниц, изображают без бороды, в женском одеянии, существом женоподобным, евнухом и кастратом. Иное дело — умеренное потребление вина. На это нам указывает древнее изречение, гласящее, что в отсутствие Цереры и Бахуса Венера места себе не находит от скуки. По мнению древних, как оно изложено у Диодора Сицилийского, а равно и по мнению лампсакийцев, как утверждает Павсаний, мессер Приап был сыном Бахуса и Венеры. Во-вторых, я имел в виду некоторые снадобья и растения, которые охлаждают человека, вредно действуют на его здоровье и делают его неспособным к деторождению. Опыт показал, что таковы суть nymphaea heraclia[111], америна, ива, конопля, жимолость, тамаринд, витекс, мандрагора, цикута, ятрышник, кожа гиппопотама и другие, которые, попадая в тело человека, как в силу своих элементарных свойств, так и в силу своих специфических особенностей, замораживают и убивают животворное семя и рассеивают те токи, что призваны доставлять его в места, указанные природой, или же закупоривают пути и выходы, через которые оно может истечь. И наоборот, мы располагаем такими средствами, которые разжигают и возбуждают человека и влекут его к со- — Я-то в них, слава тебе Господи, не нуждаюсь, — объявил Панург. — А вот как вы, досточтимый магистр? Только вы не обижайтесь, ведь это я не со зла. — В-третьих, упорный труд, — продолжал Рондибилис, — ибо, когда человек работает, во внутренних его органах жизненные процессы замедляются настолько, что кровь, растекающаяся по телу, дабы питать его, не имеет ни времени, ни досуга, ни возможности способствовать выделению семени и отдавать излишки, остающиеся после третичного претворения пищи в кровь. Природа бережет излишки для своих особых целей: они ей нужны главным образом для поддержания сил в данной особи, а не для размножения и расположения человеческого рода. Вот отчего Диане, которая вечно охотится, чужда всяческая похоть. Вот отчего в старину лагери именовались castra — от латинского слова «casta»[112], ибо там без устали трудились воины и атлеты. Вот отчего Гиппократ (в книге «De aere, aqua et locis»[113] пишет, что некоторые скифские племена в любовных битвах оказывались слабее евнухов, ибо они всегда были на конях и всегда заняты делом, меж тем как, по мнению философов, мать сладострастия — это праздность. Когда Овидию задали вопрос, отчего Эгист стал прелюбодеем, он ответил, что только по причине праздности и что если, мол, праздность искоренить, то искусство Купидона погибнет. Лук, колчан и стрелы станут для него обузой; он никого не сможет поранить, оттого что вовсе не такой уж он меткий стрелок, чтобы подстрелить летящего в небе журавля или же оленя, спугнутого в лесу, чем славились парфяне, народ неугомонный и неутомимый. А Купидону требуются люди степенные, сидячие, лежачие, отдыхающие. Недаром Теофраст, когда его однажды спросили, что это за зверь, что это за штука — сердечное влечение, ответил, что это страсть умов праздных. Так же точно Диоген сказал, что блуд есть занятие людей, ничем другим не занятых. По той же самой причине Канах, ваятель сикионский, желая показать, что праздность, леность и беспечность являются пособницами разврата, изобразил Венеру сидящей, а не стоящей, как ее изображали все его предшественники. В-четвертых, усердные умственные занятия, ибо во время таковых токи до невероятия истощаются и иссякает сила, проталкивающая в надлежащие места плодоносные выделения и наполняющая ими полый внутри орган, назначение которого в том, чтобы исторгать их для продолжения человеческого рода. В самом деле, взгляните на человека, прилежно что-либо изучающего: вы увидите, что все артерии его мозга натянуты, как тетива, для того чтобы возможно скорее снабжать его токами, потребными для наполнения желудочков, ведающих здравым смыслом, воображением и постижением, суждением и решением, памятью и воспоминанием, а равно и для того, чтобы токи эти стремительно притекали от одного желудочка к другому по каналам, ясно обозначенным у самого края чудесной сети, где заканчиваются артерии; начало же свое артерии берут в левом сердечном ящичке, и жизненные токи, прежде чем стать токами животными, долго блуждают по артериям и постепенно очищаются. Между тем все естественные отправления у такого любознательного человека приостанавливаются, все внешние ощущения притупляются, словом, у вас создается впечатление, что жизнь в нем замерла, что он находится в состоянии экстаза, и вам уже не покажутся преувеличением слова Сократа, что философия есть не что иное, как размышление о смерти. Должно думать, именно поэтому Демокрит себя ослепил: он полагал, что потеря зрения не так опасна, как недостаточное самоуглубление, самоуглублению же мешает, как ему казалось, рассеянный взор. Оттого-то хранит свою девственность Паллада, богиня мудрости и покровительница ученых. Оттого девственны Музы, оттого же вечно невинны Хариты. И, помнится мне, я читал, что мать Купидона, Венера, допытывалась у него, отчего он не трогает Муз, и он ей ответил, что они до того прекрасны, до того чисты, до того честны, до того целомудренны и так всегда заняты: одна — над небесными светилами наблюдениями, другая — всевозможными вычислениями, третья — геометрических тел измерениями, четвертая — риторическими украшениями, пятая — поэтическими своими творениями, шестая — музыкальными упражнениями, что когда он к ним приближается, то, стыдясь и боясь их обидеть, он опускает свой лук, закрывает колчан и гасит факел, а потом снимает с глаз повязку, чтобы получше рассмотреть их лица, и слушает их приятное пение и стихи. И получает он от этого величайшее наслаждение и так бывает порой очарован их красотою и прелестью, что засыпает под музыку, а не то чтобы на них нападать или же отвлекать от занятий. В этой связи мне становится ясно, почему Гиппократ в упомянутой мною книге, говоря о скифах, а также в книге под заглавием «De genitura»[114], утверждает, что если человеку перерезать околоушные артерии, то он теряет способность к деторождению по причине, которую я выставил, когда говорил вам об истощении токов и одухотворенной крови, вместилищем для которой являются артерии; кроме того, он считает, что способность к деторождению во многом зависит от головного мозга и от позвоночного столба. В-пятых, акт плотской любви. — Вот этого только я и ждал, — сказал Панург. — Этим средством буду пользоваться я. А другими пусть пользуется кто хочет. — Брат Росцеллин, настоятель марсельского монастыря святого Виктора, называет это средство изнурением плоти, — заметил брат Жан. — Я же склоняюсь к мнению отшельника из монастыря святой Радегунды, что над Шиноном, каковой отшельник утверждал, что фиваидские пустынники лучше всего изнурили бы свою плоть, побороли нечистые желания и усмирили похоть, если бы применяли это средство двадцать пять, а то и тридцать раз в день. — На мой взгляд, — объявил Рондибилис, — Панург хорошо сложен, уравновешенного нрава, наделен достаточным количеством соков, возраст его подходящий, он в самой поре, так что его желание жениться вполне законно. Если только он встретит женщину соответственного темперамента, то они произведут потомство, которому смело можно будет вверить любую заморскую монархию. И чем скорей, тем лучше, если он хочет, чтобы дети его были обеспечены. — Можете не сомневаться, досточтимый магистр, это будет очень скоро, — молвил Панург. — Блоха, что сидит у меня в ухе, никогда еще так меня не щекотала, как во время вашей ученой речи. Приглашаю вас ко мне на свадьбу. Мы с вами так кутнем, что чертям тошно станет, уверяю вас. Пожалуйста, не забудьте привести с собой вашу жену и, само собой разумеется, ее соседок. У нас все будет чинно, благородно. Остается покончить еще с одним маленьким пунктиком, — продолжал Панург. — Вы когда-нибудь видели надпись на римском знамени: «СИНР»? Так это означает не «сенат и народ римский», а «самомалейшее и ничтожное раздумье». Буду ли я рогат? — Ах, мой Создатель! — воскликнул Рондибилис. — Нашли о чем спрашивать! Будете ли вы рогаты! Друг мой! Я женат, и вам это предстоит в скором времени. Так вот, запишите в своем мозгу железным стилем: всякому женатому человеку грозит опасность носить рога Рога — естественное приложение к браку. Не так неотступно следует за телом его тень, как рога за женатым. Если вы услышите, что про кого-нибудь говорят: «Он женат», и при этом подумаете: «Значит, у него есть, или были, или будут, или могут быть рога», — вас никто не сможет обвинить, что вы не умеете делать логические выводы. — Ах вы, ипохондрик окаянный! — вскричал Панург. — Что вы только говорите! — Друг мой! — продолжал Рондибилис. — Гиппократ, отправляясь из Коса в Абдеру навестить философа Демокрита, написал письмо своему старинному другу Дионису и попросил на это время отвезти его жену к ее родителям, людям почтенным и всеми уважаемыми: ему не хотелось, чтобы она оставалась в доме одна, да еще наказывал установить за ней неусыпный надзор и следить, куда она ходит с матерью и кто бывает у ее родителей. «Не то чтобы я сомневался в целомудрии ее и скромности, — писал он, — я познал и уверился на опыте, что таковые добродетели ей присущи. Но она — женщина. А этим сказано все». Друг мой! Женскую натуру олицетворяет собою луна — и во всем прочем, и, в частности, в том отношении, что женщины таятся, смущаются и притворствуют на глазах и на виду у мужей. А чуть мужья за дверь — пускаются во все тяжкие: веселятся, гуляют, резвятся, сбрасывают с себя личины и обнаруживают подлинное свое лицо. Так же точно и луна: в период совпадения ее с солнцем она не показывается ни на небе, ни на земле, в период же своего противостояния, когда она особенно далеко находится от солнца, она выступает во всем своем блеске и являет полный свой лик, — разумеется, в ночное время. Таковы и все женщины. Одно слово — женщины. Под словом «женщина» я разумею в высшей степени слабый, изменчивый, ветреный, непостоянный и несовершенный пол, и мне невольно кажется, будто природа, не во гнев и не в обиду ей будь сказано, создавая женщину, утратила тот здравый смысл, коим отмечено все ею сотворенное и устроенное. Я сотни раз ломал себе над этим голову и так ни к чему и не пришел; полагаю однако ж, что природа, изобретая женщину, думала больше об удовлетворении потребности мужчины в общении и о продолжении человеческого рода, нежели о совершенстве женской натуры. Сам Платон не знал, куда отнести женщин: к разумным существам или же к скотам, ибо природа вставила им внутрь, в одно укромное место, нечто одушевленное, некий орган, которого нет у мужчины и который иногда выделяет какие-то особые соки: соленые, селитряные, борнокислые, терпкие, едкие, жгучие, неприятно щекочущие, и от этого жжения, от этого мучительного для женщины брожения упомянутых соков (а ведь орган этот весьма чувствителен и легко раздражается) по всему телу женщины пробегает дрожь, все ее чувства возбуждаются, все ощущения обостряются, все мысли мешаются. Таким образом, если бы природа до некоторой степени не облагородила женщин чувством стыда, они как сумасшедшие гонялись бы за первыми попавшимися штанами в таком исступлении, какого претиды, мималлониды и вакхические фиады не обнаруживали даже в дни вакханалий, ибо этот ужасный одушевленный орган связан со всеми основными частями тела, что наглядно доказывает нам анатомия. Я называю его одушевленным вслед за академиками и перипатетиками, ибо если самопроизвольное движение, как учит Аристотель, есть верный признак живого существа и все, что самопроизвольно движется, именуется одушевленным, то в таком случае у Платона есть все основания именовать одушевленным и этот орган, коль скоро Платон замечает за ним способность самопроизвольно двигаться, а именно: сокращаться, выдвигаться, сморщиваться, раздражаться, причем движения эти бывают столь резкими, что из-за них у женщин нередко замирают все прочие чувства и движения, как при сердечном припадке, дурноте, эпилепсии, апоплексии и обмороке. Более того: для нас очевидно, что орган этот умеет различать запахи, — вот почему женщины избегают зловония и тянутся к благовониям. Мне известно, что Гален тщился доказать, будто это движения не самопроизвольные и не самостоятельные, а чисто случайные, некоторые же из его последователей пытались установить, что помянутый орган не обладает свойством различать запахи, а что он наделен некоей по-разному проявляющей себя способностью, зависящей от разнообразия пахучих субстанций. Однако ж если вы тщательно изучите и взвесите на весах Критолая их доводы и основания, то придете к заключению, что в сем случае, как и во многих других, они решали дело с кондачка и что ими руководило не столько стремление добраться до истины, сколько желание во что бы то ни стало заткнуть за пояс своих предшественников. Я не собираюсь заходить слишком далеко в этом споре; скажу только, что женщины добродетельные, прожившие свою жизнь скромно и беспорочно и сумевшие подчинить рассудку дикое это животное, немалой заслуживают похвалы. В заключение я хочу еще добавить, что, как скоро животное это насыщается (если только его можно насытить) тою пищею, какую природа приготовила для него в организме мужчины, все его своеобразные движения сей же час прекращаются, все желания его утоляются, всё страсти его успокаиваются. Так не удивляйтесь же, что нам вечно грозит опасность стать рогоносцами: ведь мы не всегда имеем возможность ублаготворить женщину, удовлетворить ее вполне. — Ах ты, чтоб его намочило, да не высушило! — воскликнул Панург. — Неужто ваша медицина не знает никакого средства? — Как же, друг мой, знает, и очень хорошее, — отвечал Рондибилис, — я сам к нему прибегаю; оно описано у одного известного автора, жившего восемнадцать столетий тому назад. Сейчас я вам скажу. — Клянусь Богом, вы превосходный человек, — заметил Панург, — я надышаться на вас не могу. Скушайте пирожок с айвой: благодаря своим вяжущим свойствам айва плотно закупоривает шейку желудка и содействует первой стадии пищеварения. А впрочем, что же это я? Нет уж, яйца кур не учат. Погодите, я вам сейчас поднесу вот этот Несторов кубок. А может, вы хотите еще хлебнуть белого душистого? Не бойтесь, воспаления желез от него быть не может. В нем нет ни сквинанти, ни имбиря, ни гвинейского перца. Это смесь отборной корицы, самолучшего сахару и славного белого девиньерского вина, из того винограда, что растет возле высокой рябины, чуть выше Грачиного орешника. — В то время, — сказал Рондибилис, — когда Юпитер наводил порядок в своем олимпийском доме и когда он составил календарь для всех богов и богинь, установив для каждого особое время года и особый праздничный день, распределив места для оракулов и места для паломничества, определив, какие кому надлежит приносить жертвы… — Может, он действовал, как Дентевиль, епископ Осерский? — спросил Панург. — Доблестный сей святитель любил хорошее вино, как и всякий порядочный человек, поэтому он особенно заботился о виноградной лозе, прародительнице Бахуса, и особенно за нею ухаживал. И вот, к великому его прискорбию, несколько лет кряду виноград у него погибал — то от заморозков, то от дождей, то от туманов, то от гололедицы, то от утренников, то от града и от всяких прочих стихийных бедствий, совпадавших с днями святого Георгия, Марка, Виталия, Евтропия, Филиппа, с праздниками Креста Господня, Вознесения и так далее, каковые приходятся на то время, когда солнце вступает в знак Тельца, и отсюда преосвященный владыка вывел заключение, что перечисленные мною святые суть святые — градопобиватели, мразонасылатели и виноградогубители. Тогда он решился перенести их праздники на зиму, между Рождеством и Богоявлением, почтительно и благоговейно предоставив им посылать в это время град и мороз сколько ихней душе угодно, ибо в это время года мороз не только не вреден для винограда, но, напротив, явно полезен. А вместо них он велел праздновать дни святого Христофора, Иоанна Предтечи, святой Магдалины, Анны, Доминика, Лаврентия, то есть перенес середину августа на май, ибо в это время года мороз не страшен, и все прохладительных напитков изготовители, сливочного сыра варители, беседкостроители и вина охладители тогда нарасхват. — Юпитер, — продолжал Рондибилис, — позабыл про беднягу Рогача, который был тогда в отсутствии. Рогач на ту пору находился в Париже и вел в суде кляузный процесс одного из арендаторов своих и вассалов. Не могу вам сказать, когда именно он узнал, что его обошли, но только он прекратил хлопоты в суде, как скоро на него свалилась новая забота: а вдруг его отчислят за опоздание, и, собственной персоной представ пред великим Юпитером, он распространился о прежних своих заслугах, об одолжениях и любезностях, которые он в свое время ему делал, и убедительно попросил Юпитера не оставить его без праздника, без жертвоприношений и чествования. Юпитер оправдывался и доказывал, чтовсе бенефиции уже розданы и штат заполнен; со всем тем мессер Рогач выказал такую назойливость, что в конце концов Юпитер принял его в штат, занес в список и установил для него на земле праздник, чествование и жертвоприношения. Так как во всем календаре не осталось больше пустых и вакантных мест, то день его праздновался одновременно с днем богини Ревности. Ведению его подлежали люди женатые, особливо женатые на красавицах; жертвы ему были назначены такие: подозрение, недоверие, свара, надзор, подглядыванье и слежка за женами, при этом каждому женатому был дан строгий наказ бояться и чтить своего бога, праздновать его день с особой торжественностью и приносить ему все названные жертвы под страхом и под угрозой навлечь на себя его немилость; а кто достодолжных почестей ему не воздаст, тех-де мессер Рогач лишит помощи своей и заступления: перестанет их призревать, перестанет бывать у них в доме, будет чуждаться их общества, как бы они его ни зазывали, предоставит им вариться в собственном соку вместе с их женами, не послав им ни единого соперника, и вечно будет их сторониться как еретиков и святотатцев, по примеру других богов, которые поступают так с теми, кто их недостаточно чтит, а именно: Бахус — с непочтительными виноградарями, Церера — с хлебопашцами, Помона — с садовниками, Нептун — с мореходами, Вулкан — с кузнецами, и так далее. Напротив, тем, кто с надлежащею торжественностью будет праздновать его день, кто устранится от всяких занятий и забросит все свои дела ради того, чтобы следить за женой, утеснять ее и из ревности дурно с нею обходиться согласно положению о жертвоприношениях, было дано твердое обещание, что мессер Рогач взыщет их своими милостями, будет вечно к ним благосклонен, будет их посещать, дневать и ночевать у них в доме и не оставит их ни на мгновение. Вот и все. — Ха-ха-ха! — засмеялся Карпалим. — Это средство еще проще, чем кольцо Ганса Карвеля. Черт возьми, как же не поверить в этакое средство! Женская натура именно такова. Молния разрушает и сжигает только твердые, прочные и устойчивые тела, предметов же мягких, полых внутри и податливых она не трогает: она вам сожжет стальную шпагу, а бархатных ножен не повредит, превратит в пепел кости, а покрывающего их мяса не заденет, — так же точно и женщины выворачиваются наизнанку, пускаются на хитрости и обнаруживают дух противоречия во всех тех случаях, когда им что-либо не дозволяется и воспрещается. — Некоторые наши ученые богословы, — вставил Гиппофадей, — справедливо замечают, что первая женщина на земле, та самая, которую евреи назвали Евой, вряд ли соблазнилась бы плодом познания, когда бы плод сей не был запретным. И точно, вспомните, что коварный искуситель, заговорив с нею, начал прямо с его запретности, и тайный смысл его речей был, думается, таков: «Именно потому, что тебе это воспрещено, ты и должна от него вкусить, иначе ты не женщина». — Когда я проказил в Орлеане, — сказал Карпалим, — то самым блестящим риторическим украшением и самым убедительным аргументом, которым я располагал для того, чтобы заманить дамочек в свои тенета и вовлечь их в любовную игру, являлось живое, явное и возмутительное доказательство, что мужья их ревнуют. Выдумал это не я. Об этом написано в книгах, это подтверждают законы, всевозможные примеры и доводы, наконец, повседневный опыт. Как скоро такая мысль втемяшится женам, они не успокоятся, пока не наставят мужьям рогов, — клясться не стану, а вот, ей-богу, не вру, — даже если бы им пришлось для этого последовать примеру Семирамиды, Пасифаи, Эгесты, жительниц острова Мандеса в Египте, которых превознесли Геродот и Страбон, и прочих им подобных сучек. — То правда, — молвил Понократ, — я слыхал, что однажды к Папе Иоанну Двадцать Второму, посетившему обитель Куаньофон, настоятельница и старейшие инокини обратились с просьбой — в виде особого исключения разрешить им исповедоваться друг у друга, ибо, по их словам, нестерпимый стыд мешает им признаваться в кое-каких тайных своих пороках исповеднику-мужчине, а друг с другом они будут, мол, чувствовать себя на исповеди свободнее и проще. «Я охотно исполнил бы вашу просьбу, — отвечал Папа, — но я предвижу одно неудобство. Видите ли, тайна исповеди не должна быть разглашаема, а вам, женщинам, весьма трудно будет ее хранить». — «Отлично сохраним, — объявили монахини, — еще лучше мужчин». В тот же день святейший владыка передал им на хранение ларчик, в который он посадил маленькую коноплянку, и попросил спрятать его в надежном и укромном месте, заверив их своим Папским словом, что если они сберегут ларчик, то он исполнит их просьбу, и в то же время строго-настрого, под страхом того, что они будут осуждены церковью и навеки отлучены от нее, воспретив его открывать. Едва Папа произнес этот запрет, как монахини уже загорелись желанием посмотреть, что там такое, — они только и ждали, чтобы Папа поскорей ушел и чтобы можно было заняться ларчиком. Благословив их, святейший владыка отправился восвояси. Не успел он и на три шага удалиться от обители, как добрые инокини всем скопом бросились открывать запретный ларчик и рассматривать, что там внутри. На другой день Папа вновь пожаловал к ним, и они понадеялись, что прибыл он нарочно для того, чтобы выдать им письменное разрешение исповедоваться друг у друга. Папа велел однако ж, принести сперва ларчик. Ларчик принесли, но птички там не оказалось. Тогда Папа заметил, что монахиням не под силу будет хранить тайну исповеди, коль скоро они так недолго хранили тайну ларчика, по поводу которой им было сделано особое наставление. — Уважаемый учитель, как же я рад вас видеть! Я слушал вас с великим удовольствием и за все благодарю Бога. Мы с вами не встречались с тех самых пор, как вы вместе с нашими старинными друзьями, Антуаном Сапорта, Ги Бугье, Балтазаром Нуайе, Толе, Жаном Кентеном, Франсуа Робине, Жаном Пердрие и Франсуа Рабле, разыгрывали в Монпелье нравоучительную комедию о человеке, который женился на немой. — Я был на этом представлении, — сказал Эпистемон. — Любящему супругу хотелось, чтобы жена заговорила. Она и точно заговорила благодаря искусству лекаря и хирурга, которые подрезали ей подъязычную связку. Но, едва обретя дар речи, она принялась болтать без умолку, так что муж опять побежал к лекарю просить средства, которое заставило бы ее замолчать. Лекарь ему сказал, что в его распоряжении имеется немало средств, которые могут заставить женщину заговорить, и нет ни одного, которое заставило бы ее замолчать; единственное, дескать, средство от беспрерывной женской болтовни — это глухота мужа. Врачи как-то там поворожили, и этот сукин сын оглох. Жена, обнаружив, что он ничего не слышит и что из-за его глухоты она только бросает слова на ветер, пришла в ярость. Лекарь потребовал вознаграждения, а муж сказал, что он и правда оглох и не слышит, о чем тот просит. Тогда лекарь незаметно подсыпал мужу какой-то порошок, от которого муж сошел с ума. Сумасшедший муж и разъяренная жена дружно бросились с кулаками на хирурга и лекаря и избили их до полусмерти. Я никогда в жизни так не смеялся, как над этими дурачествами во вкусе Патлена. — Возвратимся к нашим баранам, — сказал Панург. — Ваши слова в переводе с тарабарского на французский означают, что я смело могу жениться, а о рогах не думать. Ну да это вилами на воде писано. Уважаемый учитель! Я очень боюсь, что из-за множества пациентов вам не удастся погулять у меня на свадьбе. Но я на вас не обижусь.Stercus et urina medici sunt prandia prima:
Ex aliis paleas, ex istis collige grana[115].
Фрагмент 25. Маргарита Наваррская. «Гептамерон»
«День VI. Новелла LIV Жена Тогаса, считавшая, что муж ее отдает ей всю свою любовь, соглашалась на то, чтобы он развлекался со служанкой, и смеялась, когда он целовал эту служанку у нее на глазах. Между Пиренеями и Альпами жил некий дворянин по имени Тогас, у которого была жена, дети, очень хороший дом и столько богатств и радостей, что он мог бы быть всем доволен, если бы не страдал от сильных головных болей. Боли эти были так мучительны, что врачи посоветовали ему спать отдельно от жены, на что та очень охотно согласилась, ибо больше всего пеклась о жизни и здоровье мужа. И она велела перенести свою кровать в противоположный угол комнаты, как раз напротив кровати мужа, так что, высунув голову, оба они могли видеть друг друга. У этой дамы были две служанки, которые постоянно находились при ней. Нередко перед сном дворянин и его жена читали в постели. Служанки их в это время держали свечи, причем молодая светила сеньору, а пожилая — своей госпоже. Видя, что служанка и моложе и красивее его жены, Тогас стал заглядываться на нее и подчас отрывался от книги, чтобы поболтать с нею. Жена его все это слышала и считала, что нет ничего плохого в том, что слуги и служанки помогают ее мужу немного развлечься, ибо была уверена в том, что, кроме нее, он никого не любит. Но однажды вечером, когда они читали дольше обыкновенного, дама эта посмотрела издали на кровать своего мужа, возле которой, повернувшись к ней спиной, стояла молодая служанка, державшая свечу. Мужа ей не было видно, так как между их постелями был камин; на белую стену, которую озаряла свеча, падали тени от его лица и от лица служанки, и видно было, как лица эти то приближаются друг к другу, то отдаляются и смеются. И видно было все так отчетливо, как будто то были не тени, а сами лица. Дворянин, уверенный, что жена не видит его, стал без всякого стеснения целовать служанку Сначала жена его стерпела и ни слова ему не сказала. Но когда она увидела, что тени их лиц очень уж часто сходятся, она испугалась, как бы дело не зашло еще дальше. Тогда она начала громко смеяться; тени испугались и отдалились друг от друга. Муж спросил, что ее так рассмешило. — Друг мой, — отвечала она, — я так глупа, что смеюсь над собственной тенью. И сколько он ни допытывался до истинной причины ее смеха, она больше ничего ему не сказала. И тени больше уже не тянулись друг к другу…» Перевод А. М. Шадрина. (Цитируется по изданию: Маргарита Наваррская. Гептамерон. Л., 1967.)Фрагмент 26. Джованни Боккаччо. «Декамерон»
«День V Новелла X Пьетро ди Винчоло идет ужинать вне дома; его жена приглашает к себе молодого человека; Пьетро возвращается, а она прячет любовника под корзину из-под цыплят. Пьетро рассказывает, что в доме Эрколано, с которым он ужинал, нашли молодого человека, спрятанного там его женою; жена Пьетро порицает жену Эрколано; на беду осел наступает на пальцы того, кто находится под корзиной; он кричит. Пьетро бежит туда, видит его и узнает обман жены, с которой под конец, по своей низости, мирится. …Жил в Перуджии не так давно богатый человек, по имени Пьетро ди Винчоло, который, быть может, скорее с целью обмануть других и устранить общее мнение о себе всех перуджинцев, чем по своему желанию, взял за себя жену, и судьба так ответила его вкусам, что избранная им жена оказалась девушкой плотной, рыжей и горячей, которая предпочла бы двух мужей одному, тогда как она попала на человека, более помышлявшего о другом, чем о ней. Убедившись в этом с течением времени, видя, что она красива и свежа, чувствуя себя бодрой и сильной, она стала сначала предаваться сильному гневу, порой доходя с мужем до бранных слов и всегда живя с ним не в ладу. Но затем, убедившись, что от всего этого скорее зачахнет она, чем исправится негодность мужа, она сказала себе: «Этот жалкий человек пренебрегает мной, чтобы в своем пороке ходить в деревянных башмаках посуху; постараюсь же я повести кого-нибудь другого в корабле по морю. Я взяла его себе в мужья и принесла ему большое, хорошее приданое, зная, что он — мужчина, и полагая, что он охоч до того, до чего и должны быть охочи мужчины; если б я была убеждена, что он не мужчина, то никогда и не вышла бы за него. Он знал, что я — женщина, зачем же он брал меня в жены, если женщины ему противны? Это невыносимо. Если б я не желала жить в миру, я пошла бы в монахини, но, коли желать жить в миру, как я живу и хочу жить, и ждать от него утехи и удовольствия, я, пожалуй, состарюсь в напрасных ожиданиях и, когда буду старухой, спохватившись, напрасно буду сетовать на даром потраченную юность; а что ей надо дать утеху, то он мне отличный учитель, наставляющий меня наслаждаться тем, чем наслаждается он сам; и это наслаждение будет во мне похвально, тогда как в нем оно достойно великого порицания. Я нарушу лишь законы, тогда как он нарушает и законы и природу». Когда жене запала такая мысль, и, быть может, не один раз, она, дабы тайно осуществить ее, сошлась с одной старухой, с виду походившей на св. Вердиану, что кормит змей, всегда ходившей с четками в руках за отпущением грехов, ни о чем другом не говорившей, как о житии святых отцов и язвах св. Франциска, и вообще всеми считавшейся за святую. Улучив время, она вполне открыла ей свои желания; старуха сказала ей: «Дочь моя, Господь знает, — а Он ведает все, — что ты очень хорошо сделаешь; если бы даже ты не совершила того по какой другой причине, тебе, как и всякой молодой женщине, следовало бы так поступить, дабы не потерять времени юности, потому что для человека с разумением нет печали выше сознания, что он упустил время. И какому черту мы годны, состарившись, как на то разве, чтобы сторожить золу в камельке? Если есть кто-либо знающий о том и могущий это засвидетельствовать, то я одна из таковых, потому что теперь, когда я стара, я сознаю, не без великих и горестных угрызений духа, хотя и без пользы, сколько времени я упустила; и, хотя я потеряла его не совсем (я не желала бы, чтобы ты сочла меня простухой), я все же не сделала всего того, что могла бы сделать; и теперь, когда я об этом вспоминаю и смотрю, какой, ты видишь, я стала, что мне никто и огня не подаст в труте, я ощущаю бог знает какую скорбь. С мужчинами того не случается; они рождаются годными на тысячи дел, не только на это, и большею частью старики годнее молодых; а женщины рождаются не на что иное, как на это дело и чтобы рожать детей, потому только ими и дорожат. Если бы ты не убедилась в этом на чем ином, должна убедиться на том, что мы всегда к тому делу готовы, чего с мужчинами не бывает; к тому же женщина может уходить многих мужчин, тогда как много мужчин не могут утомить одной женщины; а так как мы на это и рождены, то снова говорю тебе, — ты очень хорошо поступишь, если отплатишь своему мужу хлебом за ватрушку, дабы в старости твоей душе нечем было упрекать плоть. От этого мира всякий получает по столько, сколько схватит, особенно женщины, которым гораздо более подобает пользоваться временем, коли оно представится, чем мужчинам, потому что сама ты можешь видеть, когда мы постареем, что ни муж и никто другой не хочет и смотреть на нас, напротив, гонят нас на кухню мурлыкать с кошкой и пересчитывать горшки и сковороды, хуже того, над нами издеваются и говорят: молодицам покормиться, а старухам подавиться; и много еще других вещей они говорят. Не тратя более слов, скажу тебе теперь же, что ты ни к кому в свете не могла обратиться, чтобы открыть свои мысли, кто был бы тебе полезнее меня, ибо нет такого щеголя, которому я не решилась бы сказать, что нужно, и ни одного столь грубого и неотесанного, которого бы я не умаслила хорошенько и не привела к тому, что мне желательно. Ты только покажи мне того, кто тебе нравится, и предоставь мне действовать, но об одном тебе напомню, дочь моя — чтобы ты меня не забыла, ибо я — женщина бедная, а я желаю, чтобы ты отныне же стала участницей всех моих индульгенций и всех молитв, которые я прочту, дабы Господь принял их вместо поминальных свеч по твоим покойникам». Она закончила. И вот молодая женщина условилась со старухой, что если она увидит одного молодого человека, который часто проходил по той улице и все приметы которого она ей указала, то чтобы знала, что ей делать; подав ей кусок солонины, она отправила ее с богом. Не прошло нескольких дней, как старуха потихоньку провела к ней в комнату того, о ком она ей говорила, а затем вскоре и других, кто приглядывался молодой женщине; а она, постоянно сторожась мужа, не упускала случая сделать в этом отношении все, что могла. Случилось однажды, что мужу надо было пойти ужинать к одному его приятелю, по имени Эрколано, а жена велела старухе послать ей одного молодого человека из самых красивых и приятных в Перуджии, что та тотчас же и исполнила. Когда жена села с юношей за ужин, Пьетро кликнул у входной двери, чтобы ему отворили. Жена, услыхав это, сочла себя потерянной, но, желая, по возможности, укрыть юношу и, не догадавшись ни отослать его, ни скрыть в каком-либо ином месте, спрятала его под навесом, находившимся вблизи той комнаты, где они ужинали, под корзину из-под цыплят, а сверху набросила холщовый чехол с матраца, который она в тот день велела опорожнить. Сделав это, она тотчас же велела отворить мужу. Когда он вошел, она сказала: «Скоро же вы проглотили этот ужин!» Пьетро отвечал: «Мы до него и не дотронулись». — «Что же случилось?» — спросила жена. Тогда Пьетро сказал: «Я тебе это расскажу; когда мы уже уселись за стол, Эрколано, его жена и я, мы услыхали, как около нас кто-то чихнул, на что ни в первый, ни во второй раз не обратили внимания; но, когда чихнувший сделал то же и в третий, четвертый, в пятый раз и далее, мы все удивились, а Эркола-но, несколько повздоривший с женой за то, что долго продержала нас у входной двери, не отворяя, сказал почти с остервенением: "Что это значит? Кто это там чихает?" — и, встав из-за стола, направился к лестнице, бывшей вблизи, от которой внизу находилась дощатая перегородка для складывания там всего, что понадобится, какие, мы видим ежедневно, делают у себя все устраивающие свои дома. И так как ему показалось, что именно оттуда раздавалось чиханье, он открыл бывшую там дверцу и едва успел отворить ее, как оттуда понесся ужасающий запах серы, хотя и перед тем, когда тот запах дошел до нас и мы на то пожаловались, жена Эрколано ответила: "Это от того, что я недавно белила мои покрывала серой и поставила под эту лестницу котелок, над которым их разложила, чтобы продымить; вот оттуда запах еще и идет". Когда Эрколано открыл дверцу и дым немного рассеялся, он взглянул внутрь и увидел того, кто чихал и еще продолжал чихать, так как сила серы побуждала его к тому; и, хотя он чихал, серные пары так стеснили его дыхание, что, если б он остался там еще немного, был бы конец и чиханью, и всему другому. Эрколано, увидев его, закричал: "Теперь я понимаю, жена, почему недавно, когда мы пришли сюда, ты нас так долго продержала за дверями, не открывая; но пусть никогда не будет у меня радости, если я не отплачу тебе за это". Услыхав это и видя, что ее грех открыт, жена, не стараясь даже оправдываться, выскочила из-за стола и побежала, не знаю куда. Не обращая внимания на бегство жены, Эрколано несколько раз говорил тому, кто чихал, чтобы он вылез, но тот, которому было уже невмоготу, не двигался с места, что ни говорил ему Эрколано. Потому, схватив его за ногу, Эрколано вытащил его наружу и уже побежал за ножом, чтобы убить его, но я, боясь вмешательства синьории, встал и не давал ни убить его, ни учинить ему зла; напротив, кричал, защищая его, что и было причиной, что сбежались туда соседи, которые схватили обессилевшего уже юношу и понесли его из дому, не знаю куда. Вот почему наш ужин был нарушен, и я не только не проглотил, но даже и не пригубил его, как и сказал». Когда жена услышала об этом деле, поняла, что есть и другие, столь же умные, как и она, хотя порой с той или другой приключаются и несчастия, и она охотно защищала бы жену Эрколано, но, так как она рассчитала, что, порицая чужой проступок, она даст более свободный ход своим собственным, она начала говорить так: «Вот так дела! Видно, что святая, хорошая женщина! Вот так верность честной жены! А ведь я готова была исповедоваться у нее, такой благочестивой она мне казалась. Хуже того: будучи уже старухой, она подает хороший пример молодым. Да проклят будет час, когда она явилась на свет, да и она сама, осмеливающаяся жить! Должно быть, коварная и преступная женщина, общий позор и поношение для всех женщин этого города, что, отбросив свою честь и верность, обещанную мужу, и мнение света, не устыдилась опозорить, ради другого, такого человека, столь доблестного гражданина, так хорошо обходившегося с ней, а вместе с ним опозорилась и сама. Упаси меня, Боже; к таким женщинам не следовало бы иметь снисхождения, их надо убивать, живьем бросать в огонь и сжигать дотла». Затем, вспомнив о своем любовнике, который находился тут же под корзиной, она принялась убеждать Пьетро идти в постель, потому что пора. Пьетро, которому скорей хотелось есть, чем спать, спросил, нет ли чего поужинать, на что жена отвечала: «Есть ли что поужинать!.. Много мы привыкли ужинать, когда тебя нет! Разве я — жена Эрколано! Чего же ты не идешь, иди себе спать, лучше будет». Случилось, что вечером несколько работников Пьетро пришли с чем-то из деревни и, не напоив своих ослов, поместили их в конюшне рядом с чуланом; один из ослов, почувствовав сильную жажду, вытянул голову из недоуздка, вышел из конюшни и бродил всюду, обнюхивая, не найдет ли воды; так ходя, он наступил на корзину, под которой находился юноша. Тому пришлось стоять на четвереньках, и он несколько выпятил по земле из-под корзины пальцы одной руки, и такова была его судьба или, пожалуй, несчастье, что тот осел наступил на них ногой, а он, ощутив сильнейшую боль, испустил страшный вопль. Услышав его, Пьетро удивился и догадался, что кричат в доме; поэтому, выйдя из комнаты и услышав, что тот продолжает стонать, ибо осел еще не снял ноги с его пальцев и крепко нажимал их, спросил: «Кто там?» Подбежав к корзине и подняв ее, он увидел юношу, у которого к боли в пальцах, раздавленных ослиной ногой, присоединилась еще и дрожь от страха, как бы Пьетро не учинил ему какого-нибудь зла. Когда Пьетро признал в нем того, за которым он по своей порочности долго ухаживал, и спросил его, что он тут делает, тот ничего не ответил, а только просил, ради Бога, не казнить его. На это Пьетро сказал: «Встань, не бойся, чтобы я учинил тебе что-либо худое, но скажи мне, как ты здесь и зачем?» Юноша все ему рассказал. Пьетро, не менее обрадованный тем, что его нашел, чем опечалена была жена, взял его за руку и повел с собою в комнату, где жена ожидала его в величайшем на свете страхе. Сев напротив нее, Пьетро сказал ей: «Вот ты недавно так позорила жену Эрколано, говорила, что ее надо бы сжечь и она бесчестит всех вас; почему не говорила ты о самой себе? А если о себе не желала говорить, как у тебя хватило духа говорить о ней, когда ты знала, что сделала то же самое, что и она? Поистине, не что иное побудило тебя к тому, как то, что все вы таковы и стараетесь собственный грех прикрывать чужими. Да падет с неба огонь, чтобы сжечь всех вас, проклятое отродье!» Жена, видя, что на первый раз он не учинил ей иного зла, как только словами, и поняв, что он повеселел, залучив в руки столь красивого юношу, ободрилась и сказала: «Я совершенно уверена в твоем желании, чтобы с неба сошел огонь и сжег бы нас всех, ибо до нас ты так же охоч, как собака до палки, но, клянусь Богом, по твоей воле не станется; а я охотно посчиталась бы с тобою, чтобы узнать, на что ты жалуешься; уверяю тебя, я была бы довольна, если бы ты пожелал сравнять меня с женою Эрколано: она, старая святоша и ханжа, получает от него то, что ей потребно, и он содержит ее в чести, как следует содержать жену, а этого-то мне и не хватает; потому что, хотя я хорошо одета и обута, ты отлично знаешь, как я обставлена в другом и сколько времени прошло с тех пор, как ты не спал со мной. Я предпочла бы ходить в рубищах и босой, лишь бы ты хорошо обходился со мной в постели, чем иметь все это, а ты обращался бы со мной так, как обращаешься. Пойми хорошенько, Пьетро, что я такая же женщина, как и другие, и желаю того же, что делают все, потому, если я стараюсь раздобыть, чего ты мне не доставляешь, не следует меня за это корить; по крайней мере, я настолько берегу твою честь, что не якшаюсь с конюхами и паршивцами». Пьетро видел, что таких речей хватит на всю ночь, потому, как человек, мало обращавший на нее внимания, сказал: «Довольно, жена, этим я тебя ублаготворю, а ты будь добра, дай нам чего-нибудь поужинать, потому что, мне кажется, этот молодой человек, равно как и я, еще ничего не ел». — «Разумеется, нет, — сказала жена, — он не поужинал, потому что, когда ты пришел в недобрый час, мы только что садились за стол». — «Ну, так ступай, — сказал Пьетро, — дай нам поужинать, а затем я устрою это дело так, что тебе не на что будет жаловаться». Увидев, что муж успокоился, жена встала и, тотчас же распорядившись снова накрыть на стол и подать приготовленный ею ужин, весело поела вместе со своим негодным супругом и молодым человеком. То, что Пьетро затеял после ужина для удовлетворения всех трех, это я запамятовал: знаю только, что юношу на следующее утро проводили до площади недоумевающего, чем более он был ночью: женой или мужем. Потому скажу вам так, дорогие мои дамы; как сделают тебе, так отплати и ты, а коль не можешь, то памятуй о том, пока не представится возможность, дабы, как лягнет осел в стену, так бы ему и отдалось…» Перевод А. Н. Веселовского. (Цитируется по изданию: Джованни Боккаччо. Декамерон. М., 1999.)Фрагмент 27. Франко Саккетти. Из «Трехсот новелл»
«Новелла LXXXIV Некий сьенский живописец, услыхав, что жена впустила в дом своего любовника, входит к себе домой, ищет дружка, находит его принявшим вид распятия и собирается отрубить у него топором некое его орудие. Тот убегает со словами: «Не шути с топором!» Жил некогда в Сьене живописец по имени Мино. У него была жена, женщина очень пустая и к тому же очень красивая, давно приглянувшаяся некоему сьенцу, который с ней и спознался. Один из родичей Мино не раз ему уже об этом говорил, но тот не верил. В один прекрасный день случилось так, что Мино, отлучившись из дому и случайно отправившись за город для осмотра какой-то работы, остался там ночевать. Узнав об этом, дружок с вечера направился к жене означенного живописца, чтобы провести с ней время в свое удовольствие. Как только это дошло до свояка, расставившего своих соглядатаев, чтобы Мино наконец во всем удостоверился, он тотчас же отправился за город, туда, где находился Мино… Пришедши туда, он сказал: — Мино, я не раз уже говорил тебе о позоре, которым твоя жена покрыла тебя и всех нас, но ты никогда не хотел этому верить. И вот, если хочешь в этом убедиться, — он только что пришел, и ты его застанешь у себя в доме… Тот сейчас же сорвался с места и вернулся в Сьену через калитку, а свояк говорил ему: — Иди и как следует все обыщи. Ведь сам понимаешь, дружок спрячется, как только он тебя заслышит. Мино так и сделал и сказал свояку: — Давай вместе пойдем, а если ты не хочешь входить, постой на улице. Тот так и сделал. А расписывал этот Мино больше всего распятия, особливо же те, что делают с выпуклой резьбой, и всегда у него бывало на дому три готовых, а в работе — когда четыре, а когда и целых шесть, и держал он их, как это принято у живописцев, у себя в мастерской на длиннющем столе или прилавке прислоненными к стенке, одно рядом с другим, и каждое было покрыто большим платком или какой-нибудь другой тряпкой. В настоящее время у него их было шесть: четыре резных и выпуклых и два плоских, расписных, и все они стояли на прилавке высотой в два локтя, прислоненные к стене одно рядом с другим, и каждое из них было покрыто большим платком или каким-нибудь другим полотнищем. Подошел Мино к дверям своего дома и стучится. Жена его и молодчик не спали и, услыхав стук в дверь, тотчас же догадались, в чем дело, и она, не отворяя окна и ничего не отвечая, тихо-тихо пробирается к окошечку, или глазку, который никогда не закрывался, чтобы поглядеть, кто там. Увидев, что это муж, она возвращается к любовнику и говорит: — Я погибла! Как быть? Уж лучше тебе спрятаться. И толком не соображая, куда идти — а он был в одной рубашке, — они попали в мастерскую, где стояли эти самые распятия. Она и говорит: — Хочешь, попробуй? Полезай на этот стол и прислонись к одному из этих плоских распятий, раскинув руки крестом, как все остальные, а я тебя покрою тем самым полотнищем, которым оно покрыто. Пусть он тогда ищет сколько хочет; я уверена, что он тебя не найдет за всю эту ночь, а одежду твою я свяжу в узелочек и спрячу до утра в первый попавшийся ящик, а там уж какой-нибудь святой нас с тобой да выручит. Тот, не зная, где он находится, лезет на стол, снимает полотнище и прилаживается к плоскому распятию, точь-в-точь как один из резных распятых, а она подбирает полотнище и покрывает его им совсем так, как были покрыты другие, и возвращается немного оправить постель, чтобы не видно было, что на ней спал кто-нибудь кроме нее. Собрав штаны, обувь, куртку, плащ и прочие вещи своего любовника, она мгновенно связала их в аккуратный узелок и засунула его в тряпье. Сделав это, она подходит к окну и говорит: — Кто там? А Мино отвечает: — Отопри, это я, Мино. Она говорит: — Ой, который же это час? — и бежит ему отпирать. Когда дверь была отперта, Мино говорит: — Ну уж и заставила ты меня ждать. Видно, уж очень обрадовалась, что я вернулся? Она сказала: — Если ты простоял слишком долго, так это виноват сон, так как я спала и тебя не слыхала. А муж говорит: — Ладно, мы уж там разберемся, — берет свечу и обыскивает все, даже под кроватью. Жена говорит ему: — Что ты все ищешь? Отвечает ей Мино: — Дурочкой прикидываешься? Еще узнаешь. А она: — Не понимаю, что ты говоришь: «узнаешь». Тот принялся обыскивать весь дом и дошел до мастерской, где стояли распятия. Когда распятие во плоти услыхало, что он тут как тут, пусть каждый сам подумает, каково ему было на душе; ведь ему приходилось стоять неподвижно, так же как стояли остальные, деревянные, а самого пробирала предсмертная дрожь. Судьба ему помогла, так как ни Мино, ни кто другой не мог бы подумать, что под этим обличием скрывалось то, что там было самом деле. Пробыв некоторое время в мастерской и не найдя его, Мино вышел. В мастерской спереди была дверь, запиравшаяся на ключ снаружи, так что паренек, состоявший при Мино, каждое утро ее отпирал так же, как и все другие двери, а со стороны дома в мастерской была дверца, через которую этот самый Мино в нее входил, и, когда он через эту дверцу выходил из мастерской и отправлялся к себе домой, он дверцу запирал на ключ, так что живое распятие никак не могло оттуда выйти, если бы оно этого захотело. После того как Мино провозился добрую треть ночи и ничего не нашел, жена его пошла спать и сказала мужу: — Можешь пялить глаза, сколько тебе вздумается, но, если захочешь спать, ложись, а если нет, ходи себе по дому, как кошка, сколько тебе будет угодно. На что Мино: — Хоть я и вдоволь намучаюсь, я уж докажу тебе, что я не кошка, грязная ты баба, да проклят будет день, когда ты сюда пришла. Жена и говорит: — А вот что я могла бы тебе сказать: какое вино в тебе говорит? Белое или красное? — Подожди, скоро покажу тебе какое. А она: — Иди спать, иди. Это самое лучшее, что ты можешь сделать; или хоть мне не мешай спать. В эту ночь из-за усталости дело тем и закончилось: жена уснула, да и муж пошел спать. Свояк, ожидавший на улице, что из этого получится, простоял до утренних колоколов и пошел домой, говоря: — Верно, пока я ходил за город в поисках Мино, любовник вернулся к себе домой. Поднявшись поутру спозаранку и еще раз оглядев все углы, Мино после долгих поисков наконец отпер дверцу и вошел в мастерскую, да и паренек отворил с улицы наружную дверь этой самой мастерской. Тогда Мино, разглядывая свои распятия, увидал два пальца ноги того, кто был спрятан под простыней. Мино и говорит про себя: «Наверное, это и есть дружок», — и, перебрав всякие железные приспособления, с помощью которых он отесывал и резал эти распятия, не нашел более подходящего для себя орудия, как топор, который среди них находился. Схватив этот топор, он уж наладился, чтобы долезть до живого распятия и отрубить у него то главное, что его сюда привело, как тот, заметив это, одним прыжком срывается с места, говоря: — Не шути с топором! — и выбегает через отворенную дверь. Мино, пробежав за ним несколько шагов, кричит: — Держи вора, держи вора!.. Вволю набушевавшись, Мино, одураченный сбежавшим от него распятием, направляется к жене и говорит ей: — Грязная ты потаскуха, ты говоришь, что я кошка, что я напился красного и белого вина, а сама прячешь своих котов за распятия. Следовало бы матери твоей об этом узнать. Жена говорит: — Ты это мне? Мино отвечает: — Да, говорю ослиному дерьму. — С ним и разговаривай, — говорит жена. Мино в свою очередь: — Срамница, и не стыдно тебе? Не знаю, что меня удерживает засунуть тебе горящую головешку в это самое место? Жена отвечает: — Ты бы так не храбрился, если бы я с тобой не играла в мужчину. Клянусь тебе Крестом Господним! Только тронь, это тебе дорого обойдется. Муж говорит ей: — Ишь ты, несносная стерва, превратившая своего кота в распятие. Только я собрался отрубить у него то, что я хотел, как он удрал. Жена говорит: — Не знаю, что ты там брешешь. Какое там распятие, как оно могло удрать? Разве они у тебя не прибиты вершковыми гвоздями? А если оно не было прибито, пеняй на себя, если оно убежало. Поэтому виноват ты, а не я. Мино бросается на жену и начинает тузить ее: — Мало, что опозорила меня, еще и издеваешься! Как только жена почувствовала, что ее бьют, она, будучи гораздо сильнее, чем Мино, дает ему сдачи, дает раз, дает два, и Мино падает на землю, а жена на него наваливается и колотит его что есть мочи, приговаривая: — Что ты теперь скажешь? Поделом тебе. Шатаешься невесть где, а вернешься домой, меня же обзываешь потаскухой. Я искалечу тебя похуже, чем Тесса изукрасила своего Каландрино. Ух, проклят будет тот, кто первый выдал женщину за живописца. Все вы сумасшедшие лунатики. Только и делаете, что напиваетесь и стыда не знаете. Мино, видя, что его дело плохо, просит жену дать ему встать и не кричать, чтобы соседи не слышали и, сбежавшись на крик, не увидели жену верхом на муже. Услыхав это, жена говорит: — По мне, пускай весь околоток соберется. И вот она встает, и за ней встает Мино, с лицом совсем измолоченным, и — от греха подальше — просит у жены прощения, так как, мол, злые языки заставили его поверить в то, чего не было, а распятие на самом деле убежало, чтобы его не пригвоздили. А когда Мино проходил по городу, тот самый свояк, который его на все это подбил, спросил: — Ну как? Как было дело? Мино сказал ему, что обыскал весь дом и так никого и не нашел, но, перебирая распятия, он одно уронил себе на лицо, и оно изукрасило его так, как тот это видит…» Перевод А. Габричевского. (Цитируется по изданию: Итальянская новелла Возрождения. М., 1964.)Фрагмент 28. Бонавентур Деперье. «Новые забавы и веселые диалоги»
«Новелла LX О том, как мессир Жан влез на кузнеца, намереваясь влезть на его жену. У одного кузнеца, жившего в деревне возле большой дороги, была жена, бабенка довольно смазливая, по крайней мере на взгляд священника мессира Жана, который сыгрался с нею на флейтах. Как только кузнец вставал с постели и брался за молот, мессир Жан, заслышав двойной стук, догадывался, что он уже работает со своим работником в кузнице, пробирался к задней двери его дома, отпирал ее ключом, подаренным его женой, ложился на теплое место мужа и тоже принимался стучать по наковальне, но не столь громко, чтобы люди могли слышать, как он кует. Закончив работу, он выходил через ту же дверь, что и входил. Но они не сумели удержать свои проделки в тайне: кузнец иногда слышал, как открывалась и закрывалась дверь, и наконец в голове у него мелькнула догадка или, по крайней мере, подозрение, что дело нечисто. И в один прекрасный день он с гневом, свойственным только людям, имеющим дело с огнем, приступил к жене так грозно и так припугнул ее, что она во всем созналась, рассказала, как мессир Жан, слыша двойной стук молотков, ложился к ней в постель, и запросила прощения. Кузнецу больше ничего не оставалось делать, как примириться с этой приятной для него новостью, и после того, как жена его уже достаточно поголосила, прося у него прощения, он отвел свою душу лишь тем, что надавал ей тумаков и оплеух. Через несколько дней он увидел священника и спросил его: «Мессир Жан, вы навещаете на досуге мою жену?» Священник поклялся, что он идет совсем не к ней и что он скорее согласится умереть, чем решится на такие поступки. «Ведь вы — мой кум», — добавил он. «Ну-ну! — сказал кузнец. — Я вам верю. А впрочем, можете на ней ездить в свое удовольствие, когда к ней придете. Но только остерегайтесь влезать на меня. Если это случится, то сам черт отслужит вам заутреню». Зная, что с ним шутки плохи, священник стал с тех пор держать ухо востро и прекратил шашни с его женой. Но однажды кузнец сказал жене: «Вот что нужно сделать. Только берегись, как бы тебе не остаться с одним глазом и как бы я не наставил тебе горб; ты ведь знаешь, что это тебе цены не прибавит. Завяжи опять знакомство с мессиром Жаном, поговори с ним поласковее, и как-нибудь утром я скажу тебе, что тебе делать дальше». Она с радостью была готова обещать ему все, что угодно, лишь бы не навлечь опять на себя его гнев. А надо сказать, что она отлично умела работать молотом, ибо во время отсутствия мужа часто заменяла его и работала в кузнице. Итак, по наущению мужа, она снова принялась любезничать с мессиром Жаном, уверив его, что кузнец о нем уже позабыл, что у него тогда мелькнуло только подозрение, и наконец ласковыми речами уговорила его прийти к ней в обычное время: «Приходите завтра утром, как только услышите, что они оба работают в кузнице». И бедный мессир Жан поверил. Утром кузнец сказал жене при батраке: «Вставай и иди за меня ковать. Мне что-то нездоровится». Жена послушалась и ушла с батраком в кузницу. У мессира Жана при стуке молотков слетел сон. В своей длинной ночной мантии он поднялся с постели и, пробравшись через знакомый вход, лег рядом с кузнецом на кровати, принимая его за жену. А так как он уже давно не занимался изготовлением вафель, то ему хотелось как можно скорее приступить к делу, и, едва добравшись до кровати, он единым махом взгромоздился на кузнеца. Тут кузнец стиснул его 6 своих ручищах и сказал: «Эх, сила божия! Кто вас сюда звал, мессир Жан? Ведь говорил же я вам: не смейте на меня лазать, ибо со мной шутки плохи, а вы мне не верили!» Священник пытался освободиться, но кузнец, крепко держа его в своих ручищах, позвал батрака, находившегося внизу. Батрак тотчас же поднялся, захватив с собой огня, и один только Бог знает, как они крепко взгрели господина священника воловьими жилами! Для облегчения труда они били ими по спине мессира Жана вдвоем. Мессир Жан не смел звать на помощь, ибо кузнец грозился посадить его в горнило, и, конечно, он предпочел порку пытке огнем. Он отделался все-таки дешевле, чем тот герой, у которого зажали крышкой ящика мошонку, а под задом развели огонь: он был вынужден сам отрезать ее бритвой, которую ему сунули в руку». Перевод В. И. Пикова. (Цитируется по изданию: Бонавентур Деперье. Кимвал мира. Новые забавы. М.—Л., 1936.)Фрагмент 29. Маргарита Наваррская. «Гептамерон»
«День III. Новелла XXIX Некий священник, развлекавшийся с женой крестьянина, видя, что муж ее неожиданно вернулся домой, так ловко от него удрал, что муж ни о чем даже не догадался. В графстве Мен в деревне Каррель[118] жил богатый крестьянин, который под старость женился на молоденькой и хорошенькой женщине. Детей у нее от него не было, но она вознаграждала себя тем, что заводила друзей, с которыми ей было не скучно. Когда же она лишилась общества дворян и людей состоятельных, последним ее прибежищем стала церковь, а ее сотоварищем по греху сделался тот, кому была дана власть отпускать ей грехи. Это был ее духовный пастырь, часто навещавший свою заблудшую овцу. Муж ее, который был стар и неповоротлив, ничего даже не подозревал. Но именно потому, что он был и силен и груб, жена старалась хранить свои проделки в глубокой тайне, боясь, как бы, проведав о них, муж ее не убил. Однажды, когда старик отлучился, жена, думая, что он еще не скоро вернется, послала сказать духовнику, чтобы тот пришел ее исповедовать. И вот в то время, когда они предавались утехам любви, явился муж, причем столь неожиданно, что святой отец не успел убежать. По совету своей возлюбленной он прокрался на чердак, а люк прикрыл веялкой[119]. Когда муж вошел в дом, жена, чтобы ничем не возбудить его подозрений, так хорошо его угостила и принесла ему столько вина, что он, чувствуя себя усталым после работы в поле и притом изрядно выпив, уснул тут же у очага, сидя на стуле. Духовник, которому наскучило торчать на чердаке, слыша, что все стихло, высунулся из люка и, вытянув, как только мог, шею, увидел, что хозяин дома спокойно спит. Но в эту минуту он так приналег на веялку, что она соскочила, и он упал вместе с ней вниз, к ногам спящего, который от страшного шума, разумеется, тут же проснулся. Святой отец успел, однако, вскочить на ноги и, как ни вчем не бывало, сказал: — Вот ваша веялка, куманек, и большое вам за нее спасибо. Сказав это, он тут же исчез. А крестьянин, со сна ничего не разобрав, только спросил жену: — Что там такое? — Друг мой, — отвечала она, — это священник принес веялку, которую он у нас брал. — Чего же он так ее швыряет, — проворчал крестьянин, — я уж думал, что крыша обвалилась. Так вот и спасся находчивый священник, отделавшись всего-навсего тем, что его поругали за неуклюжесть…» Перевод А. М. Шадрина. (Цитируется по изданию: Маргарита Наваррская. Гептамерон. Л., 1967.)Фрагмент 30. Маргарита Наваррская. «Гептамерон»
«День III. Новелла XXX Юноша лет четырнадцати-пятнадцати, думая, что он улегся спать с одной из девушек, живших у его матери, в действительности разделил ложе со своей матерью, и через девять месяцев она родила дочь, на которой он же спустя двенадцать или тринадцать лет женился, не зная ни того, что она его дочь, ни того, что она его сестра, равно как и она не знала, что он — ее отец и вместе с тем брат. …В Лангедоке жила некая дама, имя которой не стоит называть из уважения к ее роду; дама эта имела больше четырех тысяч дукатов годового дохода. Она очень рано овдовела и жила со своим единственным сыном. Она так чтила память своего покойного мужа и так любила ребенка, что решила больше никогда не выходить замуж. А чтобы избежать всякого соблазна, она нигде не бывала и посещала только людей благочестивых, ибо считала, что стечение обстоятельств может ввести во грех, и не знала, что грех сам может создать стечение обстоятельств. Когда сыну исполнилось семь лет, она наняла ему учителя, человека очень праведного, который наставлял его богоугодной жизни и благочестию. Но когда мальчику исполнилось четырнадцать или пятнадцать лет, другой его учитель — и притом тайный — природа, воспользовавшись его досугом и хорошим здоровьем, обучила его кое-каким вещам, которым его наставник не уделял ни малейшего внимания. Мальчик начал заглядываться на все красивое, и в нем стали пробуждаться желания. Среди прочих особ женского пола внимание его привлекла молодая девушка, которая спала в комнате его матери. Но никто этого не заметил, ибо все считали его ребенком. К тому же в доме привыкли вести только благочестивые разговоры. И вот подросток начал приставать к этой девушке и тайно домогаться ее любви. Девушка тотчас же сказала об этом своей госпоже, но та души не чаяла в сыне и решила, что она говорит ей все это, чтобы их поссорить. Но девушка была так настойчива, что ее госпоже оставалось только ответить: — Я узнаю, правда ли все, что ты говоришь, если же окажется, что ты на него только попусту наговариваешь, ты у меня за это поплатишься. И чтобы во всем удостовериться самой, она велела девушке заручиться согласием ее сына прийти ровно в полночь и лечь к ней в постель, — девушка спала в одной комнате со своей госпожой, но в отдельной кровати, которая стояла возле двери. Девушка так и сделала, а когда настал вечер, вдова улеглась к ней на кровать сама, решив, что, если все, что она сказала, — правда, она так проучит сынка, что впредь, ложась в постель с женщиной, он всегда будет вспоминать об этом дне. И вот в то время, когда она обдумывала все это и пребывала в гневе, сын ее прокрался в спальню и лег к ней в постель. Мать все еще никак не хотела допустить мысли, что он сделал это с дурным намерением, и поэтому не сказала ему ни слова. После чего она заметила, что лежать спокойно он вовсе не намерен, но все-таки отказывалась поверить, что мальчишеские желания могут довести его до греха. И она оказалась настолько снисходительной и к тому же податливой, что гнев ее сменился наслаждением, которое было более чем отвратительно, ибо она совсем забыла, что она мать. И подобно тому, как внезапно хлынувший поток, который сдерживался силой, рушит на своем пути все преграды и становится еще стремительнее, так и дама эта, долго сдерживавшая свою плоть, теперь вдруг дала ей полную волю. Достаточно было сделать первый шаг — потом она уже была не в силах остановиться. Но едва только грех этот был совершен, как ее стали одолевать угрызения совести, и муки эти были так велики, что потом всю жизнь она не могла от них избавиться. Ей стало так тяжко на душе, что она поднялась с постели, оставив там сына, который был убежден, что с ним все время находилась молодая девушка, и, уединившись в маленькой комнате, весь остаток ночи плакала там и рыдала… Наутро, едва только рассвело, она послала за наставником своего сына и сказала ему: — Мой сын уже подрос, и пора его куда-нибудь пристроить. У меня есть один родственник, капитан Монтесон[120], состоящий на службе у главнокомандующего Шомона[121]. Он будет рад его к себе взять. Везите его туда сейчас же, — и, чтобы мне не было так жаль расставаться с ним, пусть лучше он уезжает, не простившись со мной. Отдав все распоряжения, она вручила наставнику необходимые для поездки деньги. Наутро сына ее увезли. Мальчик был этим очень доволен, ибо, насладившись любовью, он мечтал поскорее отправиться на войну. Вдова долгое время пребывала в великой печали. И если бы не страх перед Богом, она бы, вероятно, решилась умертвить ребенка, которого носила в своем чреве. Она сказалась больною и постоянно куталась в плащ, чтобы никто не заметил ее беременности, а когда настало время родить, она решила, что единственный человек, которому она может довериться, — это ее сводный брат, бастард, которому она в свое время сделала много добра. Она сказала ему, что ждет ребенка, не назвав только имени виновника, и попросила его помочь ей скрыть свое бесчестие, на что тот охотно согласился. За несколько дней до родов он объявил всем, что сестра его больна, что ей необходимо переменить обстановку, и пригласил ее на время перебраться к нему в дом. Она поехала туда, взяв с собою одну или двух служанок. Жена ее брата вызвала к ней повитуху, причем последней не было даже сказано, у кого она принимает ребенка. И вот однажды ночью женщина эта разрешилась от бремени хорошей здоровой девочкой. Брат ее поручил ребенка кормилице, которая не сомневалась в том, что это его собственная дочь. Вдова же, прожив у брата около месяца и уже совершенно поправившись, вернулась домой и стала вести еще более строгий образ жизни, соблюдая посты и усердно молясь Богу. Но когда сын совсем уже возмужал, он стал просить мать разрешить ему вернуться домой, ибо войны в Италии тогда не было. Боясь, что все может повториться снова, мать его сначала не соглашалась, но он был очень настойчивей ей неудобно было ему отказать. Она тогда поставила условием, чтобы, прежде чем вернуться домой, он женился на девушке, которую выбрал бы по любви, наказав ему не гнаться за богатством, лишь бы будущая жена его была дворянкой. Как раз около этого времени брат этой дамы, видя, что девочка, вверенная его попечению, подросла и похорошела, решил отправить ее куда-нибудь подальше, где бы ее никто не знал, и по совету матери отдал ее королеве Екатерине Наваррской. И до двенадцати-тринадцати лет девочка жила при дворе этой королевы, которая очень к ней привязалась и решила выдать ее замуж за человека знатного и достойного. Но так как она была бедна, то, хотя многие кавалеры ухаживали за нею, руки ей никто не предложил. И вот однажды ко двору королевы явился сын той самой вдовы, о которой уже шла речь. И он влюбился в эту девушку, не подозревая, что это его родная дочь. А так как мать разрешила ему жениться на ком он хочет, он ни о чем ее не спрашивал, кроме одного — из дворян она или нет. И, узнав, что она дворянка, попросил у королевы Наваррской ее руки. Королева охотно согласилась на этот брак, ибо знала, что жених богат и к тому же красив и благороден. Женившись, дворянин написал об этом матери, добавив, что теперь она уже не должна препятствовать его возвращению в родной дом, ибо он выполнил то условие, которое она ему поставила, и привезет с собой молодую жену — прелестнейшую из женщин. Мать осведомилась, на ком он женился, и узнала, что это была именно та самая девочка — ее дочь и вместе с тем дочь ее сына, — и она была в таком отчаянии, что готова была умереть, ибо видела, что чем больше она старается избежать несчастья, тем неотвратимей оно становится. Раздумывая о том, как поступить, она решила отправиться к легату Авиньонскому и, признавшись ему в совершенном ею страшном грехе, спросила, что ей теперь следует делать. Легат же, чтобы успокоить ее совесть, призвал для совета нескольких докторов богословия и, не называя имен, рассказал им все обстоятельства дела. Ученые богословы решили, что дама эта никогда не должна ничего рассказывать о случившемся своим детям, ибо те ничего не ведали и посему никакого греха не совершили. Самой же ей надлежит каяться до конца жизни — и так, чтобы они никогда об этом не узнали. С этим несчастная и возвратилась домой, и вскоре туда же приехал ее сын с невесткой. Молодые люди нежно любили друг друга и жили между собою в дружбе и полном единении, ведь она приходилась ему дочерью, сестрой и женой, а он ей — отцом, братом и мужем. И так они жили всю жизнь, а их бедная мать, поглядев на их счастье, каждый раз уходила потом к себе и заливалась слезами…» Перевод А. М. Шадрина. (Цитируется по изданию: Маргарита Наваррская. Гептамерон. Л., 1967.)Мазуччо Гуардати. Из «Новеллино»
«Новелла ХХIII Одна вдова влюбляется в сына и посредством величайшего обмана вступает с ним в плотскую связь. Забеременев, она искусно открывает правду сыну, который, возмущенный этим, удаляется в изгнание. Дело получило огласку, и мать после родов по приказу подесты была сожжена на костре. …В позапрошлом году, говорил он, умер естественной смертью один палермский дворянин, оставивший после себя сына по имени Пино, возрастом около двадцати трех лет, весьма богатого, красивого и благовоспитанного, как девица. И хотя его мать была еще совсем молода, удивительно красива и обладала большим состоянием, однако она так сильно любила его, что решила уже больше не выходить замуж, ибо сын обходился с нею хорошо и во всем был послушен. Это решение одобрялось многими, сыну же оно было особенно дорого, и, не желая дать ей повод изменить его, он постоянно выказывал по отношению к ней столько учтивости, любезности и послушания, сколько никогда еще не было видано со стороны сына к матери. Мать же, крайне этому радуясь, проникалась к нему с каждым днем все большей любовью. При таких-то обстоятельствах вышло так, что, любуясь доблестью, целомудрием и красотою сына, мать почувствовала к нему пламенную страсть и, поддавшись ей, так безумно влюбилась в него, что пожелала с ним плотского общения; никакие разумные доводы, которыми она старалась оградить себя, ни к чему не приводили, и она беспрестанно ломала себе голову, каким бы способом привести в исполнение свое гнусное желание. Будучи твердо уверена в том, что ей никогда не удастся осуществить свой замысел с согласия сына, она решила заманить его в свои ядовитые сети посредством искусного обмана. Узнав стороною о том, что сын, хотя и весьма целомудренный, успел сильно влюбиться в молоденькую соседку, дочку одной бедной и незнатной вдовы, с которой она была в большой дружбе, она решила, что этим путем ей удастся достигнуть желанной цели. И вот однажды она призвала к себе эту добрую женщину и сказала ей: — Милая Гарита, ты мать и потому хорошо знаешь, как велика любовь, которую матери должны питать к своим детям, а в особенности к тем из них, которые своими добродетелями еще более увеличивают и укрепляют эту чистейшую природную любовь. Именно таков мой добродетельнейший сын, который своими достоинствами и своим похвальным поведением побуждает меня любить его сильнее собственной жизни. И вот, как мне сообщили под секретом, он так сильно влюбился в твою дочь, что я боюсь, как бы ее чистота и его сильная страсть не побудили их в один прекрасный день к такому поступку, который погубит твою дочь. С другой стороны, считая тебя своим сердечным другом и зная, что ты всегда ревностно охраняла свою честь и доброе имя, я ни в коем случае не дерзну предложить тебе какую-либо вещь, которая могла бы принести тебе бесчестие, а напротив того, всячески забочусь о твоем добром имени. Мне хорошо известно, что ты нуждаешься, и потому я хочу не только сообщить тебе свою мысль, но также поделиться с тобою моими средствами, дабы показать тебе, что я обхожусь с тобою не иначе, как с родной матерью. Так вот, у меня явилась мысль, нельзя ли нам удовлетворить желание моего милого сына так, чтобы в то же время не нанести никакого ущерба ни твоей чести, ни чести твоей дочери. Мой замысел сводится к тому, что ты искусным способом войдешь в тайное соглашение с моим сыном, обещая ему уступить за определенную сумму девственность твоей дочери; когда же вы ударите по рукам, я сама приду в твой дом вместе с моей служанкой, которая, как тебе известно, очень похожа на твою дочь и возрастом и красотою. С наступлением темноты мы поместим ее в комнате, где она примет на своем ложе моего Пино, и все будет обстоять так, как если бы он обладал твоей дочерью. И можешь не опасаться, что это кому-либо станет известно, ибо мой сын своей скромностью и скрытностью превосходит всех молодых людей нашего города. В случае же, если это дело получит огласку по какой-либо случайности, я даю тебе обещание немедленно объявить истину… Гарита проявила полное доверие к словам дамы и всем ее лицемерным доводам и вместе с тем учла немалую выгоду этого дела, в котором честь ее дочери должна была остаться незапятнанной. Побуждаемая своей крайней бедностью, а также желая сделать приятное своей дорогой подруге, она решила полностью удовлетворить ее желание и с веселым лицом ответила ей, что исполнит все на упомянутых выше условиях, после чего рассталась с нею. На следующий день, увидя Пино, который скромно шел развлекаться обществом девушки, Гарита весьма искусно завязала с ним разговор и после ряда различных высоконравственных рассуждений вырвала из его уст признание в его тайной и жестокой страсти; они перешли к переговорам и сошлись на том, что Пино даст ей двести дукатов на приданое ее дочери и за это сорвет цветок ее девственности… Обрадованная Гарита пришла к даме и рассказала ей, на чем они остановились и как условились с ее сыном, чтобы услужить ей. Вне себя от радости и восхищения, дама сотню раз обняла и поцеловала Гариту, и, вновь подтвердив условленный план действий, она, желая отпустить Гариту довольной, наполнила ей руку деньгами, после чего Гарита, весьма обрадованная, вернулась к себе домой. Когда настал условленный час, дама со служанкой тайком отправилась в дом Гариты, которая отвела их в заранее приготовленную комнату и оставила там. Тогда дама спрятала служанку в другой комнате, сама же легла в постель и с необузданной страстью стала ждать любовной битвы со своим собственным сыном… Когда настал условленный час, Пино, ничего не подозревая, вошел в дом Гариты, которая любезно встретила его и в темноте, как слепого, отвела в приготовленную для этой цели комнату. Будучи твердо уверен, что найдет в постели любимую девушку, он разделся, улегся с нею рядом и начал ее нежно целовать. Когда же он захотел пойти дальше, она с величайшим искусством стала ему слабо сопротивляться и, притворившись, будто поддается насилию, заставила его поверить, что он лишил ее невинности, тогда как на самом деле все было наоборот; ибо она сумела при помощи превосходных порошков, окуриваний и промываний так сузить торную дорогу, что не только мальчишка, но и весьма многие опытные в этих делах мужчины не смогли бы распознать здесь правду. Юноша же, которому никогда до этого не приходилось участвовать в подобных ночных сражениях и который был, понятно, уверен, что он обрабатывает не собственную, но чужую пашню, был настолько захвачен этим удовольствием, что не дал своей возлюбленной оставаться без дела ни одного мгновения. Когда занялась заря, Гарита, как было условлено, под благовидным предлогом незаметно вывела Пино из дома; дама же со служанкой также удалилась тайком с другой стороны дома. Не желая, чтобы это свидание было одновременно первым и последним, она почти каждую ночь с новыми уловками продолжала идти по тому же пути, причем Гарита ни разу не заметила, что Пино имеет сношения не со служанкой. И в то время как оба они были, хотя и по разным причинам, довольны этой любовной игрой, случилось, что преступная женщина забеременела и, будучи этим чрезвычайно огорчена, пустила в ход бесчисленные средства с целью воспрепятствовать родам; когда же ни одно из этих средств не помогло, она увидела, что дело близится к развязке, которой она уже не сможет скрыть от сына… Итак, она решила самолично все ему открыть и, призвав его однажды тайком в свою комнату, тихонько повела с ним такую речь: — Дорогой сынок, ты и сам, полагаю я, можешь засвидетельствовать, что если была когда-нибудь мать, любившая единственно только своего сына, то такова именно я, которая любила и любит тебя больше своей собственной жизни. И любовь моя была по своей природе так могуча, что удержала меня, молодую и богатую, от вторичного замужества, ибо я не захотела отдать себя вместе с твоим состоянием в чужие руки. И хотя меня как женщину подстрекала естественная чувственность, однако я не желала удовлетворять ее тайком (как делают многие женщины) потому лишь, что заботилась о сохранении твоей и моей чести. Кроме того, я услышала, что ты охвачен сильной любовью к нашей молоденькой соседке и что ее мать готова скорее умереть, чем запятнать честь своей дочери. Хорошо зная, к каким несчастиям и бедствиям обычно приводят влюбленных подобные неудачи, я, как нежная мать, подумала прежде всего о твоей жизни и решила сама возместить все эти пробелы одним поступком, который оскорбляет только людские законы, созданные устарелыми ревнителями права и опирающиеся более на искусственные и суеверные выдумки, чем на разум: одним словом, я захотела, чтобы твоя и моя молодость тайно насладились друг другом. Та девушка, от которой ты получил столько наслаждений в комнате нашей Гариты, была я; и дело закончилось тем, что сейчас я беременна. Она хотела уже была перейти к более горячим убеждениям с целью продолжать удовлетворение своей преступной страсти, но ее добродетельный сын был настолько возмущен и расстроен мерзостью ее поступка, что ему показалось, будто небо обрушилось на его голову и земля уходит из-под его ног… Тотчас же он собрал все свои деньги и драгоценности, привел в возможно лучший порядок свои дела и, дождавшись кораблей, которые должны были оттуда отплыть во Фландрию и которые прибыли через несколько дней, уехал. Весть об этом ужасном происшествии стала распространяться по городу. Когда же она достигла ушей подесты, тот приказал схватить дурную женщину, которая без всяких пыток в точности изложила это событие, как именно оно произошло, после чего подеста велел бережно содержать ее в одном женском монастыре, пока она не родит[122]. Когда же она в надлежащий срок разрешилась ребенком мужского пола, ее, как это и полагалось, сожгли на площади с великим позором». Перевод С. Могульского. (Цитируется по изданию: Итальянская новелла Возрождения. М., 1964.)Фрагмент 31. Мазуччо Гуардати. Из «Новеллино»
«Новелла XV Один кардинал любит замужнюю женщину; он совращает мужа деньгами, и тот приводит жену в комнату кардинала; на следующее утро он приходит за ней обратно, но жене понравилось ее новое положение, и она не хочет возвращаться домой; долгие уговоры мужа ни к чему не приводят; в конце концов он берет обещанные ему деньги и отправляется в добровольное изгнание, а жена его приятно проводит время с кардиналом. …Один кардинал, о котором, не называя его имени и звания, я скажу только, что хотя он и занимал при апостольском дворе самые высокие должности, однако не вышел еще из цветущего возраста, будучи притом одарен от природы весьма привлекательной наружностью. Не буду останавливаться на описании его пышных одеяний, на сбруе его превосходных коней, на его достойных слугах, на роскоши и великолепии его королевского житья. Но что сказать мне о его великодушном нраве? В противоположность другим священникам он был щедр на милости и восхищался и благоговел перед всем достойным и прекрасным, вследствие чего его считали самым изящным и любезным синьором, какого только можно найти во всем христианском мире. Он поселился во дворце одного из видных граждан. Поблизости проживало много красивых женщин, среди которых одна, несомненно, превосходила своей прелестью всех остальных красавиц этого города. Синьор кардинал видел ее не раз, и она необыкновенно ему понравилась. Как бывалый охотник, весьма падкий на такого рода добычу, он решил ни перед чем не останавливаться, лишь бы добиться в этом славном предприятии желанной победы. Благодаря тому, что дом молодой женщины находился очень близко от его дома и окна их были расположены прямо друг против друга, он, имея, таким образом, полную возможность смотреть сколько вздумается на свою красавицу, начал свое искусное ухаживание за ней. Но, увидя, что она превосходит своей честностью остальных женщин и что, несмотря на все примененные им тончайшие и разнообразные приемы, ему невозможно добиться от нее хотя бы одного благосклонного взгляда, он осадил немного назад свои преждевременные надежды. Однако яростное жало любви побуждало его к действию. Зная, что без тяжких трудов не обходится ни один славный подвиг, а легко дающаяся победа не имеет большой цены и быстро надоедает, он обдумывал всевозможнейшие способы, пока наконец не остановился на следующем. Он решил попробовать, не удастся ли ему поймать мужа красавицы на золотой крючок, так как знал, что он очень беден и крайне скуп. Он немедленно послал за ним. Тот сразу же пришел и был проведен в комнату кардинала, который, приняв его любезно и запросто и усадив рядом с собой, обратился к нему со следующей речью: — Любезный мой, я знаю, что ты человек рассудительный, и потому, полагаю, мне нет нужды в долгих речах; ты и без них прекрасно поймешь, что мое предложение может дать тебе покой и достаток и избавит тебя сейчас и в будущем от всяких хлопот и забот. Так вот, поразительная красота твоей честнейшей жены так пленила меня, что я не владею собой и не могу найти покоя. И хотя я ясно сознаю невозможность какими-либо доводами и рассуждениями оправдать то, что я за такой услугой обращаюсь к тебе, ее мужу, однако, решив, что, по соображениям чести и супружеской любви, никто другой не выполнил бы этого с таким же успехом и не стал бы соблюдать большей тайны, я воспользовался этим выходом и вместо какого-нибудь иного посредника предпочел ввести в дело тебя. И я обращаюсь к тебе с просьбой: соблаговоли принести мне этот столь желанный мною дар как ради моего удовлетворения, так и для твоей пользы и выгоды. И хотя столь высокий предмет нельзя купить, ты увидишь, однако, что услуга твоя все же не будет мне подарком, и я хорошо заплачу за нее, так как хочу, чтобы с первого же дня вы сразу вступили во владение: она — мною, а ты — всем моим имуществом. И если ты на это согласен, то скажи мне об этом сейчас же, без проволочек, и ты немедленно убедишься на деле, что я хочу тебе добра и желаю тебя обеспечить. Человек этот, как я уже сказал, был беден и чрезвычайно жаден. Выслушав крайне выгодное предложение, исходившее от человека, известного ему в качестве большого богача, и притом еще очень щедрого, и видя поэтому, что дело принесет ему немалый барыш, он учел также рассудительность кардинала, который крайне скрытно повел бы свои шашни. Всех этих соображений оказалось достаточно, чтобы ослепить его, и он решил пожертвовать своей супружеской любовью, презреть доброе мнение людей и поразить столь гнусным оружием себя самого и свое вечное спокойствие. Не размышляя далее, он в кратких словах дал такой ответ: — Монсеньор, я готов служить вам в том, чего вы от меня требуете; ваше дело — приказывать, мое — повиноваться; постараюсь исполнить все ваши желания и удовлетворить вас. И после того как кардинал с радостным лицом горячо поблагодарил его за согласие, он удалился. Чтобы не откладывать дела в долгий ящик, он в ближайший же вечер издали завел об этом беседу с женой и, все время прикрываясь, как щитом, указанием на скудность их достатка, в заключение сказал, что самый бесчестный поступок, если совершить его осторожно, можно считать как бы не совершившимся. Жена его, которая была женщиной в высшей степени честной, не только сочла сказанное ей мужем крайне для себя оскорбительным и докучным, но и воспылала великим гневом и, выругав его самыми бранными словами, объявила под конец, что если он заговорит с ней или хотя бы сам подумает об этом, то она немедленно уйдет к своим братьям. Муж не придал значения ее резкому ответу при первом разговоре и, выждав несколько дней, однажды, мило беседуя с женой в подходящую, как ему казалось, минуту, снова заговорил о своем прежнем предложении. Выказав себя суровой, как никогда, она тотчас же ушла к своим братьям и с горечью рассказала им о поведении своего подлого мужа. Выслушав ее, братья сильно разгневались и, немедленно призвав к себе зятя, рассказали то, что им довелось про него узнать, и стали грозить ему и бранить его за намерение совершить поступок, направленный против их чести. Но он, заранее обдумав свой ответ, отнюдь не смутился, а, напротив, почти со смехом сказал им: — Поистине, братья мои, вы могли бы спросить меня более вежливо, и я рассеял бы все ваши подозрения. Но от близких людей приходится многое переносить, а потому я открою вам правду о том, что рассказала ваша сестра и моя жена. Так вот, узнайте следующее. Я заподозрил, что кардинал, проживающий по соседству от нас, страстно влюбился в мою жену и что он вступил в тайное соглашение с некоторыми из жильцов нашего дома; жена же моя молода и красива, и хотя я считаю ее честнейшей женщиной, но все же, опасаясь женского легкомыслия, я задумал провести решительный опыт, чтобы в случае, если увижу ее такой, какой она оказалась на деле, отбросить всякие подозрения и теперь и в будущем; в противном же случае мы бы с вами вместе решили, как следует посту- Братья выслушали это объяснение, и оно показалось им правдоподобным… Известие обо всем этом пришлось не по вкусу кардиналу, и его пламенные надежды значительно охладились; однако, побуждаемый своим страстным желанием, он еще более рьяно продолжал свое ухаживание и с помощью знаков, а подчас и слов предлагал молодой женщине без всяких ограничений все, что было в его власти, уверяя ее, что он из-за нее тает, как лед на солнце. Созданная природой из того же металла, что и остальные представительницы женского пола, наша красавица, несмотря на свою испытанную добродетель и честность, поддалась неотступному давлению и, ничем этого не обнаруживая кардиналу, стала им увлекаться. Беседуя с мужем, она отзывалась с величайшим одобрением об изящных манерах и похвальных обычаях этого синьора. Это ободрило опечаленного мужа и послужило ему поводом вновь завести прежний разговор. Улучив подходящее время, когда жена его была в хорошем расположении духа, он сказал ей: — Милая Джакомина, как ты сама можешь это подтвердить, я нежно и верно любил тебя и люблю за все твои совершенства; если же я обратился к тебе однажды с памятной тебе просьбой, то я не хочу, чтобы ты усмотрела в этом недостаток моего уважения к тебе; нет, две важные причины против моего желания побудили меня к такому шагу: во-первых, крайняя нужда, ставшая нашим уделом по милости злой судьбы и без всякой вины с нашей стороны, так что я не видел никакого другого способа поддержать наше существование; а во-вторых — и это преисполняет меня не меньшей горечью, — мысль о празднике, который в скором времени наша владетельная маркиза намерена дать всем собравшимся князьям и своим соседям и на котором, как бы мне этого ни хотелось, ты все же не сможешь появиться, так как не имеешь платья, достойного нашего положения и твоей изящной наружности и красоты… И если ты хочешь убедиться в правдивости моих слов, обрати внимание на то, что этот синьор, хотя его и снедает любовный недуг, крайне бережно относится к своей и нашей чести… Молодая женщина, беспрерывно подстрекаемая своим гнусным мужем, который прибегал к вымышленным предлогам, чтобы увлечь ее в бездну, знала вместе с тем, что ее превыше всего любит такой милый, богатый, красивый и щедрый синьор. По этой, а также по многим другим причинам она решила разбить цепи добродетели и достичь того, что навсегда бы ее удовлетворило, а вместе с тем послужило бы ее мужу тем наказанием, к которому он сам стремился. Увидев, что тот замолчал, она ответила ему таким образом: — Итак, ясно видя тебя окончательно склонившимся к тому, чтобы чужая рука осквернила меня, я со спокойной душой поступлю согласно твоему желанию и исполню то, к чему ты меня так долго склонял. Я сделаю это, когда и как тебе будет угодно. Однако все же советую тебе зрело поразмыслить об этом деле, чтобы тебе не пришлось каяться в твоем поведении тогда, когда сделанного уже нельзя будет вернуть. Муж, крайне обрадованный столь неожиданным ответом, решил, что слова его принесли должный плод, и сказал ей: — Женушка моя, кто зрело обдумал дело, тому каяться в нем не приходится; впрочем, предоставь заботу об этом мне. Покинув жену, он пошел к кардиналу и, приветствовав его, сказал с радостным лицом: — Синьор мой, дело слажено на эту ночь, хотя, по правде сказать, мне стоило большого труда добиться, чтобы она дала свое согласие. Однако я пообещал ей за первый приход к вам триста дукатов, которые она хочет истратить на свой наряд для предстоящего празднества. Итак, теперь уже от вас зависит, чтобы она осталась довольна. Влюбленный кардинал, человек бывалый и умный, сразу же понял, что муж его красавицы именно такой дрянной человек, как ему хотелось, и с большой охотой выразил согласие дать не только триста дукатов, которые были для него безделицей, но и все, чем он только располагал; и после множества любезных слов они условились, когда и каким образом муж сам приведет Джакомину в дом кардинала. Когда же муж вернулся домой и рассказал жене о том, на чем они порешили с кардиналом, он не мог добиться от нее иного ответа, как: — Муж мой, муж мой, подумай хорошенько и пойми, что ты делаешь! И когда уже наступил назначенный срок и пора было идти к кардиналу, она все еще колола его теми же словами и не переставала даже во время пути повторять ему: — Боюсь, муженек, что тебе придется раскаяться. Но он, думая только о трехстах дукатах, так легко ему доставшихся, не обратил на ее слова никакого внимания, до того жадность помрачила его ум. Итак, он отвел жену к кардиналу, и молодая женщина, придя в его комнату, очутилась в объятиях влюбленного синьора, который не только осыпал ее поцелуями, но и стал расточать ей нежнейшие ласки, свидетельствовавшие о неподдельном чувстве; и прежде еще, чем они приступили к срыванию сладких плодов любви, она окончательно утвердилась в уже принятом ею решении — скорее умереть, чем возвратиться к своему дорогому мужу. Кардинал, вежливо простившийся с мужем, который должен был рано утром прийти за женой, лег вместе с молодой женщиной на сладостное и роскошное ложе; они вкусили высшую усладу любви и, покоренные одним и тем же желанием, всю ночь блуждали по отрадным садам богини Венеры. Молодая женщина, которой еще не перепадали столь лакомые кусочки, поразмыслив, нашла, что в этом и заключается самое высшее блаженство; не желая лишиться его, она обратилась к синьору с разумной и искусной речью и к взаимному их удовольствию открыла ему свое желание и окончательно принятое ею решение, прибавив в заключение, что если кардиналу не доставит удовольствия удержать ее у себя, то пусть он считает ее погибшей, так как для мужа она все равно утрачена навсегда. Никогда еще звук человеческой речи, а тем более смысл слов не был так сладостен кардиналу, который, выслушав молодую женщину, прежде чем дать удовлетворительный ответ, бесчисленными нежными поцелуями успокоил ее относительно своих намерений, после чего сказал: — Душа моя милая, ничего не могу тебе сказать, кроме следующего: раз я отдал тебе свою душу, а ты мне свое прекрасное и нежное тело, то располагай и твоим, и моим, и всем, что у нас есть, по своему усмотрению и желанию; я же буду всем доволен. Он вновь поцеловал свою красавицу и, так как уже рассвело, велел помочь ей одеться и проводить ее в другую комнату. А узнав, что муж пришел еще до зари, чтобы отвести жену домой, он приказал одному из слуг позвать его к себе. Когда муж вошел и увидал жену, он с улыбкой пожелал ей доброго утра, а затем, подойдя к ней поближе, сказал тихонько следующее: — Милая моя Джакомина, будь уверена, я очень раскаиваюсь, что привел тебя сюда, и никогда еще не испытывал таких мук, как в эту ночь; я все думал о тебе и не мог найти себе покоя. Молодая женщина, заранее приготовившая свой ответ, сказала ему: — Я тоже, муженек, раскаиваюсь, но только в том, что не дала сразу же свое согласие, когда ты в первый раз предложил мне отправиться сюда, так как за всю жизнь мне уже не вернуть упущенных сладостных ночей; и, сказать по правде, если ты плохо спал, то я прекраснейшим образом бодрствовала, так как мой синьор расточал мне столько ласк в течение этой ночи, сколько не случилось мне получить от тебя за все время, когда я была твоею. Я вижу, как жестока была ко мне судьба, ибо я убедилась, что доброта синьора, которую ты мне так расхваливал, еще в тысячу раз больше; и, когда я напоследок открыла ему явившееся у меня желание — остаться у него, он отдал мне ключи от всех своих сокровищ. Возьми же, если желаешь, плату за проданную тобою честь всей нашей родни; и я хочу, чтобы вместе с этим ты перестал думать обо мне и моих делах, ибо, знай, я скорее согласна подвергнуться четвертованию, чем возвратиться к тебе. Огорченному мужу показалось, что небо обрушилось ему на голову; он спросил лишь: — Джакомина, красавица моя, смеешься ты надо мной или говоришь правду? Она ответила: — Да, я смеюсь над тобой и имею на это право. Но ты, может быть, думаешь, что я хочу испытать твою любовь, подобно тому как ты испытывал своим предложением мою верность? (Ведь ты так изобразил дело моим братьям!) Однако я хочу, чтобы, однажды проверив мою верность, ты бы тем и удовольствовался навсегда и уже более не подвергал меня новым испытаниям. Припомни, сколько раз я говорила тебе: «Муж мой, подумай, что ты делаешь», на что ты отвечал мне просьбой предоставить заботу об этом тебе. Так я и поступила и собираюсь поступать впредь: пусть забота об этом будет твоею и ничьей больше. Если сможешь, то найди средство поправить дело; я же, радостная и беззаботная, буду находить все новую отраду в нежных объятиях моего синьора. И, открыв окованный железом сундук и вынув оттуда мешочек, в котором находились триста дукатов, предварительно отсчитанные ею, она сказала мужу: — Прими плату за свою жену, которой ты не очень дорожил, и больше тебе здесь делать нечего. И, уйдя в другую комнату, она промолвила: — Прощай, муженек, и в другой раз лучше обдумывай свои поступки…» Перевод М. Рындина. (Цитируется по изданию: Итальянская новелла Возрождения. М., 1964.)Фрагмент 32. Уильям Шекспир. «Отелло»
«Действие V. Сцена вторая Спальня в замке. Дездемона в постели. Горит свеча. Входит Отелло. О т е л л о Таков мой долг. Таков мой долг. Стыжусь Назвать пред вами, девственные звезды, Ее вину. Стереть ее с земли. Я крови проливать ее не стану И кожи не коснусь, белей чем снег И глаже алебастра. И однако, Она умрет, чтоб больше не грешить. Задую свет. Сперва свечу задую, Потом ее. Когда я погашу Светильник и об этом пожалею — Не горе. Можно вновь его зажечь. Когда ж я угашу тебя, сиянье Живого чуда, редкость без цены, На свете не найдется Прометея, Чтоб вновь тебя зажечь, как ты была. Должна увянуть сорванная роза. Как ты свежа, пока ты на кусте! (Целует Дездемону.) О чистота дыханья! Пред тобою Готово правосудье онеметь. Еще, еще раз. Будь такой по смерти. Я задушу тебя и от любви Сойду с ума. Последний раз, последний. Так мы не целовались никогда. Я плачу и казню, совсем как небо, Которое карает, возлюбив. Она проснулась. Д е з д е м о н а Это ты, Отелло? О т е л л о Да, Дездемона. Д е з д е м о н а Ты не ляжешь спать? О т е л л о Ты перед сном молилась, Дездемона? Д е з д е м о н а Да, дорогой мой. О т е л л о Если у тебя Есть неотмоленное преступленье, Молись скорей. Д е з д е м о н а Что хочешь ты сказать? О т е л л о Молись скорее. Я не помешаю. Я рядом подожду. Избави Бог Убить тебя, души не подготовив. Д е з д е м о н а Ты о моем убийстве говоришь? О т е л л о Да, об убийстве. Д е з д е м о н а Господи помилуй! О т е л л о Аминь всем сердцем. Д е з д е м о н а После этих слов, Я верю, ты губить меня не станешь. Гм! О т е л л о Д е з д е м о н а Но ты меня пугаешь. Ты зловещ. Когда вращаешь в бешенстве глазами, И, как я ни чиста перед тобой, Мне страшно. О т е л л о О грехах своих подумай. Д е з д е м о н а Единственный мой грех — любовь к тебе. О т е л л о За это ты умрешь. Д е з д е м о н а Бесчеловечно Отплачивать убийством за любовь. Что ты кусаешь губы в исступленье? Недобрый знак, но я его отнесть К себе никак, никак не в состоянье. О т е л л о Молчи. Д е з д е м о н а Молчу. Но что произошло? О т е л л о Ты подарила Кассио на память Подарок мой, платок. Д е з д е м о н а Неправда, нет. Спроси у Кассио. Души спасеньем Клянусь, что нет. О т е л л о Опомнись! Берегись! Не будь клятвопреступницею. Это Твой смертный одр. Д е з д е м о н а Увы, как всякий одр Когда-нибудь. О т е л л о Нет, ты умрешь сегодня. Сейчас же исповедай все грехи. Не отрицай их. Это не поможет. Я знаю все. Хоть это свыше сил, Но ты умрешь. Д е з д е м о н а Тогда о сжалься, небо! О т е л л о Аминь скажу я. Д е з д е м о н а Пожалей и ты. Я в жизни пред тобой не провинилась И к Кассио питала только то, Что чувствовать нас заповеди учат. О т е л л о Я видел сам платок в его руках. Меня обман твой превращает в камень, А эту искупительную смерть — В закоренелой грешницы убийство. Д е з д е м о н а Тогда он где-нибудь его нашел. Платка ему я в жизни не давала. Спроси, он подтвердит. О т е л л о Он подтвердил. Д е з д е м о н а Что он сказал? О т е л л о Что был с тобой в сношенье. Д е з д е м о н а Как? В незаконном? О т е л л о Да. Д е з д е м о н а Не может быть. Он повторить не сможет. О т е л л о Да. Не сможет. Он смолк навек. Труд этот на себя Взял честный Яго. Д е з д е м о н а Оправдались страхи! Я чувствовала! Кассио убит? О т е л л о Ему б не помогло, когда бы жизней В нем было больше, чем волос. Д е з д е м о н а Беда! Он ложно оклеветан, я погибла. О т е л л о Распутница, как смеешь ты при мне Рыдать о нем! Д е з д е м о н а Сошли меня в изгнанье, Но жить оставь! О т е л л о Обманщица, умри! Д е з д е м о н а Дай эту ночь прожить! Отсрочь на сутки! О т е л л о Сопротивляться?! Д е з д е м о н а Только полчаса! О т е л л о Нет. Поздно. Решено. Д е з д е м о н а Еще минуту! Дай помолиться! Отелло Поздно чересчур. (Душит ее.) Э м и л и я (за сценой) Впустите, генерал, меня! Впустите! О т е л л о За дверью шум. Жива? Еще жива? Я — изувер, но все же милосерден И долго мучиться тебе не дам. Так. Так. (Закалывает ее.) Э м и л и я (за сценой) Впустите, генерал, меня! Впустите! О т е л л о Кто там? Э м и л и я (за сценой) Словечко только, генерал! О т е л л о Эмилия. Наверно, с сообщеньем О смерти Кассио! Сейчас. Сейчас. Теперь она не вздрагивает больше. Прошелестело что-то. Тишина. Теперь она недвижна, как могила. Впустить ли мне Эмилию иль нет? Мне кажется, опять пошевелилась. Нет, показалось. Лучше не впускать. Едва она войдет, как обратится К моей жене. Жене? Какой жене? Нет больше у меня жены на свете. Какой доселе небывалый час! Как будто в мире страшное затменье, Луны и солнца нет, земля во тьме, И все колеблется от потрясенья. Э м и л и я (за сценой) Пожалуйста, впустите, генерал! Мне срочно сообщить вам что-то надо. О т е л л о Эмилия. О ней я и забыл. Сию минуту. Я задерну полог. (Открывает дверь.) Пожалуйста, войдите. Входит Эмилия. Э м и л и я Генерал, На улице убийство! О т е л л о Быть не может. Когда? Сейчас? Э м и л и я Недавно, генерал. О т е л л о Влияние луны. Она, как видно, Не в меру близко подошла к земле И сводит всех с ума. Э м и л и я Венецианец, По имени Родриго, умерщвлен Рукою Кассио. О т е л л о Убит Родриго И Кассио? Э м и л и я Нет, Кассио не убит. О т е л л о Он жив? Напрасное кровопролитье. Д е з д е м о н а Убили неповинно, без вины! Э м и л и я Чей это крик? О т е л л о Какой? Кричали разве? Э м и л и я О ужас! Это голос госпожи. На помощь! Помогите! Помогите! Скажите, Дездемона, что-нибудь! Д е з д е м о н а Безвинно умираю. Э м и л и я Кто убийца? Д е з д е м о н а Никто. Сама. Пускай мой муж меня Не поминает лихом. Будь здорова. Умирает. О т е л л о Кто это сделал? Э м и л и я Это скрыто тьмой. О т е л л о Вы слышали, никто, она сказала. Э м и л и я Да, госпожа сказала, что никто. О т е л л о За эту ложь ее сожгут в геенне. Ее убийца я. Э м и л и я Тогда она Тем больший ангел, чем ты больший дьявол. О т е л л о Она развратничала и лгала. Э м и л и я Нет, сам ты лжешь и на нее клевещешь. О т е л ло Она была коварна, как вода. Э м и л и я А ты, к несчастию, горяч, как пламя. Она была до святости верна. О т е л л о Ее любовник Кассио. Ты можешь Спросить у мужа. Разве я б посмел Расправиться без важных оснований? За это ада было б мало мне И глубочайшей бездны бездн. Все это Установил твой муж». Перевод Б. Пастернака (Цитируется по изданию: Уильям Шекспир. Трагедии, комедии, сонеты. М., 1999.)Фрагмент 33. Матео Банделло. Из «Новелл»
«Часть I. Новелла XI Некий сенатор застает свою жену в объятиях любовника, заставляет его бежать и тем спасает честь свою и жены. Не так давно, синьоры мои, в бытность мою в Париже, жил там советник или сенатор парламента, первый среди столь многочисленных сенаторов Франции. Хотя он был уже в летах, но имел красивую молодую жену, тоже француженку, которую сильно любил. Она, будучи свежей и страстной и видя, что муж ее слаб и не может исполнять свои супружеские обязанности, ибо почти каждое утро он поднимается с постели в такой час, когда она не прочь порезвиться и загнать дьявола в ад, сильно огорчалась, видя, как ее молодость проходит без всяких радостей. Поэтому, желая как можно лучше и безопасней устроить свои дела, она решила, что проще всего было бы найти молодого человека, который бы ей понравился; а так как монсеньор муж ее спозаранку уходит в парламент и возвращается только поздно вечером, то у нее будет время, чтобы привести в исполнение все свои желания… Случилось однажды, что мимо проходил мужчина лет этак двадцати шести-двадцати восьми. Он почтительно раскланялся с ней, сняв берет, и пошел дальше по своим делам… Юноша, не будучи дураком, смекнул, что было бы неплохо завязать с дамой знакомство. Подумав так и проходя однажды, по своему обыкновению, мимо ее дома, он услышал, как дама ему сказала: — Монсеньор, куда вы так торопитесь? — и при этом вся зарделась. Ломбардец приостановился и, владея хорошо французским языком, любезно ей ответил: — Мадонна, я иду по некоторым своим делам к самому мосту Богородицы, но, если я могу чем-либо услужить вам, благоволите приказать, я готов всегда повиноваться вам. С некоторых пор я жажду быть вашим рабом! И, видя, что у дамы заблестели глаза, он принялся изливать ей свои чувства, говоря, что вот уже несколько месяцев как он горячо влюблен в нее, но, будучи чужеземцем, не осмеливается признаться ей в своей пылкой любви. Словом, дама, горя еще большим желанием, чем он, условилась с ним, чтобы на следующий день, рано поутру, он был на улице, и, когда муж отправится в парламент, вошел бы в дом, прямо к ней в комнату, и показала в какую. Ломбардец в точности все выполнил и, очутившись с ней в постели, занялся тем, что не удавалось мужу, проехав за три часа пять почтовых станций, не меняя лошадей. Словом, они были в восторге друг от друга, ибо каждый нашел то, что искал, и так меж собой они сдружились, что не было дня, чтобы ломбардец в полдень не приходил заняться любовными утехами со своей дамой. Так длилось несколько месяцев. Но однажды, будучи вдвоем, они резвились без удержу, так что один из домочадцев, услышав возню и не понимая, в чем дело, решил поглядеть и заметил, как молодой человек вышел из комнаты дамы. Слуга, не переставая следить за своей госпожой, узнал, что каждое утро, когда муж уходит из дому, появляется любовник. Тогда он рассказал об этом служившему у монсеньора писцу и в одно прекрасное утро, когда ломбардец был в комнате с дамой, пошел и все открыл своему хозяину, поставив писца на страже. Когда монсеньор вернулся домой, он приказал обоим слугам запереть входную дверь и вооружиться алебардами, чтобы убить ломбардца, если тот будет пытаться бежать. Потом надел на себя тогу, взял шпагу, подошел к двери, постучал и позвал жену, которая от страха вся помертвела. Тем не менее она открыла дверь, которую муж тут же запер. Ломбардец был без оружия и едва успел натянуть на себя штаны и куртку, как монсеньор ему сказал: — Кто ты, я не знаю, но, если тебе дорога жизнь, возьми свою одежду и, не мешкая, прыгай из окна. Ломбардца словно маслом по сердцу помазали, он схватил свой плащ и прыгнул в соседний двор, и так ему повезло, что никто его не видел. Мессер сенатор закрыл окно, позвал соглядатаев и приказал жене снова лечь в постель. Когда те вошли в комнату, он обратился к ним со словами: — Где же тот, о котором вы сказали, что он забавляется с моей женой? Вы негодяи и дураки, если взводите напраслину на порядочную женщину. Вы, наверное, были пьяны, негодяи вы этакие! Ступайте, на этот раз я вам прощаю, но в будущем берегитесь и протрите себе хорошенько глаза!..» Перевод Н. Георгиевской. (Цитируется по изданию: Итальянская новелла Возрождения. М., 1964.)Фрагмент 34. Брантом. «Галантные дамы»
«…Во времена короля Генриха один жестянщик принес на ярмарку в Сен-Жермене дюжину неких железных приспособлений для запора женских ворот; они представляли собой пояс с полосою, проходящей между ног и замыкающейся на ключ; устройство задумано было столь хитро, что женщина, его надевшая, никак не смогла бы предаваться сладким любовным утехам, ибо в полосе этой мастер проделал лишь несколько крошечных дырочек для отправления малой нужды. Говорят, нашлось-таки пятеро или шестеро ревнивых мужей, которые купили эту штуку и засупонили жен своих столь крепко и надежно, что тем только и осталось сказать: «Прости-прощай, счастливое времечко!» Но и тут одна хитрая дама сыскала выход: нашла искусного мастера, показала ему свою железную узду и то, что под нею, и он изготовил запасной ключ, которым дама, едва только муж за порог, отмыкала и замыкала сию тюрьму своей женской вольницы в любое время, когда хотела. Супруг так ничего и не заподозрил. А его половина вовсю предавалась любовным утехам, награждая рогами простофилю мужа и полагая, что теперь вечно и без удержу сможет развлекаться на свободе…» Перевод И. Я. Волович и Г. Р. Зингера. (Цитируется по изданию: Брантом. Галантные дамы. М., 1998.)
 Нравственность церкви
Нравственность церкви
Церковь в эпоху Ренессанса
 сли мы говорим о церкви эпохи Возрождения, то имеем в виду только римско-католическую, так как принципы евангелически-лютеранской или протестантской церкви лишь значительно позднее стали ощутимо влиять на общественную и частную нравственность.
Римско-католическая церковь, о которой идет здесь речь, охватывала весь христианский мир и представляла собой социальную организацию, влиявшую на публичную и частную жизнь всех классов, равной которой никогда не существовало в европейской культуре. Не оспаривавшееся никем на протяжении всех средних веков, это влияние сохранялось после первых попыток реформации еще в течение нескольких столетий, пока наконец сначала небольшие группы и секты, а потом и целые государства начали от него освобождаться.
Историки-идеологи видели в продолжавшихся столетия реформационных войнах не более как выражение религиозного протеста, другими словами — духовное движение на религиозной почве. Никому в голову не приходило усматривать в них типичную картину классовой борьбы, вызванной экономическими интересами. Так, грандиозная революция сводилась к простой поповской распре, к богословским диспутам о таких глубокомысленных вопросах, как способ причастия или отпущение грехов Папой и т. д. Современники понимали сущность этого события лучше, чем историки более позднего времени. Конфликты между народностями — и в особенности немцами — и Папством несли такой явный отпечаток вызвавших их экономических причин и это так бросалось в глаза, что надо было быть слепым, чтобы не видеть, что реформационное движение было, по существу, экономической борьбой.
Если современники прекрасно понимали, что Рим интересовался их кошельком в гораздо большей степени, чем их бессмертными душами, если их эмансипация от Рима преследовала главным образом цель обезопасить свои карманы, то причинную связь событий они иначе как идеологически не могли себе объяснить. По этой причине борьба против Папства, поскольку она велась сознательно, носила преимущественно идеологический характер.
Такой метод борьбы был безусловно ошибочным и в этом непонимании сути конфликта коренится причина многих неудач Реформации. Однако этот метод имел одно важное последствие. Усматривая в нравственных недочетах те в конечном счете решающие причины, против которых следует бороться, идеология собрала и спасла от забвения положительно неисчерпаемый материал для истории нравов, для реконструкции прошлого. Это справедливо по отношению ко всем историческим явлениям и формациям, как показывает каждая страница нашей книги, но особенно касается нравов, царивших в римской церкви, поскольку здесь одинаково усердствовали и друзья и враги. Если протестанты этим путем думали восторжествовать над Римом, то многочисленные честные католики воображали, что стоит только очистить католическую церковь от грязи, в которой она задыхается, и она снова воскреснет, восстановив свое прежнее величие.
сли мы говорим о церкви эпохи Возрождения, то имеем в виду только римско-католическую, так как принципы евангелически-лютеранской или протестантской церкви лишь значительно позднее стали ощутимо влиять на общественную и частную нравственность.
Римско-католическая церковь, о которой идет здесь речь, охватывала весь христианский мир и представляла собой социальную организацию, влиявшую на публичную и частную жизнь всех классов, равной которой никогда не существовало в европейской культуре. Не оспаривавшееся никем на протяжении всех средних веков, это влияние сохранялось после первых попыток реформации еще в течение нескольких столетий, пока наконец сначала небольшие группы и секты, а потом и целые государства начали от него освобождаться.
Историки-идеологи видели в продолжавшихся столетия реформационных войнах не более как выражение религиозного протеста, другими словами — духовное движение на религиозной почве. Никому в голову не приходило усматривать в них типичную картину классовой борьбы, вызванной экономическими интересами. Так, грандиозная революция сводилась к простой поповской распре, к богословским диспутам о таких глубокомысленных вопросах, как способ причастия или отпущение грехов Папой и т. д. Современники понимали сущность этого события лучше, чем историки более позднего времени. Конфликты между народностями — и в особенности немцами — и Папством несли такой явный отпечаток вызвавших их экономических причин и это так бросалось в глаза, что надо было быть слепым, чтобы не видеть, что реформационное движение было, по существу, экономической борьбой.
Если современники прекрасно понимали, что Рим интересовался их кошельком в гораздо большей степени, чем их бессмертными душами, если их эмансипация от Рима преследовала главным образом цель обезопасить свои карманы, то причинную связь событий они иначе как идеологически не могли себе объяснить. По этой причине борьба против Папства, поскольку она велась сознательно, носила преимущественно идеологический характер.
Такой метод борьбы был безусловно ошибочным и в этом непонимании сути конфликта коренится причина многих неудач Реформации. Однако этот метод имел одно важное последствие. Усматривая в нравственных недочетах те в конечном счете решающие причины, против которых следует бороться, идеология собрала и спасла от забвения положительно неисчерпаемый материал для истории нравов, для реконструкции прошлого. Это справедливо по отношению ко всем историческим явлениям и формациям, как показывает каждая страница нашей книги, но особенно касается нравов, царивших в римской церкви, поскольку здесь одинаково усердствовали и друзья и враги. Если протестанты этим путем думали восторжествовать над Римом, то многочисленные честные католики воображали, что стоит только очистить католическую церковь от грязи, в которой она задыхается, и она снова воскреснет, восстановив свое прежнее величие.
Экономическая основа могущества церкви
 амым главным оплотом римской церкви были монахи и монастыри. При помощи этих институтов она прежде всего господствовала над христианским миром. Если верить просвещенным историкам, то монахи завоевали это господство молитвой и переписыванием Евангелия. Нелепее этого «просвещенного» взгляда ничего не может быть. Монахи достигли власти прямо противоположным путем.
Монастыри были первыми и долгое время единственными очагами культуры. Здесь впервые возникло профессиональное ремесло. Здесь мы встречаем первых ткачей. Монахи были также первыми пивоварами. Они же первые ввели рациональную обработку земли. Всему этому монахи научили окружающих их людей: ткать шерсть, одеваться в шерстяное платье, выгоднее обрабатывать землю, они привили им более разнообразные и, главное, более высокие требования к жизни. Разумеется, то была не простая случайность, что именно монастыри стали центрами технического прогресса. Это было просто последствием того, что в монастырях впервые пришли к тому, что является причиною всякого технического прогресса, — к концентрации труда. Так как монастыри практиковали ее впервые, причем в очень интенсивной форме, то они и пришли раньше других к товарному производству.
Монастыри стали, таким образом, первыми и были на протяжении многих столетий самыми могущественными и богатыми торговыми центрами. Тут всегда можно было получить все, и притом все лучшее. «Монастырская работа» была высшего качества. Разумеется, не. потому, что «благодать Божия покоилась на этом труде», не потому, что благочестие направляло ткацкий челнок, а по простой экономической причине. Здесь человек был не только безличным средством капиталистического накопления прибыли.
Таким путем монастыри незаметно стали первыми и главными центрами культурной жизни. В интересах собственного существования они первые проложили дороги, выкорчевали леса и сделали их годными для обработки, высушили болота и построили плотины. Укрепленные стены монастырей были первыми крепостями, в которых окрестные жители могли укрыться со своим добром, когда жадный до добычи неприятель врывался в страну. Монастыри и церкви были не только оплотами против дьявола, но и первыми надежными оплотами против земных врагов. Все это придавало больше веса их учению. Не следует забывать, что даже самые воинственные ордена приходили в страну почти всегда как друзья, как люди, олицетворявшие в средние века повсюду идею прогресса, историческую логику вещей, обусловленную эволюцией.
амым главным оплотом римской церкви были монахи и монастыри. При помощи этих институтов она прежде всего господствовала над христианским миром. Если верить просвещенным историкам, то монахи завоевали это господство молитвой и переписыванием Евангелия. Нелепее этого «просвещенного» взгляда ничего не может быть. Монахи достигли власти прямо противоположным путем.
Монастыри были первыми и долгое время единственными очагами культуры. Здесь впервые возникло профессиональное ремесло. Здесь мы встречаем первых ткачей. Монахи были также первыми пивоварами. Они же первые ввели рациональную обработку земли. Всему этому монахи научили окружающих их людей: ткать шерсть, одеваться в шерстяное платье, выгоднее обрабатывать землю, они привили им более разнообразные и, главное, более высокие требования к жизни. Разумеется, то была не простая случайность, что именно монастыри стали центрами технического прогресса. Это было просто последствием того, что в монастырях впервые пришли к тому, что является причиною всякого технического прогресса, — к концентрации труда. Так как монастыри практиковали ее впервые, причем в очень интенсивной форме, то они и пришли раньше других к товарному производству.
Монастыри стали, таким образом, первыми и были на протяжении многих столетий самыми могущественными и богатыми торговыми центрами. Тут всегда можно было получить все, и притом все лучшее. «Монастырская работа» была высшего качества. Разумеется, не. потому, что «благодать Божия покоилась на этом труде», не потому, что благочестие направляло ткацкий челнок, а по простой экономической причине. Здесь человек был не только безличным средством капиталистического накопления прибыли.
Таким путем монастыри незаметно стали первыми и главными центрами культурной жизни. В интересах собственного существования они первые проложили дороги, выкорчевали леса и сделали их годными для обработки, высушили болота и построили плотины. Укрепленные стены монастырей были первыми крепостями, в которых окрестные жители могли укрыться со своим добром, когда жадный до добычи неприятель врывался в страну. Монастыри и церкви были не только оплотами против дьявола, но и первыми надежными оплотами против земных врагов. Все это придавало больше веса их учению. Не следует забывать, что даже самые воинственные ордена приходили в страну почти всегда как друзья, как люди, олицетворявшие в средние века повсюду идею прогресса, историческую логику вещей, обусловленную эволюцией.

Н. Мануэль. Вторжение смерти в веселый монастырь
Сказанное о роли монастырей и монахов в области техники и хозяйства применимо и к сфере интеллектуального творчества. Монастыри были в средние века единственными центрами науки. Здесь жили первые врачи, обладавшие лучшими средствами против болезней людей и животных, чем знахарки. Здесь учились читать, писать, считать, только здесь систематически развивали искусство письма. В монастырях возникла прежде всего и женская эмансипация — столетиями раньше, чем в среде имущего бюргерства, ибо они эмансипировали женщину задолго до того времени, когда возникло бюргерство. Достаточно вспомнить многочисленных ученых игумений, аббатис-писательниц, например — чтобы привести хоть одно имя — Росвиту, монахиню гандерсгеймского монастыря. Эта эмансипация была, разумеется, возможна только потому, что здесь впервые были налицо благоприятствовавшие ей экономические условия. По той же причине в монастырях расцвели и разные искусства, высшие проявления культуры. Очень и очень долго монастыри были главными меценатами искусства, и по их заказу возникло не только большинство художественных произведений, созданных в средние века, но и самые грандиозные и великолепные творения этой эпохи.

И. Мануэль. Смерть в монастыре
Совокупность этих факторов объясняет нам продолжавшееся столетиями господство монахов и церквей. Вот истинные причины их власти, а не молитвы и песнопение. К этому базису следует свести и главную основу монашеской жизни — институт безбрачия, если мы хотим понять это явление в его сущности, в его исторической обусловленности и, следовательно, уяснить себе его конечные последствия. «Просвещенные» идеологи объясняют этот институт не менее ошибочно и превратно, как и факт господства над людьми монастырей и монахов. Просветительная литература видит в нем не более как «заблуждение» человеческого ума. Нельзя, конечно, отрицать, что трудно придумать более простое объяснение массового исторического явления. Однако, к счастью, «глупость» и «заблуждение» в данном случае больше на стороне историков, чем на стороне масс. Безбрачие монахов и монахинь является отнюдь не заблуждением человеческого ума, а «неизбежным последствием определенных данных общественных условий». Безбрачие обитателей монастырей доказывает только то, что экономические условия порой бывают сильнее законов природы. Вот почему большинство монастырей существовало за счет ручного труда, и наиболее выдающиеся основатели монастырей той эпохи — Антоний, Василий, Бенедикт Нурсийский — прямо вменяли его в обязанность всем членам общины.
Безбрачие
 ак экономические организации — а ими в первую очередь и были монастыри — они представляли собой не что иное, как попытки «силами самих участников разрешить социальный вопрос для ограниченного круга людей».
Сама форма их организации предполагала общее пользование как средствами производства, так и продуктами потребления, ибо общее хозяйство противоречит частной индивидуальной собственности, главным образом частному пользованию средствами производства. Там, где делаются попытки сохранить последнее, вся организация очень быстро распадается, как видно из истории всех общин. Так как общее хозяйство было продиктовано социальной нуждой, то естественно, что старались всеми силами сохранить общее производство, поэтому люди отказывались от частной собственности. Тому же закону должна была, естественно, подчиниться и регламентация половых отношений. И здесь решающее значение должны были иметь интересы сохранности и целостности хозяйственной общины.
С другой стороны, монастыри возникли в эпоху, когда права собственности и наследования уже находились в развитом состоянии. Отсюда следует, что сохранение или введение брака в монастырях не мирилось с существующим там положением дел, ибо кровная связь всегда сильнее всяких искусственных формаций, а такими искусственными формациями, несомненно, были монастырские общежития. Чтобы избежать этой опасности — а по существу дела ее необходимо было избежать, — монастырям не оставалось ничего другого, как отречение от брака. Кроме членов домашней общины, монахи и монахини не должны были иметь другой семьи.
Только этим путем, в силу принудительной экономической необходимости при данных экономических условиях, а отнюдь не в силу идиотического заблуждения человеческого разума и возникло монашеское безбрачие. Надо прибавить к этому, что первоначально это отречение от брака не имело ничего общего с целомудрием, не предполагало отречения от половой жизни вообще. Речь шла только об исправлении обычной общественной: формы полового общения, т. е. брака, в интересах сохранения и существования общины. Тысячи среди первых монахов открыто и беспрепятственно удовлетворяли свою половую потребность. Если же рука об руку возникло и горячо пропагандировалось требование воздержания, то это тоже имеет свою экономическую причину, обусловлено печальным социальным состоянием эпохи, толкавшим то и дело людей в объятия строжайшего аскетизма.
Если истинная основа монашества объясняется таким образом, а господство и влияние всей церковной иерархии аналогичным путем, то нетрудно понять, почему и когда этот институт должен был превратиться в свою противоположность, из фактора прогресса в его тормоз.
Представляя на самом деле значительные экономические выгоды сравнительно с частным хозяйством, форма организации монастырской жизни неизбежно должна была под конец перерасти свою первоначальную цель. Экономическое превосходство над всеми другими современными хозяйственными предприятиями должно было создать рано или поздно могущество и богатство всех монастырей. «А могущество и богатство обозначают не что иное, как право на чужой труд. Монахи и монахини зависели теперь уже не от собственного труда, они могли теперь существовать трудом других, и они, конечно, пользовались этой возможностью. Из союзов производства монастыри превратились в союзы эксплуатации.
Вместе с тем должны были обнаружиться все последствия, которые обычно сопровождают подобные перевороты. Первоначально эти последствия носят, несомненно, положительный характер. Эмансипация от ремесла способствует возникновению искусств и наук, и монастыри стали, таким образом, наиболее важными центрами духовной культуры. Однако чем в большей степени богатство нажито не своим трудом, становится единственным источником существования, тем больше развиваются и другие последствия освобождения от труда, менее благородные формы пользования жизнью: чувственность, лень, обжорство,
пьянство, сладострастие. Одновременно монастыри забывали и о своих других столь важных для общества социальных добродетелях. В период натурального хозяйства монастыри отдавали излишек своих продуктов бедным, паломникам, всем нуждавшимся в помощи и лишенным средств существования. Благодаря этой филантропии монастыри стали в средние века обществами взаимопомощи с огромным социальным значением. Этот факт нисколько не ослабляется тем, что такая филантропия имела свою экономическую основу, что монастыри просто не знали, как иначе употребить свой излишек. Но именно поэтому «благочестивое настроение» обитателей монастыря немедленно же изменилось, когда в историю вновь вошло денежное хозяйство и начала развиваться торговля. Теперь излишек продуктов уже можно было продавать и обменивать на деньги. Деньги можно было накапливать, чего нельзя было делать с лишними фруктами, мясом и рыбой.
Так постепенно из милосердного вырастал скряга.
И чем явственнее становилось могущество, доставляемое богатством, деньгами и драгоценностями, тем больше возрастала алчность, монастыри стремились занять исключительное положение. Ранее в большинстве случаев союзы тружеников, они теперь всячески отпугивали бедняков, просивших о помощи. Тем охотнее стремились они привлекать в свой орден состоятельных людей или способных доставить другие ценные материальные выгоды. Тем усерднее хлопотали они теперь о том, чтобы получить подаяния, завещания, привилегии, хотя в огромном большинстве случаев знать поступала так не из благочестия, а из чисто эгоистических интересов. Феодалы видели теперь в прежних убежищах для бедняков удобные места, где можно было устроить оставшихся в девицах дочерей и младших сыновей. Такое устройство своего потомства освобождало знать от необходимости раздела поместья.
У Мурнера встречаются следующие стихи:
«Заметьте: если благородный не может выдать дочери замуж и не может ей дать приданого, то он отправляет ее в монастырь, не с тем, чтобы она посвятила себя Богу, а чтобы она жила безбедно, как привыкла знать».
Разумеется, церковь получала главные выгоды от подобных сделок.
Таким путем монастыри и вся церковь шаг за шагом теряли свое прежнее социальное содержание, то, на чем основывалось все их право на историческое существование и что укрепляло их влияние лучше всяких молебствий и заупокойных месс. Из института взаимопомощи церковь превратилась в огромный, охватывавший весь мир институт эксплуатации, наиболее грандиозный из всех когда-либо существовавших. И так как он выступал под религиозным покровом, так как религия в конце концов стала средством более успешной эксплуатации, то более чудовищного учреждения миру никогда не приходилось видеть. Этим отрицательным сторонам католическая церковь не могла противопоставить ни одной из тех положительных ценностей, в которых нуждалось европейское человечество, вступившее в новую эпоху развития.
ак экономические организации — а ими в первую очередь и были монастыри — они представляли собой не что иное, как попытки «силами самих участников разрешить социальный вопрос для ограниченного круга людей».
Сама форма их организации предполагала общее пользование как средствами производства, так и продуктами потребления, ибо общее хозяйство противоречит частной индивидуальной собственности, главным образом частному пользованию средствами производства. Там, где делаются попытки сохранить последнее, вся организация очень быстро распадается, как видно из истории всех общин. Так как общее хозяйство было продиктовано социальной нуждой, то естественно, что старались всеми силами сохранить общее производство, поэтому люди отказывались от частной собственности. Тому же закону должна была, естественно, подчиниться и регламентация половых отношений. И здесь решающее значение должны были иметь интересы сохранности и целостности хозяйственной общины.
С другой стороны, монастыри возникли в эпоху, когда права собственности и наследования уже находились в развитом состоянии. Отсюда следует, что сохранение или введение брака в монастырях не мирилось с существующим там положением дел, ибо кровная связь всегда сильнее всяких искусственных формаций, а такими искусственными формациями, несомненно, были монастырские общежития. Чтобы избежать этой опасности — а по существу дела ее необходимо было избежать, — монастырям не оставалось ничего другого, как отречение от брака. Кроме членов домашней общины, монахи и монахини не должны были иметь другой семьи.
Только этим путем, в силу принудительной экономической необходимости при данных экономических условиях, а отнюдь не в силу идиотического заблуждения человеческого разума и возникло монашеское безбрачие. Надо прибавить к этому, что первоначально это отречение от брака не имело ничего общего с целомудрием, не предполагало отречения от половой жизни вообще. Речь шла только об исправлении обычной общественной: формы полового общения, т. е. брака, в интересах сохранения и существования общины. Тысячи среди первых монахов открыто и беспрепятственно удовлетворяли свою половую потребность. Если же рука об руку возникло и горячо пропагандировалось требование воздержания, то это тоже имеет свою экономическую причину, обусловлено печальным социальным состоянием эпохи, толкавшим то и дело людей в объятия строжайшего аскетизма.
Если истинная основа монашества объясняется таким образом, а господство и влияние всей церковной иерархии аналогичным путем, то нетрудно понять, почему и когда этот институт должен был превратиться в свою противоположность, из фактора прогресса в его тормоз.
Представляя на самом деле значительные экономические выгоды сравнительно с частным хозяйством, форма организации монастырской жизни неизбежно должна была под конец перерасти свою первоначальную цель. Экономическое превосходство над всеми другими современными хозяйственными предприятиями должно было создать рано или поздно могущество и богатство всех монастырей. «А могущество и богатство обозначают не что иное, как право на чужой труд. Монахи и монахини зависели теперь уже не от собственного труда, они могли теперь существовать трудом других, и они, конечно, пользовались этой возможностью. Из союзов производства монастыри превратились в союзы эксплуатации.
Вместе с тем должны были обнаружиться все последствия, которые обычно сопровождают подобные перевороты. Первоначально эти последствия носят, несомненно, положительный характер. Эмансипация от ремесла способствует возникновению искусств и наук, и монастыри стали, таким образом, наиболее важными центрами духовной культуры. Однако чем в большей степени богатство нажито не своим трудом, становится единственным источником существования, тем больше развиваются и другие последствия освобождения от труда, менее благородные формы пользования жизнью: чувственность, лень, обжорство,
пьянство, сладострастие. Одновременно монастыри забывали и о своих других столь важных для общества социальных добродетелях. В период натурального хозяйства монастыри отдавали излишек своих продуктов бедным, паломникам, всем нуждавшимся в помощи и лишенным средств существования. Благодаря этой филантропии монастыри стали в средние века обществами взаимопомощи с огромным социальным значением. Этот факт нисколько не ослабляется тем, что такая филантропия имела свою экономическую основу, что монастыри просто не знали, как иначе употребить свой излишек. Но именно поэтому «благочестивое настроение» обитателей монастыря немедленно же изменилось, когда в историю вновь вошло денежное хозяйство и начала развиваться торговля. Теперь излишек продуктов уже можно было продавать и обменивать на деньги. Деньги можно было накапливать, чего нельзя было делать с лишними фруктами, мясом и рыбой.
Так постепенно из милосердного вырастал скряга.
И чем явственнее становилось могущество, доставляемое богатством, деньгами и драгоценностями, тем больше возрастала алчность, монастыри стремились занять исключительное положение. Ранее в большинстве случаев союзы тружеников, они теперь всячески отпугивали бедняков, просивших о помощи. Тем охотнее стремились они привлекать в свой орден состоятельных людей или способных доставить другие ценные материальные выгоды. Тем усерднее хлопотали они теперь о том, чтобы получить подаяния, завещания, привилегии, хотя в огромном большинстве случаев знать поступала так не из благочестия, а из чисто эгоистических интересов. Феодалы видели теперь в прежних убежищах для бедняков удобные места, где можно было устроить оставшихся в девицах дочерей и младших сыновей. Такое устройство своего потомства освобождало знать от необходимости раздела поместья.
У Мурнера встречаются следующие стихи:
«Заметьте: если благородный не может выдать дочери замуж и не может ей дать приданого, то он отправляет ее в монастырь, не с тем, чтобы она посвятила себя Богу, а чтобы она жила безбедно, как привыкла знать».
Разумеется, церковь получала главные выгоды от подобных сделок.
Таким путем монастыри и вся церковь шаг за шагом теряли свое прежнее социальное содержание, то, на чем основывалось все их право на историческое существование и что укрепляло их влияние лучше всяких молебствий и заупокойных месс. Из института взаимопомощи церковь превратилась в огромный, охватывавший весь мир институт эксплуатации, наиболее грандиозный из всех когда-либо существовавших. И так как он выступал под религиозным покровом, так как религия в конце концов стала средством более успешной эксплуатации, то более чудовищного учреждения миру никогда не приходилось видеть. Этим отрицательным сторонам католическая церковь не могла противопоставить ни одной из тех положительных ценностей, в которых нуждалось европейское человечество, вступившее в новую эпоху развития.

Пороки монашества
 онтраст между первоначальной задачей церкви и тем, что она представляла в XIV, XV и XVI столетиях, был огромный.
Иллюстрировать нравы католической церкви, наложившие в значительной степени свой отпечаток на публичную и частную нравственность эпохи Ренессанса, современными документами и характерными фактами очень нетрудно, гораздо труднее соблюсти в этом отношении меру.
Пословица — та монета, в которой народ ярче всего отчеканивает свои затаенные чувства, свои воззрения на вещи, свой опыт. Пословица — публичное обвинение народа-истца или публичный приговор народа-судьи. При этом как обвинение, так и приговор всегда основательны. Количество пословиц, в которых отражается известное явление, учреждение или историческое событие, уже само по себе важный критерий значения, которое имело это явление или учреждение для общих жизненных интересов народов и наций. Что же касается церкви эпохи Возрождения и господствовавших в ней нравов, то надо заметить, что в истории нравов всех народов ни одно явление не вдохновляло в такой степени творческий дух народа, ибо пословиц этих легион. Можно было бы изложить всю историю распада церкви как социальной организации в виде пословиц и поговорок. В этой главе мы поэтому еще чаще, чем прежде, будем пользоваться этой народной мудростью для характеристики исторической действительности.
Что процесс превращения церкви в единственное в своем роде торговое предприятие, орудие эксплуатации, в чем мы видели главную суть происшедшего переворота, ярко отразился со всеми его отдельными проявлениями в поговорках, это само собой понятно. «В Риме все продажно: boves et oves (быки и овцы, т. е. высшее и низшее духовенство)». «В Риме можно делать все, что угодно, только благочестие немного приносит пользы». Последствием всего этого является то, что «три вещи привозишь обыкновенно из Рима: нечистую совесть, испорченный желудок и пустой кошелек»..
Не клевета ли все это на католическую церковь? В подтверждение того, что оформленный в виде пословиц приговор народа-судьи был в самом деле справедливым, приведем один только факт — отпущение грехов. А индульгенция лучше всего характеризуется пресловутыми прейскурантами, издававшимися Папами уже с XII столетия: в них детально обозначалось, за сколько гульденов можно откупиться от совершенного злодеяния или. купить право на совершение задуманного преступления так, чтобы не отвечать ни перед небесным, ни перед земным правосудием; крупные мошенники интересовались, разумеется, только последним.
Вот несколько цифр из этих прейскурантов, облегчавших имущим неровный путь к небесам. Индульгенция за клятвопреступление стоила 6 grossi, подделка документа — 7 grossi, за продажу должностей — 8 grossi, за воровство и грабеж — в зависимости от добычи, — чтобы иметь право оставить часть награбленного себе, надо было другую часть непременно уступить церкви. Убийство также стоило различно: за убийство отца, матери, брата, сестры, жены или кровного родственника платили (если убитый мужчина не принадлежал к церкви) 5 grossi, во втором случае — 7 grossi, кроме того, убийца должен был лично явиться в Рим. Противоестественная связь с матерью, сестрой, сыном стоила 5 grossi; аборт столько же; изнасилование — 6 grossi (так как оно было сопряжено с большим наслаждением).
онтраст между первоначальной задачей церкви и тем, что она представляла в XIV, XV и XVI столетиях, был огромный.
Иллюстрировать нравы католической церкви, наложившие в значительной степени свой отпечаток на публичную и частную нравственность эпохи Ренессанса, современными документами и характерными фактами очень нетрудно, гораздо труднее соблюсти в этом отношении меру.
Пословица — та монета, в которой народ ярче всего отчеканивает свои затаенные чувства, свои воззрения на вещи, свой опыт. Пословица — публичное обвинение народа-истца или публичный приговор народа-судьи. При этом как обвинение, так и приговор всегда основательны. Количество пословиц, в которых отражается известное явление, учреждение или историческое событие, уже само по себе важный критерий значения, которое имело это явление или учреждение для общих жизненных интересов народов и наций. Что же касается церкви эпохи Возрождения и господствовавших в ней нравов, то надо заметить, что в истории нравов всех народов ни одно явление не вдохновляло в такой степени творческий дух народа, ибо пословиц этих легион. Можно было бы изложить всю историю распада церкви как социальной организации в виде пословиц и поговорок. В этой главе мы поэтому еще чаще, чем прежде, будем пользоваться этой народной мудростью для характеристики исторической действительности.
Что процесс превращения церкви в единственное в своем роде торговое предприятие, орудие эксплуатации, в чем мы видели главную суть происшедшего переворота, ярко отразился со всеми его отдельными проявлениями в поговорках, это само собой понятно. «В Риме все продажно: boves et oves (быки и овцы, т. е. высшее и низшее духовенство)». «В Риме можно делать все, что угодно, только благочестие немного приносит пользы». Последствием всего этого является то, что «три вещи привозишь обыкновенно из Рима: нечистую совесть, испорченный желудок и пустой кошелек»..
Не клевета ли все это на католическую церковь? В подтверждение того, что оформленный в виде пословиц приговор народа-судьи был в самом деле справедливым, приведем один только факт — отпущение грехов. А индульгенция лучше всего характеризуется пресловутыми прейскурантами, издававшимися Папами уже с XII столетия: в них детально обозначалось, за сколько гульденов можно откупиться от совершенного злодеяния или. купить право на совершение задуманного преступления так, чтобы не отвечать ни перед небесным, ни перед земным правосудием; крупные мошенники интересовались, разумеется, только последним.
Вот несколько цифр из этих прейскурантов, облегчавших имущим неровный путь к небесам. Индульгенция за клятвопреступление стоила 6 grossi, подделка документа — 7 grossi, за продажу должностей — 8 grossi, за воровство и грабеж — в зависимости от добычи, — чтобы иметь право оставить часть награбленного себе, надо было другую часть непременно уступить церкви. Убийство также стоило различно: за убийство отца, матери, брата, сестры, жены или кровного родственника платили (если убитый мужчина не принадлежал к церкви) 5 grossi, во втором случае — 7 grossi, кроме того, убийца должен был лично явиться в Рим. Противоестественная связь с матерью, сестрой, сыном стоила 5 grossi; аборт столько же; изнасилование — 6 grossi (так как оно было сопряжено с большим наслаждением).

Папская любовница у врат чистилища. Немецкая карикатура
Беря деньги у всех и каждого, кто только их имел, церковь обирала и своих собственных слуг где и как только могла, не говоря уже о том, что они были обязаны делить со своим начальством все, что награблено из кармана народа. На первом плане стояла здесь «молочная десятина», как называли взимавшуюся церковью подать за схождение с женщиной (существовали, впрочем, и другие названия). Клирик должен был платить 7 grossi, а если он платил такую сумму ежегодно, то он получал право иметь постоянную наложницу. Священник, нарушивший тайну исповеди, платил 7 grossi, занимавшийся тайным ростовщичеством — столько же, кто хоронил тело ростовщика по церковному обычаю, платил даже 8 grossi; кто сходился с женщиной в церкви — только 6 grossi: подобные случаи бывали часто, и нельзя было слишком запугивать публику. Нет никакой возможности привести все цифры этого прейскуранта, более интересного, чем прейскуранты всех торговых фирм мира, пришлось бы исписать целые страницы, так как церковь ничего не забывала и из чувства справедливости делала самые тонкие разграничения. Например, изнасиловать женщину или девушку, возвращавшуюся из церкви, стоило дороже, чем изнасиловать ее на пути в церковь, потому что, возвращаясь из церкви, она была безгрешна и дьявол уже не имел на нее права. Лицом к лицу с такими порядками немудрено, если народ облек свой общий взгляд на Рим в следующие сжатые слова: «В Риме даже Святому Духу обрезали крылья», «Если существует ад, то Рим построен на нем» или «Когда выбирают Папу, то ни одного черта не застанешь у себя дома». Эти общие суждения опирались, разумеется, не только на ненасытную жажду денег, отличавшую римскую церковь, а, само собой понятно, и на обусловленные ею пороки, на пороки, которым богатство расчищало почву, доставляя клиру средства для их развития. Такими общераспространенными пороками были лень, глупость, грубость, хитрость, жажда наслаждений, разврат. Приведем отрывок из стихотворения немецкого поэта эпохи Возрождения Томаса Мурнера:
…И кто покуда не ослеп,
В монастырях узрит вертеп.
Пируют здесь прелаты,
Пороками богаты.
Где есть епископ иль аббат,
Царят бесчестье и разврат.
Что Библия, что Часослов?
Они разводят гончих псов.
И ниших подаянья
Идут на злодеянья.
Грошами бедняков полна,
Звенит церковная мошна.
Забыты паства и приход[123].

Бесчестность поповских любовниц
Так как речь шла о религиозной организации, с общим и авторитарным главою, то всякое возрастание монастырских владений означало, естественно, и возрастание всей сферы церковной власти. Безбрачие клира оказалось далее единственным средством отделить его от местных и частных интересов и сделать из него в руках Пап послушное иерархическое орудие. Отречение от целибата было бы для церкви равносильно отречению от возможности господства. Что первоначально было свободным решением, добровольно принятым в интересах данной организации, превратилось по мере того, как монастыри становились все более важным средством господства церкви, и особенно по мере того, как выгоды безбрачия все более обнаруживались в виде накопления значительных богатств, в категорический закон, которому все ордена должны были подчиняться. В XI столетии появились брачные законы Григория VII, запрещавшие также и священникам жениться. Принудительным законом становилось постепенно и когда-то добровольное воздержание, обет целомудрия был провозглашен величайшей добродетелью.

Иллюстрация к шванку. XVII в.
Однако кровь сильнее искусственных сооружений, и обуздать, поработить ее удалось только у части клира. Самые строгие указы и наказания оставались поэтому безрезультатными. Стали распространяться отвратительные, противоестественные пороки. В конце концов им служили совершенно открыто и так же открыто трактовали о них указы, направленные против них. На церковном соборе в Париже было постановлено следить за тем, чтобы «монахи и каноники не предавались содомии», чтобы «все подозрительные двери к спальням и другим опасным местам тщательно заделывались епископами», чтобы «монахини не спали на одной кровати» и т. д.
Любая вещь имеет два лица, и эти лица отнюдь не схожи одно с другим. Снаружи — как будто смерть, а загляни внутрь — увидишь жизнь, и, наоборот, под жизнью скрывается смерть, под красотой — безобразие, под изобилием — жалкая бедность, под позором — слава, под ученостью — невежество, под мощью — убожество, под благородством — низость, под весельем — печаль.Немецкий историк Блох отмечает: «…Кроме публичных флагеллянтов[124], в XIV и XV веках существовали многочисленные тайные секты бичевавших себя: братцы, бегарды и другие, у которых флагелляция постепенно приняла форму изощренного чувственного разврата и обнаруживала известные отношения к сатанизму. Впоследствии флагелляция скрывалась, главным образом, внутри монастырей, но отсюда распространялась и в светские круги, где проституция начиная с XVII века выработала из нее специальную систему, по многим своим деталям представляющую простое подражание монастырской "дисциплине".» Так как причина, вызвавшая подобные пороки, продолжала существовать, то все эти меры были действенны только в отдельных случаях. Вот почему делали все больше уступок, потому как в целибате речь шла не о принципиальном воздержании, а лишь, как было указано, об устранении той формы половых отношений, которая могла сократить источники доходов и сферу господства Папы. Отрицая за клиром право на брак, ему разрешали иметь наложниц. Такая уступка оказалась тем более благоразумной, что эксплуататорская тактика церкви сумела извлечь из нее, как мы видели, огромные выгоды. Перед главою церкви открылся новый богатый и неиссякавший источник доходов, так как большинство подобных индульгенций сбывалось клиру. Великие казуисты церкви немедленно же изобрели и подходящие формулы, примирявшие противоречие. Когда в XIV столетии снова вспыхнула борьба из-за вопроса о праве священников на брак и многие священники настаивали на возвращении этого права, то знаменитый и влиятельный французский церковный учитель Жерсон следующим образом оправдывал невоздержание монахов: «Нарушает ли священник обет целомудрия, удовлетворяя свою половую потребность? Нет! Обет целомудрия касается только отречения от брака. Священник, совершающий даже самые безнравственные поступки, не нарушает, стало быть, своего обета, если совершает эти поступки как неженатый»[125]. Жерсон только слегка ограничивал эту свободу священников: «Старайтесь делать это тайком, не в праздничные дни и не в священных местах и с незамужними женщинами». Аргументы Жерсона стали, так сказать, догматическими взглядами. Чего же еще? Так как приходилось спасать кошелек, которому угрожала опасность, то как было не рискнуть высокой ставкой. В конце концов изобрели еще причину, как будто бы оправдывавшую право на наложницу в интересах самих же верующих. В другом месте тот же Жерсон говорит: «Для прихожан является, конечно, большим соблазном, если священник имеет наложницу, но было бы для них еще большим соблазном, если бы он оскорбил целомудрие одной из своих прихожанок». Приведем стихи итальянского поэта эпохи Возрождения Пистойи:Эразм из Роттердама
— Ну что, какие новости, сосед?
— Последняя — из жизни Ватикана:
У Папы сын. Еще не слышал? Странно.
— А что сказал апостольский Совет?
— Что прецедентам много сотен лет
И это, мол, не оскорбленье сана.
— При наших бедах лишь кричать: осанна!
Прекрасное лекарство. Разве нет?
— Невероятно: пастырь делит ложе!..
— Однако у Петра была жена
И дочка. — От него? — А от кого же?
— Ай да святые! Вот тебе и на!..[126]

Сатира на распутство монахов и монахинь
Фанатики обыкновенно довольствовались требованием: «Если святая жизнь не по силам, то делайте по крайней мере свое дело тайком». Правда, требование это было давним и по этому поводу возникало больше всего протестов. На соборе в Павии в 1020 г. Папа Бенедикт VIII обвинял духовенство главным образом в том, что они грешили не caute (тайком), a publice et compatice — публично и демонстративно. Епископ Дамиани писал также в XI столетии: «Если бы священники предавались разврату тайком, то его можно было бы терпеть, но публичные содержанки, их беременные животы, кричащие дети — вот что не может не оскорблять церкви». Порой, правда, Папы чувствовали угрызения совести за свою снисходительность, и, объятые священным негодованием, они тогда повышали епитимьи, подати, которые должны были платить священники, жившие в незаконном браке, и притом повышали значительно. Такой священный гнев имел свои две хорошие стороны: он тяжелее карал грешников и обогащал церковную кассу. Распространенность среди духовенства конкубината (внебрачного сожительства) имела огромные размеры. Так как этот факт общеизвестен, то достаточно двух цитат. Тайнер сообщает: «Во время происходившей в 1563 г. ревизии монастырей пяти нижнеавстрийских наследственных провинций почти во всех были найдены наложницы, жены и дети. Так, девять монахов бенедиктинского монастыря Шоттен имели при себе семерых наложниц, двух жен и восемь человек произведенных ими на свет детей; восемнадцать бенедиктинцев в Гарстене имели двенадцать наложниц, двенадцать жен и двенадцать человек детей; сорок монахинь в Агларе — 19 детей и т. д.». О Баварии той же эпохи сообщают: «Во время последней ревизии в Баварии конкубинат оказался таким распространенным, что среди духовенства едва нашлось три или четыре человека, не имевших наложниц или не живших в тайном браке». Так как источники доходов церкви коренились в эксплуатации чужого труда, то конкубинат не служил только удовлетворению естественной потребности, что могло бы представить более высокую форму половых отношений, чем большинство чисто условных браков, а должен был выродиться повсеместно в систематизированный разврат. Это должно было случиться, притом очень рано, ибо такова была естественная логика. Уже в начале XII в. аббат Руперт из Дейца, недалеко от Кельна, сообщает: «Те из священников, которые воздерживаются от брака, так как он противоречит законам церкви, тем не менее отнюдь не ведут воздержанного образа жизни, напротив, они ведут себя тем хуже, что никакая супружеская связь не обуздывает их, и они тем легче могут переходить от одного предмета наслаждения к другому». Такова схема, сохранившаяся в продолжение столетий. В знаменитой нюрнбергской поэме «Торжество истины», появившейся приблизительно в 1520 г., говорится: «Если одному недостаточно одной, он возьмет себе двух или трех, смотря по желанию. Какая ему не понравится, ту он бросит, возьмет себе другую, скольких ему угодно». Нравственная разнузданность была, следовательно, правилом, обусловленным исторической ситуацией. Разнузданность же не знает ни границ, ни удержу. Ее стихия — разнообразие. Так сама собой она доходит всегда до оргии. Тысячи монастырей становились «очагами бесстыдства и всяческих пороков». Нигде культ Приапа и Венеры не был до такой степени распространен, «монахиня» и «проститутка» были часто синонимами. Одна пословица гласила: «Она монахиня или девка», другая: «Внизу девка, сверху святая», третья: «Когда поп ржет, монахиня открывает ворота». По мнению народа, с его столь своеобразной логикой, на свете вообще не существовало целомудренных монахинь[127]. «Были только три целомудренные монашки: одна убежала, другая утонула, третью все еще ищут». Монахи, по общему убеждению, занимаются только скверной, и занимаются ею при каждом случае[128]. Пословица говорила: «Монах должен держать кубок обеими руками, а то он будет под столом искать фартук». Масса монастырей были самыми бойкими домами терпимости. По этому поводу сложилось немало поговорок: «Августинка по ночам всегда хочет иметь на подушке две головы», «Во многих монастырях под постелью найдешь всегда пару разных туфель», «"Сорная трава растет во всех садах"— сказал приор, когда брат-монах увидел утром у него под кроватью женские башмаки». Тайный секретарь Буркхарт сообщает о Риме: «Почти все монастыри города стали вертепами». И то, что верно относительноРима, приложимо и ко всему христианскому миру. В Германии, Испании, Франции и, разумеется, в Италии было немало монастырей, в которых ни одна келья не оставалась без ночного посетителя, мужчины или женщины[129]. Во многих местностях монастыри были излюбленными гостиницами окрестного дворянства. Нигде бравый рыцарь не мог рассчитывать на более гостеприимный прием, нигде Венера не доставляла ему столько развлечения. Здесь гости веселились и безобразничали больше, чем в женском притоне, да к тому же заезжему гостю не приходилось ничего платить. От него требовали только силы, и в изрядной дозе, как сообщают многочисленные новеллы и шванки. Так как монастыри были часто самыми интересными домами веселья, то порой дворяне наезжали целыми ордами и оставались там несколько дней, чтобы насладиться танцами, игрой, музыкой и всеми дарами Венеры. Как нам известно из многих сообщений, монахини во время таких визитов соперничали с опытнейшими жрицами любви. В девяноста из ста случаев веселье завершалось общей оргией, падали все преграды, и желаниям не было удержу и помехи. Идеализаторы прошлого, спекулирующие на невежестве публики, объявили такие сообщения клеветой. Всякое отрицание совершенно бесполезно, ибо тот, кто хотя немного просмотрит исторические документы, хроники и сообщения, найдет на каждом шагу все новые подтверждения. Прочтите для примера хотя бы следующее письмо графа Эбергарта Вюртембергского, упрекающего сына за те бесчинства, которые он позволил себе в сообществе со своими дружинниками в женском монастыре в Кирхгейме: «Недавно ты приехал в Кирхгейм и устроил пляску в монастыре в два часа ночи, позволил и своим молодцам ночью войти в монастырь, а когда тебе и этих гнусностей было мало, ты пригласил еще и своего брата, и вы так плясали и так кричали, что даже если бы это происходило в доме терпимости, то и тогда было бы слишком». Такие же нравы царили и в женском монастыре в Сёфлингене около Ульма. Здесь устраивались такие бесчинства, что население наконец восстало и церковным властям пришлось волей-неволей вмешаться. Во время ревизии, предпринятой епископом Гаймбусом Кастельским, в кельях монахинь нашли немало писем весьма непристойного содержания, вторых ключей, изысканных светских костюмов, причем большинство монахинь были в «таком» положении. В циммернской хронике встречается аналогичное сообщение, также касающееся одного вюртембергского монастыря, который автор называет «домом терпимости дворянства», и нечто похожее мы узнаем из описания пожара, происшедшего в одном страсбургском монастыре. Очевидно, женские монастыри уже рано превратились в «дворянские дома терпимости», а монахи, по-видимому, были не очень довольны конкуренцией мирян. Такой вывод можно сделать из того факта, что монахиням выдавались своего рода премии, если они согрешили с клириком. Такой грех считался менее великим. Доказательством может служить следующее заявление магистра Генриха из ордена мендикантов (нищих) в Страсбурге. Документ относится к 1261 г.: «Если монахиня, поддавшаяся искушению плоти и человеческой слабости, нарушит обет целомудрия, то вина ее меньше и она заслуживает большего снисхождения, если отдается клирику, чем если согрешит с мирянином». Этот взгляд послужил также материалом для сатирической поэмы на латинском языке «Собор любви», относящейся к ХII в. Как бы там ни было, клирики никогда не оставались в дураках, тем более что, по общему убеждению, они отличались особенной одаренностью в делах любви[130]. Об этом единодушно толкуют все сатирики — Аретино, Рабле, авторы шванков. К ним присоединяются и поговорки: «Он силен, как кармелит[131]», или «Он развратен, как брат тамплиер[132]», или еще грубее: «Похотливые женщины чуют кармелита по платью», или «Истого капуцина[133] женщины чуют уже издали». Последствия развратной жизни монастырей должны были прежде всего сказаться в том, что «стены их оглашаются не столько псалмами, сколько детским криком». Поговорки отражают этот факт, который был слишком обычным: «"Странно, что черные куры несут белые яйца"— сказала монахиня, удивляясь, что ее ребенок не похож на черного бенедиктинца», «"Никто не застрахован от несчастья!" — сказала монахиня, родив близнецов». Поговорки подчеркивают, что явление это было именно обычным: «Женский монастырь без родильного приюта — то же, что крестьянский двор без стойла».

Сводник-монах и крестьянин. Немецкий рисунок. 1523 г.
Следующее последствие этого разврата носило уже более мрачный характер. В монастырях «грехом» также часто считали только рождение детей, тем более что оно было связано со всякими неудобствами. В женских монастырях процветали поэтому как детоубийство, так и аборт.
Нищенствовать тяжело
Тому, кто истинно в беде —
Противостать не смог нужде.
А дармоед, само собой,
Доволен нищенской судьбой.
Себастьян Брант

Голландская сатира на распутство клира
К эпохе Реформации относится сатирическое стихотворение, вложенное в уста высокого сановника с носом, изъеденным сифилисом и потому подлежащим операции. В этом стихотворении отмеченный печатью сифилиса сановник обращается с трогательной речью к своему носу. называет его «кардиналом, зеркалом всяческой мудрости, никогда не впадавшим в ересь, истинным фундаментом церкви, достойным канонизации» и выражает надежду, что «тот еще станет со временем Папой». В одном из своих знаменитых «Писем без назначения» — они были адресованы всему миру — Петрарка сделал правильную характеристику не только своего времени, но и будущего, говоря: «Грабеж, насилие, прелюбодеяние — таковы обычные занятия распущенных Пап; мужья, дабы они не протестовали, высылаются; их жены подвергаются насилию; когда забеременеют, они возвращаются им назад, а после родов опять отбираются у них, чтобы снова удовлетворить похоть наместников Христа». К этим, так сказать, «естественным» порокам присоединялись в не меньшем размере пороки противоестественные… Церковь нарушила бы свои священнейшие традиции, если бы не извлекла из этих пороков выгоду для себя. Как рассказывает голландский богослов Вессель, долго проживший в Риме, бывший другом Папы, те за известную плату разрешали и противоестественные пороки. Последние были настолько распространены среди высшего духовенства[137], что о них только и говорили в народе. И что они были весьма древнего происхождения, видно из того, что уже в XI в. епископ Дамиани облек их в целую систему в своем труде «Гоморрова книга». Все должно было быть подчинено порядку, даже и порок. В высшей степени характерны также и увеселения, бывшие в ходу при Папском дворе. Красивейшие куртизанки Италии нигде не были такими частыми гостьями, как на праздниках при Папском дворе или в кардинальских дворцах, и всегда составляли их наиболее блестящий центр. О пиршестве, устроенном одним кардиналом, говорится в письме, относящемся к эпохе Ренессанса, что в нем участвовало «больше испанских куртизанок, чем римских мужчин». Тон, господствовавший в этих кругах, достаточно характеризуют фацеции кардинала Поджо, и в особенности пьесы вроде «Calandro» кардинала Биббиены или еще более смелая «Mandragora» Макиавелли. Не то является самой важной чертой в галерее пороков, что высшие сановники церкви порой представляли олицетворение чудовищной нравственной испорченности, а то, что подобные нравы были типичны[138]. Они были типичны, потому что были логичны. Здесь, на вершинах церковной иерархии, в ее сосредоточии, и пороки, типичные для низшего клира, должны были стать единственным в своем роде грандиозным факелом, коптящий свет которого мрачно ложился на низины.

Злоупотребление исповедью
 ак как церковь как иерархическая организация в силу своей исторической ситуации никогда не представляла замкнутого в себе организма, а оказывала духовное и политическое влияние на весь христианский мир, то переживаемый ею процесс нравственного разложения неизбежно должен был заразить весь мир. Нравственная разнузданность клира должна была повлиять на нравы всего общества, на всю публичную нравственность мирян. В одном реформационном обвинительном сочинении против Папства можно найти подтверждение этого факта:
«Германия благодаря таким нравам перестала молиться и потеряла свое христианское благочестие. Разврат, инцест, клятвопреступничество, убийство, воровство, грабеж, ростовщичество и сонмище всех прочих пороков — таковы последствия».
Влияние это распространялось не только путем плохого примера, всегда стоявшего перед глазами толпы. Весьма понятно, что священники и монахи систематически злоупотребляли находившейся в их руках властью не только для того, чтобы эксплуатировать народ в экономическом отношении, но и для того, чтобы его поработить своим личным прихотям, своим чувственным удовольствиям. Похотливость монаха возбуждалась, естественно, не только при виде физических достоинств невест Христа[139], но и при виде пышного корсажа здоровенной крестьянки или хорошенькой мещанки[140]. «Не только тело монахинь вкусно», — воскликнул патер, протягивая свои руки к крестьянке. Вожделения монахов вспыхивали даже чаще и скорее лицом к лицу с женщинами из простонародья[141], так как ввиду исполняемых ими религиозных функций монахи чаще и ближе соприкасались с ними, чем с монахинями. К тому же здесь последствия их любовных похождений сопровождались для них меньшей опасностью или во всяком случае меньшими неудобствами. Если в интересном положении оказывалась жена крестьянина или бюргера, то виновник из духовенства мог и не заботиться о дальнейшем, так как истинной причиной мог считаться ее муж. По этой причине его священническая деятельность открывала ему здесь безграничные возможности наслаждения, которых он жаждал. Развратник клирик мог удовлетворять свои желания с десятками, даже с сотнями женщин.
Приведем отрывок из народной германской поэмы Ренессанса:
ак как церковь как иерархическая организация в силу своей исторической ситуации никогда не представляла замкнутого в себе организма, а оказывала духовное и политическое влияние на весь христианский мир, то переживаемый ею процесс нравственного разложения неизбежно должен был заразить весь мир. Нравственная разнузданность клира должна была повлиять на нравы всего общества, на всю публичную нравственность мирян. В одном реформационном обвинительном сочинении против Папства можно найти подтверждение этого факта:
«Германия благодаря таким нравам перестала молиться и потеряла свое христианское благочестие. Разврат, инцест, клятвопреступничество, убийство, воровство, грабеж, ростовщичество и сонмище всех прочих пороков — таковы последствия».
Влияние это распространялось не только путем плохого примера, всегда стоявшего перед глазами толпы. Весьма понятно, что священники и монахи систематически злоупотребляли находившейся в их руках властью не только для того, чтобы эксплуатировать народ в экономическом отношении, но и для того, чтобы его поработить своим личным прихотям, своим чувственным удовольствиям. Похотливость монаха возбуждалась, естественно, не только при виде физических достоинств невест Христа[139], но и при виде пышного корсажа здоровенной крестьянки или хорошенькой мещанки[140]. «Не только тело монахинь вкусно», — воскликнул патер, протягивая свои руки к крестьянке. Вожделения монахов вспыхивали даже чаще и скорее лицом к лицу с женщинами из простонародья[141], так как ввиду исполняемых ими религиозных функций монахи чаще и ближе соприкасались с ними, чем с монахинями. К тому же здесь последствия их любовных похождений сопровождались для них меньшей опасностью или во всяком случае меньшими неудобствами. Если в интересном положении оказывалась жена крестьянина или бюргера, то виновник из духовенства мог и не заботиться о дальнейшем, так как истинной причиной мог считаться ее муж. По этой причине его священническая деятельность открывала ему здесь безграничные возможности наслаждения, которых он жаждал. Развратник клирик мог удовлетворять свои желания с десятками, даже с сотнями женщин.
Приведем отрывок из народной германской поэмы Ренессанса:
…Явился к повару монах:
«Давай скорей обедать!
Что в четырех торчать стенах?
Хочу швею проведать!»
Вот он поел да побежал,
Плененный белой шейкой.
Всю ночь в постели пролежал
С красоткой белошвейкой…[142]

Голландская сатира на злоупотребление исповедью
И однако, в исповедальне проходили не одни только воображаемые оргии. Порабощенные властью церкви над душами, миллионы женщин лишались не только духовного, но и физического целомудрия. Нигде так легко не усыплялась совесть, не устранялись сомнения: ведь священнику было достаточно объявить грех своей жертвы — добродетелью. Сотни тысяч невежественных женщин были искренно убеждены, что совершают Богу угодное дело, охотно исполняя самые дикие прихоти исповедника. Смелая новелла Боккаччо о пустыннице Алибек — классическая сатира на подобное состояние нравов. Исповедальни многих церквей были самыми гнусными алтарями, которые когда-либо человечество воздвигало в честь Приапа и Венеры. Достаточно убедительным доказательством служит то обстоятельство, что даже и церковь не вытерпела и решила вмешаться соответствующими указами. В 1322 г. на Оксфордском соборе священникам было запрещено «выслушивать исповедь женщин в темных местах». Триста лет спустя, в 1617 г., архиепископ Камбрейский постановил, что «исповеди женщин должны приниматься не в сакристии, а на свободном месте в церкви» и что «в случае темноты должны зажигаться свечи». Таким путем надеялись сократить, по крайней мере в пределах храма, слишком откровенные и излюбленные по отношению к женщинам приемы «отпущения грехов и благословения». Само собой понятно, что подобные указы мало чем улучшили дело, так как исповедник имел право пригласить исповедующихся в свою квартиру или свободно мог сам заявиться к ним на дом: его визит всегда считался честью[143]. Комедия, начатая в исповедальне, разыгрывалась здесь до конца с большими или меньшими в зависимости от обстоятельств удобствами. Так как бывали исповедальни, где Приапу и Венере поклонялись более дерзко, чем в самом бойком доме терпимости, то существовало столько же общин, где не только все зрелые девушки, но и вообще все женщины, обладавшие еще хотя намеком на красоту, без исключения принадлежали к гарему священника. В таких местностях матери часто качали на руках детей, обязанных своим существованием только активному участию, которое духовный пастырь принимал в благе своих прихожанок. В масленичной пьесе «О сельских жителях» говорится: «Да убьет тебя град за то, что ты так лжешь. Я просто хотел тебя пощадить в глазах твоих друзей и потому скрыл, что твоя сестра имеет уже по крайней мере трех детей от попа». В своей «Neue Apologia und Verantwortung Martini Luthers 1523» Кеттенбах пишет о результатах исповеди: «Первый плод, происходящий от исповеди, есть плод утробы, ибо таким путем родилось немало славных детишек, именуемых незаконными. Они родились от святого исповедника и исповедниц-дочерей. Когда муж бесполезен, помочь должен исповедник. Бывает так, что исповедник зараз утешает тридцать. О, мужчина, ты дурак, ведь они совращают твою жену, дочь и служанку». В уже упомянутом сочинении братьев Тейнер между прочим говорится: «Ансимиро, августинский монах, отшельник в Падуе, обесчестил почти всех своих исповедниц. Когда его обвинили и он должен был назвать изнасилованных, он перечислил имена многих девушек и женщин самых знатных семейств города, и среди них жену секретаря, который допрашивал его. В Брешии священник научал женщин, исповедовавшихся ему, что они обязаны платить ему десятину также и с их супружеских обязанностей». Где слово и жесты оказывались неубедительными, прибегали к хитрости, а где и она была безуспешна — к насилию. Многие тысячи женщин подвергались насилию[144] в ризнице, в доме священника, в собственной квартире или даже в исповедальне. Гейлер из Кайзерсберга предъявляет к своим собратьям по сословию следующий обвинительный акт: «Ты грешил с публичными женщинами, обманывал девушек, насиловал вдов и жен и связывался с исповедницами. Я уже не говорю о бесстыдстве, с которым ты нарушал святость брака, я не говорю и о том бесстыдстве, за которое тебя следовало бы сжечь». История каждого города дает об этом столько материала, что можно было бы наполнить целую книгу. В этом бесконечном триумфальном шествии порока имели бы свое место все классы общества, как и все ступени церковной иерархии. На мягких епископских ложах покоились, добровольно или вынужденно, прекрасные дамы из аристократии и бюргерства, на суровом ложе в узкой келье отшельника — дочери народа[145]. Народная поговорка: «Впусти монаха в дом, он войдет в комнату, впусти его в комнату, он полезет в постель» — столь же неопровержима, как десять аксиом математики, ибо подкрепляется тысячью достоверных фактов. Такой же опыт вынес народ из более близкого знакомства с монастырями: «Священник говорит: я люблю свое стадо, но овечек больше козлищ». Так же рассуждали и монахи и доказывали это усерднейшим образом на практике. «Кто пошлет жену в монастырь, получит все, что ему нужно, да сверх того еще ребенка». Монастырских служанок, естественно, часто ожидала та же судьба. Если в мужских монастырях совращались жены мещан и крестьян, то в женских их нередко сводили. В циммернской хронике не без основания говорится: «Благоразумный человек не отпустит своей благочестивой жены и своих дочерей в женский монастырь, а оставит их у себя, ибо женские монастыри могут научить лишь очень плохому». Хронист подчеркивает: «очень» плохому. В конце средних веков и в эпоху Ренессанса большинство монастырей были отнюдь не святынями, где занимались постом, умерщвлением плоти и молитвами, а местами, где вовсю наслаждались жизнью. Если уже будни в таких монастырях представляли отнюдь не жизнь, полную лишений, то тем более праздники, а в монастырях было достаточно причин отмечать праздники. Их праздновали — как еще теперь в деревне — пьянством, едой, музыкой и пением и, конечно, пляской. Танец имеет смысл только тогда, когда мужчина пляшет с девицей, — танец, в котором участвуют одни только мужчины, смешон! — в девицах поэтому никогда не было недостатка. Не было недостатка еще в одном: редко участницы вечеров уходили не обласканными. В тишине кельи им убедительнейшим образом доказывалось, что «ряса отнюдь не умерщвляет плоть». Гейлер из Кайзерсберга знал это по собственному опыту и, быть может, имел в виду этот свой опыт, когда писал: «Если в день ярмарки, да и в другое время женщины посещают монастыри и пляшут с монахами, а потом уединяются с ними в кельях, то это явный позор и этого бы не следовало допускать. В мужских монастырях не должно быть места женщинам. Многие женщины входят в монастырь порядочными, а выходят — девками». Если веселье ограничивалось этим, то это было еще ничего. Бывало и хуже. Порой случай, этот услужливый помощник, гасил лучину, и тогда не нужно было уже звать друга или подругу в уединенную келью или потаенный уголок «прочесть вдвоем веселое "Отче наш"». В циммернской хронике можно прочесть, как однажды гостившие в женском монастыре дворяне «отпустили» таким образом «грехи» падким до любви монахиням. Ввиду подобных фактов такие поговорки, как «Уже одна тень монастырской колокольни плодовита» или «В тени монастыря все гибнет, только женщины становятся плодовиты», такие поговорки, в которые народ верил, как в Евангелие, были не чем иным, как несколько преувеличивающей и потому лишь резче подчеркивающей суть дела характеристикой действительности.

Папесса Иоанна рожает на улице. Немецкая сатирическая ксилография
Если все многочисленные известные нам попытки возмущения народа против погрязших в пороках церковнослужителей не привели в большинстве случаев к победе, достигая в лучшем случае лишь частичных успехов, то не потому, что народное возмущение было недостаточно велико, а или потому, что церковь успела стать союзницей могущественных господствующих классов, или потому, что, как в Италии, почти весь экономический базис жизни покоился на прочном господстве церкви. Лицом к лицу с такими причинами тщетной оказывалась даже высочайшая степень нравственного возмущения. А там, где вдохновляемое нравственным негодованием народное возмущение достигало в самом деле существенных результатов, это опять-таки происходило по тем же экономическим причинам. В этих случаях победа над приматом церкви стала в такой же степени насущным жизненным интересом данных стран. Это в особенности касается Германии, потому здесь в большей степени, чем в других странах, практическая мораль церкви перестала, начиная с XVI в., влиять на общественную нравственность. Часто церковь воспринималась как место для любовных встреч, светского общения. Голландский историк Йохан Хейзинга сообщает: «…Не было недостатка в возможностях, которые церковная служба предоставляла влюбленному: подать возлюбленной святой воды, предложить ей "рак" зажечь ей свечу, опуститься рядом с ней на колена, не говоря уже о разного рода знаках и взглядах украдкой. В поисках знакомств заходят в церковь гулящие женщины. А в праздники в храмах даже продают непристойные гравюрки, развращающие молодежь, и злу этому не могут помочь никакие проповеди. Не раз и храм и алтарь оскверняются всяческими непристойностями… В церковь ходят покрасоваться своими нарядами, кичась друг перед другом положением и званием, манерами и учтивостью… Стоит какому-нибудь юноше войти в храм, как знатная дама, встав, целует его в губы, даже если в этот момент священник освящает дары и все прихожане молятся, преклонив колена. Переговариваться и слоняться по храму во время мессы почти что вошло в привычку. Церковь сделалась обычным местом свиданий, куда молодые люди приходили поглазеть на девиц… В праздники ходят на богомолье в отдаленные храмы, к святым местам не столько во исполнение обета, сколько для того, чтобы облегчить себе пути к заблуждениям. Это источник множества прегрешений; там, в святых местах, неизменно находятся гнусные сводни, кои прельщают девиц». «…Молодежь редко посещает церковь, — восклицает Никола де Клеманж, — да и то лишь затем, чтобы пялить глаза на женщин, щеголяющих причудливыми прическами и не скрывающих декольте… По праздникам к мессе отправляются лишь немногие. Они не дослушивают ее до конца и довольствуются тем, что едва коснутся кончиками пальцев святой воды, преклонят колено пред Богородицей или приложатся к тому или иному образу. Если же они дождутся момента, когда священник возносит св. дары, они похваляются так, словно оказали величайшее благодеяние самому Иисусу Христу. Заутреню и вечерню священник совершает большею частью только с прислужником, прихожане отсутствуют. Местный сеньор, патрон деревенской церкви, преспокойно заставляет священника ждать, не начиная мессы, покамест он и его супруга не встанут и не оденутся». Церковные праздники, включая Сочельник, проходят среди необузданного веселья, с игрою в карты, бранью и сквернословием; в ответ на увещевания люди ссылаются на то, что знатные господа, попы и прелаты без всяких помех делают то же самое. На всенощных, накануне праздников, в церквах даже пляшут с непристойными песенками, а священники, подавая пример, во время ночных бдений играют в кости и сыплют проклятиями. Таковы свидетельства моралистов, которые, возможно, склонны были видеть все в черном свете. Однако сей мрачный взгляд не единожды подтверждается документами. Городской совет Страсбурга распорядился выдавать ежегодно 1100 литров вина тем, кто проведет в соборе ночь св. Адольфа «в бдении и молитве». Дионисий Картузианец приводит жалобу члена городского магистрата на то, что ежегодная процессия, которая проходит через город со священной реликвией, дает повод к бесчисленным безобразиям и пьянству.

Фрагменты
Фрагмент 35. Джованни Боккаччо. «Декамерон»
«День I. Новелла IV Один монах, впав в грех, достойный тяжкой кары, искусно уличив своего аббата в таком же проступке, избегает наказания. …Был в Луниджьяне, области недалеко отсюда отстоящей, монастырь, более богатый святостью и числом монахов, чем теперь; в числе прочих был там молодой монах, силу и свежесть которого не могли ослабить ни посты, ни бдения. Однажды в полдень, когда все остальные монахи спали, а он один бродил вокруг своей церкви, находившейся в очень уединенном месте, он случайно увидел очень красивую девушку, быть может, дочь какого-нибудь крестьянина, которая ходила по полям, сбирая травы. Едва увидел он ее, как им страшно овладело плотское вожделение; поэтому, приблизившись к ней, он вступил с нею в беседу, и так пошло дело от одного к другому, что он, стакнувшись с нею, повел ее в свою келью, так что никто того и не заметил. Пока, увлеченный слишком сильным вожделением, он баловался с нею, не особенно остерегаясь, случилось, что аббат, восстав от сна и проходя тихо мимо кельи, услышал шум, который они вдвоем производили. Чтобы лучше различить голоса, он осторожно подошел к двери кельи с целью прислушаться, распознал ясно, что внутри была женщина, и у него явилось искушение — велеть отворить себе; но затем он намыслил другой способ действия и, вернувшись в свою комнату, стал поджидать, пока монах выйдет. Монах же, хотя и отдавался величайшему наслаждению и удовольствию с той женщиной, не оставлял тем не менее и подозрений, и, так как ему послышалось шарканье ног в дормитории, он, приложив глаз к небольшой щели, увидел как нельзя более ясно, что аббат подслушивает, и отлично понял, что он мог дознаться о присутствии девушки в его келье. Зная, что за это ему последует большое наказание, он сильно опечалился; тем не менее, ничего не показав о своем горе девушке, он быстро сообразил многие средства, изыскивая, не найдется ли какое-нибудь для него спасительное; и пришла ему на ум необычайная хитрость, которая и привела прямо к задуманной им цели. Сделав вид, что он уже достаточно пробыл с той девушкой, он сказал ей: «Я пойду посмотрю, как тебе выйти отсюда незамеченной; потому сиди смирно, пока я не вернусь». Выйдя из кельи и заперев ее на ключ, он прямо отправился в покой аббата и, вручив ему ключ, как то делали, уходя, все монахи, с покойным видом сказал: «Мессер, сегодня утром я не успел велеть доставить все дрова, какие распорядился нарубить; потому, с вашего позволения, я пойду в лес и прикажу их привезти». Аббат, желая в точности разведать о проступке монаха и полагая, что он не догадался, что был им усмотрен, обрадовался такому случаю, охотно принял ключ и дал разрешение. Когда он увидел, что монах ушел, он принялся размышлять, как ему лучше поступить: отпереть ли келью в присутствии всей братии и обнаружить проступок, дабы потом у них не было повода роптать на него, когда он накажет монаха; либо наперед узнать от девушки, как было дело. Сообразив сам с собою, что то могла быть такая женщина либо дочь такого человека, которой он не желал бы учинить стыда, показав ее всем монахам, он решился наперед посмотреть, кто она, а затем и решиться на что-нибудь. Тихо направившись к келье, он отпер ее и, войдя, запер дверь. Увидев аббата, девушка, вся растерянная, боясь посрамления, пустилась в слезы, а отец аббат, окинув ее глазами и увидев, что она красива и молода, хотя и был стар, внезапно ощутив не меньше позывы плоти, чем молодой монах, начал так про себя рассуждать: «Почему бы мне не отведать удовольствия, когда я могу добыть его? А неприятности и досады ведь всегда наготове, лишь бы захотеть. Она девушка красивая, и что она здесь, никто в мире того не ведает; если мне удастся уговорить ее послужить моей утехе, я недоумеваю, почему бы мне того не сделать? Кто об этом узнает? Никто не узнает и никогда, а скрытый грех вполовину прощен. Такого случая, быть может, никогда не представится, и я полагаю великую мудрость в том, чтобы воспользоваться благом, коли Господь пошлет его кому-нибудь». Так говоря и совершенно изменив намерению, с каким отправился, он приблизился к девушке, принялся тихо утешать ее, прося не плакать; так, от слова к слову, он дошел до того, что открыл ей свои желания. Девушка была не из железа и не из алмаза и очень легко склонилась на желание аббата. Обняв и поцеловав ее много раз, он взобрался на постель монаха и, взяв во внимание почтенный вес своего достоинства и юный возраст девушки, а может быть, боясь повредить ей излишней тяжестью, не возлег на нее, а возложил на себя и долгое время с нею забавлялся. Монах, будто бы ушедший в лес, скрылся в дормитории и, как только увидел, что аббат один вошел в келью, совершенно успокоился, полагая, что его расчет будет иметь свое действие; увидев, что аббат заперся, он счел, что действие будет вернейшее. Выйдя из того места, где он обретался, он тихо подошел к щели, через которую слышал и видел все, что говорил либо делал аббат. Когда аббату показалось, что он достаточно пробыл с девушкой, он запер ее в келье и вернулся в свою комнату; спустя некоторое время, услышав шаги монаха и полагая, что он вернулся из леса, он решил сильно пожурить его и приказать заключить, дабы одному владеть доставшейся добычей, велев позвать его, он строго и с грозным видом побранил его и распорядился, чтобы его заперли в тюрьму. Монах тотчас же возразил: «Мессер, я еще недавно состою в ордене св. Бенедикта и не мог научиться всем его особенностям, а вы еще не успели наставить меня, что монахам следует подлежать женщинам точно так же, как постам и бдениям. Теперь, когда вы это мне показали, я обещаю вам, коли вы простите мне на этот раз, никогда более не грешить этим, а всегда делать так, как, я видел, делали вы». Аббат, человек догадливый, тотчас постиг, что монах не только более смыслит в деле, но и видел все, что он делал; потому, угрызенный сознанием собственного проступка, он устыдился учинить монаху то, что сам, подобно ему, заслужил. Простив ему и наказав молчать о виденном, вместе с ним осторожно вывел девушку, и, надо полагать, они не раз приводили ее снова». Перевод А. Н. Веселовского. (Цитируется по изданию: Джованни Боккаччо. Декамерон. М., 1999.)Фрагмент 36. Джованни Боккаччо. «Декамерон»
«День III. Новелла I Мазетто из Лампореккьо, прикинувшись немым, поступает садовником в обитель монахинь, которые все соревнуются сойтись с ним. …В наших местах был и еще существует женский монастырь, весьма славившийся своею святостью (я не называю его, дабы не умалить чем-либо его славы), в котором не так давно, когда там было не более восьми женщин с аббатисой, и все молодые, жил один добрый малый, ходивший за их прекрасным огородом; недовольный своим жалованьем, он, сведя счеты с управляющим монастыря, вернулся в Лампореккъо, откуда был родом. Здесь в числе прочих, дружественно его встретивших, некий молодой крестьянин, сильный и здоровый и, для крестьянина, красивый, по имени Мазетто, спросил его, где он так долго был. Добрый малый, которого звали Нуто, объяснил ему. Мазетто спросил: какую службу он нес в монастыре? На это Нуто ответил: «Я ходил за их прекрасным, большим садом, да, кроме того, ходил иногда в лес по дрова, доставал воду и справлял другие такие же службишки; но монахини давали мне так мало жалованья, что мне едва хватало на башмаки. К тому же все они молоды, и у них точно черт сидит в теле: ничего по их не сделаешь; например, бывало, работаю в саду, одни говорят: положи сюда это, другие: положи сюда вот то; иная брала у меня из рук лопату и говорила: это неладно. Так они мне надоедали, что я кидал работу и уходил из сада; так вот, по той и другой причине я и не захотел более оставаться там и пришел сюда. Да еще просил меня их управляющий, когда я уходил, что, если у меня будет под рукою кто-нибудь годный на это дело, я направил бы к нему, я и обещал; но пошли ему Господь здоровую поясницу, если найду ему или пошлю кого-нибудь». У Мазетто, пока он слушал речи Нуто, явилось в душе столь сильное желание попасть к тем монахиням, что он совсем истомился, поняв из слов Нуто, что ему удастся сделать то, чего он желал. Сообразив, что это не устроится, если он ничего не ответит Нуто, он сказал: «И хорошо ты сделал, что ушел! Разве мужское дело жить с бабами? Лучше жить с дьяволами: из семи раз шесть они не знают, чего сами хотят». Но едва окончилась их беседа, как Мазетто принялся обдумывать, какого способа держаться, чтобы ему можно было пробраться к ним; зная, что он хорошо сумеет справиться с той обязанностью, о которой говорил Нуто, он не сомневался, что из-за этого ему не откажут, но боялся, что его не примут, потому что он был слишком молод и видный собою. Потому, поразмыслив о многом, он надумал: «До того места очень далеко отсюда, и никто там меня не знает; я умею притворяться немым и, наверно, буду там принят». Остановившись на этой мысли, с топором на плече, никому не сказав, куда он идет, он под видом бедняка отправился в монастырь. Придя туда, вошел и случайно встретил на дворе управляющего, которому показал знаками, как то делают немые, что просит у него поесть Бога ради, а он, коли нужно, нарубит ему дров. Управляющий охотно покормил его и затем повел его к колодам, которые Нуто не сумел расколоть, а этот, будучи очень сильным, в короткое время все расколол. Управляющий, которому надо было пойти в лес, повел его с собою и здесь велел нарубить дров, затем, поместив впереди осла, показал знаками, чтобы он повез дрова домой. Тот все это отлично исполнил; тогда управляющий удержал его на несколько дней для некоторых работ, в которых ему была надобность. В один из этих дней увидела его аббатиса и спросила управляющего, кто он такой. Тот сказал ей: «Мадонна, это бедняк, немой и глухой, пришедший сюда недавно за милостыней, я его ублаготворил и заставил его сделать многое, что было нужно. Если б он умел работать в саду и пожелал бы остаться здесь за плату, мы нашли бы в нем хорошего слугу, а нам такой надобен; он же силен, и можно его употреблять на что угодно; к тому же нечего было бы опасаться, что он станет баловаться с вашими девицами». На что аббатиса сказала: «В самом деле, ты прав, узнай-ка, умеет ли он работать, и постарайся удержать его у нас; дай ему пару каких-нибудь башмаков, какой-нибудь старый плащ, приласкай и приголубь его и накорми хорошенько». Управляющий сказал, что исполнит это. Мазетто, бывший неподалеку, показывая вид, что метет двор, слышал все эти речи и весело говорил про себя: «Если вы пустите меня сюда, я так обработаю ваш сад, как еще никогда в нем не работали». Когда управляющий увидел, что он отлично умеет работать, и знаками спросил его, желает ли он здесь остаться, а тот знаками же отвечал, что готов исполнить, что ему угодно — управляющий, приняв его, велел ему работать в саду и показал, что ему надлежит делать; затем ушел по другим монастырским делам, а его оставил. Когда он стал работать, день за днем, монахини начали приставать к нему и издеваться над ним, как иные часто делают с немыми, и говорили ему самые неприличные слова на свете, не ожидая, что он их услышит; а аббатиса, предполагавшая, вероятно, что он без хвоста, как и без языка, мало или вовсе о том не заботилась. Случилось между тем, что, когда он однажды отдыхал, много поработав, две молодые монашенки, ходя по саду, подошли к месту, где он был, и принялись разглядывать его, притворившегося спящим. Потом одна из них, несколько более смелая, сказала другой: «Если бы я была убеждена, что могу тебе довериться, я высказала бы тебе мысль, которая приходила мне не раз, а быть может, и тебе пришлась бы на пользу». Та отвечала: «Говори, не бойся, ибо я наверно никому и никогда о том не скажу». Тогда смелая начала: «Не знаю, думала ли ты когда, насколько нас строго держат и что сюда не смеет войти ни один мужчина, кроме старика управляющего да этого немого; а я много раз слышала от женщин, приходивших к нам, что все другие сладости в свете пустяки в сравнении с той, когда женщина имеет дело с мужчиной. Потому я несколько раз задумывалась, коли не могу с другим, попытать с этим немым, так ли это. А для этого дела лучше его нет на свете, ибо, если бы он и захотел, не мог бы и не сумел бы о том рассказать: видать, что это глупый детина, выросший не по уму. Я охотно послушала бы, что ты на это скажешь». — «Ахти мне! — сказала другая. — Что это ты такое говоришь? Разве ты не знаешь, что мы дали Богу обет в своей девственности?» — «Эх! — отвечала та, — сколько вещей обещают ему за день и ни одной не исполняют; коли мы обещали ее ему, найдется другая или другой, которые этот обет исполнят». На это ее подруга сказала: «А что, если ты забеременеешь, как тогда быть?» Тогда та ответила: «Ты начинаешь задумываться о беде прежде, чем она тебя посетила; если это случится, будет время подумать, будут тысячи средств устроить так, что об этом ничего никогда не узнают, если мы сами не проговоримся». Услышав это, другая, у которой явилось еще большее желание испытать, что такое за животное — мужчина, сказала: «Ну, хорошо, как же нам быть?» На это та ответила: «Ты видишь, что теперь около девяти часов, я думаю, что все сестры спят, кроме нас; поглядим-ка по саду, нет ли кого, и, если нет, как нам иначе устроить, как не взять его за руку и повести в тот шалаш, где он прячется от дождя? Там пусть одна останется с ним, а другая будет настороже. Он так глуп, что приладится ко всему, что мы захотим». Мазетто слышал все эти рассуждения и, готовый к услугам, ничего иного не ожидал, как чтобы одна из них взяла его за руку. Хорошенько все осмотрев и увидев, что их ниоткуда нельзя увидать, та, что первая начала эти речи, подошла к Мазетто, разбудила его, и он тотчас встал на ноги; потом, взяв его, с ласковым видом, за руку, повела его, разражавшегося дурацким смехом, в шалаш, где Мазетто, не заставив себя долго приглашать, совершил, что она хотела. Она же, как честная подруга, получив, чего желала, уступила место другой, а Мазетто, все представляясь простаком, исполнял их желание. Поэтому, прежде чем уйти, каждая захотела испытать свыше одного раза, каков наездник их немой; впоследствии, часто рассуждая друг с другом, они говорили, что действительно это такая приятная вещь, как они слышали, и даже более, и, выбирая время, в подходящие часы ходили забавляться с немым. Случилось однажды, что одна их подруга, заметив это дело из окошка своей кельи, указала на него другим. Вначале они сговаривались вместе обвинить их перед аббатисой; затем, переменив намерение и стакнувшись с ними, сами стали участницами силы Мазетто. К ним по разным поводам присоединились в разное время и три остальных. Наконец, аббатиса,еще не догадывавшаяся об этом деле, гуляя однажды совсем одна по саду, когда жара была большая, нашла Мазетто (которому, при небольшой работе днем, много доставалось от усиленных поездок ночью) совершенно растянувшегося и спавшего в тени миндального дерева; ветер поднял ему платье спереди назад, и он был совсем открыт. Когда она увидела это, зная, что она одна, вошла в такое же вожделение, в какое вошли и ее монахини; разбудив Мазетто, она повела его в свою горницу, где, к великому сетованию монахинь, что садовник не является обрабатывать огород, держала его несколько дней, испытывая и переиспытывая ту сладость, в которой она прежде привыкла укорять других. Наконец, когда она отослала его из своей горницы в его собственную и очень часто желала видеть его снова, требуя, кроме того, более, чем приходилось на ее долю, а Мазетто был не в силах удовлетворить стольких, он решил, что роль немого, если бы он в ней дольше остался, была бы ему в большой вред. Потому однажды ночью, когда он был с аббатисой, он, разрешив свое немотство, начал говорить: «Мадонна, я слышал, что одного петуха совершенно достаточно на десять кур, но что десять мужчин плохо или с трудом удовлетворят одну женщину, тогда как мне приходится служить девяти, чего я не в состоянии выдержать ни за что на свете; напротив, благодаря тому, что я совершал дотоле, я дошел до того, что не в состоянии сделать ни мало, ни много; потому либо позвольте мне удалиться с богом, либо найдите средство устранить это». Услышав его говорящим, аббатиса, считавшая его немым, совсем обомлев, сказала: «Что это такое? Я думала, что ты нем». — «Мадонна, — сказал Мазетто, — я и был таковым, но не от природы, а по болезни, отнявшей у меня язык, и это первая ночь, что я чувствую, что он вернулся ко мне, за что по мере сил прославляю Бога». Аббатиса поверила ему и спросила, что значит, что ему приходится служить девятерым. Мазетто рассказал ей, в чем дело. Услышав это, аббатиса догадалась, что нет у ней монахини, которая не была бы много ее умнее; потому, как женщина рассудительная, не отпустив Мазетто, она решила уладиться со своими монахинями относительно этих дел, дабы монастырь не был опозорен Мазетто. Так как в ту пору умер их управляющий, они, открывшись друг другу в том, что все они перед тем совершали, с общего согласия и с согласия Мазетто устроили так, что соседи поверили, будто их молитвами и по милости святого, которому посвящен был монастырь, возвращена была речь долго немотствовавшему Мазетто, которого они сделали своим управляющим и так распределили его работу, что он мог ее переносить. И хотя ею он произвел на свет много монашков, дело велось так осторожно, что о нем услышали лишь по смерти аббатисы, когда Мазетто был уже почти стариком и пожелал воротиться домой богатым человеком; когда это дело узналось, оно все ему облегчило. Таким-то образом вернулся Мазетто старым отцом семейства и богачом, не имея нужды ни кормить детей, ни тратиться на них, успев благодаря своей догадливости хорошо воспользоваться своей молодостью; вернулся богачом туда, откуда вышел с топором на плече». Перевод А. Н. Веселовского. (Цитируется по изданию: Джованни Боккаччо. Декамерон. М., 1999.)Фрагмент 37. Маргарита Наваррская. «Гептамерон»
«День VIII. Новелла LXXII Исполняя последний долг милосердия и предавая покойника земле, монах совершил грех с монахиней, и она от него забеременела. …Однажды в больнице умирал какой-то бедняк, и все монахини собрались у его постели. И после того как были испробованы все средства, чтобы его спасти, послали за одним из монахов, чтобы тот его исповедовал. Но, видя, что умирающий слабеет, ему и без исповеди дали причастие. Говорить он уже больше не мог. А так как он все еще был жив и, казалось, все слышал, каждая из монахинь старалась сказать ему что-нибудь хорошее. Но в конце концов им это надоело, и, видя, что совсем стемнело и час уже поздний, они одна за другою отправились спать. И возле умирающего остались одна из самых молодых монахинь и монах, которого все боялись больше, чем самого приора, ибо как речи его, так и жизнь были очень суровы. И после того как монах громко прокричал над самым ухом несчастного молитву, оба они увидели, что тот уже не дышит. И они завернули его в саван, — и, выполнив свой последний долг милосердия, монах стал говорить о том, сколь суетна человеческая жизнь и сколь блаженна смерть. Было уже за полночь. Бедная девушка внимательно слушала благочестивые речи и со слезами на глазах взирала на монаха. И тому так по душе пришелся этот взгляд, что, говоря о загробной жизни, он принялся вдруг обнимать ее, как будто хотел в объятиях своих унести ее прямо в рай. Бедная девушка, которая, внимая его речам, была уверена в том, что благочестие его беспримерно, не смела отклонить его ласку. Нечестивый монах это заметил и, продолжая свои благочестивые поучения, совершил над нею то, что обоим им в этот миг внушил дьявол, ибо до этой минуты между ними никогда ничего подобного не бывало. И он уверил несчастную, что грех, совершенный втайне, не наказуется Богом и что мужчины и женщины, не соединенные узами брака, нисколько не оскорбляют Творца, если дело это не предалось огласке; и для того, чтобы никто не узнал о том, что случилось, строго-настрого наказал ей исповедоваться только у него одного. На этом они и расстались. Она ушла первая, и, когда она проходила через капеллу Божьей Матери, ей захотелось помолиться. И, начав шептать: «Пресвятая Дева», — она вдруг вспомнила, что уже потеряла девственность и что никто ее не насиловал, а склонил ее к этому только нелепый страх, и она принялась так плакать, что ей казалось, что сердце ее рвется на части. Услыхав издалека ее тяжкие вздохи, монах догадался, что она все поняла и раскаивается и что теперь ему уже не придется тешиться с нею. И, чтобы не дать этим мыслям овладеть ею, он подошел к девушке, простертой перед статуей Божьей Матери, и стал строго ее отчитывать. И сказал, что если ее мучит совесть, то пусть она исповедуется перед ним; если же нет, то пусть она больше об этом не вспоминает, ибо он всегда может сделать так, что грех ей простится. Глупенькая монахиня, думая, что она исполняет волю Божию, исповедовалась перед ним. И святой отец убедил ее, что в ее любви к нему нет никакого греха и что достаточно покропить святой водой, чтобы Господь простил ей этот пустяк. И, веря в монаха больше, чем она верила в Бога, она очень скоро вернулась с ним к тому, что меж ними было, и дело закончилось тем, что она от него забеременела… Прошло некоторое время, — и, охваченная порывом глубокого раскаяния, несчастная попросила, чтобы ее отпустили в Рим, ибо думала, что, если она покается в своем грехе перед Папой, она снова станет девственницей. Приор и аббатиса охотно согласились ее отпустить, ибо считали, что лучше пусть уж она нарушит устав и станет паломницей, чем будет томиться в стенах монастыря и в отчаянии своем дойдет до того, что откажется этот устав соблюдать. И они дали ей денег на дорогу. Но Господу было угодно, чтобы, когда она находилась в Лионе, в церкви святого Иоанна, там оказалась герцогиня Алансонская, вскоре ставшая королевой Наваррской, которая приехала туда вместе с несколькими дамами из своей свиты, чтобы исполнить какой-то тайный обет. После вечерни они стояли там коленопреклоненные перед распятием, как вдруг герцогиня заметила, что какая-то фигура поднимается наверх. При свете свечей она увидела, что это монахиня, и притаилась в углу, чтобы расслышать слова ее молитвы. Монахиня же, будучи уверена, что в церкви, кроме нее, никого нет, встала на колени и, каясь в своем грехе, так плакала, что невозможно было слушать ее без жалости. И она громко воскликнула: — О, горе мне! Господи, сжалься над несчастной грешницей! Герцогиня захотела узнать, что с ней такое; она подошла к ней совсем близко и спросила: — Милая моя, что с тобой и откуда ты? Несчастная монахиня, не зная, кто с ней говорит, ответила: — Увы, дорогая, горе мое так велико, что я уповаю только на Господа и молю Его, чтобы Он сподобил меня свидеться с герцогинею Алансонской, ибо ей одной могу я рассказать все о беде, которая со мной стряслась, и я уверена, что, если есть на земле правда, она найдет к ней путь. — Милая моя, — сказала герцогиня, — ты можешь говорить со мною, как с герцогиней, ибо это моя близкая подруга. — Не обижайтесь на меня, — сказала монахиня, — но своей тайны я, кроме герцогини, никому не доверю. Тогда герцогиня заверила ее, что она может говорить со всей откровенностью, ибо перед нею та, кого она ищет. Несчастная бросилась к ее ногам и, заливаясь слезами и рыдая, рассказала ей свою печальную историю, которую вы уже знаете. Герцогиня сумела ее утешить и успокоить. Она не стала заглушать в ее душе раскаяние, но уговорила не ездить в Рим и отправила ее обратно в монастырь, снабдив письмом к местному епископу, в котором она приказывала изгнать оттуда нечестивца-монаха. Рассказ этот мне довелось слышать от самой герцогини…» Перевод А. М. Шадрина. (Цитируется по изданию: Маргарита Наваррская. Гептамерон. Л., 1967.)Фрагмент 38. Джованни Боккаччо. «Декамерон»
«День IX. Новелла II Одна настоятельница поспешно встает впотьмах, чтобы захватить в постели с любовником монахиню, на которую ей донесли; так как с нею самой был тогда священник, она, полагая, что накинула на голову вуаль, набросила поповские штаны; когда обвиненная увидела их и указала настоятельнице, ее отпустили, и она спокойно осталась при своем любовнике. …Итак, вы должны знать, что в Ломбардии существует знаменитый святостью своего обихода монастырь, где среди других монахинь была девушка хорошего рода и удивительной красоты, по имени Изабетта, которая, выйдя однажды к решетке, чтобы повидаться с родственником, влюбилась в пришедшего с ним красивого юношу. Он, заметив ее красоту и по глазам узнав ее желание, также воспылал к ней, и не без обоюдной тяготы они долгое время питали эту любовь бесплодно. Но так как оба они к тому стремились, юноша нашел наконец способ в величайшей тайне посещать свою монахиню, а так как она была очень тому рада, он не однажды, а много раз навещал ее к обоюдному удовольствию. Так продолжалось, пока однажды ночью одна из тамошних монахинь, не замеченная ни им, ни ею, не увидела, как он, простясь с Изабеттой, удалился. Об этом она сообщила другим и сначала хотела было обвинить ее перед настоятельницей, по имени мадонна Узимбальда, доброй и святой женщиной, по мнению монахинь и всех, ее знавших; затем они задумали, дабы та не могла отпереться, устроить так, чтобы настоятельница застала ее с молодым человеком. Никому не сказав, они тайно распределили между собой ночные бдения и стражу, чтобы поймать ее. И вот случилось, что однажды ночью Изабетта, не остерегавшаяся и ни о чем не знавшая, велела своему милому прийти, о чем тотчас же проведали следившие за ними. Была уже поздняя ночь, когда они, улучив время, разделились надвое, и одна часть стала на страже у входа в келью Изабетты, а другие побежали к комнате настоятельницы и, постучавшись в дверь, сказали, когда та откликнулась: «Вставайте скорей, мадонна, мы узнали, что в келье Изабетты молодой человек». В ту ночь аббатиса была в обществе священника, которого она часто препровождала к себе в сундуке. Услыхав это и боясь, как бы монахини от излишней торопливости и рвения не налегли на дверь и она не отворилась, настоятельница поспешно встала, оделась как попало впотьмах и, полагая, что берет покрывало в складках, которое они носят на голове и называют сальтеро, взяла поповские штаны, и такова была ее поспешность, что, не спохватившись, она набросила их на голову вместо сальтеро и, тотчас же выйдя, заперла за собой дверь, говоря: «Где эта проклятая Господом?» Вместе с другими монахинями, не замечавшими, вследствие страстного желания застать Изабетту на месте преступления, что у настоятельницы на голове, она подошла к двери кельи и при помощи других высадила ее; войдя, они нашли обоих любовников, обнимавшихся в постели. Ошеломленные тем, что были накрыты врасплох, и не зная, что предпринять, они не двинулись. Девушку тотчас же схватили другие монахини и по приказу настоятельницы повели в капитул, а молодой человек остался и, одевшись, стал поджидать, чем все это закончится, намереваясь разделаться со всеми, кто попадется ему под руку, если с его милой случится что-либо необычное, а ее саму увезти с собою. Воссев в капитуле, в присутствии всех монахинь, глядевших исключительно на обвиненную, настоятельница принялась осыпать ее величайшей бранью, которую когда-либо выслушивала женщина, за то, что своими недостойными и позорными поступками она запятнала святость, и честь, и добрую славу монастыря, если о том узнают на стороне; к брани она присоединила и страшные угрозы. Девушка, пристыженная и оробевшая в сознании вины, не знала, что ответить, и молчала, вызывая сострадание во всех других; когда настоятельница продолжала бранить ее еще пуще, она, случайно подняв глаза, увидела, что у нее на голове, а также завязки от штанов, висевшие по сторонам. Поняв, в чем дело, и совсем ободрившись, она сказала: «Мадонна, да поможет нам Бог, подвяжите ваш чепец, а там и говорите мне, что вам угодно». Настоятельница, не поняв ее, сказала: «Какой там чепец, негодная? Ты еще осмеливаешься шутить! Разве такое ты натворила, что место для шуток?» Тогда девушка сказала вторично: «Мадонна, еще раз прошу вас, подвяжите ваш чепец, а там и говорите мне, что вам угодно». Тогда многие из монахинь, подняв глаза на голову настоятельницы, и она сама, схватившись за нее руками, догадались, что имела в виду Изабетта. Сознавая свой проступок и увидев, что всем он очевиден и его не скрыть, настоятельница переменила тон, стала говорить совсем другое, чем вначале, и заключила, что от вожделений плоти невозможно уберечься, вследствие того она сказала, чтобы каждая развлекалась, как умеет, но тайно, как то делалось до сего дня. Велев отпустить девушку, она вернулась спать со своим попом, а Изабетта к своему любовнику, которого впоследствии не раз приглашала к себе назло завидовавшим ей; те же, у которых не было любовников, тайно пытали своей удачи, как могли лучше». Перевод А. Н. Веселовского. (Цитируется по изданию: Джованни Боккаччо. Декамерон. М., 1999.)Фрагмент 39. Мазуччо Гуардати. Из «Новеллино»
«Новелла II Один монах-доминиканец дает знать мадонне Барбаре, что она зачнет от праведника и произведет на свет пятого евангелиста; с помощью этого обмана он ею овладевает, и она становится беременной; затем, прибегнув к новому обману, он спасается бегством; проделка обнаруживается, и отец Барбары выдает ее замуж за человека низкого происхождения. …В Германии жил знатный синьор, герцог Ланцхетский, и был он богаче всех прочих немецких баронов и драгоценностями и деньгами. Судьба даровала ему только одну дочку, которую звали Барбара. И не только как единственная дочь была она горячо любима своим отцом, но и по красоте своей была признана единственной во всей Германии. Еще в детском возрасте, вдохновляемая, может быть, Духом Святым или, пожалуй, скорей под влиянием ребяческой прихоти, чем зрелого размышления, дала она торжественный обет блюсти девственность в течение всей своей жизни. Посвятив свою девственность Христу и украсившись всяческими добродетелями и похвальными обычаями так, что при первом взгляде уже казалась юной святой, достигла она брачного возраста. Узнав же, что многие бароны настоятельно просят у отца ее руки, она почувствовала себя вынужденной объявить о своем решении. Когда она открыла его отцу и матери, то, несмотря на ее умелую речь, родители были, не без основания, крайне огорчены этим известием… Барбара же после того, как объявила о своей воле, превратила комнату свою в благочестивую молельню и не только проводила почти все свое время в молитвах, но и изнуряла нежнейшее тело свое постом и бичеванием так, что было это всем на удивление. Молва о такой святости прошла по всей Германии, Верхней и Нижней, и дошла даже до наших италийских пределов, благодаря чему в окрестностях города, где жил герцог, в кратчайшее время собралось бесчисленное множество всяких монахов, разными выдумками оправдывавших свое прибытие. И не иначе, чем стервятники и голодные волки сбегаются к смердящей падали, сбежались они, чтобы заполучить в добычу честь и имущество столь высокой и редкой дамы. Среди них был один бездельник монах, имени которого я не знаю или, вернее, не хочу называть. Умолчу и о том, был он итальянцем или немцем, так как имею для этого уважительную причину. Этот монах, заслуживший в ордене святого Доминика славу великолепного проповедника, исколесил все варварские германские земли, прибегая к величайшим плутням, показывая рукоять ножа, которым был убит святой Петр Мученик, и разные безделушки, относящиеся к святому Викентию, и творя, по мнению многих глупцов, бесчисленные чудеса. Когда молва о нем достигла мадонны Барбары, то желание его исполнилось и расчеты оправдались, так как благочестивая девушка пожелала увидеть его и приказала позвать к себе. Монах сейчас же отправился к ней с обычными своими церемониями; дочь герцога, приняв доминиканца почтительно, как святого, поведала ему затем о своем неизменном решении и просила его, как милости, дать ей совет и оказать помощь в деле спасения души. Монах хорошо присмотрелся к ее скорее божественным, чем земным прелестям, и, будучи человеком молодым и крепким, сразу же в нее влюбился и мгновениями испытывал столь сильные приступы вожделения, что готов был лишиться чувств. Однако, овладев собой, он воздал в благолепных выражениях хвалу ее святому и дивному намерению, непрестанно славя и благословляя божественный промысл, избравший среди этого обманом полного мира столь достойную деву; он постарался убедить также и ее родителей в том, что столь прекрасная склонность их дочери принесет пользу не только ей одной, но даже и всем остальным женщинам, настоящим и будущим; и на том основании, что общение с мирянами было бы для нее опасным, он утвердил ее в намерении покинуть мир и вместе с другими девственницами вступить в один из монашеских орденов, чтобы таким образом послужить созданию на земле новой общины дев, обрученных Христу. Он имел много долгих бесед с ней, с герцогом и его супругой, и так как все сочли совет его превосходным, святым и основанным на непреложной истине, то родители, желая вместе с тем сделать приятное Барбаре, построили в кратчайший срок большой и роскошный монастырь и, по желанию монаха, посвятили его святой деве Екатерине Сьенской для того, чтобы управление им не перешло как-нибудь в чужие руки и Барбара затворилась в нем вместе с множеством других благородных девиц. Здесь, приняв правила и обычаи, указанные им нашим монахом, они стали следовать святому и строгому уставу… Когда же он увидел, что как следует приручил их, то решил, не медля долее, удовлетворить свою постыдную и мерзкую похоть. Однажды вечером, завладев тайком книжечкой Барбары, в которой были записаны некоторые благочестивые молитвы и находились изображения различных свягых, а также Святого Духа, он против уст его сделал золотыми буквами следующую надпись: «Барбара, ты зачнешь от праведника и родишь пятого евангелиста, который восполнит недосказанное остальными; ты пребудешь непорочной и будешь блаженной пред лицом Господа». Сделав это и закрыв книгу, он с утра заблаговременно положил ее в том самом месте, откуда взял вечером. Он изготовил еще много листков с надписями такого же содержания, сделанными золотом и лазурью, и спрятал их, поджидая, когда представится случай ими воспользоваться. Барбара, придя в обычное время в келью для положенных молитв и раскрыв страницу с изображением Святого Духа, совсем растерялась при одном взгляде на надпись; немного придя в себя, она ознакомилась с содержанием этого плачевного благовещения, и оно дало ей достаточное основание для удивления, смятения и тоски. Перечитывая надпись, она с каждым разом терзалась все более, и тяжелое беспокойство овладело ее юным женственным и непорочным сердцем. Полная удивления, прервала она начатую молитву и поспешно направилась к своему духовному отцу; она отвела его в сторону и, угнетенная и побежденная ребяческим страхом, плача, показала ему книгу с золотой надписью. Монах, едва взглянув, прикинулся крайне пораженным и, осенив себя крестным знамением, обратился к девушке в таких выражениях: — Дочь моя, я полагаю, что это искушение диавола, который, в злобе на вашу чистоту, хочет расставить перед вами свои путы, чтобы низвергнуть вас в бездну вечной гибели; а потому я приказываю тебе именем Господа и святого послушания, чтобы ты некоторое время не давала веры ни этому, ни чему-либо подобному; однако премного хвалю тебя за то, что ты все мне открыла, и поступай так же и впредь, и я увещеваю тебя и накладываю на тебя епитимью, чтобы ты немедленно прибегла к святой исповеди — лучшему средству от этих коварных козней. Итак, будь сильной и стойкой в сражении с проклятым врагом Божиим — и ты будешь увенчана за победу твою двойной пальмовой ветвью, ибо добродетель, побеждающая вопреки слабости, становится совершенством. Произнеся еще много подобных, столь же благочестивых слов, он успокоил ее своей мошеннической болтовней и затем, уйдя от нее, согласно заранее обдуманному плану позвал к себе одного из своих служек и спрятал его в комнате Барбары. Он снабдил его несколькими из тех листков, о которых было сказано выше, и объяснил, как и когда нужно будет их подбросить. Благородная девица вошла в комнату и тотчас же стала на молитву, со смиренным сердцем моля Бога, чтобы Он просветил ее насчет случившегося. Но внезапно она почувствовала, что на колени к ней упал один из этих листков. Она подняла и прочла его; и, видя, что листок великолепно разукрашен и что он подобными же словами подтверждает пророчество о воплощении нового евангелиста, Барбара сразу задрожала и хотела встать. Но за первым листком последовали второй и третий, а прежде чем она успела выйти, их упало до десяти. Видя это, девушка в сильном страхе покинула келью и, позвав монаха, вся бледная, показала ему листки. Преподобный волк, прикинувшись изумленным, сказал: — Дочь моя, это дело, способное вызвать величайшее удивление, и такого рода, что нельзя его оставить без зрелого размышления, потому что здесь, быть может, явила себя Божественная сила; но возможно, что и иная. Итак, мне кажется, что не следует ни спешить с верою, ни упорствовать в прежнем заключении; скорее, подобает нам прибегнуть к святой молитве, и ты — с одной стороны, а я — с другой, будем просить Бога, чтобы по совершенной и нескончаемой благости Своей Он удостоил нас Своей милости и подал знак, по которому мы могли бы судить, какого рода это откровение — благо ли в нем или зло, и что нам делать: следовать ему или спасаться от него. А кроме того, я хочу завтра отслужить мессу в твоей келье. И, вооружась древом честного Креста Господня и другими святынями, побеждающими диавольские козни, мы посмотрим, какое указание даст нам всемогущий Бог. Барбара сочла эти советы святыми и достойными исполнения и потому согласилась, чтобы все так и было сделано. На следующий день вставший заблаговременно монах привел в порядок все свои снаряды для служения мессы сатане, велел служке отправиться на прежнее место, а затем сам пошел в келью дамы. Принятый ею с почтением, он начал благоговейно служить мессу; и с самого начала и до конца служка не переставал бросать листки, которыми монах снабдил его в изобилии… Месса окончилась, были собраны падавшие на нее и на монаха листки, которые были столь красивы, что, казалось, только ангельская рука могла изготовить и надписать их, и Барбара пребывала в счастливом и радостном состоянии. Монах же, полагавший, что пора уже сорвать в этом пышном саду последний и самый сладостный плод, сказал: — Дочь моя, эти явные и столь многочисленные указания убеждают меня, что в деле этом Божья воля и что дальнейшие попытки получить новые подтверждения были бы с нашей стороны самонадеянным дерзанием исследовать то, что проистекает от Божественного разума, который, как видишь, открыто указывает нам на свою волю, желая, чтобы столь высокое сокровище появилось на свет из твоего благодатного сосуда. Итак, если мы и дальше будем проявлять неверие, боюсь, как бы Божественное решение не обратилось нам во вред. Все же, не поддаваясь более сомнению, а желая лишь окончательно убедиться в сказанном, посмотрим, не пророчит ли об этом в какой-либо своей части Священное Писание. И, взяв тотчас же Библию и раскрыв ее на заранее отмеченной им странице, он нашел в Евангелии от Иоанна то место, в котором говорится: «И многие другие знамения показал Иисус Своим ученикам, о коих не написано в книге сей». И, прочтя это, он обернулся к Барбаре и сказал ей: — В ином свидетельстве нет нам нужды: вот и все наши сомнения рассеялись; поистине, это будет тот, о ком говорит нам евангелист, и он восполнит то, о чем умолчали другие; и посему всякие сомнения отныне не только излишни, но даже неуместны; и я предоставляю бремя их тебе одной, если ты еще не уверилась. Отвечая на его последние слова, Барбара сказала: — Горе мне, отче, к чему эти слова! Разве не знаете вы, что все мое благо и упование в том, чтобы вверяться вашему совету? Итак, я всегда буду склонна исполнить все, что вы пожелаете. Видя, что замысел в таком положении, что остается только завершить его на деле, монах сказал: — Дочь моя, ты говоришь мудро; однако у меня в душе остается сомнение: как найдем мы лицо, к тому подходящее, которому мы могли бы довериться, принимая во внимание, что весь мир полон обмана и предательства? Барбара в своей невинности ответила ему на это: — Отче, в нашем писании сказано, что тот, кто сотворит это, должен быть праведен и свят, вроде вас; и я не знаю никого другого, кто бы более, чем вы, подошел для того, чтобы совершить это со мной, в особенности потому, что вы мой духовный отец. На это монах ответил: — Не знаю, как могло бы это совершиться через меня, так как и я ведь дал обет всю жизнь мою соблюдать целомудрие; однако лучше согрешить мне, чем допустить, чтобы твое непорочное и нежнейшее тело было осквернено чужими руками. Кроме того, это должно послужить на благо и преуспеяние христианской вере, а потому я готов. Однако я не премину напомнить, что тебе следует остерегаться и ни с кем не говорить об этом, так как я не сомневаюсь, что Бог прогневается, если кто-либо о том проведает, и как ныне ты по справедливости можешь считаться самой блаженной из жен века сего, так тогда ты станешь неугодной Богу мятежницей. Благородная девица, ничего не возражая, заверила его всякими клятвами, что никому на свете этого не откроет. — В таком случае, — сказал монах, — сегодня вечером во имя Господне, не медля долее, приступим к совершению; но так как сочетаться мы будем во славу Всевышнего, то до самого того времени нам следует пребывать в святой молитве, чтобы в благоговении приступить к этому святому, божественному таинству. Так заключил он свою речь и, после того как девушка проводила его к выходу, вернулся в свою келью; и, помня о том, что от его плодоносного семени должен будет родиться святой евангелист, он не стал в этот день осквернять свое тело грубой заурядной пищей, которую часто принимал, чтобы обмануть других, но подкрепил себя как следует отборнейшими и великолепно приготовленными яствами и превосходными винами. Когда же наступил вожделенный час, он пробрался скрытыми путями в комнату Барбары, которая, постясь и проливая слезы, все время неустанно молилась. Увидя своего духовного отца, она встала и почтительно приветствовала его. Несмотря на то что монах был одержим сильным желанием насладиться женщиной и изведать ее очаровательных объятий, вследствие чего каждое мгновение превращалось для него в тысячелетие, он, однако, решил, что не начнет любовной игры какой-нибудь похотливой лаской, но сначала только посмотрит, так же ли она прекрасна нагая при свете факелов, как являет ее в одеждах дневной свет, и поэтому он приказал ей раздеться донага. Исполняя это во имя послушания, Барбара испытывала величайший стыд; он же, оставшись в одной рубашке, зажег два больших факела и поместил девушку между ними. Смотря на ее нежнейшее, цвета слоновой кости тело, побеждавшее сверканием своим свет зажженных факелов, он был охвачен таким вожделением, что упал замертво в ее объятия; а придя в себя, он стал перед ней на колени и, усадив ее прямо перед собой, подобно Мадонне на престоле, сказал так: — Поклоняюсь тебе, благодатное чрево, в котором в ближайшие часы должен быть зачат светоч всего христианства. И, сказав это и поцеловав девственную ее лилию, он страстно припал к ее нежнейшим розовым устам и, не расставаясь с ними ни на мгновение, заключил девушку в объятия и бросился с нею на приготовленную постель. Всякий легко может себе представить, чем занимались они всю ночь; мне же доподлинно известно, что они не только в согласии с тем, что было открыто девушке, дошли до пятого евангелиста, но и до семи даров Духа Святого. И хотя Барбара принимала эту пишу лишь в качестве духовной, однако, поразмыслив, она решила, что это самое приятное и сладостное, что только может совершить или отведать смертный, И так как игра эта под конец ей понравилась, то для того, чтобы иметь полную уверенность в зачатии будущего евангелиста, они каждую ночь все с большим рвением сходились для любовных сражений, и, продолжая наслаждаться таким образом, она и вправду забеременела; а когда несомненные признаки убедили в том обоих, монах, опасаясь за свою жизнь, сказал: — Дочь моя, ты видишь, что, как того пожелал Господь, мы уже достигли цели, к которой стремились: ты беременна и, с помощью Творца, должна родить. Я намереваюсь потому обратиться к святейшему Папе и сообщить ему об этом божественном чуде, чтобы он послал сюда двух своих кардиналов, которые объявят младенца святым при самом его рождении, вследствие чего он будет возвеличен и чтим превыше всех святых. Девушкой, которая, как сказано, была очень чиста и потому легко поверила этому, овладело новое честолюбивое стремление, и ей было приятно, что ради нее монах отправится в этот путь. Он же, видя ясно, что с каждым днем сосуд нового евангелиста увеличивается, быстро собрался в дорогу и, получив от Барбары кое-что для подкрепления своего чрева и простившись с нею не без огорчения, отправился в путь…» Перевод М. Рындина. (Цитируется по изданию: Итальянская новелла Возрождения. М., 1964.)Фрагмент 40. Маттео Банделло. Из «Новелл»
«Новелла XLV О хитроумной затее дона Бассано, предпринятой с целью избавиться от преследований епископа, намеревавшегося заточить его в тюрьму за любовные услады с монахинями. …Жил в одном из городов Ломбардии некий епископ, слывший за человека отменной святости, и, пожалуй, будь он кастратом, святость его была бы еще больше. Но поистине, до женщин он был охоч сверх всякой меры, всех хотел только для себя, а бедным священникам не только не позволял с ними немного порезвиться, но даже глядеть на них. Посещая некоторые городские монастыри, он повстречался с одной аббатисой, которая пришлась ему по душе. Он быстро с ней сблизился, и дружба их была такого рода, что к моменту отбытия мессера епископа его и аббатису связывали узы любви. В том же монастыре жила молодая монахиня, возлюбленным которой был священник, каноник одной из городских церквей. Он целыми днями торчал в монастыре, без конца болтая со своей духовной дочерью. Это совсем не нравилось аббатисе, но, так как монахиня была одной из знатнейших дам города, она не могла поставить ее на место так, как ей этого хотелось бы. Впрочем, она не переставала каждый день пробирать ее и поучать. Монахиня столько же обращала внимания на слова аббатисы, сколько на свой плат, надетый при пострижении. Теперь, когда аббатиса завела дружбу с епископом, она стала просить его, как милости, чтобы тот наказал дона Бассано — так звали нашего каноника — и запретил ему бывать в монастыре. Епископ, желавший угодить ей, предал его анафеме и запретил всем священникам, независимо от сана, посещать женские монастыри без особого на то разрешения… Однако каноника это не остановило, и, побуждаемый любовью, он продолжал посещать монастырь; но, так как дела свои он вел совсем неосторожно, а у аббатисы было сколько угодно соглядатаев, которые не спускали с него глаз, каноник скоро попался в расставленные сети. Когда он однажды направлялся в приемную, сбиры схватили его и отвели в епископат, где епископ и приказал заточить его в тюрьму. Там ему пришлось сесть на хлеб и на воду и соблюдать посты, не указанные в календаре. Аббатиса же, не переставая, забрасывала письмами епископа и через всяких посредников настаивала, чтобы он построже наказал злосчастного дона Бассано. Устроили большой процесс, на котором было подтверждено непослушание священника и предание его анафеме; епископ был к нему очень суров, намереваясь сыграть с ним шутку позлее. Однако в дело вмешалось несколько знатных людей, друзей священника, и они чуть поумерили гнев епископа, хотя совершенно умиротворить его не удалось. Дело приняло вот какой оборот: священника Бассано освободили из тюрьмы и сняли с него анафему, но с условием, что он обязуется уплатить, кроме тюремных расходов, восемьдесят золотых дукатов в епископскую казну и что ноги его никогда не будет в монастыре, а если паче чаяния его там застигнут, то он будет сослан на галеры или навечно заключен в тюрьму. Аббатиса, узнав, как плохо пришлось священнику Бассано, и радуясь чужому горю, старалась нанести монахине, подруге священника, самые жестокие обиды, какие только могла, но та терпеливо все сносила, ожидая подходящего места и часа, чтобы отомстить. И вот аббатиса, как особа признательная, не желая, чтобы ее упрекнули в пороке неблагодарности, который столь не по душе людям, решила пригласить епископа к себе в келью и пободрствовать с ним ночью. И зная, что при таких бдениях происходят вещи, вызывающие некоторое утомление в человеческом теле, приказала самой преданной своей монахине, услуживающей ей в подобных случаях, заняться в ее келье изготовлением засахаренных орехов, марципанов и всевозможных других лакомств и, кроме того, принести две бутылки, одну с превосходной верначчей, а другую с тончайшей и дорогой мальвазией. Между тем влюбленная монахиня, в полном отчаянии, что дону Бассано грозит тюрьма, только и помышляла о том, как бы ей чем-нибудь насолить аббатисе, которая, как говорится, просто из кожи вон лезла; видя, какая суета происходит в ее келье, она решила, что, несомненно, мадонна аббатиса собирается приятно провести ночь, но с кем — никак не могла дознаться. Тогда она решила одну-две ночи посторожить и воочию убедилась, что приходит к ней сам епископ. И не только в эту ночь, но всякий раз, когда готовились лакомства, появлялся епископ, чтобы немного подкрепиться. Поэтому она подобрала ключ к келье аббатисы; еще прежде у нее был подделан ключ к монастырским воротам, через которые она впускала к себе дона Бассано. Итак, видя совершавшиеся приготовления, она через главные ворота провела к себе дона Бассано и спрятала его в келье. Был канун праздника св. Лоренцо, и аббатиса находилась в трапезной с монашками; в это время возлюбленная дона Бассано провела его в келью аббатисы и спрятала под кровать. Ночью, по обыкновению, пришел епископ и был введен в келью, где, хорошо полакомившись и выпив, монсеньор и аббатиса возлегли. И, шутя и болтая, епископ возложил руку на грудь своей духовной дочери и спросил: — А что сие у вас? — Грудки, — отвечала та. — Нет, нет, — перебил ее епископ, — сие небесные колокольчики. — Потом, дотронувшись до живота, спросил опять: —А сие что такое? — Живот, — отвечала аббатиса. — Вы заблуждаетесь, жизнь моя, сие гора Гелвуйская[146]. А сие что, душа моя? — и положил свою руку на то место, которое не признает ни праздников, ни бдений. Мадонна аббатиса хотя и захихикала, но не знала, что ответить. Тогда епископ продолжал: — Я вижу, сердце мое, что вы не знаете истинных названий вещей. Сие долина Иосафатская[147],— и прибавил: — Так вот, поднимусь я на оную гору Гелвуйскую и зазвоню в оба небесных колокольчика, а затем спущусь в долину Иосафатскую, где совершу великое чудо, — с этими словами он обнял аббатису и предался с ней утехам любви. Дон Бассано, сидевший под кроватью, слышал это милое щебетанье и, чувствуя у себя над головой чертовскую пляску, хотел было выдать себя, но потом раздумал. Всю ночь епископ развлекался и под утро удалился из монастыря. Монахиня, стоявшая на страже, в то время как аббатиса и ее приспешница провожали епископа, провела священника из кельи аббатисы в свою, и там, загоняя дьявола в ад, он рассказал ей все, что слышал и что он намеревается делать. Когда аббатиса вернулась в свою келью, хитрая монахиня выставила за дверь своего священника. Как раз был день св. Лоренцо, на празднование которого был приглашен епископ, и дон Бассано, каноник Сан-Лоренцо, должен был в этот день служить мессу. Поэтому он велел принести полный требник к себе в келью, соскоблил несколько слов в самом начале и искусно вписал туда совсем другие, какие — вы дальше узнаете… И вот, приступая к службе, дон Бассано сказал: — Omnipotens, aeterne Deus, qui haesterna nocte Reveren-dissimum Dominum nostrum supra montem Gelboe ascendere, ibique campanas coeli pulsare et deinde in vallem losaphat descendere fecisti, ubi multa mirabilia fecit, etc[148]. Епископ, услышав в начале богослужения слова, которые он считал никому неизвестными, пришел в страшную ярость. Когда месса окончилась, он, возмущенный свыше всякой меры, удалился в епископат с твердым намерением проучить священника и приказал тотчас же после ужина позвать его. Священник, которого всегда окружали друзья — несколько дворян из самых храбрых в городе, явился с ними к епископу. В это время монсеньор прохаживался по залу и, завидя священника, с суровым видом спросил его, что это за слова, которыми он начал службу. Тот отвечал, что так, мол, написано в требнике. Епископ ему не поверил и послал одного из своих священников в Сан-Лоренцо за требником. Когда требник был принесен и передан епископу, тот открыл его и увидел, что слова так хорошо подделаны и так похожи на стертые, что ничего и не скажешь. Тогда он отозвал в сторону дона Бассано, желая разузнать, как обстояло дело. Священник рассказал ему, как все произошло; испуганный епископ, боявшийся, как бы его «бдения» с аббатисой не получили огласки, пообещал священнику возместить ему восемьдесят дукатов, которые он заставил его раньше заплатить, и сказал ему: — Дон Бассано, мы все люди: развлекайся сколько хочешь и не мешай другим заниматься тем же. Мы постараемся, чтобы твоя монахиня и аббатиса помирились…» Перевод Н. Георгиевской. (Цитируется по изданию: Итальянская новелла Возрождения. М., 1964.)Фрагмент 41. Маргарита Наваррская. «Гептамерон»
«День IV. Новелла ХХХIII Граф Ангулемский искусно разоблачил и, предав суду, наказал лицемерного и подлого священника; этот пастырь, под прикрытием святости, соблазнил собственную сестру, которая от него забеременела. Графу Карлу Ангулемскому, отцу короля Франциска, человеку благочестивому и богобоязненному, находившемуся в то время в Коньяке, рассказали, что в одной из близлежащих деревень под названием Шерв[149] живет некая девушка весьма строгой жизни, которая, однако, как это ни странно, забеременела. Она этого не скрывала и уверяла всех, что никогда не знала мужчины и понять не могла, как все произошло, и что сотворить это мог только Святой Дух. Люди легко этому верили и почитали ее за вторую Деву Марию, — каждый ведь знал, что с детских лет девушка эта была очень скромна и чуждалась всего мирского. Мало того, что она соблюдала посты, предписанные церковью, она сверх этого постилась еще несколько раз в неделю по собственному желанию и не пропускала ни одной мессы. Поэтому все глубоко ее чтили и каждый взирал на нее с благоговением, как на некое чудо, и бывал счастлив тем, что мог хотя бы коснуться полы ее платья. Приходским священником был ее брат, человек уже в летах и весьма суровой жизни; прихожане его уважали и почитали за святого. К сестре своей он был так строг, что стал после этого случая держать ее взаперти, — чем, однако, народ был недоволен. И вокруг поднялся такой шум, что, как я уже говорилось, об этом прослышал и сам граф. Заподозрив, что тут кроется какой-то обман, и желая его рассеять, он послал туда своего капеллана и судейского чиновника — людей, которым он вполне доверял, — дабы узнать истинное положение дела… На другой день утром священник стал служить мессу, на которой присутствовала и его сестра. Беременность ее была уже заметна, но она все же простояла на коленях всю службу. А перед концом мессы священник вознес святые дары и в присутствии всех сказал сестре: — Скажи, несчастная, перед лицом Того, Кто страдал и умер за тебя, действительно ли ты девственница, как ты всегда меня уверяла? Девушка, не задумываясь, ответила, что это так. — Так как же ты могла забеременеть и в то же время остаться девственницей? — Я не могу объяснить это ничем, кроме как благодатью Святого Духа, который поступил со мной так, как Ему было угодно, — ответила она, — но я не могу преступить воли Господа, оставившего меня девственницей, и я никогда не собиралась выходить замуж. Тогда брат ее сказал: — Под страхом вечного проклятия ты сейчас, причащаясь телом Иисуса Христа, поклянешься, что все, что ты говоришь, — правда, чему будут свидетелями эти господа, присланные сюда монсеньером графом. Тогда девушка, которой было уже около тридцати лет, поклялась следующими словами: — Под страхом вечного проклятия я свидетельствую здесь перед Господом Богом, перед вами всеми и перед вами, брат мой, что ни один мужчина не приблизился ко мне больше, чем вы, брат мой! И с этими словами она приняла святое причастие. Капеллан графа и судейский чиновник в великом смущении удалились, ибо они думали, что, если девушка могла дать такую клятву, никакой лжи в ее словах быть не может. И они доложили обо всем графу и старались уверить его в том, чему поверили сами. Но граф был человеком умным, он заставил их в точности повторить слова клятвы и, какследует обо всем поразмыслив, сказал: — В словах ее — правда, но в то же время и ложь, ибо она призналась, что ни один мужчина не приблизился к ней больше, чем брат. Так вот, я думаю, что брат ее и есть виновник всего и что всем этим притворством он хочет скрыть свой собственный грех. Мы ведь знаем, что Христос уже приходил к нам на землю, и ждать второго Христа мы не должны. Поэтому возьмите этого священника и посадите его в тюрьму. Я убежден, что там он скажет всю правду. Они сделали так, как он приказал, но вся округа возмутилась тем, что благочестивого человека подвергли такому позору. Однако, едва только священника привели в тюрьму, он признался в своем грехе и в том, что научил сестру говорить такие речи — и не только для того, чтобы оправдать ту жизнь, которую они вели, но чтобы хитро сплетенною ложью заставить людей еще больше чтить их обоих. Когда же его стали винить в том, что он богохульствовал, заставив ее поклясться телом Господним, он ответил, что никогда не дерзнул бы это сделать и что взял для этого хлеб неосвященный, на котором не было Божьего благословения. Обо всем этом доложили графу Ангулемскому, и тот передал его в руки правосудия. Спустя некоторое время, когда девушка разрешилась от бремени крепким мальчиком, брата и сестру сожгли на костре, и велико было удивление всего народа, который понял, какое страшное чудовище скрывалось под святыми одеждами проповедника и какой великий порок гнездился там, где они все видели только жизнь, исполненную благочестия и святости…» Перевод А. М. Шадрина. (Цитируется по изданию: Маргарита Наваррская. Гептамерон. Л., 1967.)Фрагмент 42. Джованни Боккаччо. «Декамерон»
«День I. Новелла II Еврей Авраам, вследствие увещаний Джианнотто ди Чивиньи, отправляется к римскому двору и, увидя там развращенность служителей церкви, возвращается в Париж, где и становится христианином. …В Париже жил один богатый купец и хороший человек, по прозванию Джианнотто ди Чивиньи, ведший обширную торговлю сукнами. Он был в большой дружбе с одним очень богатым евреем, по имени Авраам, также купцом и очень честным и прямым человеком. Джианнотто, зная его честность и прямоту, сильно сокрушался о том, что душа этого достойного, мудрого и хорошего человека, по недостатку веры, будет осуждена. Поэтому он принялся дружески просить его оставить заблуждения иудейской веры и обратиться к истинной христианской, которая, как он сам мог видеть, будучи святой и совершенной, постоянно преуспевает и множится, тогда как, наоборот, его религия умаляется и приходит в запустение, — в чем он сам мог убедиться. Еврей отвечал, что он не знает более совершенной и святой религии, чем иудейская, и что он в ней родился, в ней намерен жить и умереть, и нет ничего, что бы могло отвратить его от этого намерения. Это, однако, не остановило Джианнотто, и через несколько дней он снова обратился к нему с подобными же речами, доказывая ему попросту, как это умеют делать купцы, по каким причинам наша религия лучше иудейской. Хотя еврей был большим знатоком иудейского закона, тем не менее, по большой ли дружбе, которую он питал к Джианнотто, или повлияли на него речи, вложенные Святым Духом в уста простого человека, только ему стали очень нравиться доводы Джианнотто, хотя, продолжая упорствовать в своей вере, он не позволял обратить себя. Как он упорствовал, так и Джианнотто не переставал убеждать его, пока наконец еврей, побежденный этой настойчивостью, сказал: «Хорошо, Джианнотто, ты хочешь, чтобы я сделался христианином, и я готов на это, но с тем, что сперва отправлюсь в Рим, дабы там увидать того, кого ты называешь наместником Бога на земле, увидать его нравы и образ жизни, а также его кардиналов; если они представятся мне таковыми, что по ним и из твоих слов я смогу убедиться в преимуществе твоей веры над моею, как это ты старался мне доказать, то я поступлю, как тебе сказал; коли нет, я, как был, так и останусь евреем». Выслушав это, Джианнотто был крайне опечален, говоря про себя: «Пропали мои труды даром, а между тем я думал употребить их с пользой, воображая, что уже обратил его. И в самом деле, если он отправится к римскому двору и насмотрится на порочную и нечестивую жизнь духовенства, то не только не сделается из еврея христианином, но, если бы и стал христианином, наверно, перешел бы снова в иудейство». Затем, обратись к Аврааму, Джианнотто сказал: «Друг мой, зачем хочешь ты подвергать себя такому труду и большим издержкам, сопряженным с путешествием в Рим? Не говоря уже о том, что для такого богатого человека, как ты, каждое путешествие, морем или сухим путем, исполнено опасностей, — уже не думаешь ли ты, что здесь не найдется никого, кто бы окрестил тебя? Если у тебя есть сомнения по вопросу о вере, которую я тебе разъяснял, где, как не здесь, найдешь ты больших ученых и более мудрых людей, которые растолкуют тебе, что пожелаешь, или то, о чем спросишь? Вот почему, по моему мнению, это путешествие излишне. Представь себе, что там прелаты такие же, каких ты мог видеть и здесь, и даже лучше, потому что ближе к верховному пастырю. Итак, по моему совету, прибереги этот труд до другого раза, для какого-нибудь хождения к святым местам; тогда, быть может, и я буду тебе спутником». На это еврей отвечал: «Я верю, Джианнотто, что все так, как ты говоришь, но, сводя многое в одно слово, скажу тебе (если ты хочешь, чтобы я сделал то, о чем ты меня так просил), что я окончательно решил ехать; иначе я не сделаю ничего». Видя его решимость, Джианнотто сказал: «Поезжай с Богом», а в то же время подумал про себя, что, если он увидит римский двор, никогда не сделается христианином. На этом он успокоился, так как теперь ему делать было нечего. Еврей сел на коня и поспешно отправился ко двору в Рим. Прибыв туда, он был с почетом принят своими единоверцами евреями и жил там, не говоря никому о цели своего путешествия, осмотрительно наблюдая образ жизни Папы, кардиналов и других прелатов и всех придворных. Из того, что он заметил сам, будучи человеком очень наблюдательным, и того, что слышал от других, он заключил, что все они вообще прискорбно грешат сладострастием, не только в его естественном виде, но и в виде содомии, не стесняясь ни укорами совести, ни стыдом, почему для получения милостей влияние куртизанок и мальчиков было не малой силой. К тому же он ясно увидел, что все они были обжоры, опивалы, пьяницы, наподобие животных, служившие не только сладострастию, но и чреву, более чем чему-либо другому Всматриваясь ближе, он убедился, что все они были так стяжательны и жадны до денег, что продавали и покупали человеческую, даже христианскую кровь и божественные предметы, какие бы ни были, относились ли они до таинства, или до церковных должностей. Всем этим они пуще торговали, и было на то больше маклеров, чем в Париже для торговли сукнами или чем иным. Открытой симонии они давали название заступничества, объедение называли подкреплением, как будто Богу не известны, не скажу, значения слов, но намерения развращенных умов, и Его можно, подобно людям, обмануть названием вещей. Все это вместе со многим другим, о чем следует умолчать, сильно не нравилось еврею, как человеку умеренному и скромному, и потому, полагая, что он достаточно насмотрелся, он решил возвратиться в Париж, что и сделал. Едва Джианнотто узнал, что он приехал, он пошел к нему, ни на что столь мало не рассчитывая, как на то, чтоб он стал христианином. Они радостно приветствовали друг друга, а когда еврей отдохнул несколько дней, Джианнотто спросил его, какого он мнения о святом отце, кардиналах и других придворных. На это еврей тотчас же ответил: «Худого я мнения, пошли им Бог всякого худа! Говорю тебе так потому, что, если мои наблюдения верны, ни в одном клирике ни святости, ни благочестия, ни добрых дел, ни образца для жизни или чего другого, а любострастие, обжорство, любостяжание, обман, зависть, гордыня и тому подобные и худшие пороки (если может быть что-либо хуже этого) показались мне в такой чести у всех, что Рим представился мне местом скорее дьявольских, чем Божьих начинаний. Насколько я понимаю, ваш пастырь, а следовательно, и все остальные со всяким тщанием, измышлением и ухищрением стараются обратить в ничто и изгнать из мира христианскую религию, тогда как они должны были бы быть ее основой и опорой. И так как я вижу, что выходит не то, к чему они стремятся, а что ваша религия непрестанно ширится, являясь все в большем блеске и славе, то мне становится ясно, что Дух Святой составляет ее основу и опору, как религии более истинной и святой, чем всякая другая. А потому я, твердо упорствовавший твоим увещаниям и не желавший сделаться христианином, теперь говорю откровенно, что ничто не остановит меня от принятия христианства. Итак, идем в церковь и там, следуя обрядам вашей святой веры, окрести меня». Джианнотто, ожидавший совершенно противоположной развязки, услышав эти слова, был так доволен, как никогда. Отправясь с ним в собор Парижской Богоматери, он попросил тамошних клириков окрестать Авраама. Услышав требование, они тотчас же это и сделали. Джианнотто был его восприемником и дал ему имя Джованни. Впоследствии он поручил знающим людям наставить его вполне в нашей вере, которую он скоро усвоил, оказавшись потом человеком добрым, достойным и святой жизни». Перевод А. Н. Веселовского. (Цитируется по изданию: Джованни Боккаччо. Декамерон. М., 1999.)Фрагмент 43. Маргарита Наваррская. «Гептамерон»
«День III. Новелла XXII Сестра Мария Эроэ, которую преследовал своими домогательствами приор монастыря Сен Мартен-де-Шан, с помощью Божьей устояла перед самыми сильными искушениями, так что приор был посрамлен, а она возвеличена. В городе Париже, в монастыре Сен Мартен-де-Шан, был некий приор, имени которого я не хочу называть, потому что он был моим другом. До пятидесяти лет он вел такую строгую жизнь, что слава о его благочестии облетела всю страну и самые знатные люди, когда он приезжал к ним, очень почтительно его принимали… И чтобы умерить его требования и умилостивить его, они оказывали ему поистине королевский прием. Вначале он еще против этой торжественности протестовал, но потом, к пятидесяти годам, понемногу оценил внимание монахинь и, проникшись убеждением, что всем своим благоденствием аббатство это обязано ему, решил, что следует, как только возможно, беречь свое здоровье. И хотя по уставу ему и не полагалось есть мясо, он стал позволять себе исключения из этого правила, оправдывая это тем, что вся тяжесть забот об аббатстве лежит на нем. Он стал так обильно питаться, что через некоторое время из человека худощавого превратился в толстяка. А с изменением самой жизни изменились и его взгляды, и он начал обращать внимание на женские лица, что раньше всегда почитал за грех… Однажды, приехав в монастырь Жиф[150], расположенный неподалеку от Парижа, приор стал там исповедовать всех монахинь, одну за другой. Среди них была некая Мария Эроэ. Голос этой девушки был приятен и нежен, и легко можно было предположить, что та же приятность есть и в лице ее, и в сердце. И, слушая ее исповедь, святой отец воспылал к ней такой любовью, какую ни одна другая женщина в нем до того не пробуждала. Разговаривая с Марией, он наклонился к ней совсем низко и увидал ее свежие розовые губы. И он не мог удержаться, чтобы не приподнять покрывало и не посмотреть, столь же ли хороши ее глаза. И он увидел, что это действительно так. И с той минуты сердцем его овладела такая томительная страсть, что он перестал пить и есть, и, как он ни старался скрыть свое чувство, исхудавшее лицо его выдавало. Вернувшись в свой приорат, он уже больше не знал покоя. Все мысли его были о Марии, он перестал спать по ночам, стараясь придумать, как бы ему удовлетворить свое желание и поступить с нею так же, как поступал с другими. Он, правда, боялся, что это окажется делом нелегким; девушка эта была благоразумна и скромна и настолько сообразительна, что надеяться на успех ему особенно не приходилось. Понимая, что он безобразен и стар, приор решил, что говорить он с ней ни о чем не станет, а постарается воздействовать на нее страхом. Вскоре вслед за тем он снова приехал в упомянутый монастырь Жиф и был на этот раз еще более придирчив… А так как он страдал подагрой, то к концу дня до того устал, что в час, назначенный для вечерней службы, он решил никуда не ходить и остаться в отведенной ему келье. Аббатиса сказала ему: — Святой отец, уже время служить вечерню. — Ступайте, матушка, и пускай начинают без меня, — ответил он. — Я так устал, что останусь у себя, — и не затем, чтобы отдыхать, а чтобы побеседовать с сестрой Марией, о которой я очень много прослышал дурного: мне донесли, что она все время болтает и ведет себя, как мирянка. Аббатиса, которой эта монахиня приходилась внучатой племянницей, попросила его хорошенько отчитать девушку и, послав за ней, оставила ее в обществе приора и сопровождавшего его молодого монаха. Оставшись с Марией, святой отец попытался поднять ее покрывало и приказал ей глядеть ему в глаза. Она же ответила, что по уставу ей не положено глядеть на мужчин. — Все это верно, дочь моя, — сказал он, — только нас, монахов, ты не должна считать за мужчин. Тогда, боясь его ослушаться, сестра Мария посмотрела на него. И когда она увидела, до чего он безобразен, она решила, что глядеть на него так противно, что это не может быть грехом, что, напротив, за это одно Господь простит ей другие грехи. Поговорив с ней некоторое время о нежных чувствах, которые он к ней питает, приор потянулся к ее соскам. Как и следовало ожидать, она тотчас же оттолкнула его руку. Тогда вне себя от гнева он воскликнул: — Разве монахине положено знать, что у нее есть соски? — Да, я знаю, что у меня они есть, — отвечала она, — и можете быть спокойны — ни вы, ни другой мужчина их не коснется. Не такая я юная и неопытная, чтобы не знать, что есть грех и что нет. Когда приор увидел, что потерпел неудачу, он пустился на другую хитрость и сказал: — Увы, дочь моя, я должен поведать тебе нечто важное: я серьезно болен, все врачи находят болезнь мою неизлечимой. И поверь, что единственное средство, которое может меня исцелить, — это женская ласка и наслаждение с той, которую я люблю. Что до меня, то я ни за что на свете не хотел бы совершить смертный грех, но когда речь идет о том, чтобы остаться в живых, то я думаю, что само прелюбодеяние ничего не значит по сравнению с человекоубийством — грехом, вне всякого сомнения, более страшным. Поэтому, если тебе дорога моя жизнь, внемли голосу совести и не будь жестокосердной. Этим ты спасешь и свою душу, и меня. Монахиня спросила, что она должна делать. Он ответил, что она может всецело положиться на него и что он не способен совершить ничего дурного, чего ему или ей пришлось бы потом стыдиться. И чтобы показать ей, с чего начинается эта игра, он обнял ее и попытался уронить на постель. Разгадав его злой умысел, девушка стала защищаться — и не только с помощью слов, но и с помощью рук, — и святому отцу удалось только прикоснуться к ее одежде. Увидав, что все его хитрости и усилия ни к чему не привели, рассвирепевший монах позабыл не только о совести, но и о рассудке и, запустив ей под платье руку, яростно расцарапал ногтями все, до чего успел дотянуться. Боль была так велика, что несчастная девушка, закричав истошным голосом, упала на пол и тут же лишилась чувств. На крик этот неожиданно отозвалась аббатиса. Слушая вечерню, она вспомнила, что ее внучатая племянница осталась беседовать со святым отцом, и, боясь, как бы чего не стряслось, подошла к двери послушать, о чем они говорят. Едва только она услыхала крик Марии, как сразу же толкнула дверь, которую придерживал молодой монах. Увидев аббатису, приор не растерялся и, указав ей на лежавшую без чувств девушку, сказал: — Вы совершили большую оплошность, матушка. Почему вы не сказали мне, что у сестры Марии такое слабое здоровье? Я этого не знал и заставил ее стоять, и в то время, когда я увещевал ее, она вдруг упала и потеряла сознание. Бедную девушку стали приводить в чувство уксусными примочками и разными другими средствами и обнаружили, что при падении она разбила себе голову. Когда она пришла в себя, приор, боясь, чтобы она не рассказала аббатисе о том, что он учинил, тихо сказал ей: — Дочь моя, приказываю тебе под страхом наказания и вечного проклятия никогда никому не рассказывать о том, что я здесь совершил, ибо ты должна понять, что толкнула меня на это дошедшая до крайности любовь. Теперь, когда я убедился, что ты не любишь меня, обещаю тебе, что никогда больше не заведу о ней речи, только помни, что, если тебе захочется когда-нибудь меня полюбить, я сделаю тебя аббатисой одного из трех лучших аббатств нашего королевства. Но Мария ответила, что скорее согласилась бы умереть в тюрьме, чем предпочесть кого-нибудь Тому, Кто умер за нее на кресте; с Ним она готова переносить любые страдания, которые выпадут ей на долю, и предпочтет их всем богатствам мира. Она предупредила приора, чтобы он больше не пытался заговаривать с ней об этих вещах, иначе она все расскажет аббатисе, если же он сохранит все в тайне, то молчать будет и она. Ничего не добившись, недостойный пастырь вынужден был уехать… Так этот лицемер вернулся ни с чем в монастырь Сен Мартен. Воспылавшая в его сердце страсть и там продолжала жечь его денно и нощно, и он только и думал о том, какими путями достичь своей цели. А так как паче всего он боялся аббатисы, которая была женщиной строгих правил, он стал придумывать, как удалить ее из этого монастыря. Он отправился к графине Вандомской, которая находилась тогда в замке Ля Фер, где она основала Бенедиктинский монастырь, получивший название Мон д'Оливе. Когда почитавшийся высшим духовным авторитетом приор убедил графиню, что аббатиса упомянутого монастыря недостаточно опытна, чтобы возглавлять столь большую обитель, графиня попросила его прислать им другую, более достойную этой должности. Приору этого только и было надобно, и он посоветовал ей взять к себе аббатису из монастыря Жиф, уверяя, что во всей Франции лучше ее им никого не найти. Графиня Вандомская тут же послала за нею и вверила монастырь Мон д'Оливе ее попечению. Тогда приор, к голосу которого все прислушивались, добился того, что во главе Жифского монастыря была поставлена угодная ему аббатиса. И он снова поехал в Жиф, решив еще раз попытаться мольбами и лаской сломить упорство сестры Марии Эроэ. Но, убедившись, что все его усилия напрасны, вернулся опять в свой монастырь Сен Мартен. Там, для того чтобы достичь своей цели и отомстить той, которая так жестоко с ним обошлась, а также боясь, как бы кто-нибудь не проведал о его домогательствах, он придумал новую хитрость: выкрав ночью святые мощи из Жифского монастыря, он обвинил в этой краже тамошнего духовника, человека старого и глубоко порядочного, и велел заточить его в тюрьму монастыря Сен Мартен. И уже после того, как это было сделано, подговорил двоих свидетелей, которые по неведению своему подписали все, что от них потребовал господин их, приор. А написано было, будто бы они застали в одном из монастырских садов означенного духовника вместе с сестрой Марией за совершением непотребного действия. И приор хотел, чтобы несчастный старик сам признался в своей вине. Тот, однако, отлично знал все проделки приора и поэтому попросил его созвать капитул, сказав, что готов перед всеми рассказать истинную правду о том, что было. Боясь, что, оправдывая себя, духовник изобличит его самого, приор отказался удовлетворить его просьбу. А видя, что старик не сдается, он стал так жестоко с ним обращаться, что, по словам одних, тот умер в тюрьме, а по словам других, приор принудил его оставить монашество и, переодевшись в мирскую одежду, покинуть пределы Франции. Что бы там ни было, с тех пор его больше никто не видел. Когда приор увидел, что Мария в его руках, он отправился в монастырь и, так как новая аббатиса, которую он туда поставил, ни в чем ему не перечила, решил воспользоваться своим правом визитатора конгрегации и стал вызывать к себе в комнату монахинь одну за другой, чтобы выслушать каждую. И когда очередь дошла до сестры Марии, которая лишилась своей доброй покровительницы, он обратился к ней с такими словами: — Сестра Мария, ты знаешь, в каком тяжком преступлении тебя обвинили. Хотя ты и разыгрываешь из себя невинную девушку, притворство твое ни к чему не приведет, всем известно, как ты себя вела. На это сестра Мария, не дрогнув, ему ответила: — Позовите сюда того, кто хочет меня обличить, и вы увидите, посмеет ли он в моем присутствии повторить свою клевету. — Никаких доказательств нам не надо, — сказал приор, — достаточно того, что духовник сам во всем сознался. — Духовник наш такой благородный человек, — воскликнула сестра Мария, — что он на это никак не способен. Но если вы настаиваете на своем, то пусть он придет сюда — и я докажу вам, что это ложь. Видя, что ему ничем не удается ее запугать, приор сказал: — Я твой духовный отец и хочу спасти твою честь. Если ты не хочешь совершить смертный грех, заклинаю тебя, скажи мне правду, действительно ли, принимая обет монашества, ты была девственницей? — Святой отец, — отвечала Мария, — ведь я с пяти лет живу в монастыре, разве этого недостаточно, чтобы убедить вас в моей невинности? — Допустим, что это так, дочь моя, — ответил приор, — но разве с тех пор никто не мог лишить тебя девственности? Сестра Мария поклялась, что этого не было и что, кроме него самого, никто никогда не пытался это сделать. На это он ответил, что он не может ей поверить и что ему нужны доказательства. — Какие же доказательства я могу привести? — спросила она. — А вот какие, — отвечал святой отец, — те самые, которые приводили все остальные монахини. Я ведь являюсь пастырем не только душ ваших, но и вашей плоти. Все ваши аббатисы прошли через мои руки. И тебе тоже нечего бояться, я только удостоверюсь в том, девственна ты или нет. Поэтому ляг сейчас на постель и подними платье. — Вы уже столько раз приставали ко мне и объяснялись в безумной любви, — в негодовании вскричала сестра Мария, — что я твердо убеждена, что вам хочется вовсе не удостовериться в том, что я невинна, а лишить меня невинности. Поэтому знайте, что я никогда на это не соглашусь. Тогда приор сказал, что за непослушание отлучит ее от церкви, и пригрозил, что созовет капитул и приведет ее туда, чтобы изобличить перед всеми, ибо знает про ее связь с духовником… Приор немедленно собрал капитул и, призвав сестру Марию, велел ей стать на колени перед всеми и сказал ей раздраженно: — Сестра Мария, я огорчен тем, что ты оказалась глуха ко всем моим добрым советам и содеяла такой грех, за который, вопреки обыкновению моему, я должен наложить на тебя покаяние. Когда я допрашивал твоего духовника о тех преступлениях, в которых его обвиняют, он признался, что согрешил с тобой и случилось это именно в том месте, где вас застали свидетели. А поскольку я покровительствовал тебе и сделал тебя старшей над послушницами, теперь я приказываю, чтобы ты стала самой последней из всех и чтобы отныне ты сидела на полу и ела один только хлеб и пила воду — до тех пор, пока вся обитель не признает, что покаянием этим ты искупила свой грех… Ко всему прочему, приор запретил ей свидания с отцом и матерью на три года, — то есть до тех пор, пока не окончится срок наказания, — и не позволил ей писать никаких писем, сказав, что за нее эти письма будет писать обитель. С этим он и уехал, а несчастная монахиня в течение долгого времени сносила наложенную на нее кару. Мать ее, у которой она была любимой дочерью, изумлялась, не получая от нее писем, и сказала одному из своих сыновей, что, должно быть, дочери ее уже нет в живых, а монахини, чтобы получать годовое содержание, которое ей полагалось, решили скрыть ее смерть. И она попросила его поехать в монастырь и узнать, что случилось с Марией. Тот немедленно же туда отправился, и, когда он осведомился о ней, ему, как это принято делать в подобных случаях, сказали, что сестра его уже три года как лежит в постели. Ответ монахинь его, однако, не удовлетворил, и он поклялся, что, если его не пустят к сестре, он все равно силой ворвется в монастырь и ее увидит. Решимость его всех так испугала, что они привели несчастную Марию к ограде монастыря, причем аббатиса все время стояла с ней рядом, так что она ничего не могла сказать брату о себе, кроме того, что ей было позволено. Но сестра Мария оказалась достаточно сообразительной и успела написать обо всем, что с ней за это время произошло и что вы уже знаете, присовокупив к этому рассказ о многих других хитростях приора, которыми он хотел ее обмануть, перечислять которые здесь было бы слишком долго… Письмо это брат отвез матери. Та была в полном отчаянии и сама поехала в Париж к королеве Наваррской, единственной сестре короля. Королева была очень огорчена, ибо она безраздельно доверяла приору монастыря Сен Мартен и даже поручила ему заботу о своих двух золовках — аббатисах Монтивилье и Кан[151]. Известие же о столь тяжелом преступлении привело ее в ужас, и она стала думать о том, как бы наказать истязателя несчастной девушки. Она рассказала обо всем королевскому канцлеру[152], который в то время был легатом Франции, а сама тут же послала за приором монастыря Сен Мартен, которому нечем было перед ней оправдаться, разве только тем, что он уже был семидесятилетним стариком. И он стал молить королеву Наваррскую, чтобы она помилосердствовала и припомнила все его прежние заслуги, а равно и готовность служить ей и впредь, и прекратила этот процесс, клятвенно заверив ее, что сестра Мария Эроэ — жемчужина целомудрия и добродетели. Королеву слова его так поразили, что она не сразу даже нашлась, что ответить. Так или иначе, она оставила его на прежнем месте, и приор, пристыженный и смущенный, вернулся в свой монастырь, где старался не попадаться никому на глаза, и, прожив еще год затворнической жизнью, там и умер. А сестра Мария Эроэ, заслужившая добродетелью, которую ей даровал Господь, всеобщее уважение, была взята из Жифского монастыря, где ей пришлось претерпеть столько горьких мук, и приказом самого короля назначена аббатисой в аббатстве Жи, возле местечка Монтаржи[153], и премного там потрудилась. И она жила там, преисполненная веры в Господа, и всю жизнь воздавала Ему хвалу за то, что, вернув ей честь, Он даровал ей спокойную и благостную жизнь…» Перевод А. М. Шадрина. (Цитируется по изданию: Маргарита Наваррская. Гептамерон. Л., 1967.)Фрагмент 44. Джованни Боккаччо. «Декамерон»
«День VIII. Новелла IV Настоятель Фьезоле любит одну вдову; которая его не любит; воображая, что он с нею, он спит с ее служанкой, а братья дамы дают ему попасться в руки епископа. …Как всякой из вас известно, Фьезоле, гору которого мы можем отсюда видеть, был когда-то древнейшим и значительным городом, и, хотя он теперь весь разрушен, тем не менее там всегда был епископ, есть и теперь. Там, по соседству с главной церковью, у одной родовитой вдовы, по имени монна Пикарда, было прежде поместье с небольшим домом; будучи не из богатых женщин сего мира, она проводила здесь большую часть года, а с ней двое братьев, юношей очень хороших и обходительных. Так как она часто ходила в главную церковь и была еще очень молода, красива и привлекательна, то и случилось, что настоятель той церкви так сильно в нее влюбился, что не знал, как быть. Спустя некоторое время он осмелел так, что сам объявил даме о своем желании и попросил ее внять его любви и полюбить его, как он ее любит. Был тот настоятель уже старик, но духом юный, предприимчивый и надменный, много о себе воображавший, с такими жеманными и неприятными манерами и обращением и такой надоедливый и противный, что не было человека, который благоволил бы к нему; а если кто и благоволил хоть немного, то дама не только не терпела его, но и ненавидела более, чем головную боль. Будучи женщиной умной, она ему ответила: «Мессер, что вы меня любите, может быть мне только приятно, и я обязана любить вас, и охотно стану любить, но в моей любви и в вашей не должно быть ничего нечестного. Вы — мой духовный отец и священник и уже значительно приблизились к старости, а это должно сделать вас почтенным и целомудренным; с другой стороны, и я — не девушка, к которой еще шло бы такое ухаживание, а вдова, а вы знаете, какой честности требуют от вдов, потому извините мне, но той любовью, о которой вы просите, я никогда не полюблю вас, да и не желаю быть вами любима таким образом». Настоятель, которому не удалось на этот раз ничего от нее добиться, не упал духом, как сраженный при первом ударе, а, пустив в ход свою надменную назойливость, стал часто приставать к ней с письмами и даже лично, когда видел, что она в церкви. Так как это приставание было очень неприятным и назойливым для дамы, она замыслила отделаться от него таким способом, какого он заслуживал, если уже не могла каким-нибудь другим; но она ничего не стала предпринимать, не поговорив раньше с братьями. Сказав им, как обращается с нею настоятель и что она сама намерена сделать, и получив на то их полное согласие, она несколько дней спустя отправилась, по обычаю, в церковь. Как увидел ее настоятель, тотчас направился к ней, как то делал обыкновенно, и стал с ней беседовать по-родственному. Дама, увидев, что он идет, взглянула на него приветливо и, отойдя с ним в сторону, когда настоятель много наговорил ей обычных слов, сказала, испустив глубокий вздох: «Мессер, я часто слышала, что нет столь твердого замка, который, будучи подвержен ежедневным нападениям, не был бы наконец взят, как то, я вижу ясно, случилось и со мною. Вы так осаждали меня то сладкими словами, то одной любезностью, то другою, что заставили нарушить мое намерение, и я решилась, если уж я так понравилась вам, быть вашей». Настоятель, крайне обрадовавшись, сказал: «Мадонна, большое вам спасибо: сказать вам правду, я сильно удивлялся, что вы так долго держались, если подумать, то такого случая у меня еще не было ни с одной; напротив, я порой говорил: если бы женщины были из серебра, не годились бы на монету, потому что ни одна не выдержала бы молота. Но оставим это пока: когда и где мы можем сойтись вместе?» На это дама отвечала: «Милый господин мой, когда? — может быть, тогда, когда вам будет угодно, ибо у меня нет мужа, которому я обязана была бы давать отчет в ночах; но где? — я не знаю, что и придумать». Настоятель сказал: «Как же не знаете? А в вашем доме?» Дама отвечала: «Мессер, вам известно, что у меня два брата, молодые люди, которые днем и ночью являются в дом со своим обществом, а у меня дом не очень-то велик, и потому там нельзя было бы сойтись, разве кто согласился бы быть там как немой, не испуская ни слова, ни звука, и в темноте, словно слепой; если захотеть так устроить, то это возможно, ибо до моей комнаты им дела нет; только их комната так близко от моей, что нельзя сказать слова столь тихо, чтобы не было слышно». Тогда настоятель сказал: «Мадонна, из-за этого дело не станет, на ночь или две, пока я размыслю, где бы в другом месте нам быть с большим удобством». — «Это уж ваше дело, мессер, — говорит дама, — я только прошу вас об одном: чтобы это осталось в тайне и об этом никогда не узнали ни слова». Тогда настоятель сказал: «Мадонна, об этом не беспокойтесь и, если возможно, устройте, чтобы нам сегодня же вечером быть вместе». Дама ответила: «Я согласна», — и, сказав ему, как и когда он должен прийти к ней, рассталась с ним и вернулась домой. У этой дамы была служанка, не очень-то молодая, но с таким некрасивым, уродливым лицом, какое когда-либо видели, ибо нос у нее был сильно приплюснут, рот кривой, губы толстые, зубы врозь и большие; она косила немного, и глаза у ней постоянно болели, цвет лица зеленый и желтый, так что, казалось, она провела лето не в Фьезоле, а в Синигалье. Ко всему она еще хромала, и правая нога была короче; звали ее Чута; а так как лицо у нее было такое зелено-желтое, все звали ее Чутацца. Но хотя уродливая собой, она была не без некоторой хитрости. Позвав ее к себе, дама сказала ей: «Чутацца, если ты окажешь мне услугу в эту ночь, я подарю тебе хорошую новую сорочку». Услышав, что говорят о сорочке, Чутацца отвечала: «Мадонна, если вы подарите мне сорочку, я в огонь брошусь, не то что другое». — «Хорошо, — сказала дама, — я желаю, чтобы эту ночь ты проспала в моей постели с мужчиной и обласкала его, но только смотри, не говори ни слова, так чтобы мои братья тебя не слышали: ведь ты знаешь, что они спят рядом; а потом я подарю тебе сорочку». Чутацца говорит: «Я просплю с шестерыми, не то что с одним, коли нужно». И вот, когда настал вечер, настоятель явился, как ему было наказано, а оба молодых человека, по условию с дамой, были у себя в комнате и давали о себе знать; потому настоятель, тихонько и в темноте войдя в комнату дамы, направился, как сказали ему, к постели, а Чутацца, хорошо наученная дамой, что ей делать, направилась с другой стороны. Полагая, что с ним рядом его дама, отец настоятель обнял Чутаццу и принялся целовать ее, не говоря ни слова, а Чутацца — его; и начал настоятель забавляться с нею, вступая во владение издавна желанными благами. Когда дама устроила это, приказала братьям сделать остальное из того, что было условлено. Тихо выйдя из комнаты, они направились на площадь, и судьба благоприятствовала им в том, что они затевали, более, чем они сами ожидали, ибо жар стоял сильный, и епископ осведомился об этих двух юношах, чтобы прогуляться до их дома и выпить у них. Увидев, что они идут, он выразил им свое желание и отправился с ними по пути; войдя с ними на их прохладный дворик, где зажжено было много свечей, он с большим удовольствием отведал их хорошего вина. Когда он выпил, молодые люди сказали: «Мессер, так как вы оказали нам такую милость, что удостоили посетить наш малый домик, куда мы шли пригласить вас, нам желательно, чтобы вы соблаговолили взглянуть на одну вещицу, которую мы хотим вам показать». Епископ отвечал, что сделает это охотно; поэтому один из юношей, взяв в руку зажженный факел и идя вперед, тогда как за ним следовали епископ и все другие, направился к комнате, где отец настоятель лежал с Чутаццой. Тот, чтобы скорей добраться, поспешил ездою и, прежде чем они туда пришли, проехал более трех миль; потому, немного устав, отдыхал, держа Чутаццу в объятиях, несмотря на жару. Когда молодой человек вошел с факелом в комнату, а за ним епископ и все другие, ему показали настоятеля с Чутаццой в объятиях. Между тем проснулся и отец настоятель и, увидев свет и много народа вокруг себя, от сильного стыда и страха уткнул голову под простыню. Епископ страшно выбранил его, велел ему вытащить голову и поглядеть, с кем он спал. Узнав обман дамы, настоятель как по этой причине, так и от позора, который от того ему произошел, так вдруг опечалился, как никто другой; по приказанию епископа он оделся и был под хорошей стражей отправлен домой, чтобы выдержать великое покаяние за совершенный грех. Тогда епископ пожелал узнать, как случилось, что он явился сюда спать с Чутаццой. Молодые люди все ему рассказали по порядку. Когда епископ то услышал, очень похвалил даму, а также и юношей за то, что, не желая марать рук в крови священника, с ним обошлись, как ему подобало. За этот грех епископ велел ему плакаться сорок дней, но любовь и негодование заставили его плакать более сорока девяти, не говоря уже о том, что долгое время спустя он никогда не мог пройти по дороге, чтобы ребятишки не показывали на него пальцем, говоря; «Смотрите, вот — тот, кто спал с Чутаццой!» Это так сильно его досадовало, что он едва не сошел с ума. Таким-то образом почтенная дама свалила с плеч надоедливого и бесстыдного настоятеля, а Чутацца добыла себе сорочку». Перевод А. Н. Веселовского. (Цитируется по изданию: Джованни Боккаччо. Декамерон. М., 1999.)Фрагмент 45. Маргарита Наваррская. «Гептамерон»
«День V. Новелла XLVIII На постоялом дворе, где остановились два приезжих монаха, справляли свадьбу. Старший из монахов, который был похитрее другого, заметив, что молодая скрылась, последовал за ней в спальню и занял место ее мужа, в то время как тот развлекался, танцуя с гостями. В одной из деревень Перигора на постоялом дворе была свадьба местной девушки, и родные и друзья жениха и невесты постарались сделать все, чтобы справить ее попышнее. В этот день в деревню прибыли два монаха, которым подали ужин в отведенной им комнате, ибо присутствовать на свадьбе лицам их положения не подобало. Но старший из монахов, который был похрабрее и похитрее другого, решил, что, раз его не допустили к свадебному столу, он пристроится к брачному ложу и сыграет с ними хорошую шутку. И когда настал вечер и начались танцы, монах этот долгое время глядел в окно на молодую, которая ему показалась очень красивой. И, осторожно осведомившись у служанок, в какой комнате она будет спать, обнаружил, что комната эта расположена рядом с той, которую отвели им. Монах очень обрадовался и, начав караулить у окна, ожидая подходящей минуты, чтобы привести в исполнение свой замысел, увидел, как молодая прошла к себе в спальню, куда ее привели старухи, как это принято. А так как было еще очень рано, молодой муж не хотел уходить с танцев и так увлекся ими, что, казалось, совсем позабыл о своей молодой жене. Монах же все время только о ней и думал — и, едва только услыхал, что молодая улеглась спать, снял свою серую рясу и занял подле нее место мужа. Но, боясь, как бы его там не обнаружили, оставался очень недолго и вышел в коридор, в конце которого стоял его приятель, следивший, чтобы никто ему не помешал. Тот знаком показал ему, что муж все еще танцует. Монах, который не до конца еще утолил свое вожделение, вернулся к молодой женщине и покинул ее только тогда, когда друг дал ему знать, что пора уйти. Муж улегся в постель, и тогда жена его, которую монах до того уже замучил, что ей хотелось только поскорее уснуть, не удержалась и сказала: — Ты что же, решил, должно быть, совсем не спать и измываться надо мной всю ночь? Ее ни в чем не повинный муж, который только что лег, до крайности поразился и спросил ее, как он мог над ней измываться, если он все время был на танцах. — Нечего сказать, хороши танцы! — воскликнула бедная женщина. — Ты уже третий раз являешься сюда и ложишься ко мне в постель. По-моему, тебе бы уж лучше спать. Услыхав эти речи, муж ее был так изумлен, что забыл обо всем на свете и решил во что бы то ни стало узнать, что это все означает. Когда же она рассказала, что с нею было, он догадался, что это проделки одного из монахов, остановившихся на этом постоялом дворе. Он тут же встал с постели и кинулся в их комнату, которая была рядом. И когда оказалось, что там никого нет, он принялся так громко звать на помощь, что все его друзья сбежались. Узнав, в чем дело, они захватили свечи, фонари и, собрав всех собак, какие только были в деревне, стали помогать ему искать францисканцев. И когда оказалось, что в доме их нет, они принялись разыскивать беглецов повсюду и обнаружили их в винограднике. Там-то они уж и расправились с монахами так, как те заслужили; исколотив их, они отрезали им руки и ноги и оставили их в винограднике под охраной Вакха и Венеры, ибо их настоящими учителями были именно они, а отнюдь не святой Франциск[154]…» Перевод А. М. Шадрина. (Цитируется по изданию: Маргарита Наваррская. Гептамерон. Л., 1967.)Фрагмент 46. Маргарита Наваррская. «Гептамерон»
«День IV. Новелла XXXI Дабы до скончания века люди помнили о жестокости одного из монахов-францисканцев, возгоревшегося страстью к жене дворянина, францисканский монастырь был сожжен вместе со всеми, кто в нем находился. Во владениях императора Максимилиана Австрийского[155] находился некогда францисканский монастырь, весьма почитаемый в округе; а неподалеку от него было поместье одного дворянина. Дворянин этот был в такой дружбе с монахами-францисканцами, что готов был поступиться чем угодно, лишь бы вместе с ними творить добрые дела, соблюдать посты и молиться. Среди монахов был один, высокий и красивый, которого дворянин этот избрал своим духовником. Монах этот распоряжался у него в доме и мог позволить себе там все, что душе угодно. Жена этого дворянина была хороша собой и очень умна. И монах влюбился в нее, да так, что не мог ни пить, ни есть и совсем потерял голову. Решив добиться взаимности, он отправился в дом дворянина и, не застав хозяина, спросил его жену, куда он ушел. Та сказала, что муж ее отправился в одно из своих поместий и будет в отлучке дня два или три, но, если у него есть к нему какое-либо дело, она пошлет за ним слугу. Монах ответил, что ему ничего не надо, и стал расхаживать взад и вперед по дому, как будто обдумывая что-то важное. Когда он вышел из комнаты, хозяйка сказала одной из своих служанок, — а их у нее было всего лишь две: — Пойди-ка к святому отцу и спроси у него, чего он хочет. По лицу его видно, что он чем-то недоволен. Служанка вышла во двор и спросила монаха, не угодно ли ему чего. Он ответил, что да, — и, затащив ее в угол, выхватил из рукава кинжал и всадил ей в горло. В это время во двор въехал на лошади один из слуг, который ездил собирать подати. Спешившись, он поздоровался с монахом, а тот, обняв его, всадил ему в спину нож и тут же запер ворота. Видя, что посланной все нет, хозяйка дома стала тревожиться и сказала другой служанке: — Поди-ка посмотри, куда она делась! Та ушла, — и, едва только святой отец ее увидел, он завел ее в угол и расправился с ней так же, как с первой. А когда он удостоверился, что в доме никого больше не осталось, он пошел к жене дворянина и признался ей, что давно уже любит ее и что настал час, когда она должна уступить его желаниям. Дама, которой все это и в голову не могло прийти, ответила: — Отец мой, если бы я на это решилась, вы бы первый потом меня посрамили. — Выйдите во двор, — сказал монах, — и вы увидите, что я сделал. Увидав двух убитых служанок и слугу, женщина пришла в такой ужас, что стояла неподвижно, не в силах произнести ни слова. Однако негодяю было мало овладеть ею на короткое время, — и, рассчитывая на большее, он не стал пускать в ход силу. — Не бойтесь, сударыня, — сказал он, — вы сейчас в руках у человека, который любит вас больше всего на свете. С этими словами он распахнул свою рясу и, вытащив из-запазухи другую, поменьше, протянул ее несчастной, сказав, что, если она сейчас же не наденет ее, он расправится с нею так же, как расправился с теми, кого она видела во дворе. Несчастная, едва живая от страха, решила притвориться, что согласилась исполнить все, чего он хочет, чтобы спасти свою жизнь и выиграть время, ибо она надеялась, что муж ее скоро вернется… …Не медля ни минуты, монах пустился в путь, увозя с собою в обличье маленького францисканца ту, которая столько времени была предметом его вожделения. Случилось так, что муж ее, окончив свои дела раньше, чем предполагал, возвращался к себе домой тою же дорогой, которой ехала теперь его жена. Как только монах увидел его издалека, он сказал ей: — Навстречу нам едет ваш муж! Я знаю, что, если вы взглянете на него, он захочет вырвать вас из моих рук. Поэтому идите следом за мной и не смейте поворачивать голову в его сторону. Если вы ему только подадите знак, я всажу вам в горло кинжал раньше, чем он успеет освободить вас. В это время дворянин приблизился к ним и спросил, откуда он едет. — Из вашего дома, — отвечал монах, — супруга ваша в добром здравии и ждет вас. Дворянин проследовал дальше, не узнав своей жены. Но бывший с ним слуга хорошо знал постоянного спутника францисканца, брата Жана, и, думая, что это он, стал его окликать по имени. Бедная женщина, которая боялась даже взглянуть в сторону мужа, разумеется, ничего ему не ответила. Тогда слуга перебежал дорогу и попытался заглянуть ей в лицо. На этот раз его госпожа сделала ему знак, и он успел увидеть ее полные слез глаза. Слуга вернулся к своему господину и сказал ему: — Ваша милость, я переехал через дорогу и пригляделся к этому человеку, это вовсе не брат Жан, это не кто иной, как ваша жена, глаза у нее полны слез, и она так жалостно на меня посмотрела. Дворянин сказал, что он, должно быть, рехнулся, и не обратил никакого внимания на его слова. Но слуга продолжал настаивать и просил подождать, пока он не догонит путников и не убедится еще раз, что это действительно так. Его господин позволил ему это сделать и стал его дожидаться. Но едва только монах услыхал сзади голос слуги, звавший брата Жана, он испугался, что тот узнает свою госпожу, и с такой силой ударил его бывшей у него в руках большой палкой, что сбросил его с лошади, а потом, кинувшись на него, перерезал ему горло. Господин, видевший издали, как слуга упал на землю, решил, что это какая-то несчастная случайность, и поспешил, чтобы ему помочь. Но едва только он приблизился, как монах ударил его, так же как и слугу, своей палкой с железным наконечником и, свалив на землю, набросился на него. Однако дворянин был очень силен; он вцепился в монаха так, что тот не мог ничего с ним поделать, и вышиб у него из рук кинжал, который женщина тотчас же подняла и передала мужу, а сама со всею силой ухватила монаха за капюшон. И только после того, как дворянин нанес ему несколько ран кинжалом, монах признался в своих злодеяниях и запросил пощады. Убивать его дворянин не стал. Он попросил жену пойти домой за людьми и прислать повозку, на которой он мог бы его увезти, что она и сделала; она скинула с себя рясу и, ничем не покрыв остриженную голову, в одной рубашке побежала домой. Сбежались все слуги — они поспешили к своему господину, чтобы помочь ему привезти пойманного волка. Найдя его на дороге, они схватили его, связали и отвезли в дом к дворянину, который потом отправил его на суд к императору Фландрии, и на суде монах признался во всех своих преступлениях. И на основании его признаний было учинено следствие, которое обнаружило, что в монастыре своем францисканцы укрывали многих знатных дам и юных красавиц, которые были завезены туда с помощью тех же средств, которыми хотел воспользоваться этот монах, что ему удалось бы, если бы не милость Господа нашего, который всегда приходит на помощь тем, кто полагается на Него. И из монастыря вывезли всех похищенных и заточенных в нем женщин, монахов же заперли в нем и заживо всех сожгли вместе с монастырем, чтобы люди навеки запомнили это преступление и поняли, что нет ничего опаснее любви, когда она зиждется на пороке, так же, как нет ничего человечнее и достохвальнее любви, которая пребывает в сердце человека справедливого и доброго…» Перевод А. М. Шадрина. (Цитируется по изданию: Маргарита Наваррская. Гептамерон. Л., 1967.)Фрагмент 47. Маргарита Наваррская. «Гептамерон»
«День I. Новелла V Двое монахов-францисканцев из Ниора, переезжая реку возле порта Кулон[156], решили с помощью силы овладеть лодочницею, которая их перевозила. Но женщина эта оказалась честной и достаточно хитрой и, сделав вид, что соглашается на то, чего они от нее хотят, очень ловко их обманула и отдала в руки судьи, который отправил их к настоятелю монастыря, чтобы они понесли там заслуженное наказание. В Кулонском порту, неподалеку от Ниора, жила некая лодочница, которая во всякое время перевозила людей с одного берега на другой. И вот однажды ей пришлось перевозить двух монахов из Ниорского монастыря, и, кроме них троих, в лодке никого больше не было. А так как переправа эта — одна из самых длинных во всей Франции, то, чтобы не дать своей спутнице соскучиться, монахи стали уговаривать ее разделить их любовь, на что та отвечала так, как и следовало ожидать, — отказом. Но ни усталость после долгого пути, ни холод, которым веяло от воды, ни стыдливый отказ этой женщины не охладили их страсти, и они решили завладеть ею силой, а если она воспротивится их ласкам, столкнуть ее в реку. Но женщина, которая была столь же добродетельна и разумна, сколь они бесстыдны и коварны, сказала: — Поверьте, что я вовсе не так упряма, как вам это показалось; я попрошу вас только исполнить две мои просьбы, и тогда вы увидите, что исполнение вашей доставит мне не меньше радости, чем вам обоим. Монахи тут же поклялись именем своего патрона, святого Франциска, что готовы исполнить все, о чем она их попросит. — Прежде всего дайте мне клятвенное обещание, что вы никому об этом не расскажете, — потребовала она. Монахи ей это пообещали и, не задумываясь, поклялись. Тогда она сказала: — Развлекаться со мною вы будете по очереди, мне ведь стыдно показываться вам обоим вместе. Решите только, кто из вас будет первым. Монахи нашли, что просьба ее совершенно законна, и тот из них, кто был помоложе, согласился, чтобы старший был первым. И как только они пристали к маленькому островку, женщина сказала младшему из монахов: — Святой отец, читайте покамест ваши молитвы, а мы с вашим приятелем поедем сейчас на другой островок. И если он вернется оттуда довольный мною, мы потом оставим его здесь и поедем туда с вами. Младший соскочил на землю и стал ждать возвращения своего товарища, которого лодочница повезла на другой островок. Когда лодка подошла к берегу, женщина сделала вид, что привязывает ее к дереву, и сказала монаху: — Друг мой, подите-ка выберите местечко поудобнее. Святой отец сошел на берег и стал искать, где бы им было поудобнее прилечь. Но едва только женщина увидела, что он ступил на землю, как она мгновенно оттолкнула лодку ногой и уплыла в ней дальше по реке, оставив и того и другого монаха на пустынных островках, и только крикнула что есть мочи: — Ждите теперь, пока ангел Господень придет вас утешить, от меня вы уже ничего не дождетесь…» Перевод А. М. Шадрина. (Цитируется по изданию: Маргарита Наваррская. Гептамерон. Л., 1967.)Фрагмент 48. Аньоло Фиренцуола. Из «Бесед о любви»
«Новелла IV Дон Джованни любит Тонию, и она за обещанную пару рукавчиков ему угождает; но, так как он их не отдает, она, сговорившись с мужем, заманивает его в дом, и там они заставляют его наказать себя собственными руками. …Не так давно в пистойских горах был священник по имени дон Джованни дель Чивело, капеллан церкви Санта Мария а Кварантола, который, не изменяя обычаям священников этого края, безмерно влюбился в свою прихожанку по имени Тония, жену одного из первых людей на селе, которого звали Джованни, хотя все и величали его прозвищем Чарпалья[157]. Тонии этой было около двадцати двух лет, и была она смугленькая, ибо очень любила солнце, плотная, округлая, так что казалась мраморной полуколонной, пробывшей несколько лет под землей. Помимо прочих достоинств, коими она отличалась — умением хорошо вскопать грядку и чисто прополоть засеянную борозду, — она была лучшей плясуньей во всей округе, и, когда, не ровен час, попадала в хоровод на киринтану[158], у нее было такое дыхание, что она утомила бы и сотню мужчин, и счастлив был тот, кто мог проплясать с ней хотя бы один выход: так что, смею вас уверить, ей делали не одно предложение. Заметив томление мессера, добрая женщина, ничуть не брезгуя, нет-нет да и приласкает его, так что его преподобие прыгал от радости, точно двухгодовалый жеребенок. И с каждым днем все больше смелея, правда, не говоря ни о чем, что было ниже пояса, он умудрялся проводить с ней немало времени, рассказывая самые что ни на есть потешные истории, какие вы только когда-либо слыхали. Но она, будучи хитрее самого черта, чтобы узнать, может ли быть от него какой-нибудь толк и насколько он стоек перед искушениями кошелька, всякий раз, узнав, что он отправляется в город, выпрашивала у него какую-нибудь вещицу, скажем, левантийских румян на два кватрина, немного белил, или просила, чтобы он заказал ей новую пряжку на кожаный поясок или другие обновки того же рода, на которые преподобный отец так охотно тратил свои деньги, словно на починку ризы. Однако то ли ему нравилось красоваться на площади в рясе из небесно-голубого сукна с рукавами, прорезанными на локтях, то ли ему казалось, что он достаточно обласкан любовью, то ли он боялся мужа или того, что из этого может выйти, но он дожидался, пока Тония ему не скажет: «Дон Джованни, приходите побаловаться со мной». Так тянулось месяца два, и он питался одним ветром, как лошадь Чолле[159], а она получала от него эти маленькие услуги, и дальше этого они не шли. Наконец, то ли Тония стала уж слишком запрашивать — не постыдилась же она попросить у него сразу пару желтых башмачков из тех, что скроены с вырезом на боку и завязываются шнурочком, и пару сандалий с прихотливым узором на белых ремешках, — то ли жажда перемены разгоралась у него с каждым днем все сильнее, или же была тому другая причина, но он решил, что хорошо было бы при первом случае попросить ее отдать ему свою честь, а там будь что будет. И, выследив однажды, что она одна, он принес ей салат из овощей своего огорода, а у него там был чудеснейший стриженый латук и самые лучшие волчцы, какие вам только когда-либо приходилось увидеть, и, угостив ее, присел рядом с ней и, пристально-пристально поглядев на нее некоторое время, стал ни с того ни с сего говорить ей такие слова: — Ишь ты, как хороша нынче эта Тония! Клянусь Евангелием, я не знаю, что ты с собой сделала. О, насколько же ты мне кажешься красивее того святого Антония, которого намедни приказал написать в нашей церкви Фруозино ди Мео Пулита во спасение души своей, своей супруги монны Пиппы и своей сестры. Где же еще такая гражданка в Пистойе, которая была бы столь же мила и пригожа, как ты! Гляди-ка, разве эти губки не похожи на оборку моей ризы в праздничные дни? О, что за блаженство, если бы можно было их прикусить так, чтобы знак остался на них до виноградного сбора! Ей-ей! Клянусь тебе семью благодатями мессы, что, не будь я священником (а тебе предстояло бы выйти замуж), я бы добился, чтобы ты была в моей власти. Ох, и разгорелся бы я тогда! Черт возьми, как бы мне отделаться от этого зуда, который ты на меня наслала? Пока мессер произносил эти слова, Тония, сердито косясь на него и посмеиваясь исподтишка, то глядела на него, то, казалось, готова была ему пригрозить, а когда он закончил разглагольствовать, она ответила ему, покачав головой: — Эх, сере, сере, бросьте, нечего издеваться! Эдак лучше будет. Если я не угождаю вам, достаточно, что я угождаю моему Чарпалье. Святой отец, который уже начал закипать, суетился от любовной истомы, как трясогузка, и, выпячивая подбородок, словно ему вот-вот придет конец, услыхав такой ответ, собрался с духом и продолжал: — Никогда еще ты мне столько не угождала, краса моя, как угождаешь сейчас. Разве ты не видишь, что ты заставляешь меня каждый день рыскать туда и сюда, чтобы тебя увидеть. О, сколько я бы дал, чтобы хоть один разочек дотронуться до тех двух голубков, что у тебя на груди, которые заставляют меня сгорать скорее, чем грошовая свеча перед алтарем. — Что же вы, черт возьми, дадите, — сказала на это Тония, — вы, который скупее петуха? Клянусь честью, поп и скряга — одно и то же. Никак, он собрался раскошелиться! Будто я не помню, какую вы намедни, когда я у вас попросила сандалии, скорчили рожу, — словно мачеха, будто я попросила невесть что. Я ведь прекрасно знаю, что, когда ваш сосед Менкалья захотел получить самый пустяк от жены Теттеннино, ему пришлось заплатить за половину юбки, которую она себе заказала на Всех Святых. И знайте, что она была из лучшего романьоло[160], какое только есть в этой округе, и одна материя стоила ей больше двенадцати лир, без подкладки, без обшивки, оборки и шитья, которые обошлись ей в целое состояние. — Клянусь, моя Тония, телом святой, а какой не знаю, — сказал на это дон Джованни, — ты тысячу раз не права, ибо я более щедр к женщинам, чем кто бы то ни было. Я никогда не езжу в город без того, чтобы не истратить по меньшей мере два болоньина[161] с теми хорошенькими христианками, которые стоят за дворцом приоров. Так что подумай только, что бы я сделал для тебя, у которой такое очаровательное личико и которая так растормошила мне печенки и все внутренности, что у меня язык не поворачивается читать службу! Да, по правде говоря, я боюсь, не околдовала ли ты меня. Кумушка наша, услыхав столь щедрые обещания, решила, что попытка не пытка, и сказала ему, что готова его ублаготворить, если он обещает заплатить за пару рукавчиков желтой саржи с обшивкой зеленого бархата на манжетах и несколько головных ленточек, тоже зеленых, таких, чтобы развевались, и сетку из серой нитки с мешочком для волос и дать ей взаймы три болоньина, которых у нее не хватает, чтобы выкупить холстину у ткачихи. А если он этого не захочет сделать, пусть отправляется в Пистойю к тем хорошеньким христианкам, которые давали ему за два болоньи-на. Бедный священник, который уже приготовил пест, чтобы приладить его к ее ступке, обещал ей, дабы не терять такого случая, не то что рукавчики, но и весь лиф вместе с ночной рубашкой, и уже хотел запустить ей руку в волоса, но она, малость поартачившись, сказала: — Эй, любезный дон Джованни, погодите-ка вы там, нет ли у вас, чего доброго; при себе тех несчастных кватринов, которые я у вас просила, потому что я имею в них превеликую нужду. Ведь мой-то, по правде говоря, не способен найти и лоскутка. Добрый отец, который не прочь был дать взаймы так, как это делал священник из Варлунго[162], стал отговариваться, что у него нет при себе денег, но что, как только закончится вечерня, он дойдет до церкви и посмотрит, не хватит ли того, что найдется в свечном ящике, и ей принесет. Поняв, что он ей заговаривает зубы, Тония сделала вид, что хочет рассердиться, и сказала ему, ворча: — Разве я вам не говорила, что вы щедры, как просторы пистойской равнины? Идите прочь! Клянусь крестом Господним, что вы меня не коснетесь, прежде чем не дадите мне эти гроши. По совести, ваш брат всякого научит, как не нужно никогда начинать службу, если вам не заплатили вперед. Хватит с вас того, что я соглашаюсь дожидаться остального, пока вы съездите в город, но эти деньги мне так нужны, что уж и не знаю, как сказать вам. — Да ну же, ну, не сердись, Тонниотта, — сказал дон Джованни, услыхав, как она расшумелась, — дай-ка я погляжу, может быть, они, чего доброго, при мне. И с этими словами он вытащил свой кошелек, который он держал в паре сетчатых чулок, и так стал давить его, так выкручивать, что извлек из него шесть сольди, выжимая их один за другим, и отдал ей. А когда он их отдал, она согласилась дать ему отзвонить на своих колоколах в шалаше, который находился поблизости; и в этом месте они встречались еще много раз до того, как ему отправиться в Пистойю. А когда ему пришлось туда ехать, он, по возвращении своем, потому ли, что забыл, или потому, что расход показался ему в тягость, не привез ей ничего, кроме сетки, с которой он отправился к ней, и извинился, что по забывчивости оставил рукавчики дома, пообещав принести их на следующий день; он так заговорил ее, что она этому поверила и, взявши сетку, согласилась опять пойти с ним в шалаш. Но злосчастный мессер — прошел день, прошел другой — так и не нес ни рукавов, ни рукавчиков. Тония начала злиться и однажды вечером порядком его обругала. Но он, уже отпустивший подпругу у осла и думавший, что, раз ей нужны рукавчики, пускай их себе добывает сама, ответил ей словами настолько резкими, что она жестоко на него разобиделась и решила ему отомстить. И, прикусив язык, сказала про себя: «Иди себе, окаянный поп! Если я не заставлю тебя раскаяться, пусть сдохну от лихоманки. Ну и дура же я была, что спуталась с этим гнусным отродьем, будто я тысячу раз не слыхала, что все они одним миром мазаны! Ну, на этот раз да простится мне». И дабы хорошенько показать, что она сердится, она три или четыре дня ни за что не желала видеть его. Затем, чтобы легче было отомстить так, как она это замыслила, она снова начала привлекать его тысячами ласковых словечек и, больше не говоря о рукавчиках, сделала вид, что с ним помирилась. И в один прекрасный день, когда ей показалось, что настало время, удобное для ее замысла, она ласково подозвала его к себе и, говоря, что ее Чарпалья отправился в Кутильяно, пригласила его, коли ему хочется сделать с ней четыре хороших заезда, прийти к ней в дом часов в десять, добавив, что она одна-одинешенька будет его ждать… Он дождался, пока не настал назначенный ему час, и, лишь только он настал, святой отец исполнил все то, что ему было приказано женщиной. А коварная баба в тот день рассказала своему мужу, как этот священник много раз добивался ее благосклонности. Тогда оба они, сговорившись подвергнуть его жестокому наказанию, распорядились так, как вы уже слышали. И едва лишь она заметила, что дон Джованни вошел в дом, сделав знак Чарпалье и своему брату, которые этого только и дожидались, она, тихонько идя впереди них, застала любовника, который суетился на постели и, едва увидел ее, как, ничего не подозревая, пошел ей навстречу и, учтиво поклонившись, хотел было обнять ее шею руками, чтобы поцеловать ее на французский лад. Но не успел он ее коснуться, как появился Чарпалья, крича как сумасшедший: — Ах ты, блудливый попишка, расстрига, вот когда я тебя поймал, собака еретическая, отверженная Господом! Так-то поступают праведные святые отцы? Накажи вас Бог, бродяжье отродье! Вам бы свиней пасти да на конюшне быть, а не христиан наставлять по церквам! — и, обратившись к брату, с невероятной яростью продолжал: — Не держи меня, пусти, не держи меня, а то как дам тебе! Оставь меня, я хочу выпустить кровь этой потаскухе, жене моей, и сожрать сердце этого предателя, пока оно еще горячее! В то время как тот произносил эти слова, священник, делая под себя от страха, спрятался под кровать и разразился слезами и воплями о пощаде, насколько у него хватило глотки. Но все это было брошено на ветер, ибо Чарпалья пришел с твердым решением, что на этот раз священник примет возмездие от мирян. Послушайте же, сколь жестоким оно было. Был у него в этой комнате сундучище, который стоял со времен прадеда и где он держал пояса, платья, цветные рукава и прочие ценные вещи жены. Он его отпер и вынул из него все тряпье, которое в нем находилось, и, силком вытащив священника из-под кровати и заставив его спустить подштанники (которые тот в ожидании Тонии на себе расстегнул, для того, как я полагаю, чтобы ее не томить), он схватил его за признаки, которые, оттого что святой отец имел обыкновение частенько без штанов полудновать с женщинами, были у него большие и хороших размеров, и заложил их в этот сундучище. И, опустив крышку, запер сундук ржавым огромным ключом, висевшим поблизости на крюке. Взяв у брата тупую бритву, которой жена иногда брила его по субботам, он положил ее на сундук и, не говоря больше ни слова и затворив за собой дверь в комнату, пошел по своим делам. И вот злосчастный священник, оставшись, вы себе представляете, в каком состоянии, был сразу же охвачен такой болью, что едва не лишился чувств. И хотя, так как замок был весь поломан, крышка на целых полпальца не доходила до края сундука и поэтому сначала не причиняла ему никакой или очень незначительную боль, тем не менее всякий раз, как он видел бритву и думал о том, за какое место он привязан, у него так болело сердце, что он сам удивлялся, как он до сих пор еще не умер… Не зная больше, что ему делать, он в истоме лег ничком на сундук и, то плача, то вздыхая, то вопя, то давая обеты, то посылая проклятья, так запыхался, что боль стала совершенно невыносимой; и ему пришлось искать выхода из такого положения. Поэтому, обратив необходимость в доблесть и схватив бритву, он сам на себе исполнил месть Чарпальи и остался без признаков. И такова была одолевшая его боль, что, испустив рев, как раненый бык, он замертво упал на землю. Прибежали на этот крик люди, нарочно присланные Чарпальей, и, не знаю уже, какими заговорами своими и хлопотами, достигли того, что он не лишился жизни, если только можно назвать жизнью жизнь мужчины, который уже больше не мужчина…» Перевод А. Габричевского. (Цитируется по изданию: Итальянская новелла Возрождения. М., 1964.)
 Проституция
Проституция
Проституция как официальное средство защиты
 оногамия, основанная на частной собственности и являющаяся чаще объективной обязанностью, чем субъективной склонностью, неотделима от проституции. Она — неизбежный коррелят единобрачия. Проститутка — такой же постоянный социальный тип[163], как и любовник. Оба эти явления выражают две стороны того факта, что с ходом экономической эволюции любовь получила товарный характер.
В проституции особенно ясно это обосновано, а история проституции доказывает, что товар «любовь» подчинен тем же законам, как и всякий другой. Вот что по этому поводу пишет Франсуа Вийон, поэт эпохи Ренессанса:
оногамия, основанная на частной собственности и являющаяся чаще объективной обязанностью, чем субъективной склонностью, неотделима от проституции. Она — неизбежный коррелят единобрачия. Проститутка — такой же постоянный социальный тип[163], как и любовник. Оба эти явления выражают две стороны того факта, что с ходом экономической эволюции любовь получила товарный характер.
В проституции особенно ясно это обосновано, а история проституции доказывает, что товар «любовь» подчинен тем же законам, как и всякий другой. Вот что по этому поводу пишет Франсуа Вийон, поэт эпохи Ренессанса:
С любым ложатся спать за грош,
Но ласкам этим грош цена.
Приди, когда в кармане вошь,—
Захлопнут двери, как одна![164]

Аристократическая парочка. Французский рисунок
Изо дня в день приходили известия, что не только на большой дороге или в захолустных деревнях женщинам постоянно грозит «насилие», но и во всех углах и на всех улицах города. Эта опасность, подстерегавшая около каждого дома, протягивавшая руки за каждой женщиной, вызывала всеобщий страх. Нужен был надежный громоотвод для страстей, ежеминутно готовых вспыхнуть. Уже одной этой опасности достаточно, чтобы объяснить, почему эпоха Ренессанса относилась повсеместно с такой широкой терпимостью к проституции. Сознание этой опасности укреплялось, однако, еще одним обстоятельством, быть может, наиболее важным из всех, — чрезвычайно сильными социальными потребностями, обусловленными всей структурой общества. Мы уже указали раньше на тот факт, что тогда во многих странах и во многих ремеслах подмастерья не имели права жениться. Для этой значительной части населения во многих городах и городках оставалось только внебрачное удовлетворение половой потребности, притом в продолжение почти всей их жизни. Чем больше росла индустрия, а с ней и число занятых в ней подмастерьев — часто они составляли половину населения, — тем, естественно, увеличивалась опасность, грозившая женщинам и девушкам от этой холостой части населения. Из-за тесноты и местной связанности, ввиду малого развития путей и средств сообщения, благодаря тому, что все знали друг друга и постоянно сталкивались друг с другом, эта опасность достигала размеров, которые мы, ныне живущие, можем легко недооценить, но едва ли переоценить.

Де Жод. Продажная любовь
Ввиду этого обстоятельства интересы семьи требовали охраны. В этом никто не сомневался. Такую охрану предлагала именно проституция, эта продажа и купля любви в розницу и за сдельную плату. Под влиянием всех этих причин в эпоху Ренессанса решили не только узаконить проституцию, но и отвести ей в общественной жизни почетное место.
Женщины нисколько не виноваты в том, что порою отказываются подчиняться правилам поведения, установленным для них обществом, — ведь эти правила сочинили мужчины, и притом безо всякого участия женщин.В эпоху Ренессанса прямо откровенно заявляли, что проститутка и дом терпимости — необходимая защита брака и семьи. В течение всего этого периода, во всех странах дома терпимости считались созданными «для лучшей защиты брака и девичьей чести»; так говорилось не только в хрониках и литературных трактатах, но и в указах властей, разрешавших открытие дома терпимости. Такими соображениями отклонялись повсюду возникавшие требования уничтожения проституции. Там, где оппозиции порой удавалось закрыть дома терпимости и изгнать их обитательниц, их часто вновь открывали на основании именно вышеуказанного соображения. Подтверждением может служить одно место в одной базельской хронике XVI в. Там говорится: «До сих пор очень много говорили, но ничего не предпринимали против дома терпимости в Лейсе. Люди не считали его позорным пятном и публичным скандалом, не видели здесь нарушения законов Божьих. Ибо хотя в других местах еще в начале реформации церкви покончили с этими безнравственными учреждениями, простые люди держались того мнения, что их не следует трогать, во избежание прелюбодеяния, растления девушек и других грехов, которых мы не хотим назвать. Даже держалось убеждение, что если не будет таких домов, то не будет больше ни порядочных девушек, ни честных жен». Организуя и систематизируя разврат, люди не только говорили, но и искренно верили, что делают это в интересах священнейших идей, каковы брак и женское целомудрие. И однако, эта вера была в значительной степени просто великим благочестивым самообманом. Охрана семьи была, конечно, важной причиной своеобразной терпимости к проститутке, но отнюдь не ее важнейшей причиной. Главным, хотя и неосознанным мотивом этого стремления избежать большего зла путем меньшего было желание мужчины обеспечить свое господское право. Мужчина хотел беспрепятственно удовлетворять свои желания, а это было бы невозможно, если бы строго относились к требованию мужской верности и мужского целомудрия или если бы захотели придать ему законную силу. Вот почему и узаконили проституцию, тем более что она к тому же позволяла мужчине удовлетворять изо дня в день свою потребность в разнообразии чувственных удовольствий, свою повышенную потребность в разврате. Возможность полового удовлетворения открывалась только для мужчин, но не для женщин, чьи потребности почти не удовлетворялись. Вот почему тот факт, что проститутка была включена в рамки общественной организации, и особенно тот способ, каким проституция была легализирована, представляли один из величайших триумфов законодательства. Все же в глазах мелкого буржуа и обывателя проститутка является воплощением всех возможных пороков, существом, достойным презрения. И потому и эпоха Ренессанса была проникнута подобным настроением, так как мелкобуржуазное мышление всегда обусловлено одинаковыми предпосылками. Если, несмотря на господство указанного морального воззрения, проститутка тем не менее стала важным центром жизни, то отсюда можно сделать вывод, что мужчина осмелился провозгласить свои частные мужские интересы, ничем их не прикрывая. А это служит доказательством в пользу не общераспространенной «терпимости», а открытого торжества господства мужчин.Мишель Монтень

Размеры проституции
 азительное несовпадение между положением проституции в эпоху Ренессанса и ее положением в другие периоды выражается в двух явлениях: в размерах ее, в большом количестве проституток, и в той своеобразной роли, которую проститутки могли играть и на самом деле играли в общественной жизни.
Что касается фактических размеров проституции, то цифрами их нельзя охарактеризовать ни абсолютно, ни относительно. А если по тем или иным причинам проводилась перепись, то средства были настолько примитивны, что результаты ее не могут претендовать на научную ценность. Не следует забывать далее, что ни в одной области так не любили преувеличивать, как именно в этой. И однако, в нашем распоряжении — ряд данных, позволяющих получить более или менее верный взгляд на этот вопрос.
В глаза бросается тот факт, что тогда даже самый ничтожный городок имел свой пом терпимости, свой «женский дом», как его тогда называли, а подчас и целых два. В более значительных городках существовали целые улицы, заселенные проститутками, а в крупных и портовых городах даже целые, порой значительные кварталы, где публичные женщины жили или вместе в домах терпимости, или в одиночку, одна рядом с другой. Клиентов проститутки искали не только на улице, их они ожидали не только дома, они отправлялись за ними и в другие места. Так, трактиры были тогда часто синонимами домов терпимости, а также в еще большей степени многочисленные общественные бани — во многих городах излюбленная арена действия проституток. А там, где сами посетительницы и не были проститутками, эту профессию исполняли баншицы.
Проституция в ту пору была столь доступна, что, как известно из хроники декана Сен-Тьебо, в 1420 году сношения с четырьмя проститутками стоили столько же, сколько одно яйцо:
«Плата проститутке за одно посещение была довольно незначительна, особенно в домах терпимости — настолько, что это вошло в поговорку и даже мужчины низшего сословия могли себе позволять регулярное посещение борделя[166]».
Чтобы обрисовать степень развития проституции в некоторых городах, укажем на следующие данные хроник и других источников. В Лондоне, как сообщают, существовало «невероятное количество домов терпимости». Один автор говорит:
«В царствование Ричарда II (1377–1399) лорд-мэр[167] содержал дома, где легкомысленные господа из знати развлекались с вывезенными им фландрскими красавицами. Генрих VI в 1442 дал двенадцати из таких домов привилегию. Нарисованные на стенах знаки отличали их от других домов и приглашали посетителей».
Это сообщение подкрепляется еще тем фактом, что в Англии уже в XII столетии встречается указ, касающийся домов терпимости. Другой автор рассказывает следующее о Саутуоке в Англии:
«Недалеко от места травли зверей находился дом терпимости и бани, не только не закрывавшиеся правительством, но и имевшие публичную привилегию с условием некоторых ограничений. Обыкновенно они сдавались в аренду. Даже один из лорд-мэров, великий сэр Уильям Уальворс (1400), не считал ниже своего достоинства взять их в аренду и сдавать их froes'ам, т. е. фландрским сводням».
Аналогичные не менее достоверные сведения имеются у нас относительно Парижа. Что в Париже уже в XIII в. число публичных домов было чрезвычайно велико, видно из пространного рифмованного описания парижских улиц, принадлежащего перу некоего Гилльо. Эта поэма всегда считалась важнейшим (потому что древнейшим) источником для топографии Парижа. Значение ее, по всеобщему мнению, этим и исчерпывалось. Лишь после кропотливых изысканий выяснилось, что описанные Гилльо в трехстах стихах улицы представляют не улицы вообще, а именно улицы, заселенные проститутками. Упомянутая поэма, таким образом, единственная в своем роде топография проституции, так сказать, рифмованный каталог увеселительных учреждений, составленный для жуиров XIII в. В последующие столетия число этих улиц возросло.
Также прежде свидания с проститутками имели место около колодцев во «дворах чудес» («Cours de miracles»), где жили, или на улицах, где выставляли себя напоказ. Около такого колодца, служившего, впрочем, для всеобщего употребления, собиралось по вечерам много женщин с целью потолковать о своих любовных делах.
Можно сосчитать все колодцы, игравшие роль в истории проституции, и в каждом городе можно было найти один колодец, на котором было бы легко доказать, что putagium средних веков (фр. «puits», итал. «pozzo») было неразрывно связано с забытыми в настоящее время общественными колодцами. Не требуется дальнейших доказательств того, что слова «putagium», «puteum» и «putaria» указывают на места сборищ проституток.
В Вене в XIII в. также было много таких учреждений.
В Берлине в 1400 г. существовал дом терпимости, имевший правительственную привилегию и находившийся под надзором так называемого «блюстителя нравственности».
В своей «Истории проституции» Гюгель пишет: «Многочисленные бани, существовавшие в Берлине в XIV в., были также домами терпимости. Проституток называли городскими девицами». В соседнем Кельне на реке Шпрее в 1400 г. возникло первое такое учреждение.
Жак де Витри следующим образом описывает проституцию в Университетском квартале Парижа около конца XII столетия: «В одном и том же доме, — пишет он, — живут в верхнем этаже профессора школ, а в нижнем— публичные женщины, торгующие своим телом. Ссоры между ними и их любовниками прерываются по временам учеными спорами и аргументами мужей науки».
Хуже всего обстояло дело, по-видимому, в Риме. Здесь всегда насчитывались многие тысячи проституток, и притом сюда включались только «честные проститутки», «honestae meretrices», те, которые не скрывали своего ремесла. Не меньше было, однако, и число «бесчестных», или, как их называли в Германии, «вольных проституток». Как указано в предыдущей главе, как раз в Риме очень многие женские монастыри были вместе с тем наиболее бойкими домами земной любви. Можно не придавать безусловной веры грязным эротическим фантазиям «божественного Аретино», в особенности его сатирическим описаниям римской монастырской жизни, и, однако, бесспорным остается, что в его диалогах в преувеличенных очертаниях отражается реальная действительность, и уже одно это оправдывает поговорку: «Все пути ведут в Рим, а в Риме — к безнравственности».
азительное несовпадение между положением проституции в эпоху Ренессанса и ее положением в другие периоды выражается в двух явлениях: в размерах ее, в большом количестве проституток, и в той своеобразной роли, которую проститутки могли играть и на самом деле играли в общественной жизни.
Что касается фактических размеров проституции, то цифрами их нельзя охарактеризовать ни абсолютно, ни относительно. А если по тем или иным причинам проводилась перепись, то средства были настолько примитивны, что результаты ее не могут претендовать на научную ценность. Не следует забывать далее, что ни в одной области так не любили преувеличивать, как именно в этой. И однако, в нашем распоряжении — ряд данных, позволяющих получить более или менее верный взгляд на этот вопрос.
В глаза бросается тот факт, что тогда даже самый ничтожный городок имел свой пом терпимости, свой «женский дом», как его тогда называли, а подчас и целых два. В более значительных городках существовали целые улицы, заселенные проститутками, а в крупных и портовых городах даже целые, порой значительные кварталы, где публичные женщины жили или вместе в домах терпимости, или в одиночку, одна рядом с другой. Клиентов проститутки искали не только на улице, их они ожидали не только дома, они отправлялись за ними и в другие места. Так, трактиры были тогда часто синонимами домов терпимости, а также в еще большей степени многочисленные общественные бани — во многих городах излюбленная арена действия проституток. А там, где сами посетительницы и не были проститутками, эту профессию исполняли баншицы.
Проституция в ту пору была столь доступна, что, как известно из хроники декана Сен-Тьебо, в 1420 году сношения с четырьмя проститутками стоили столько же, сколько одно яйцо:
«Плата проститутке за одно посещение была довольно незначительна, особенно в домах терпимости — настолько, что это вошло в поговорку и даже мужчины низшего сословия могли себе позволять регулярное посещение борделя[166]».
Чтобы обрисовать степень развития проституции в некоторых городах, укажем на следующие данные хроник и других источников. В Лондоне, как сообщают, существовало «невероятное количество домов терпимости». Один автор говорит:
«В царствование Ричарда II (1377–1399) лорд-мэр[167] содержал дома, где легкомысленные господа из знати развлекались с вывезенными им фландрскими красавицами. Генрих VI в 1442 дал двенадцати из таких домов привилегию. Нарисованные на стенах знаки отличали их от других домов и приглашали посетителей».
Это сообщение подкрепляется еще тем фактом, что в Англии уже в XII столетии встречается указ, касающийся домов терпимости. Другой автор рассказывает следующее о Саутуоке в Англии:
«Недалеко от места травли зверей находился дом терпимости и бани, не только не закрывавшиеся правительством, но и имевшие публичную привилегию с условием некоторых ограничений. Обыкновенно они сдавались в аренду. Даже один из лорд-мэров, великий сэр Уильям Уальворс (1400), не считал ниже своего достоинства взять их в аренду и сдавать их froes'ам, т. е. фландрским сводням».
Аналогичные не менее достоверные сведения имеются у нас относительно Парижа. Что в Париже уже в XIII в. число публичных домов было чрезвычайно велико, видно из пространного рифмованного описания парижских улиц, принадлежащего перу некоего Гилльо. Эта поэма всегда считалась важнейшим (потому что древнейшим) источником для топографии Парижа. Значение ее, по всеобщему мнению, этим и исчерпывалось. Лишь после кропотливых изысканий выяснилось, что описанные Гилльо в трехстах стихах улицы представляют не улицы вообще, а именно улицы, заселенные проститутками. Упомянутая поэма, таким образом, единственная в своем роде топография проституции, так сказать, рифмованный каталог увеселительных учреждений, составленный для жуиров XIII в. В последующие столетия число этих улиц возросло.
Также прежде свидания с проститутками имели место около колодцев во «дворах чудес» («Cours de miracles»), где жили, или на улицах, где выставляли себя напоказ. Около такого колодца, служившего, впрочем, для всеобщего употребления, собиралось по вечерам много женщин с целью потолковать о своих любовных делах.
Можно сосчитать все колодцы, игравшие роль в истории проституции, и в каждом городе можно было найти один колодец, на котором было бы легко доказать, что putagium средних веков (фр. «puits», итал. «pozzo») было неразрывно связано с забытыми в настоящее время общественными колодцами. Не требуется дальнейших доказательств того, что слова «putagium», «puteum» и «putaria» указывают на места сборищ проституток.
В Вене в XIII в. также было много таких учреждений.
В Берлине в 1400 г. существовал дом терпимости, имевший правительственную привилегию и находившийся под надзором так называемого «блюстителя нравственности».
В своей «Истории проституции» Гюгель пишет: «Многочисленные бани, существовавшие в Берлине в XIV в., были также домами терпимости. Проституток называли городскими девицами». В соседнем Кельне на реке Шпрее в 1400 г. возникло первое такое учреждение.
Жак де Витри следующим образом описывает проституцию в Университетском квартале Парижа около конца XII столетия: «В одном и том же доме, — пишет он, — живут в верхнем этаже профессора школ, а в нижнем— публичные женщины, торгующие своим телом. Ссоры между ними и их любовниками прерываются по временам учеными спорами и аргументами мужей науки».
Хуже всего обстояло дело, по-видимому, в Риме. Здесь всегда насчитывались многие тысячи проституток, и притом сюда включались только «честные проститутки», «honestae meretrices», те, которые не скрывали своего ремесла. Не меньше было, однако, и число «бесчестных», или, как их называли в Германии, «вольных проституток». Как указано в предыдущей главе, как раз в Риме очень многие женские монастыри были вместе с тем наиболее бойкими домами земной любви. Можно не придавать безусловной веры грязным эротическим фантазиям «божественного Аретино», в особенности его сатирическим описаниям римской монастырской жизни, и, однако, бесспорным остается, что в его диалогах в преувеличенных очертаниях отражается реальная действительность, и уже одно это оправдывает поговорку: «Все пути ведут в Рим, а в Риме — к безнравственности».

Дом терпимости с пирующими и ссорящимися дворянами
Это состояние нравов вполне объясняется особой исторической ситуацией в Риме. Помимо изложенных в предыдущей главе фактов надо принять во внимание, что нигде не было такого благоприятного для проституции стечения обстоятельств. Эта ситуация никогда больше не повторялась в культурной истории: в Риме жил в эту эпоху наибольший процент холостых и незамужних. Из года в год сюда стекались десятки тысяч клириков, и каждый из них проживал здесь целыми неделями, даже месяцами. Как бы ни было велико войско этих холостых клириков, оно совершенно терялось в бесконечных вереницах паломников всех стран, ежедневно прибывавших в Рим, большая половина которых состояла из временных холостяков и незамужних. В Риме находилось всегда наибольшее число чужестранцев. В ту эпоху это был город преимущественно иностранцев. А во всех таких городах наиболее ходким товаром всегда является любовь. Не следует при этом забывать, что большинство женщин-паломниц занимались проституцией. Многочисленные паломницы, материальные средства которых иссякли дорогой, добывали себе пропитание продажей своего тела. Многие из них в Риме занимались любовью не менее усердно, чем молитвами. Оно и естественно. Здесь легче, чем где бы то ни было, могли они заработать деньги, необходимые для обратного путешествия. Это было настолько обычное, настолько бросавшееся в глаза явление, что оно отразилось также и в соответствующих карикатурах. Как ни примитивны многие из этих картин, их смысл не подлежит сомнению: паломница не более как ходячее орудие любви, само собой понятно — земной. Блох по этому поводу сообщает: «Уже в 744 г. миланский архиепископ Сан-Бонифацио просит в письме к Кунберту Кентерберийскому, чтобы синод запретил женщинам, в том числе и монахиням, паломничество в Рим, потому что они, большей частью, имеют печальные результаты и почти все женщины-паломницы заканчивают существование проститутками ломбардских и французских борделей. Фриульский синод действительно запретил монахиням совершать паломничество в Рим». Связь между паломничеством и проституцией выражена даже в пословицах: «Богомолье не придает святости», «Ушла богомолкой, а вернулась проституткой», «Паломничества вызываются не столько благочестием, сколько сладострастием». Очень наглядное представление о большом количестве проституток в эпоху Ренессанса дают далее сообщения хронистов об имперских съездах, церковных соборах и т. д. Проститутки подобны навозным мухам: где есть падаль, туда они слетаются. Во все времена поэтому на соборы и съезды стекалась масса проституток. Наибольшее число сообщений касается Констанцского собора. Наиболее важные принадлежат Эбергарту Дахеру, генерал-квартирмейстеру герцога Рудольфа Саксонского, получившего от своего господина экстренный приказ сосчитать куртизанок, явившихся на Констанцский собор. Сообщение Дахера гласит: «Итак, мы переезжали от одного женского дома к другому. В одном насчитывалось около 30, в другом — немного меньше, в третьем — больше, не считая тех, которые жили в одиночку или находились в банях. Так насчитали мы около 700 падших женщин. Больше искать мне не хотелось. Сообщив число нашему господину, мы получили от него приказ узнать число тайно промышлявших женщин. Тогда я возразил, пусть это сделает он сам, я уже не в силах, меня, пожалуй, еще убьют, да и неохота. Тогда мой господин ответил, что я прав. На том и покончили». Другой участник собора, фон дер Гарт, насчитывал даже 1500 куртизанок. На Тридентском соборе присутствовало 300 одних только honestae meretrices, причем число inhonestae также остается неизвестным. К числу последних относятся во всех этих случаях, конечно, и почтенные жены, и дочери бюргеров, не отвергавшие ухаживаний церковных сановников. Число таких почтенных бюргерских жен, гордившихся тем, что они не уступают куртизанкам, было значительно[168]. То безусловное понимание, которое земные потребности высшего духовенства находили в таких случаях у бюргерских жен, иллюстрируется циническим выражением кардинала Гуго de St. Оаrо. В 1241–1251 гг. Папа Иннокентий IV находился со своим двором в Лионе. Когда он покидал город, упомянутый кардинал сказал горожанам: «Друзья, вы многим нам обязаны. Мы были вам полезны. Когда мы прибыли сюда, здесь было только три или четыре публичных дома. А теперь, уезжая, мы оставляем только один, охватывающий зато весь город от восточных и до западных его ворот». Среди проституток, стекавшихся на церковные соборы, устраивая там интернациональное «любовное свидание», находились самые красивые и знаменитые куртизанки всех стран. Торговля любовью была, по-видимому, в таких случаях очень выгодна. О Констанцском соборе сообщается, что многие первоклассные куртизанки, находившие своих клиентов среди епископов и кардиналов, заработали состояние, доходившее до сотни тысяч.

Франк. Ссора проституток. 1656 г.
Солдатская девка
 олдатские девки были одной из разновидностей проституток, хорошо известной вплоть до XVIII в.,сопровождающей войска. Уже в «Парцифале» говорится:
«Было там немало женщин, иные из которых носили на себе двадцать поясов от мечей, заложенных им за проданную ими любовь. Они совсем не походили на королев. Эти публичные женщины назывались маркитантками».
Известно, что во время осады Нейса Карлом Смелым в его войске находилось «около четырех тысяч публичных женщин». В войске немецкого кондотьера Вернера фон Урслингера, состоявшем в 1342 г. из трех тысяч пятисот человек, насчитывалось, по имеющимся у нас данным, не менее тысячи проституток, мальчиков и мошенников — meretrices, ragazzii et rubaldi.
К войску, которое в 1570 г. должен был привести в Италию французский полководец Страцци, присоединилась такая масса галантных дам, что ему было трудно передвигаться. Полководец вышел из этого затруднительного положения весьма жестоким образом, утопив, по сообщению Брантома, не менее восьмисот этих несчастных особ. В войске, с которым отправился в Нидерланды кровопийца Альба, насчитывалось четыреста знатных куртизанок верхом и свыше восьмисот простых проституток пешком.
Первоначально солдатские женщины были не паразитами, питавшимися, ничего не делая, от избытка добычи, а очень важной составной частью организации войска, организации вооружения, интендантства и т. д., что объясняется продолжительностью войны. Солдаты нуждались в помощниках, которые носили бы за ними ненужное в данный момент оружие, кухонные принадлежности, которые заботились бы о пропитании, помогали бы делить и уносить добычу и которые бы ухаживали за ними во время болезни или ранения, иначе они могли легко очутиться в беспомощном положении и погибнуть. Эти обязанности исполняли мальчики и проститутки. Рядом с такими разнообразными обязанностями роль солдатской женщины как проститутки отступала на задний план. Ничто не подтверждает это лучше народных песен, в которых отражается жизнь проституток и мальчиков, сопровождавших войско.
Одна из таких песен, относящаяся к XV и XVI вв., гласит:
«Мы, проститутки и мальчики, обслуживаем по собственному желанию наших господ. Мы, мальчики, уносим все, что можно продать. Мы приносим им еду и питье. Мы, проститутки, почти все из Фландрии, отдаемся то одному, то другому ландскнехту, но мы и полезны войску, мы стряпаем обед, метем, моем и ухаживаем за больными. А после работы мы не прочь повеселиться. Если бы мы вздумали ткать, мы немного заработали бы. И хотя ландскнехты часто нас колотят, все же мы, проститутки и мальчики, предпочитаем служить им».
Как видно, здесь говорится обо всем, только не о любви. Если бы в ней была главная суть, то уж, конечно, не постеснялись бы на это указать.
Блох сообщает: «При осаде Нейса (1474–1475) Карлом Смелым в войсках находилось не менее 4000 распутных женщин. По приказанию герцога они даже привлечены были профосом к фортификационным работам, получили маленькое знамя, на котором нарисована была женщина, и ежедневно выходили на работу под звуки барабанов и флейт».
По мере того как война принимала все более разбойничий характер и добычи было все больше, увеличивалось и число проституток, сопровождавших войска. Все меньше женщин боялось неудобств военной жизни, зато тем больше женщин манила перспектива получить часть добытого. Несмотря на всевозможные жестокости, которым они ежечасно подвергались, их увлекала за собой мечта о добыче. Ткать, пока кровь не пойдет из пальцев, тоже не было особенным удовольствием и едва доставляло нужное для жизни. Так не лучше ли «служить ландскнехту»?
Естественным последствием такого массового наплыва проституток к войску было то, что их организовали, включили как составную часть в войска и старались использовать в интересах военного дела. Начальник отряда носил название Hurenweibel. Весь отряд проституток и мальчиков должен был ему беспрекословно подчиняться. В военных правилах Фрондсбергера, введенных в XVI в. повсюду в войсках, целая глава посвящена «должности и власти начальника проституток». Здесь тоже на первом плане стоит труд проституток и мальчиков: они должны верно служить своим господам, носить их поклажу во время переходов, «во время стоянок стряпать, мыть, ухаживать за больными, должны бегать по поручениям, кормить и поить, приносить пищу и питье, а также все другое, что нужно, и держать себя скромно».
Словом, в то время в войсках проститутка была прежде всего работницей, и притом очень важной. Разумеется, это нисколько не мешало ей усердно отдаваться и своей исконной профессии, позволявшей выманивать у ландскнехта награбленные дукаты, к чему она в конечном счете главным образом и стремилась…
олдатские девки были одной из разновидностей проституток, хорошо известной вплоть до XVIII в.,сопровождающей войска. Уже в «Парцифале» говорится:
«Было там немало женщин, иные из которых носили на себе двадцать поясов от мечей, заложенных им за проданную ими любовь. Они совсем не походили на королев. Эти публичные женщины назывались маркитантками».
Известно, что во время осады Нейса Карлом Смелым в его войске находилось «около четырех тысяч публичных женщин». В войске немецкого кондотьера Вернера фон Урслингера, состоявшем в 1342 г. из трех тысяч пятисот человек, насчитывалось, по имеющимся у нас данным, не менее тысячи проституток, мальчиков и мошенников — meretrices, ragazzii et rubaldi.
К войску, которое в 1570 г. должен был привести в Италию французский полководец Страцци, присоединилась такая масса галантных дам, что ему было трудно передвигаться. Полководец вышел из этого затруднительного положения весьма жестоким образом, утопив, по сообщению Брантома, не менее восьмисот этих несчастных особ. В войске, с которым отправился в Нидерланды кровопийца Альба, насчитывалось четыреста знатных куртизанок верхом и свыше восьмисот простых проституток пешком.
Первоначально солдатские женщины были не паразитами, питавшимися, ничего не делая, от избытка добычи, а очень важной составной частью организации войска, организации вооружения, интендантства и т. д., что объясняется продолжительностью войны. Солдаты нуждались в помощниках, которые носили бы за ними ненужное в данный момент оружие, кухонные принадлежности, которые заботились бы о пропитании, помогали бы делить и уносить добычу и которые бы ухаживали за ними во время болезни или ранения, иначе они могли легко очутиться в беспомощном положении и погибнуть. Эти обязанности исполняли мальчики и проститутки. Рядом с такими разнообразными обязанностями роль солдатской женщины как проститутки отступала на задний план. Ничто не подтверждает это лучше народных песен, в которых отражается жизнь проституток и мальчиков, сопровождавших войско.
Одна из таких песен, относящаяся к XV и XVI вв., гласит:
«Мы, проститутки и мальчики, обслуживаем по собственному желанию наших господ. Мы, мальчики, уносим все, что можно продать. Мы приносим им еду и питье. Мы, проститутки, почти все из Фландрии, отдаемся то одному, то другому ландскнехту, но мы и полезны войску, мы стряпаем обед, метем, моем и ухаживаем за больными. А после работы мы не прочь повеселиться. Если бы мы вздумали ткать, мы немного заработали бы. И хотя ландскнехты часто нас колотят, все же мы, проститутки и мальчики, предпочитаем служить им».
Как видно, здесь говорится обо всем, только не о любви. Если бы в ней была главная суть, то уж, конечно, не постеснялись бы на это указать.
Блох сообщает: «При осаде Нейса (1474–1475) Карлом Смелым в войсках находилось не менее 4000 распутных женщин. По приказанию герцога они даже привлечены были профосом к фортификационным работам, получили маленькое знамя, на котором нарисована была женщина, и ежедневно выходили на работу под звуки барабанов и флейт».
По мере того как война принимала все более разбойничий характер и добычи было все больше, увеличивалось и число проституток, сопровождавших войска. Все меньше женщин боялось неудобств военной жизни, зато тем больше женщин манила перспектива получить часть добытого. Несмотря на всевозможные жестокости, которым они ежечасно подвергались, их увлекала за собой мечта о добыче. Ткать, пока кровь не пойдет из пальцев, тоже не было особенным удовольствием и едва доставляло нужное для жизни. Так не лучше ли «служить ландскнехту»?
Естественным последствием такого массового наплыва проституток к войску было то, что их организовали, включили как составную часть в войска и старались использовать в интересах военного дела. Начальник отряда носил название Hurenweibel. Весь отряд проституток и мальчиков должен был ему беспрекословно подчиняться. В военных правилах Фрондсбергера, введенных в XVI в. повсюду в войсках, целая глава посвящена «должности и власти начальника проституток». Здесь тоже на первом плане стоит труд проституток и мальчиков: они должны верно служить своим господам, носить их поклажу во время переходов, «во время стоянок стряпать, мыть, ухаживать за больными, должны бегать по поручениям, кормить и поить, приносить пищу и питье, а также все другое, что нужно, и держать себя скромно».
Словом, в то время в войсках проститутка была прежде всего работницей, и притом очень важной. Разумеется, это нисколько не мешало ей усердно отдаваться и своей исконной профессии, позволявшей выманивать у ландскнехта награбленные дукаты, к чему она в конечном счете главным образом и стремилась…

Сутенеры и сводни
 ще одним характерным доказательством огромного распространения проституции в эпоху Ренессанса служат значительные доходы, получаемые от публичных женщин. В податных книгах разных городов сохранилось на этот счет немало интересного материала. Ни городские, ни церковные, ни княжеские кассы не упустили из виду, что из карманов проституток можно выудить немало денег. Не только назначались значительные денежные пени в случае нарушений, неразрывно связанных с этой профессией, но и взималась постоянная урегулированная подать. Содержатель притона не только приобретал за высокую плату право открыть подобный дом, но должен был, кроме того, ежегодно платить еще известный налог в пользу общины, церкви и двора. Весь чистый доход некоторых женских домов утекал в церковные кассы или составлял значительную часть дохода высоких церковных сановников. Нередко налог, взимавшийся с домов терпимости и с определенного числа проституток, составлял те синекуры, которыми Папы одаряли преданных им слуг.
Вот что по этому поводу сообщает Блох: «Во многих местах профессиональный налог должны были платить также вольные проститутки, не жившие в домах терпимости, и так называемые бродячие женщины: Во Франкфурте-на-Майне, например, местные проститутки-одиночки должны были платить во время ярмарки один шиллинг, а приезжие — один гульден в неделю, если жили в квартале для проституток. Если они жили в другой части города, то должны были платить больше за более далекое расстояние от дома тюремщика, которому они вносили налог. В некоторых французских уездных городах проститутка должна была либо уплачивать известную сумму, либо отдаться хозяину города. Так было в Сулуаре и Пуазаке.
В некоторых городах часть дохода с проституток снова обращалась в их пользу, так как употреблялась на лечение больных обитательниц борделя».
ще одним характерным доказательством огромного распространения проституции в эпоху Ренессанса служат значительные доходы, получаемые от публичных женщин. В податных книгах разных городов сохранилось на этот счет немало интересного материала. Ни городские, ни церковные, ни княжеские кассы не упустили из виду, что из карманов проституток можно выудить немало денег. Не только назначались значительные денежные пени в случае нарушений, неразрывно связанных с этой профессией, но и взималась постоянная урегулированная подать. Содержатель притона не только приобретал за высокую плату право открыть подобный дом, но должен был, кроме того, ежегодно платить еще известный налог в пользу общины, церкви и двора. Весь чистый доход некоторых женских домов утекал в церковные кассы или составлял значительную часть дохода высоких церковных сановников. Нередко налог, взимавшийся с домов терпимости и с определенного числа проституток, составлял те синекуры, которыми Папы одаряли преданных им слуг.
Вот что по этому поводу сообщает Блох: «Во многих местах профессиональный налог должны были платить также вольные проститутки, не жившие в домах терпимости, и так называемые бродячие женщины: Во Франкфурте-на-Майне, например, местные проститутки-одиночки должны были платить во время ярмарки один шиллинг, а приезжие — один гульден в неделю, если жили в квартале для проституток. Если они жили в другой части города, то должны были платить больше за более далекое расстояние от дома тюремщика, которому они вносили налог. В некоторых французских уездных городах проститутка должна была либо уплачивать известную сумму, либо отдаться хозяину города. Так было в Сулуаре и Пуазаке.
В некоторых городах часть дохода с проституток снова обращалась в их пользу, так как употреблялась на лечение больных обитательниц борделя».

П. Флетнер. Ландскнехт и проститутка
Сохранившиеся податные списки города Парижа показывают, как рано проституция была обложена податью. Из этого документа видно, что уже в XIII в. налог на проституцию давал городской казне изрядный доход. О Сиксте IV сообщают, что он получал от одного только дома терпимости не менее двадцати тысяч дукатов. Тот же Папа часто передавал священникам в виде синекуры налоги, вносившиеся известным числом проституток. Агриппа фон Неттесгейм сообщает, что доходы одного церковного сановника состояли из «двух бенефиций, одного курата в двадцать дукатов, одного приората, доставлявшего сорок дукатов, и трех проституток в доме терпимости». Не менее интересные данные имеются у нас также и об обложении проституции и ее доходов в Гамбурге в конце XV в. По имеющимся у нас сведениям, «городское управление совершило договор с двумя содержателями домов терпимости, в силу которого они должны были платить ежегодно за каждую девицу таксу от пяти до девяти талантов». Кое-какие данные имеются у нас и относительно Нюрнберга. Правда, точных цифр в данном случае нет, но известно, что в силу указа 1487 г. содержатель дома терпимости был обязан выплачивать по неделям выговоренную плату за наем помещения и за концессию. Блох пишет: «В борделе имелся сундук, предназначенный для общественных целей, и ящик, служивший для точного расчета между хозяевами и проститутками. Каждая женщина, у которой оставался на ночь мужчина, должна была платить хозяину 1 крейцер за ночевку, а все, что она получала от мужчины сверх того, составляло ее собственность. Кроме того, каждая проститутка должна была платить ночью геллер за свечку, и мужчина должен был прибавлять к нему 1 пфенниг. А все, что женщина зарабатывала в течение дня, она должна была класть в сундук. Каждый третий пфенниг из этих денег выплачивался вперед хозяину, из остального же делался вычет к концу недели, в счет долга хозяину». Что доходы с домов терпимости часто бывали весьма значительны, видно также из жалоб некоторых князей на ущерб, нанесенный их правам. Слово «право» значит в этих случаях просто «доходы». Так, в 1442 г. курфюрст Дитрих Майнцский — ограничимся одним этим примером — жаловался, что горожане «нанесли ущерб его правам на публичных женщин и девушек, item проституток». Почтенные отцы — князья, конечно, — были весьма озабочены относительно добрых нравов своих подданных, но только в том случае, если они не наносили ущерба их кошельку. Движения в пользу нравственности, сокращавшие их доходы, были не очень в их вкусе. В таких случаях они предпочитали, как видно из приведенного случая, лучше дружить с дьяволом.
Если вы добродетельны и красивы, ваша добродетель не должна допускать бесед с вашей красотой.К разряду проституции относится еще одна категория — огромное войско тех, кто живет за счет проституции и тесно с ней связан с тех самых пор, как любовь стала товаром, продаваемым и в розницу: сутенеры, содержатели публичных домов, сводники и сводни[169]. Когда проститутка старится и красота ее уже не находит спроса на рынке любви, она, если только не погибнет в нищете и больнице, принимается за еще более доходную профессию сводни. «В молодости — девка, под старость — сводня». В масленичной пьесе «Vom Papst und seiner Priesterschaft»[170], принадлежащей великому бернскому живописцу и поэту Николаю Мануэлю, старая проститутка восклицает: «Я рада, что могу сводничать, а то плохи были бы мои дела. Я в превосходстве изучила это искусство, и оно доставляло мне хороший доход с тех пор, как моя некогда пышная грудь стала похожа на пустой мешок, повешенный на палке». Войско своден рекрутировалось, однако, не только из проституток в отставке, а также из значительного числа женщин, всегда исключительно занимавшихся только этим ремеслом или публично для всех желающих, или под той или другой маской для отдельных лиц. Такие женщины встречались во всех классах. Наиболее обычным покровом, под которым сводня исполняла свою деятельность на службе отдельных лиц, был чин камеристки. В Испании прикомандированная к жене или дочери знатных людей дуэнья или «блюстительница чести» была в огромном большинстве случаев не чем иным, как сводней, доставлявшей любовников своей осужденной, по испанскому обычаю, на затворническую жизнь госпоже. О той же роли сводни, исполняемой камеристкой в кругах придворной французской знати, нам уже пришлось говорить. Сводне, находящейся на службе у всех и каждого, посвятил целую главу Аретино. По его описанию выходит, что она порой наиболее занятая особа. Особенно ночью у нее часто ни минуты отдыха. Выведенная Аретино сводня рассказывает: «По ночам сводня ведет образ жизни летучей мыши, которая ни на минуту не садится. Главная ее деятельность начинается, когда совы и филины вылетают из своих нор. Тогда и сводня покидает свое гнездо и бегает по женским и мужским монастырям, дворам, притонам и трактирам. В одном месте она приглашает с собой монаха, в другом монахиню. Одного она сводит со вдовой, другого с куртизанкой, одного с замужней, другого с девушкой; лакею она подводит камеристку, мажордома соединяет с госпожой. Она заговаривает раны, собирает растения, заклинает духов, вырывает мертвецам зубы, снимает с повешенных сапоги, пишет формулы заклинания, сводит звезды, разъединяет планеты и порой получает изрядную встрепку». «В Неаполе профессиональным сводничеством, — сообщает Блох, — занимались главным образом хозяева кабаков и владельцы таверн, причем в качестве кредиторов проституток они держали их в постоянной зависимости и жили на их доходы. В 1470 году издан был указ против этого». Однако до эпохи Аретино профессия сводни была, по-видимому, еще выгоднее. Или, правильнее сказать, профессиональная сводня встречалась теперь лицом к лицу с деловитыми конкурентами даже из лучших кругов общества. Та же сводня у Аретино рассказывает по этому поводу: «Сводня. Я вне себя, когда думаю о том, что нам подорвали нашу некогда столь блестящую профессию, да еще кто! — жены и дамы, мужья и господа, придворные кавалеры и барышни, исповедники и монахини. Да, дорогая кормилица, ныне вот эти знатные сводники управляют миром, герцоги, маркграфы, просто графы, кавалеры. Должна тебе сказать даже больше, среди них встречаются короли, Папы, императоры, султаны, кардиналы, епископы, патриархи, софии и всякие другие. Наша репутация пошла к черту, мы уже не те, чем были раньше. Да, если вспомнить о том времени, когда наше ремесло процветало! Кормилица. Да разве оно не процветает, раз им занимаются такие особы, которых ты только что перечислила. Сводня. Для них это ремесло процветает, но не для нас! Нам осталось только ругательное слово: "сводня", тогда как они важно шествуют и щеголяют своими титулами, почестями и синекурами. Не воображай, пожалуйста, что человек талантливый может пойти далеко. Это так же мало возможно здесь в Риме, в этом свином хлеву, как и в других местах. Знатные сводники заставляют держать себе стремена, одеваются в шелк и бархат, обладают полными кошельками, и перед ними низко снимают шляпы. Я-то, правда, женщина оборотливая, но ты посмотрела бы на других, как они жалко выглядят». Эти отряды проституции были всегда безмерно велики, особенно в эпохи всеобщей разнузданности. Никто их не считал, да и никогда не сочтет! Блох пишет: «В Германии преступная деятельность сводниц не ограничивалась эксплуатацией уже проституированных женщин, но простиралась также на соблазнение честных девушек. В Кельне, например, изданы были строгие законы против сводниц, склонявших девушек к разврату, доставлявших их духовенству, устраивавших свидания монашкам, женатым мужчинам с чужими женами и т. д. Нередко женщин и девушек помещали в бордель за долги мужей и родителей — это считалось дозволенным, если девушка давала на то свое согласие…» Еще значительнее было войско мужских паразитов, живших за счет проститутки, войско сводников, ruffiani, как их называли в Италии, да и в Германии, сутенеров, или maqueraux, как их называли во Франции. Профессия сводника весьма напоминает ремесло сводни. Подобно тому как камеристка часто исполняла обязанности сводни — при знатной даме, так камердинер — при знатном барине. Гораздо больше было, однако, число тех, кто занимались этим ремеслом на собственный риск и страх и сбывали одну или несколько проституток для временного или более продолжительного пользования. Таких людей закон первоначально обозначал словом ruffiani, впоследствии из этого типа выработался наш современный сутенер, воплощающий в одном лице и сводника, и покровителя проститутки. Уже и тогда публичная женщина, промышлявшая на воле, нуждалась во всегда готовом к ее услугам заступнике, который мог бы защитить ее от нападений и грубого обращения, а также вовремя предупредить ее о появлении городских стражников, ловивших тайных проституток. Главная роль этих «покровителей», вероятно, состояла, в оказании помощи при ограблении посетителей проститутки. Такая деятельность делала руффианов столь опасными, что уже в XIII и XIV вв. законодательство вынуждено было заняться ими.Уильям Шекспир

К. де Пасс. В «женском переулке»
Мы ограничимся приведенными данными для характеристики степени распространенности проституции в эпоху Ренессанса. Если сделать из них надлежащий вывод, то само собой получится ответ на вопрос о роли проститутки в общественной жизни эпохи или по меньшей мере очень яркий аргумент в пользу того утверждения, что проститутка была одним из главных центров общественной жизни того времени.

Отношение к проституции
 аиболее ценными и характерными доказательствами в этом отношении являются, несомненно, праздники эпохи Ренессанса. Можно без преувеличения сказать, что в большинстве случаев проститутка была главным фактором, создававшим праздничное настроение, так как она вносила больше всех оживления в эти увеселения. И это было не случайностью, именно создание такого настроения было в данном случае главной целью. Специально ради этой цели проституток привлекали ко всем праздникам, и устроители, т. е. отцы города, сознательно выдвигали их для повышения настроения.
Это прежде всего доказывается той выдающейся постоянной ролью, которую эти женщины играли на таких праздниках. В большинстве случаев, когда торжество происходило в теплую пору года, в эпоху Ренессанса существовал обычай передавать букеты, бросать к ногам торжественного шествия цветы, забрасывать ими присутствовавший народ. Эту обязанность возлагали в большинстве случаев на проституток. Этим, однако, их роль не исчерпывалась. Они отнюдь не исполняли обязанности простых статисток, не уступали потом своего места порядочным женщинам, дабы те тем ярче сияли своей благовоспитанностью и добродетелью. Нет, они действовали часто в продолжение всего празднества и являлись гвоздем всей увеселительной программы. Мы имеем в виду довольно распространенный обычай, по которому одна или несколько красивых нагих куртизанок встречали или приветствовали высокого княжеского гостя. Именно этот пункт программы был всегда главной частью торжественного приема. Когда начинались танцы, то проституткам не отводились места простых зрительниц за оградой. Напротив, именно с ними плясали придворные и дворяне, тогда как гордые патрицианки смотрели на пляску с высоты балкона или эстрады.
аиболее ценными и характерными доказательствами в этом отношении являются, несомненно, праздники эпохи Ренессанса. Можно без преувеличения сказать, что в большинстве случаев проститутка была главным фактором, создававшим праздничное настроение, так как она вносила больше всех оживления в эти увеселения. И это было не случайностью, именно создание такого настроения было в данном случае главной целью. Специально ради этой цели проституток привлекали ко всем праздникам, и устроители, т. е. отцы города, сознательно выдвигали их для повышения настроения.
Это прежде всего доказывается той выдающейся постоянной ролью, которую эти женщины играли на таких праздниках. В большинстве случаев, когда торжество происходило в теплую пору года, в эпоху Ренессанса существовал обычай передавать букеты, бросать к ногам торжественного шествия цветы, забрасывать ими присутствовавший народ. Эту обязанность возлагали в большинстве случаев на проституток. Этим, однако, их роль не исчерпывалась. Они отнюдь не исполняли обязанности простых статисток, не уступали потом своего места порядочным женщинам, дабы те тем ярче сияли своей благовоспитанностью и добродетелью. Нет, они действовали часто в продолжение всего празднества и являлись гвоздем всей увеселительной программы. Мы имеем в виду довольно распространенный обычай, по которому одна или несколько красивых нагих куртизанок встречали или приветствовали высокого княжеского гостя. Именно этот пункт программы был всегда главной частью торжественного приема. Когда начинались танцы, то проституткам не отводились места простых зрительниц за оградой. Напротив, именно с ними плясали придворные и дворяне, тогда как гордые патрицианки смотрели на пляску с высоты балкона или эстрады.

В доме терпимости. Немецкий рисунок. XV в.
По этому поводу немецкий историк Блох сообщает: «Проститутки часто присутствовали на частных праздниках: не только на свадьбах живодера или палача — на которых они танцевали, как сообщает хроникер того времени, "красивый грациозный танец, так что многие люди из города Нюрнберга приходили смотреть на такое приятное зрелище" — но и на свадьбах знатных людей». Во время таких праздников устраивались всевозможные представления, турниры, бега и т. п., участницами которых бывали исключительно «вольные дочери» города. Одни из прекраснейших куртизанок изображали группы мифологического или символического характера, другие исполняли вакхические танцы, или они состязались между собой из-за премии красоты, назначенной городом. Особенной популярностью пользовались так называемые «бега проституток», ибо здесь случай всегда являлся услужливым сводником чувств зрителей. Блох отмечает: «Аналогичным праздником проституток в Вене были бега по случаю двух больших годовых ярмарок, когда мужчины и проститутки устраивали бега до куска ярко-красного бархата (плиса). Обычай этот возник в 1382 году и существовал полных 150 лет. "Вольные дочери будут бегать к бархату, и которая прибежит раньше, та получит этот бархат". На этом празднике проституция, конечно, играла главную роль; по обилию цветов, которыми украшали себя проститутки, он похож на римские флоралии[171]. Эти бега напоминают состязание, которое устроил Каструкцио Кастракани, командир города Лука, после победы над флорентийцами в битве при Сервальо. На виду у неприятеля он велел голым проституткам состязаться в бегах вокруг куска дорогой материи». Когда праздничный день заканчивался, то и тогда роль проститутки еще не была сыграна до конца. Напротив, как раз теперь начиналась ее истинно активная роль, также относившаяся к официальной программе. Только теперь место действия прямо переносилось в «женский переулок», в «женский дом». На средства города дорога туда празднично освещалась во все время пребывания в стенах города высоких гостей, на средства города все придворные гости могли там веселиться сколько душе было угодно. Самым красивым куртизанкам города приказывали в любой момент быть готовыми к приему находившихся в городе гостей и «обслуживать их всех своим искусством». И несомненно, куртизанки старались и в этом отношении постоять за репутацию города.

В. Солисю. Сатира на жертвы проституток. XVI в.
Когда в городе по делам находился посланник и бургомистр и городские советники устраивали за счет города пир в его честь, то рядом с ним всегда сажали какую-нибудь куртизанку, отличавшуюся особенной красотой или же совершенством в своем ремесле; она выслушивала все его остроты и не противилась и его грубейшим шуткам, особенно охотно пускавшимся в ход в таких случаях. Даже и во время чисто семейных увеселений, во время народных праздников, на свадьбах патрициев и т. д. проституткам отводилась довольно значительная роль в целях повышения общего праздничного настроения. На народных праздниках и специально для этого придуманных торжествах они участвовали в таких же представлениях, как в дни княжеских посещений. Были и такие увеселения и праздники, которые устраивались исключительно проститутками, как, например, танец Магдалины, а также и такие, которые посещались главным образом ради представлений, устраиваемых проститутками, как, например, ярмарка в Цурцахе в Швейцарии, славившаяся своим «танцем куртизанок», связанным с состязанием в красоте. Необходимо заметить еще, что проститутки иногда получали от городской общины известные повинности, например вино и дичь. На свадьбах патрициев или городских дворян публичным женщинам города порой устраивался особый стол, где их угощали за счет жениха. А во время так называемой вечерней пляски, обыкновенно завершавшей свадьбу, проститутки всегда составляли большую часть женщин.. Таковы некоторые наиболее яркие формы, в которых обитательницы «женского переулка» активно содействовали общему праздничному настроению. Протоколы городских советов и городские счета дают немало иллюстраций и доказательств в пользу вышеизложенного. На основании протоколов бернского городского совета швейцарский историк Иоганн Мюллер сообщает по поводу пребывания в городе императора Сигизмунда в 1414 г., проездом в Констанцу на собор: «Городской совет постановил, что за все это время каждый может получать вино из постоянно открытого погребка (вообще, двору и свите устраивалось роскошное угощение), а также был отдан приказ, чтобы в домах, где прекрасные женщины торговали собой, придворные принимались гостеприимно и даром». А император путешествовал на восьмистах лошадях. Свита была, следовательно, немала. Император остался, по-видимому, весьма доволен оказанным приемом, и в особенности куртизанками, ибо в другом месте говорится: «Впоследствии в обществе князей и господ король не мог нахвалиться этими двумя ему оказанными почестями: вином и женской лаской. Городу пришлось тогда заплатить по счету, предъявленному "красавицами из переулка"!» Регенсбургская хроника сообщает о посещении Регенсбурга другим императором в 1355 г.: «В бытность в городе императора в публичном женском доме ночью постоянно происходили скандалы. Дом находился против жилища дешанта[172], имел публичную привилегию и сдавался городским советом в аренду хозяину». В протоколах счетов Вены, относящихся к 1438 г., зарегистрированы расходы города во время пребывания в нем Альбрехта II после его коронации в Праге, между прочим и расходы по части публичных женщин: «Вино для публичных женщин — 12 achterin. Item — плата публичным женщинам, встретившим короля, — 12 achterin». При въезде в Вену короля Владислава в 1452 г., по словам одной хроники, бургомистр и городской совет снарядили «вольных дочерей» встретить короля у Венской Горы, а после его возвращения из Бреславля такая же почетная встреча была ему устроена в Верде (ныне второй округ Вены). Когда в 1450 г. австрийское посольство отправилось в Португалию за невестой короля Фридриха IV, то таким же образом поступил городской совет Неаполя: «Женщины в домах терпимости были все оплачены и не имели права брать деньги. Там можно было найти арабок и всяких других красавиц, какие только угодно душе». Из венских городских счетов XV в. видно далее, «что высоких гостей бургомистр и городской совет в празднества и на балах, устраивавшихся в домах бюргеров, знакомил с "красавицами". Простые проститутки приглашались на пляску в Иванов день, устраивавшуюся вокруг купальских огней, причем бургомистр и городской совет отпускали им угощения. Так же точно фигурировали они во время ежегодных скачек в Вене». Один городской посланник, Сигизмунд фон Гербер-штейн, рассказывает о своем посольстве в Цюрихе в 1513 г.: «Обычай требовал, чтобы бургомистр, судьи и проститутки обедали вместе с посланником». Вышеупомянутый танец проституток на ярмарке в Цурцахе описан в одной масленичной пьесе: «Я видел тебя окруженной большими почестями семь лет тому назад, во время пляски проституток в Цурцахе. Потому ты, вероятно, и носишь венок. Там было больше ста публичных женщин, участвовавших в пляске. Ты и выиграла гульден, предназначенный для прекраснейшей. Баденский фохт[173] дает этот гульден самой красивой из тех, которые находились на лугу». О существовании разных обычаев, о том, как они претворялись в жизнь, мы часто узнаем из запрещений, которым они подвергались. Из этих запрещений выясняется также, когда именно в общественных нравах происходил переворот. Так, в царствование Фердинанда I полицейский ремесленный указ 1524 г. упразднил танец, исполнявшийся ежегодно вокруг горевших на площадях Ивановых костров подмастерьями и украшенными цветами «красавицами». Об упразднении «бега проституток» в Мюнхене мы узнаем из примечания к протоколам городского совета от 10 июля 1562 г.: «Решено в городском совете, чтобы отныне падшим женщинам возбранялось устраивать бега, ввиду их непристойности, бегают они отвратительно, почти оголяются, подают молодым людям плохой пример и возбуждают их пойти за ними вниз (т. е. в женский переулок)». В Вене такие ежегодно устраивавшиеся бега были упразднены уже в 1531 г., или, вернее, в этом году они были устроены в последний раз.

М. Ландсцит. Вход в дом терпимости. ХV в.
Что в этом привлечении проституток к общественным увеселениям и праздникам сказывалась отнюдь не похвальная терпимость, что на них отнюдь не смотрели как на равноправных граждан, что они были по-прежнему той дичью, за которой каждый участник праздника свободно мог охотиться и с которой каждый мог делать все, что ему взбредет на ум, также видно очень ясно из разных городских протоколов и сообщений хронистов. Так, например, в нюрнбергской хронике Генриха Дейкслера говорится: «В этом году в среду после Павла (23 янв.) Ганс Имгоф устроил свадьбу сына Людвига. Ночью во время вечернего танца дикая шайка бесчинствовала в ратуше и сорвала вуаль с публичной девушки по имени Агнесса Пайрейтер, она же вытащила нож и нанесла им удар». Хроника рассказывает дальше, что защищавшаяся Агнесса ранила в шею одного из сорванцов-патрициев. В наказание ее на пять лет выслали из Нюрнберга, а ее благородный противник остался без наказания. Чернь заходила, по-видимому, в своих эксцессах так далеко, что проститутки, объявленные вне закона, вообще не были уверены в своей жизни. Это явствует из того, что с течением времени встречается все больше указов, ограничивавших число проституток, приглашенных на общественные праздники. Само собой понятно, что это не мешало им присутствовать incognito, в особенности же так называемым inhonestae meretrices. Изображая роль, которую проститутка играла в общественной жизни Ренессанса, мы должны сказать, естественно, несколько слов и об отношении к проституции отдельной личности. Если при оценке роли проститутки в общественной жизни необходимо исходить из размера городов — ее роль была значительнее в крупных городах и в центрах коммерческой и придворной жизни, — то при освещении отношения отдельных индивидуумов к проституции необходимо иметь в виду каждый класс городского населения в отдельности. Подмастерья поддерживали довольно тесные отношения с проститутками, представлявшими для них суррогат брака, так как большинство из них не могли вступать в брак на основании цеховых законов. Само собой понятно, что здесь необходимо сделать существенные ограничения. Надо иметь в виду, что очень многие подмастерья, лишенные возможности вступить в законный брак, жили в конкубинате, а для других постоянное посещение домов терпимости оказалось бы слишком дорогостоящим удовольствием. Надо далее иметь в виду, что женская прислуга в значительной степени удовлетворяла половые потребности холостых мужчин, отчасти добровольно, имея те же самые потребности, как мужчины, которые они также иначе не могли удовлетворить, отчасти против воли, так как их социальное положение делало их беспомощными жертвами насилия. Тем не менее подмастерья были довольно бойкими клиентами проституток, и то же надо сказать о холостых сыновьях мастеров, да и вообще обо всех холостяках. Все они считали посещение женского дома делом естественным и нормальным, и никто не видел в этом ничего предосудительного и безнравственного. Все, несмотря на это, продолжали слыть за «добродетельных юношей».
На самонадеянных, которым недостаточно ни дара жизни, ни красоты мира, наложено наказание самим растрачивать собственную жизнь впустую и не обладать ничем из достоинств и красоты мира.Так как половое общение считалось тогда главным содержанием, самой сущностью всякого увеселения и развлечения, то холостяк, желавший весело провести день или вечер, отправлялся в большинстве случаев прежде всего в «женский переулок». Для многих «женский дом» был местом свидания, где каждый легче всего мог встретить знакомых и где собиралось постоянно самое интересное общество. Все, кто только легко зарабатывал деньги и потому так же легко их тратил, встречались здесь: праздные ландскнехты, авантюристы, всякие искатели счастья, всякий опустившийся люд. Очень часто туда отправлялись в компании, подобно тому как ныне отправляются в компании кутил. В «женском доме» веселились, как ныне веселятся в ресторанах и трактирах: пели, играли, плясали, позволяли себе скабрезные шутки и выходки с его обитательницами. Иначе относился к проституции женатый, семейный мелкий буржуа. Если холостяку знакомство с проститутками официально разрешалось, то семьянину оно строго запрещалось, и не только неписаными законами, а обыкновенно даже прямо специальными постановлениями городских советов, целый ряд которых дошел до нас. Муж, «наносящий таким образом ущерб правам жены», совершает, посещая «женский дом», прямо преступление, достойное наказания. В этом нет ничего противоречащего общему духу времени, это как нельзя более соответствует условиям мелкобуржуазной семьи, нами выше уже освещенным. Семейный мелкий буржуа, конечно, был тем не менее нередким гостем в женском переулке, но пробираться туда он мог только тайком. И это как нельзя более соответствовало исторической ситуации мелкого бюргерства. Тайным союзником мелкого буржуа всегда, естественно, был содержатель притона, хотя он также получал от городского совета строжайшее наставление не впускать женатых. Семьянин, еврей и монах — последним двум категориям лиц доступ в «женский дом» также был запрещен властями — были даже наиболее ценимыми содержателем гостями. Женатые были обыкновенно состоятельнее холостяков, да и тратили больше, как все, имеющие возможность «грешить» только тайком. Раз дойдя до цели, они хотят вдвойне использовать случай. Хозяин всегда находил поэтому пути и средства помочь и женатым, а также монахам беспрепятственно посещать его учреждение, или через потайную дверь, выходившую на пустырь, или при помощи дозорщиков и сторожей. Доказательством того, что и эти три категории лиц были постоянными посетителями «женских домов», служат разные сообщения о наказаниях, которым подвергались женатые, евреи и монахи, случайно накрытые на месте преступления. Вдовец снова имел официальное право сходиться с проституткой. Для него проститутка часто становилась так называемой «тайной женой», т. е. экономкой, необходимой для ведения хозяйства, очень часто также его сожительницей. Что это бывало нередко, что в этом опять-таки видели нечто естественное, следует из частых указаний на то, что, вступая в брак, такой-то мужчина имел ребенка от своей «тайной жены». Что конкубинат часто существовал рядом с браком, что муж часто содержал рядом с женой в своем же доме еще наложницу, этот факт также подтверждается достоверными документами. Впрочем, более распространенным этот обычай был не в мелкой буржуазии, а в восходившей крупной буржуазии, в среде богатого купечества, которое смело игнорировало суровые требования патриархальной семьи. Еще положительнее, при том с уклоном в сторону рафинированности, относилось к проституции дворянство, как городское, так и придворное. Здесь открытые связи с красивыми куртизанками были в порядке вещей[174]. Здесь красивая куртизанка становится высшим предметом роскоши. В этих кругах возродился поэтому до известной степени античный гетеризм, разумеется, только до известной степени.Леонардо да Винчи

La grande cocotte Ренессанса
 редставители знати открыто содержали красивых куртизанок, подобно тому как они содержали редких, драгоценных зверей. Они нанимают им дома или отдают в их распоряжение свой, окружают их прислугой, лошадьми, колясками, покупают им роскошные платья, драгоценности и т. д., превращают их дом в блестящий предмет роскоши. Здесь они бывают совершенно открыто, приводят сюда своих друзей, устраивают общие празднества. Связь с куртизанкой, безумная на нее трата денег являются даже одним из способов демонстрации своего состояния. Такие содержанки знати, кардиналов и прелатов назывались в Италии — в отличие от обыкновенных meretrices — courtisanae honestae. Особенно богатые жуиры содержали целые гаремы с одной, двумя и тремя куртизанками. Мы знаем это главным образом о богатой аристократии Италии и отчасти Франции. В Италии знаменитые, знатные куртизанки жили преимущественно во Флоренции, Венеции и Риме, в тех трех центрах, куда со всех сторон Италии стекались несметные богатства. Во Флоренции царила наибольшая пышность, в Венеции — наибольшее богатство, в Риме предавались исключительно сладострастию и наслаждению.
Порой несколько друзей сообща покрывали расходы по содержанию куртизанок. Так, во Флоренции подобный гарем содержался неким Филиппе Строцци, мужем некоей Клариче Медичи. Посетителями этого лупанария были как сам Строцци, так и его друзья. К ним принадлежали: Лоренцо де Медичи, герцог Урбинский, Франческо дель Альбицци и Франческо дель Неро. Друзья сообща покрывали расходы по гарему. Изданные и обработанные Лотаром Шмитом (в книге серии «Культура») письма этих куртизанок дают нам наглядное представление о жизни и быте этого частного дома терпимости. Мы узнаем, что в нем жили четыре прекрасные куртизанки — Камилла де Пиза, Алессандра, Беатриче и Бриджида — и что они должны были отдаваться всем желающим, принадлежавшим к этому дружескому кружку. Собственно, каждая из них была подругой одного из друзей и порой в самом деле бывала влюблена именно в этого своего любовника. Но это не мешало и четырех- и пятигранным связям. Порой куртизанки занимались и сводничеством и приводили одному из приятелей женщину, которой тот интересовался.
Так, в одном письме Камиллы к Филиппе Строцци мы читаем:
«Мой милый! Ты смешон, если думаешь, что я позволю Алессандре вступить в другую связь, так как я уступила и подарила ее тебе от всей души. Смотри, чтобы она была довольна тобой, я свои подарки назад не отнимаю. Если же мы его (какого-то кавалера) примем в наш кружок, то мы ему дадим Бриджиду. Я же без Вашего согласия не сделаю ни шага».
Та же самая Камилла к себе самой относилась далеко не так сурово, принимая и других друзей, чтобы дать им возможность удостовериться в ее красоте и умении любить. Одновременно с письмом к Строцци она пишет другому члену кружка, просившему ее о взаимности:
«Если вы придете, дайте знак около моей комнаты — я опять сплю в своей прежней спальне, — чтобы вам не пришлось долго ждать».
Словом, господствует беспорядочное половое смешение, притом с общего молчаливого соглашения, разумеется, только до тех пор, пока длится дружба. Что куртизанка и в таких случаях оценивалась исключительно как орудие наслаждения, лучше всего явствует из тех приемов, при помощи которых отделывались от надоевшей. Когда один из кавалеров пресыщался своей дамой, то он просто передавал ее приятелю. Как цинично поступали в таких случаях знаменитые носители высшей духовной культуры Ренессанса, видно из третьего письма этой дамы, возмущающейся тем, что ее друг осмелился приказать ей, после того как она ему надоела, быть к услугам всякого, кого он приведет в дом.
Она пишет:
«Пусть он оставит меня в покое в моем горе и не уступает другим, ибо я, кажется, родилась свободной и не являюсь чьей-либо рабыней или служанкой. Он знает, как часто я ему запрещала приводить сюда других и передавать меня им как добычу. Черт возьми! У него достаточно женщин, чтобы вмешиваться в здешние дела».
редставители знати открыто содержали красивых куртизанок, подобно тому как они содержали редких, драгоценных зверей. Они нанимают им дома или отдают в их распоряжение свой, окружают их прислугой, лошадьми, колясками, покупают им роскошные платья, драгоценности и т. д., превращают их дом в блестящий предмет роскоши. Здесь они бывают совершенно открыто, приводят сюда своих друзей, устраивают общие празднества. Связь с куртизанкой, безумная на нее трата денег являются даже одним из способов демонстрации своего состояния. Такие содержанки знати, кардиналов и прелатов назывались в Италии — в отличие от обыкновенных meretrices — courtisanae honestae. Особенно богатые жуиры содержали целые гаремы с одной, двумя и тремя куртизанками. Мы знаем это главным образом о богатой аристократии Италии и отчасти Франции. В Италии знаменитые, знатные куртизанки жили преимущественно во Флоренции, Венеции и Риме, в тех трех центрах, куда со всех сторон Италии стекались несметные богатства. Во Флоренции царила наибольшая пышность, в Венеции — наибольшее богатство, в Риме предавались исключительно сладострастию и наслаждению.
Порой несколько друзей сообща покрывали расходы по содержанию куртизанок. Так, во Флоренции подобный гарем содержался неким Филиппе Строцци, мужем некоей Клариче Медичи. Посетителями этого лупанария были как сам Строцци, так и его друзья. К ним принадлежали: Лоренцо де Медичи, герцог Урбинский, Франческо дель Альбицци и Франческо дель Неро. Друзья сообща покрывали расходы по гарему. Изданные и обработанные Лотаром Шмитом (в книге серии «Культура») письма этих куртизанок дают нам наглядное представление о жизни и быте этого частного дома терпимости. Мы узнаем, что в нем жили четыре прекрасные куртизанки — Камилла де Пиза, Алессандра, Беатриче и Бриджида — и что они должны были отдаваться всем желающим, принадлежавшим к этому дружескому кружку. Собственно, каждая из них была подругой одного из друзей и порой в самом деле бывала влюблена именно в этого своего любовника. Но это не мешало и четырех- и пятигранным связям. Порой куртизанки занимались и сводничеством и приводили одному из приятелей женщину, которой тот интересовался.
Так, в одном письме Камиллы к Филиппе Строцци мы читаем:
«Мой милый! Ты смешон, если думаешь, что я позволю Алессандре вступить в другую связь, так как я уступила и подарила ее тебе от всей души. Смотри, чтобы она была довольна тобой, я свои подарки назад не отнимаю. Если же мы его (какого-то кавалера) примем в наш кружок, то мы ему дадим Бриджиду. Я же без Вашего согласия не сделаю ни шага».
Та же самая Камилла к себе самой относилась далеко не так сурово, принимая и других друзей, чтобы дать им возможность удостовериться в ее красоте и умении любить. Одновременно с письмом к Строцци она пишет другому члену кружка, просившему ее о взаимности:
«Если вы придете, дайте знак около моей комнаты — я опять сплю в своей прежней спальне, — чтобы вам не пришлось долго ждать».
Словом, господствует беспорядочное половое смешение, притом с общего молчаливого соглашения, разумеется, только до тех пор, пока длится дружба. Что куртизанка и в таких случаях оценивалась исключительно как орудие наслаждения, лучше всего явствует из тех приемов, при помощи которых отделывались от надоевшей. Когда один из кавалеров пресыщался своей дамой, то он просто передавал ее приятелю. Как цинично поступали в таких случаях знаменитые носители высшей духовной культуры Ренессанса, видно из третьего письма этой дамы, возмущающейся тем, что ее друг осмелился приказать ей, после того как она ему надоела, быть к услугам всякого, кого он приведет в дом.
Она пишет:
«Пусть он оставит меня в покое в моем горе и не уступает другим, ибо я, кажется, родилась свободной и не являюсь чьей-либо рабыней или служанкой. Он знает, как часто я ему запрещала приводить сюда других и передавать меня им как добычу. Черт возьми! У него достаточно женщин, чтобы вмешиваться в здешние дела».

А. Дюрер. Влюбленный старик и проститутка
Впрочем, с такими приемами мы всегда встречаемся там, где богатство и власть могут свободно исполнять всякие свои прихоти, и мы с ними еще неоднократно встретимся в век галантности и в эпоху буржуазии. Рядом с такими куртизанками, содержавшимися одним человеком или целым кружком, возник в эпоху Ренессанса, как некогда в античном мире — аналогичная историко-экономическая ситуация привела, естественно, к аналогичным последствиям, — тип первоклассной кокотки, к grande Cocotte, la grande Puttana, тип гетеры, зарабатывавшей своей красотой и изысканностью столько, что могла освободиться от экономической зависимости, превращавшейся из рабыни в госпожу, за которой ухаживали самые богатые и могущественные люди. Этот тип впервые в большом количестве появился в Италии, так как здесь впервые создались те разнообразные исторические условия, которые благоприятствовали существованию и развитию этого пышнейшего цветка гетеризма. Здесь, в Италии, раньше, чем где бы то ни было, мобилизовался движимый капитал, возникли крупные города — важнейшая предпосылка, позволяющая жрице Венеры окружить себя, так сказать, официально двором, и сюда, в Италию, ввиду мирового значения Рима, стекалось из года в год множество князей и дворян, а еще больше богатых купцов. Италия — а в Италии преимущественно Венеция, Флоренция и Рим — была главным центром для путешественников нового времени. Необходимо было, чтобы все эти факторы были налицо, одного из них было бы недостаточно, чтобы взрастить гетеру крупного стиля и сделать ее постепенно столь характерным для физиономии Ренессанса общественным явлением. В этих трех городах мы и находим самые поразительные образчики. В одной Венеции насчитывалось, по словам Монтеня, полтораста первоклассных куртизанок, соперничавших в смысле блеска и роскоши с принцессами. Характерной их представительницей, и притом наиболее знаменитой, была венецианка Вероника Франко. Опытная в любви куртизанка насчитывала среди своих клиентов высшую родовитую и умственную аристократию второй половины XVI в. Ее спальня была своего рода первоклассной гостиницей на самом бойком перекрестке Европы, связывавшем Рим с Востоком, в ней останавливались пестрой вереницей князья и короли, платившие порой огромное состояние за одну ночь любви. Вероника была долгое время подругой великого Тинторетто и принимала в своем салоне знаменитейших писателей и художников Италии, а также тех французских и немецких, которые путешествовали в Италию. О ней не без основания говорили: «Если эта новая Аспазия[175] меняла местожительство, то ее переезд напоминал переезд королевы, причем посланники распространяли весть о ее отъезде и приезде». Ради славы содержать знаменитую и дорогую куртизанку разорился не один аристократ. Об этом можно судить по следующему сообщению о жизни одной римской куртизанки XVII в.: «По приказанию Папы знатная куртизанка Леонора Контарина подвергалась высылке из города, несмотря на просьбы многих знатных кавалеров, так как к ней стекалось наибольшее количество знатных господ, многие из которых благодаря чрезмерно щедрым подаркам потерпели значительный материальный ущерб». Само собой понятно, что за подобными репрессивными мерами скрывались не столько нравственные соображения, сколько могущественные родственники расточительных содержателей дамы, боявшиеся за сохранность фамильного богатства. Ради обладания такой знаменитой куртизанкой мужчины рисковали не только состоянием, но и жизнью. Кондотьер Джованни де Медичи насильно похитил некую Лукрецию у Джованни делла Сгуфа во время праздника, устроенного последним в Реканати. В 1531 г. во Флоренции шесть рыцарей вызывали на поединок каждого, кто осмелился бы отрицать, что куртизанка Туллия Арагона «прекраснейшая и удивительнейшая дама во всем свете». Такое кувырканье разума на службе культа проституток было тогда обычным явлением в среде праздных классов.
Способы привлечения внимания
 еобходимо здесь указать еще на те приемы, которыми в эпоху Ренессанса куртизанки обращали на себя внимание мужчин.
Приемы эти были, разумеется, как и ныне, настолько же разнообразны, насколько разнообразно было социальное положение проститутки.
Одни гуляли на улице, провоцируя прохожих, другие сидели в неглиже у открытого окна или в дверях домов, привлекая к себе внимание мужчин. Третьи, отличавшиеся особенной красотой, совершали у окна самый интимный туалет, делая прохожих его свидетелями, или, как уже упомянуто, выставляли свою красоту напоказ в публичных банях. Наконец, самые важные вели образ жизни настоящих grandes dames (великосветских дам), возбуждая желания даже в князьях и королях.
В хрониках и описаниях нравов встречается на этот счет немало указаний. В своем «Gauchmatt» Томас Мурнер пишет:
«Одного они привлекают свистом, другого — жестом, третьего — фацилеттом (платком), других — белыми башмаками и белыми ногами, а иных — кольцами, крестиками и другими украшениями».
Таковы были приемы тех, которые промышляли на улице. В каком большом количестве они порой сновали по улицам и как смело приставали к мужчинам, видно, например, из одной жалобы, составленной в Базеле:
«Молодые девицы и старые женщины ходят по улицам, как павы. Мужчине нельзя пройти без того, чтобы они не напали на него и не потребовали бы от него денег».
В Нюрнберге поведение уличных проституток также неоднократно давало повод к жалобам и угрозам кары. Немецкий историк Блох об этом сообщает:
«…Существовала обширная уличная проституция. Часто встречаются жалобы на уличные скандалы со стороны проституток. В 1458 году Гедвиг из Силезии и Грета-француженка были высланы из Лейпцига за скандал и драку на улице. В 1459 году Маленькая Анхен и Кет из Виденгайна, вольные женщины, напали на честную женщину, хотели потащить ее к себе и совершили над ней насилие. Чаще всего ссоры и драки происходили между бордельными и вольными проститутками».
В своих материалах к «Нюрнбергской истории» фон Мурр приводит следующие указы городского совета:
«В 1508 г. содержателю дома терпимости вменяется в обязанность не пускать своих "дочерей" на улицу в их профессиональном костюме, а держать их как можно более дома, если же они хотят пойти в церковь или в другие места, то они должны надевать плащи и вуали. В 1546 г. этот указ был возобновлен в более суровой форме: в случае его неисполнения девицам грозила тюрьма, а в 1554 г., когда они начали попарно гулять по городу и в таком виде посещать церковь, этот обычай был также запрещен под страхом тюремного наказания».
О поведении проституток во Франции в гостиницах и трактирах Эразм Роттердамский рассказывает следующее: «Были там и девушки с вызывающим смехом и кокетливыми манерами. Они спрашивали без всякого повода с нашей стороны, нет ли у нас грязного белья? Они стирали его и приносили чистым. Что еще прибавить? Повсюду, за исключением конюшни, была масса девушек, да и в конюшню они часто врывались. При отъезде они обнимали нас и прощались с таким участием, словно мы были их друзьями или близкими родственниками».
Поведение проституток на праздниках, их манера танцевать, держать себя во время бега — все это, конечно, тоже относится к нашей теме, так как все это поведение было не чем иным, как концентрированной рекламой. Да и сами зрители видели не что иное, как рекламу, если те, прыгая и бегая, поднимали юбки так высоко, что их «белые бедра были видны довольно-таки бесстыдным образом». Или если во время пляски их «круглая грудь выходила из корсажа на соблазн похотливого народа». Указанием на то, что такое поведение проституток заставляет пойти в «женский переулок» многих, которые при других условиях не пошли бы туда, обосновывались, как мы видели, часто запрещения пляски и процессий публичных женщин.
Рафинированностью костюма проститутки также делали себе рекламу, и притом каждая, публично или в «женском доме». Несмотря на все запреты, они выбирали самые роскошные материи и, пока еще были сносны, страшно злоупотребляли декольте.
О регламентации костюма проститутки также сообщает немецкий историк Гермай Вейс:
«Костюм публичных женщин подчинялся строгим предписаниям. В Париже после нескольких приказов, оставшихся без последствий, по этому вопросу было принято два парламентских постановления — в 1420 и 1426 гг. Этими постановлениями публичным женщинам запрещалось носить платья с широкими отложными воротниками, длинными шлейфами, а также золотые пояса и другие украшения. Существовало строгое предписание представить все указанные вещи сержантам или служителям в Шатле в восьмидневный срок после издания этого постановления. Но и эти меры, несмотря на строгость, с которой старались их применять, не имели большого успеха: публичные женщины умели их обходить, обманывая даже самый опытный глаз внешней благопристойностью своей одежды и манер…»
еобходимо здесь указать еще на те приемы, которыми в эпоху Ренессанса куртизанки обращали на себя внимание мужчин.
Приемы эти были, разумеется, как и ныне, настолько же разнообразны, насколько разнообразно было социальное положение проститутки.
Одни гуляли на улице, провоцируя прохожих, другие сидели в неглиже у открытого окна или в дверях домов, привлекая к себе внимание мужчин. Третьи, отличавшиеся особенной красотой, совершали у окна самый интимный туалет, делая прохожих его свидетелями, или, как уже упомянуто, выставляли свою красоту напоказ в публичных банях. Наконец, самые важные вели образ жизни настоящих grandes dames (великосветских дам), возбуждая желания даже в князьях и королях.
В хрониках и описаниях нравов встречается на этот счет немало указаний. В своем «Gauchmatt» Томас Мурнер пишет:
«Одного они привлекают свистом, другого — жестом, третьего — фацилеттом (платком), других — белыми башмаками и белыми ногами, а иных — кольцами, крестиками и другими украшениями».
Таковы были приемы тех, которые промышляли на улице. В каком большом количестве они порой сновали по улицам и как смело приставали к мужчинам, видно, например, из одной жалобы, составленной в Базеле:
«Молодые девицы и старые женщины ходят по улицам, как павы. Мужчине нельзя пройти без того, чтобы они не напали на него и не потребовали бы от него денег».
В Нюрнберге поведение уличных проституток также неоднократно давало повод к жалобам и угрозам кары. Немецкий историк Блох об этом сообщает:
«…Существовала обширная уличная проституция. Часто встречаются жалобы на уличные скандалы со стороны проституток. В 1458 году Гедвиг из Силезии и Грета-француженка были высланы из Лейпцига за скандал и драку на улице. В 1459 году Маленькая Анхен и Кет из Виденгайна, вольные женщины, напали на честную женщину, хотели потащить ее к себе и совершили над ней насилие. Чаще всего ссоры и драки происходили между бордельными и вольными проститутками».
В своих материалах к «Нюрнбергской истории» фон Мурр приводит следующие указы городского совета:
«В 1508 г. содержателю дома терпимости вменяется в обязанность не пускать своих "дочерей" на улицу в их профессиональном костюме, а держать их как можно более дома, если же они хотят пойти в церковь или в другие места, то они должны надевать плащи и вуали. В 1546 г. этот указ был возобновлен в более суровой форме: в случае его неисполнения девицам грозила тюрьма, а в 1554 г., когда они начали попарно гулять по городу и в таком виде посещать церковь, этот обычай был также запрещен под страхом тюремного наказания».
О поведении проституток во Франции в гостиницах и трактирах Эразм Роттердамский рассказывает следующее: «Были там и девушки с вызывающим смехом и кокетливыми манерами. Они спрашивали без всякого повода с нашей стороны, нет ли у нас грязного белья? Они стирали его и приносили чистым. Что еще прибавить? Повсюду, за исключением конюшни, была масса девушек, да и в конюшню они часто врывались. При отъезде они обнимали нас и прощались с таким участием, словно мы были их друзьями или близкими родственниками».
Поведение проституток на праздниках, их манера танцевать, держать себя во время бега — все это, конечно, тоже относится к нашей теме, так как все это поведение было не чем иным, как концентрированной рекламой. Да и сами зрители видели не что иное, как рекламу, если те, прыгая и бегая, поднимали юбки так высоко, что их «белые бедра были видны довольно-таки бесстыдным образом». Или если во время пляски их «круглая грудь выходила из корсажа на соблазн похотливого народа». Указанием на то, что такое поведение проституток заставляет пойти в «женский переулок» многих, которые при других условиях не пошли бы туда, обосновывались, как мы видели, часто запрещения пляски и процессий публичных женщин.
Рафинированностью костюма проститутки также делали себе рекламу, и притом каждая, публично или в «женском доме». Несмотря на все запреты, они выбирали самые роскошные материи и, пока еще были сносны, страшно злоупотребляли декольте.
О регламентации костюма проститутки также сообщает немецкий историк Гермай Вейс:
«Костюм публичных женщин подчинялся строгим предписаниям. В Париже после нескольких приказов, оставшихся без последствий, по этому вопросу было принято два парламентских постановления — в 1420 и 1426 гг. Этими постановлениями публичным женщинам запрещалось носить платья с широкими отложными воротниками, длинными шлейфами, а также золотые пояса и другие украшения. Существовало строгое предписание представить все указанные вещи сержантам или служителям в Шатле в восьмидневный срок после издания этого постановления. Но и эти меры, несмотря на строгость, с которой старались их применять, не имели большого успеха: публичные женщины умели их обходить, обманывая даже самый опытный глаз внешней благопристойностью своей одежды и манер…»
Проститутка в искусстве
 амые утонченные приемы рекламы пускала в ход итальянская grande Puttana, привлекая мужчин еще и духовными качествами, особенно охотно вступая в союз с музами. Классическим примером является уже упомянутая венецианка Вероника Франко.
Она, например, пишет одному из кавалеров, смертельно в нее влюбленному и пытавшемуся с помощью мадригалов проложить дорогу к ее сердцу, чтобы он выбрал лучшее средство, если хочет надеяться в будущем на исполнение своих желаний:
«Вы прекрасно знаете, что среди тех, которые сумели покорить мое сердце, я более всего дорожу теми, кто интересуется наукой и свободными искусствами, мне столь близкими и милыми, хотя я только невежественная женщина. С особенным удовольствием беседую я с теми, кто знает, что я могла бы всю жизнь учиться, где и когда только случай представится, и что я все свое время проводила бы в обществе знающих людей, если бы то позволяли мои обстоятельства».
Прекрасная венецианка не единственная куртизанка, дружащая с музами. Другая такая дама, по имени Империя, также пользовавшаяся большой известностью среди тогдашней жуирующей публики, научилась у Никколо Компаньо, прозванного Страшино, писать итальянские стихи и читала в подлиннике латинских авторов. Третью, Лукрецию, прозванную «Madrenna non vuole», Аретино характеризует следующими словами:
«Она похожа, по-моему, на Цицерона, знает всего Петрарку и Боккаччо наизусть, а также множество прекрасных стихов Вергилия, Горация, Овидия и многих других поэтов».
О четвертой, Лукреции Скварчио, говорили, что она способна спорить о чистоте итальянской речи и т. д.
Тот факт, что знатные итальянские куртизанки демонстративно вступали в союз со всеми девятью музами, дал некоторым историкам Ренессанса повод к нелепому заявлению, что grande Puttana являлась самой смелой и потому достойной уважения представительницей Возрождения, и они и прославили ее в этом духе на весь мир. Они видели здесь новый век Лайды[176], той Лайды, которой служил художник Апеллес. Все эти добродушно-наивные люди приняли за признак глубины и серьезности то, что было только позой, да и могло быть только позой, в чем нетрудно убедиться при некотором размышлении, при некотором более внимательном взгляде. Конечно, самая поза была необходима в интересах дела.
Так как видная куртизанка была провозглашена эпохой самым драгоценным предметом роскоши, самым желанным предметом наслаждения, то она по необходимости должна была щеголять всеми теми ценностями, которые повышали тогда значение человека. А этими ценностями прежде всего были искусства и науки. Хотя каждая куртизанка усердно позировала в требуемой эпохой роли, зная, что публика хотела, чтобы даже продажную любовь ей подносили на золотом блюде, все же поведение ее было не более как подделкой, видимостью. Гетера уже не могла стать тем, чем она была в античном мире, так как содержание брака значительно изменилось. В имущих и господствующих классах законная жена уже перестала быть простой производительницей законных наследников, чем она была в Греции, она сама стала предметом роскоши. С того момента, как совершился этот переворот, куртизанка была и оставалась только суррогатом. Оба явления тесно связаны между собой, а сущностью суррогата всегда является поддельность.
В заключение укажем еще на одно далеко, впрочем, не второстепенное доказательство в пользу чрезвычайной роли, которую куртизанка играла в общественной жизни Ренессанса, — на искусство. Оно дает нам не только очень убедительный, но и по своему богатству очень поучительный аргумент в пользу всего сказанного нами. Куртизанка была мотивом, которым тогда занимались все отрасли изобразительного искусства, и притом все с одинаковым усердием. Мы встречаемся с этим мотивом в маленькой интимной гравюре, в написанном в стиле плаката рисунке по дереву, в книжной иллюстрации, наконец, в большой, написанной масляными красками картине. И не только второстепенные художники интересовались этим сюжетом, но и первоклассные мастера.
Первое изображение куртизанки в немецкой живописи («Die Offenburgerin» — «Куртизанка») принадлежит кисти великого Гольбейна. Написанная Мурильо сеньора Галлегас — куртизанка. В Италии превосходные изображения куртизанок созданы Карпаччо, Тицианом и другими гениями, в Нидерландах — Массисом, Лукой Лейденским, Вермером, Хальсом, Рембрандтом. Почти все описанное нами имеет свое отражение в произведениях искусства великих мастеров. Безусловно подтверждая все эти детали, искусство своими многочисленными изображениями куртизанки во все моменты ее жизни и деятельности, из которых ни один не забыт, дает самое неопровержимое доказательство в пользу той роли, которую она играла в то время.
амые утонченные приемы рекламы пускала в ход итальянская grande Puttana, привлекая мужчин еще и духовными качествами, особенно охотно вступая в союз с музами. Классическим примером является уже упомянутая венецианка Вероника Франко.
Она, например, пишет одному из кавалеров, смертельно в нее влюбленному и пытавшемуся с помощью мадригалов проложить дорогу к ее сердцу, чтобы он выбрал лучшее средство, если хочет надеяться в будущем на исполнение своих желаний:
«Вы прекрасно знаете, что среди тех, которые сумели покорить мое сердце, я более всего дорожу теми, кто интересуется наукой и свободными искусствами, мне столь близкими и милыми, хотя я только невежественная женщина. С особенным удовольствием беседую я с теми, кто знает, что я могла бы всю жизнь учиться, где и когда только случай представится, и что я все свое время проводила бы в обществе знающих людей, если бы то позволяли мои обстоятельства».
Прекрасная венецианка не единственная куртизанка, дружащая с музами. Другая такая дама, по имени Империя, также пользовавшаяся большой известностью среди тогдашней жуирующей публики, научилась у Никколо Компаньо, прозванного Страшино, писать итальянские стихи и читала в подлиннике латинских авторов. Третью, Лукрецию, прозванную «Madrenna non vuole», Аретино характеризует следующими словами:
«Она похожа, по-моему, на Цицерона, знает всего Петрарку и Боккаччо наизусть, а также множество прекрасных стихов Вергилия, Горация, Овидия и многих других поэтов».
О четвертой, Лукреции Скварчио, говорили, что она способна спорить о чистоте итальянской речи и т. д.
Тот факт, что знатные итальянские куртизанки демонстративно вступали в союз со всеми девятью музами, дал некоторым историкам Ренессанса повод к нелепому заявлению, что grande Puttana являлась самой смелой и потому достойной уважения представительницей Возрождения, и они и прославили ее в этом духе на весь мир. Они видели здесь новый век Лайды[176], той Лайды, которой служил художник Апеллес. Все эти добродушно-наивные люди приняли за признак глубины и серьезности то, что было только позой, да и могло быть только позой, в чем нетрудно убедиться при некотором размышлении, при некотором более внимательном взгляде. Конечно, самая поза была необходима в интересах дела.
Так как видная куртизанка была провозглашена эпохой самым драгоценным предметом роскоши, самым желанным предметом наслаждения, то она по необходимости должна была щеголять всеми теми ценностями, которые повышали тогда значение человека. А этими ценностями прежде всего были искусства и науки. Хотя каждая куртизанка усердно позировала в требуемой эпохой роли, зная, что публика хотела, чтобы даже продажную любовь ей подносили на золотом блюде, все же поведение ее было не более как подделкой, видимостью. Гетера уже не могла стать тем, чем она была в античном мире, так как содержание брака значительно изменилось. В имущих и господствующих классах законная жена уже перестала быть простой производительницей законных наследников, чем она была в Греции, она сама стала предметом роскоши. С того момента, как совершился этот переворот, куртизанка была и оставалась только суррогатом. Оба явления тесно связаны между собой, а сущностью суррогата всегда является поддельность.
В заключение укажем еще на одно далеко, впрочем, не второстепенное доказательство в пользу чрезвычайной роли, которую куртизанка играла в общественной жизни Ренессанса, — на искусство. Оно дает нам не только очень убедительный, но и по своему богатству очень поучительный аргумент в пользу всего сказанного нами. Куртизанка была мотивом, которым тогда занимались все отрасли изобразительного искусства, и притом все с одинаковым усердием. Мы встречаемся с этим мотивом в маленькой интимной гравюре, в написанном в стиле плаката рисунке по дереву, в книжной иллюстрации, наконец, в большой, написанной масляными красками картине. И не только второстепенные художники интересовались этим сюжетом, но и первоклассные мастера.
Первое изображение куртизанки в немецкой живописи («Die Offenburgerin» — «Куртизанка») принадлежит кисти великого Гольбейна. Написанная Мурильо сеньора Галлегас — куртизанка. В Италии превосходные изображения куртизанок созданы Карпаччо, Тицианом и другими гениями, в Нидерландах — Массисом, Лукой Лейденским, Вермером, Хальсом, Рембрандтом. Почти все описанное нами имеет свое отражение в произведениях искусства великих мастеров. Безусловно подтверждая все эти детали, искусство своими многочисленными изображениями куртизанки во все моменты ее жизни и деятельности, из которых ни один не забыт, дает самое неопровержимое доказательство в пользу той роли, которую она играла в то время.

Регламентация проституции
 ерпимость к проституции в эпоху Ренессанса скоро привела к необходимости ее регламентации, отчасти в интересах урегулирования разнообразных подробностей, отчасти — и это была, без сомнения, главная причина вмешательства властей — в интересах предупреждения или улаживания постоянно грозивших со всех сторон конфликтов. В этой области постоянные эксцессы были неизбежны. Первоначальные подобные меры имели повсеместно в виду локализацию рынка любви. «Городские девушки», «красавицы», Hubscherinen, femmes folles[177] и т. д. имели право промышлять и жить только на известных улицах. Так, часто церковь требовала, чтобы они не жили на улицах, которые вели к храму. В одном гамбургском указе от 1483 г. говорится: «Публичные женщины не должны жить поблизости с церквами или на улицах, ведущих к ним». Церковь видела насмешку над благочестием прихожан, если разврат «открывал свой рынок» непосредственно возле церковной паперти. Если подобные требования усердно поддерживались многими домовладельцами, так как шумная жизнь отпугивала порядочных людей от таких мест и цена земельных участков падала, то не менее часто домовладельцы были самыми энергичными противниками подобных приемов нравственного оздоровления.
Проститутки были теми квартиронанимателями, которые платили лучше других, и так как они всегда были вне закона, то они были вместе с тем и наименее требовательными квартиронанимателями.
Существовали, далее, определенные улицы и кварталы, где специально предписывалось жить жрицам любви. Это были обыкновенно улицы, лежавшие в стороне от городской жизни, тупики, выходившие в ров или упиравшиеся в городскую стену. Около последней находилось большинство «женских переулков» и домов. В одном страсбургском указе 1471 г. говорится:
«Все содержательницы домов терпимости и все публичные женщины, находящиеся в городе, обязаны переехать на улицы (перечисляются их названия) за городской чертой или в другие концы, предписанные им».
Аналогично содержание франкфуртского указа 1477 г.
Жрицы любви не только вытеснялись в отношении местожительства за черту почтенных бюргерских нравов: каждую в отдельности еще хотели отметить особенным признаком. Конечно, мужчины охотно прибегали к услугам проституток и ни за что не желали отказываться от даруемых ими радостей, при каждом удобном случае проститутки обязаны были доставлять удовольствие и развлечение и т. д. Но именно потому, что в них видели только предмет наслаждения, их хотели сразу распознать среди десятка других женщин. Еще в большей степени, впрочем, это делалось для того, чтобы их отмежевать от порядочного общества. Между ним и ими воздвигалась непреодолимая преграда, дабы порядочная женщина из мещанства не рисковала запятнать свое платье.
ерпимость к проституции в эпоху Ренессанса скоро привела к необходимости ее регламентации, отчасти в интересах урегулирования разнообразных подробностей, отчасти — и это была, без сомнения, главная причина вмешательства властей — в интересах предупреждения или улаживания постоянно грозивших со всех сторон конфликтов. В этой области постоянные эксцессы были неизбежны. Первоначальные подобные меры имели повсеместно в виду локализацию рынка любви. «Городские девушки», «красавицы», Hubscherinen, femmes folles[177] и т. д. имели право промышлять и жить только на известных улицах. Так, часто церковь требовала, чтобы они не жили на улицах, которые вели к храму. В одном гамбургском указе от 1483 г. говорится: «Публичные женщины не должны жить поблизости с церквами или на улицах, ведущих к ним». Церковь видела насмешку над благочестием прихожан, если разврат «открывал свой рынок» непосредственно возле церковной паперти. Если подобные требования усердно поддерживались многими домовладельцами, так как шумная жизнь отпугивала порядочных людей от таких мест и цена земельных участков падала, то не менее часто домовладельцы были самыми энергичными противниками подобных приемов нравственного оздоровления.
Проститутки были теми квартиронанимателями, которые платили лучше других, и так как они всегда были вне закона, то они были вместе с тем и наименее требовательными квартиронанимателями.
Существовали, далее, определенные улицы и кварталы, где специально предписывалось жить жрицам любви. Это были обыкновенно улицы, лежавшие в стороне от городской жизни, тупики, выходившие в ров или упиравшиеся в городскую стену. Около последней находилось большинство «женских переулков» и домов. В одном страсбургском указе 1471 г. говорится:
«Все содержательницы домов терпимости и все публичные женщины, находящиеся в городе, обязаны переехать на улицы (перечисляются их названия) за городской чертой или в другие концы, предписанные им».
Аналогично содержание франкфуртского указа 1477 г.
Жрицы любви не только вытеснялись в отношении местожительства за черту почтенных бюргерских нравов: каждую в отдельности еще хотели отметить особенным признаком. Конечно, мужчины охотно прибегали к услугам проституток и ни за что не желали отказываться от даруемых ими радостей, при каждом удобном случае проститутки обязаны были доставлять удовольствие и развлечение и т. д. Но именно потому, что в них видели только предмет наслаждения, их хотели сразу распознать среди десятка других женщин. Еще в большей степени, впрочем, это делалось для того, чтобы их отмежевать от порядочного общества. Между ним и ими воздвигалась непреодолимая преграда, дабы порядочная женщина из мещанства не рисковала запятнать свое платье.

Венецианская куртизанка
Немецкий историк Блох об этом сообщает: «…Костюмы проституток в ХIV и XV веках характеризуются тем, что обыкновенно одна какая-нибудь часть костюма, а иногда и несколько, бывали бросающегося в глаза цвета и заметны были уже издалека. В Аугсбурге — вуаль с зеленой полосой, шириной в два пальца. В Берне и Цюрихе — красная шапочка. В Вене — желтый шарф на плече, шириной в ладонь, длиною в один шаг. В Лейпциге — желтый кусок материи; домовые проститутки должны были носить колпак на голове. Во Франкфурте — желтый убор. Также было запрещено носить золотые цепи, бархат, атлас и дамаск. В Страсбурге — черная с белым шляпа. В Авиньоне — черный бант при светлом платье и белый бант при темном платье на левой руке, между локтем и плечом. В Ниме — рукава другого цвета, чем платье. В Безансоне — красный бант на рукаве. Во Фаэнце — желтая вуаль, корзинка на правой руке. В Болонье — капор с погремушками. В Пьемонте — большой неуклюжий чепчик, с двумя рогами снаружи, длиной около полуфута».

Римская куртизанка на улице
Этот жестокий обычай публичного клеймения проститутки практиковался везде, а именно путем регламентации ее костюма. Каждая официальная публичная женщина должна была носить на своем костюме какой-нибудь в глаза бросающийся значок. В одном указе города Цюриха от 1313 г. говорится: «Каждая публичная девушка, а также содержательница публичного дома должна на улице носить красную шапочку в виде капюшона. Если в церкви они хотят снять его, то они должны откинуть его на плечи, а потом снова надеть. Кто уклоняется от исполнения этого постановления, обязан заплатить городскому совету 5 R., причем слуги совета обязаны под присягой следить за сбором штрафов. Той, которая не в состоянии заплатить означенный штраф, будет запрещено жить в городе, пока она его не заплатит».
Фортуна — все равно что женщина, и тот, кто хочет ее покорить, должен спорить с ней и бороться, как борьба с женщиной требует битья ее и помыкания ею.Меранский городской совет постановил в 1400 г.: «Публичным женщинам запрещается носить пальто или шубу и участвовать в танцах с женами бюргеров и другими почтенными женщинами. На башмаках они обязаны носить желтый бантик, чтобы их легко можно было распознать, носить же серебряные украшения им возбраняется». Отцы города Аугсбурга предписывают в 1440 г. содержателю «женского дома» заботиться о том, «чтобы тайные женщины и дочери, когда выходят на улицу, не носили бархат, шелк и четки из кораллов, чтобы каждая на своей вуали имела зеленую полосу шириной в два пальца и не показывалась на улице в сопровождении служанки». В одном французском постановлении, относящемся к середине XIV в., проституткам предписывалось показываться публично с булавкой, вдетой в платье около плеч. Берлинский городской совет декретировал в 1486 г.: «Чтобы можно было отличить добрых от злых женщин, все, ведущие греховный образ жизни, обязаны покрывать голову плащом или же носить коротенькие плащи». Мы процитировали здесь буквально, с обозначением даты, пять постановлений. Было бы нетрудно удесятерить их число и не делая предварительных архивных изысканий. Из приведенных документов видно с достаточной ясностью, что подобное публичное клеймение проститутки было не единичным, а стереотипным явлением и что в этом приеме отражается, следовательно, более или менее общее воззрение. Это сознательно выполненный самый гнусный способ очернения, который только можно придумать. Само собой понятно, что подобные указы не касались видных куртизанок. Блох сообщает: «В предписании Совета Десяти в Венеции от 15 марта 1480 года некоторым женщинам запрещается выходить на улицу в мужской прическе и говорится, что эта мода усвоена в особенности проститутками. Тут же высказывается предположение, что женщины эти желают своим мужским костюмом завлекать мужчин для противоестественных сношений. Вероятно, речь здесь идет о лесбийских проститутках, которые мужскими аллюрами старались возбудить внимание гомосексуальных женщин. Во всяком случае, из актов от 19 сентября 1481 года и 28 августа 1500 года видно, что в Венеции существовали сводницы и посредницы между женщинами и проститутками для пособничества в гомосексуальных отношениях». Регламентация костюма содержала еще ряд других постановлений, направленных против проституток и служивших той же тенденции клеймения. Подобно тому как им предписывалось носить особые отличительные значки, так часто им запрещалось одеваться в известные материи или носить то или другое украшение. Ношение этих тканей и украшений было неограниченной привилегией почтенных и благородных дам. В основе таких постановлений лежало убеждение, что все, чего ни коснется проститутка: мода, которую она выбирает, драгоценность, которой она украшает себя, — становится также нечистым. Как глубоко вкоренился такой взгляд, явствует с еще большей рельефностью из прямо противоположных постановлений против роскоши, делавших, как раньше было упомянуто, исключение только для проституток. Последние не только имели право, но даже порой обязывались носить запрещенные порядочным женщинам роскошные материи, вуали и драгоценности. Так, одно цюрихское постановление против роскоши, относящееся к 1488 г., заключает перечисление таких изъятых из употребления предметов словами: «Однако все публичные женщины, живущие на улице (такой-то) и у рва, имеют право носить все вышеперечисленные вещи». Этим утонченным приемом хотели придать законам против роскоши особенную внушительность. Объявляя все подобные материи, украшения и моды привилегией проституток, городские советы не только дискредитировали их в глазах порядочных женщин, но и подвергали всякую приличную женщину, пользовавшуюся этими предметами, опасности быть принятой за проститутку. И, по словам Флегель-Эбелинга, прием этот увенчался полным успехом. По поводу запрещения так называемой Schellenmode (шутовская мода) он говорит: «В Лейпциге городской совет был весьма недоволен этой модой. Однако он очень скоро придумал превосходное средство покончить с ней. А именно, он постановил, чтобы все зарегистрированные публичные женщины носили эту моду. Само собой понятно, что она скоро исчезла, так как ни одна женщина, слывшая за порядочную, не хотела, чтобы ее приняли за жрицу Венеры vulgivaga (общедоступная)». Если в приведенном Флегелем примере это средство оказалось успешным, то ему можно противопоставить бесчисленное множество других случаев, когда оно оказывалось бесполезным. Очень часто даже и самые почтенные женщины хладнокровно шли навстречу опасности быть принятыми за проституток. И в особенности в тех случаях, когда уступленная проституткам привилегия касалась чрезмерного декольте. Те же причины, которые локализовали проституцию, привели очень скоро и к регламентации этих бирж любви. Очень рано встречаются уже и так называемые «регламенты публичных домов». Древнейшие, подлинность которых не подлежит сомнению, восходят к XII в. Эти порой весьма пространные постановления представляют самый важный и самый поучительный источник для истории проституции, так как содержат самые ценные сведения о ее характере. Помимо многих других данных, они вскрывают нам особые потребности известных городов, размер платы за посещения и их время и далее те особые неудобства, против которых ополчались или которые хотели устранить.Никколо Макиавелли

Начальник отряда солдатских девок
К числу самых интересных и подробных таких регламентов, сохранившихся до нашего времени, принадлежит «устав женского дома в Ульме». К сожалению, этот ценный документ слишком пространен, чтобы можно было привести его здесь целиком. Мы ограничимся поэтому небольшой выпиской. Уже второй пункт, исполнение которого содержатель дома подтверждал под присягой перед бургомистром и советом, чрезвычайно поучителен: «Во-вторых, пусть он присягнет, что будет содержать свой дом в порядке и снабжать его хорошими, опрятными и здоровыми женщинами и что он никогда не будет иметь менее четырнадцати; если же он лишится одной из них вследствие болезни или по какой-нибудь другой причине, то обязан в течение месяца возместить их другой или другими опытными, опрятными и здоровыми женщинами так, чтобы не уменьшалось вышеозначенное число четырнадцать». Из этого пункта следует, что спрос на проституцию был весьма велик. Требуется не менее четырнадцати женщин, чтобы удовлетворить спрос на любовь, и потому их число никогда не должно быть меньше. Кроме того, они обязаны быть годными, опрятными и здоровыми. Видно, что ульмские бюргеры требовали за свои деньги хороший товар! Годность к любви является требованием, которое очень часто повторяется. Под этим словом подразумевали прежде всего соответствующий возраст. Во многих таких постановлениях содержателю прямо запрещается принимать очень молодых девушек, хотя, впрочем, возраст никогда точно не определялся: исходили из соображений «способна ли она уже к любви», из соображений индивидуального развития… Подобные указания интересны еще потому, что подтверждают частые сообщения хроник, что в «женских домах» было много совсем юных девочек. Из этого факта следует не то, что существовал недостаток во взрослых проститутках, а то, что хозяева заведений стремились удовлетворять требования всяких посетителей, даже и развращенных сладострастников. В концессии, данной вюрцбургскому содержателю дома терпимости Мартину Гуммелю в 1444 г., подробнее указаны все признаки «годности»: «Содержатель дома не должен иметь в нем беременных женщин… А если у него найдется девочка, слишком молодая, то ее следует наказать розгами и изгнать из города под страхом смерти, пока она не достигнет нужного возраста!» Итак, бедная жертва еще награждалась розгами! Подобно тому как хозяину заведения было воспрещено принимать слишком «юных дочерей» для потехи развращенных гостей, так не имел он и права принимать замужних. Подобное запрещение мы встречаем повсюду: во Франции, Англии, Германии. Не менее часты, однако, и сообщения о том, что запрещение это нарушалось и что все большее количество замужних женщин тайком служили в домах терпимости, в особенности когда собирался имперский съезд или в городе находилось много войска, так что не грозила особая опасность разоблачения. Что же касается закона, в силу которого в «женские дома» принимались только уроженки других местностей, то он касался исключительно небольших городков. Незначительный объем города и родство большинства тамошних семейств объясняют в достаточной степени это постановление. У нас очень мало положительных данных о посещении таких заведений молодежью. Из того факта, что среди разнообразных пунктов, исполнение которых было для содержателя обязательно под присягой, часто встречается и параграф о запрещении входа в такие заведения мальчикам, можно с уверенностью заключить, что подобные случаи бывали, и, очевидно, не редко. Время посещения также регламентировалось уставом. Во Франции для этого предназначались часы от восхода до захода солнца. После захода солнца уже нельзя было ни войти, ни выйти из такого дома. В Голландии и Англии заведения должны были быть закрыты по воскресеньям. В одной английской хронике говорится по поводу этих разнообразных пунктов: «В заведениях не должно быть замужних женщин, а также женщин, страдающих каким-нибудь серьезным недутом. Так же точно было запрещено открывать их по воскресеньям, обычай, до сих пор сохранившийся у благочестивых кальвинистов Голландии. Вывески не вывешивались, а писались на стенах, часто над ними красовалась кардинальская шляпа». Бок о бок с этой регламентацией проституции со стороны властей стояла цеховая организация самих проституток, при помощи которой они отстаивали и защищали свои права. Воздействие этой организации ясно сказывалось в разных пунктах устава, носивших социальный характер, говоривших об уходе за больными и ограничивавших права и претензии хозяев. Так, например, проститутка имела право в известное время не принимать мужчин; далее, ее нельзя было насильно удерживать в заведении, наконец, у нее была и некоторая защита против чрезмерной эксплуатации хозяина. Все эти социальные меры, развитые, между прочим, подробно и в вышеупомянутом ульмском уставе, вероятно, объясняются именно организацией самих проституток, т. е. коллективным и серьезным протестом тех, кто лучше всех знали, в какой защите нуждалась проститутка. При помощи своей организации «честные девки» вели еще другого рода борьбу, а именно в интересах нравственности, против нечестной конкуренции на рынке любви. Они хотели, чтобы тайные проститутки не портили им дела, не сбивали цен, не отнимали у них из-под носа клиентов, Мужчины, по их убеждению, были обязаны посещать только «честных девок», только «женский переулок». Они поэтому систематически доносили на тайных городскому совету, прося его «во имя Господа и милосердия» подвергать наказанию за то, что те отнимали у них хлеб. Уже Ганс Розенплют говорит в одной из своих масленичных пьес о таких жалобах «честных девок»: «Публичные женщины жалуются на то, что их пастбище стало слишком ограниченным, что тайные проститутки и прислуга отбивают у них корм. Они жалуются также на монахинь, которые умеют так ловко веселиться. Когда последние пускают себе кровь или купаются, так уж непременно в присутствии приглашенного дворянчика Конрада».

Изгнание ограбленного посетителя из дома терпимости
Не ограничиваясь одними жалобами, борьба против тайных конкуренток и домашней прислуги переходила порою в побоище. Такое исторически достоверное общее выступление проституток описывается, например, в хронике нюрнбергца Генриха Дейкслера: «1500 г. Item в тот же день, 26 ноября. Вышло из женского дома восемь публичных женщин и пришли к бургомистру Маркгарту Менделю и сказали, что в таком-то месте города находится целое заведение тайных проституток и что хозяйка впускает в одну комнату холостяков, в другую женатых и позволяет им заниматься всякими глупостями днем и ночью. Изложив все это, они просили бургомистра позволить им выгнать всех проституток и разрушить заведение. Он позволил им, и вот они штурмовали дом, разнесли дверь, опрокинули печи, разбили стекла в окнах, каждая брала что-нибудь с собой. Птички же все выпорхнули, и потому те страшно избили старуху хозяйку». Дело не ограничивалось этим случаем. Пять лет спустя публичные женщины повторили свою выходку. Такое весьма далекое от парламентаризма сведение счетов между солидарными «честными девками» и тайными проститутками, или так называемыми «вольными проститутками», встречается, впрочем, не только в Нюрнберге, но и в других местах.

Борьба против проституции
 ак бы ни была велика и своеобразна терпимость, с которой Возрождение относилось к проституции, оно не исключало того, что одновременно раздавались и резкие протесты против нее.
В самом деле: моралисты-проповедники не переставали ни на минуту громить проституцию. Они беспрестанно изображали ее самыми мрачными красками как источник всех зол, как глубочайшую пропасть ада, в какую только может упасть женщина или мужчина. Противоречие между практикой и теорией — надо заметить, что как в теории, так и в практике господствовало одинаковое единодушие, — было, разумеется, велико, но оно отнюдь не неразрешимо. Оно обусловлено тем обстоятельством, что грандиозная экономическая революция совершалась в рамках мелкобуржуазного общественного строя. Постоянное столкновение двух таких противоположных сил должно было неизбежно привести к резкому противоречию между теорией и практикой.
Именно из недр узкого мировоззрения мелкой буржуазии родились все те аргументы, которые проповедники морали выставляли против проституции. Главный их довод постоянно состоял в том, что проститутки интересуются исключительно кошельком тех, кто их посещает. Бесконечное множество из тех поговорок, в которых отражается нравственное негодование на проституток, порождено именно этим взглядом: «Кто водится с публичными женщинами, того общиплют, как курицу», «Проститутка охотно принимает, но только деньги», «Публичная женщина любит лишь до тех пор, пока ей платят», «Проститутка и вино выметают дочиста ящик с деньгами», «Когда публичная женщина ласкает, она имеет в виду не сердце, а только деньги в кармане» и т. д. Такими пословицами хотели возбудить в мужчине отвращение к проститутке.
Что именно эта философия лежала в основе отрицательного отношения к проституции, еще лучше доказывает изобразительное искусство. Главнейшая мысль морализующих картин всегда — покушение проститутки на кошелек ее временного любовника. Заметьте: не то считается позорным, что женщина продает себя за деньги, что она связывает самый интимный акт с самым скверным и грязным торгом. Сатира направлена лишь на то, что проститутка украдкой врывается в права собственности мужчины. Ущерб, наносимый собственности, — вот что кажется ужасным, считается высшим преступлением. Художники не устают варьировать эту мысль. Вот содержание нескольких таких картин.
Проститутка выставляет напоказ свою пышную грудь, как бы говоря мужчинам: это принадлежит вам на час или дольше, если вы столько-то заплатите, и вместе с тем протягивает монету, за которую она продает все эти чары. Нежно обхватил веселый гость заигрывающую с ним женщину. Теперь отступление уже невозможно, хитрая проститутка сделала ему уже слишком много авансов. И вот на сцене появляется сводня, чтобы окончательно закрепить дело и обеспечить себе свою долю. Или проститутка делает паузу, зная, что в такие минуты мужчина охотнее всего готов тратиться. Матрос, вернувшийся после длившегося целые месяцы путешествия, истомившийся от воздержания, прямо предоставляет проститутке весь свой кошелек.
Все это, однако, не более как вступление, и против всего этого, пожалуй, нет основания особенно негодовать. Главное зло, по мнению проповедников морали, состоит в следующих затем трех актах, в которых речь идет уже не только о кошельке гостя, а о еще более радикальных действиях проститутки[178]. Последняя никогда не довольствуется тем, что ей дают, хотя бы давали щедро. Ей этого мало. Как вор, вторгается она в карман посетителя. Каждая проститутка вместе с тем и воровка. В то самое время, когда чувства гостя воспламенены ее поцелуями, жестами, чарами и любовным искусством, одна из ее рук находит дорогу в его карман, откуда извлекает то, чего ей не хотят дать добровольно. Таков первый акт.
ак бы ни была велика и своеобразна терпимость, с которой Возрождение относилось к проституции, оно не исключало того, что одновременно раздавались и резкие протесты против нее.
В самом деле: моралисты-проповедники не переставали ни на минуту громить проституцию. Они беспрестанно изображали ее самыми мрачными красками как источник всех зол, как глубочайшую пропасть ада, в какую только может упасть женщина или мужчина. Противоречие между практикой и теорией — надо заметить, что как в теории, так и в практике господствовало одинаковое единодушие, — было, разумеется, велико, но оно отнюдь не неразрешимо. Оно обусловлено тем обстоятельством, что грандиозная экономическая революция совершалась в рамках мелкобуржуазного общественного строя. Постоянное столкновение двух таких противоположных сил должно было неизбежно привести к резкому противоречию между теорией и практикой.
Именно из недр узкого мировоззрения мелкой буржуазии родились все те аргументы, которые проповедники морали выставляли против проституции. Главный их довод постоянно состоял в том, что проститутки интересуются исключительно кошельком тех, кто их посещает. Бесконечное множество из тех поговорок, в которых отражается нравственное негодование на проституток, порождено именно этим взглядом: «Кто водится с публичными женщинами, того общиплют, как курицу», «Проститутка охотно принимает, но только деньги», «Публичная женщина любит лишь до тех пор, пока ей платят», «Проститутка и вино выметают дочиста ящик с деньгами», «Когда публичная женщина ласкает, она имеет в виду не сердце, а только деньги в кармане» и т. д. Такими пословицами хотели возбудить в мужчине отвращение к проститутке.
Что именно эта философия лежала в основе отрицательного отношения к проституции, еще лучше доказывает изобразительное искусство. Главнейшая мысль морализующих картин всегда — покушение проститутки на кошелек ее временного любовника. Заметьте: не то считается позорным, что женщина продает себя за деньги, что она связывает самый интимный акт с самым скверным и грязным торгом. Сатира направлена лишь на то, что проститутка украдкой врывается в права собственности мужчины. Ущерб, наносимый собственности, — вот что кажется ужасным, считается высшим преступлением. Художники не устают варьировать эту мысль. Вот содержание нескольких таких картин.
Проститутка выставляет напоказ свою пышную грудь, как бы говоря мужчинам: это принадлежит вам на час или дольше, если вы столько-то заплатите, и вместе с тем протягивает монету, за которую она продает все эти чары. Нежно обхватил веселый гость заигрывающую с ним женщину. Теперь отступление уже невозможно, хитрая проститутка сделала ему уже слишком много авансов. И вот на сцене появляется сводня, чтобы окончательно закрепить дело и обеспечить себе свою долю. Или проститутка делает паузу, зная, что в такие минуты мужчина охотнее всего готов тратиться. Матрос, вернувшийся после длившегося целые месяцы путешествия, истомившийся от воздержания, прямо предоставляет проститутке весь свой кошелек.
Все это, однако, не более как вступление, и против всего этого, пожалуй, нет основания особенно негодовать. Главное зло, по мнению проповедников морали, состоит в следующих затем трех актах, в которых речь идет уже не только о кошельке гостя, а о еще более радикальных действиях проститутки[178]. Последняя никогда не довольствуется тем, что ей дают, хотя бы давали щедро. Ей этого мало. Как вор, вторгается она в карман посетителя. Каждая проститутка вместе с тем и воровка. В то самое время, когда чувства гостя воспламенены ее поцелуями, жестами, чарами и любовным искусством, одна из ее рук находит дорогу в его карман, откуда извлекает то, чего ей не хотят дать добровольно. Таков первый акт.

Бродяги. Французский рисунок
Однако проститутка желает не только большего, она желает всего. Таков второй акт. Он начинается несколькими часами позже, когда вино и любовь уже оказали свое действие и посетитель, утомившись, заснул. В это мгновение карманы его совершенно опустошаются и ничто не уцелеет от жадности проститутки. Третий акт — вечно повторяющийся финал. Жертва, обобранная до последней нитки, беспощадно выбрасывается на улицу под издевательства и насмешки. Другими словами, нежность проститутки продолжается лишь до тех пор, пока эта нежность приносит проценты. Надо признаться, что такой взгляд совершенно правилен. Но если морализующая сатира века видела только этот один пункт, если в вечной смехотворной трагикомедии самым ужасным, единственно непростительным ей представлялось покушение на кошелек, то это доказывает, что эта мораль была именно порождением мелкобуржуазного духа. Рядом с борьбой против проституции путем нравственного негодования, рядом с не менее частыми, но редко исполнявшимися угрозами кары встречаются уже довольно рано практические попытки ограничения проституции. Так как люди не понимали социальных причин этого явления, так как они усматривали в прирожденной испорченности, в лени и похотливости единственный мотив, побуждавший женщин становиться проститутками, то они воображали, что достаточно заставить проституток покаяться в своем грехе. С этой целью основывались монастыри «кающихся», бегинажи, как их называли во Франции, орден, распространенный во всех странах. В одной шпейерской хронике так описывается основание в 1302 г. общины бегинок: «Кающимися называются женщины, незамужние или состоящие в браке, которые предавались греховной плотской любви, а потом почувствовали раскаяние и сожаление. Для них в имперских городах в это время были выстроены особые дома, где они могли бы покаяться в своей безнравственной жизни, оберегаться от греха и находить себе пропитание уходом за больными из мирян и духовенства. В Шпейере орден бегинок был основан в 1302 г. или немного раньше одним богатым горожанином, который построил для таких кающихся особое помещение, где они могли совместно жить, дал необходимые для их содержания деньги и постановил, чтобы они носили грубое белое полотняное платье». В своем описании Вены, относящемся к 1450 г., Энеа Сильвио говорит об основании такого же учреждения: «Здесь находится также монастырь св. Иеронима, куда принимаются женщины, обратившиеся после греховной жизни к Богу. День и ночь они поют гимны на немецком языке. Если же одна из нйх снова возвращается к прежнему образу жизни, то ее бросают в Дунай». Об этом монастыре также сообщает немецкий историк Блох: «…Известен основанный в 1384 году тремя бюргерами в Вене дом св. Иеронима, получивший в том же году от герцога Альбрехта III льготную грамоту. Во главе его стояла честная, благочестивая женщина, которая, опираясь на многих помощниц, руководила исправлением поступающих. Они давали не постоянный, а только временный обет. Им разрешалось заниматься всяким делом, кроме устройства трактиров, кабаков или занятия торговлей. Герцог не только освободил дом от налогов, но предписал даже, чтобы лица, вступающие в брак с обитательницей дома, не теряли своей чести и цеховых прав. Если какая-нибудь из поступивших покидала дом, ее наказывали тюремным заключением и затем высылали. Если же она возвращалась снова к прежней грешной жизни, ее топили в Дунае. Заведение это продолжало существовать до середины XVI столетия». Более подробные сведения имеются у нас о парижских бегинках. В их статутах говорится: «Никто не будет принят против воли, притом только такие, которые некоторое время вели безнравственный образ жизни. Во избежание обмана они должны подвергнуться осмотру в присутствии сестер-монахинь, особо для этой цели назначенными матронами, которые под присягой обязаны обещать воздержаться от всякого обмана и лжи. Во избежание того, что молодые особы нарочно предадутся греховной жизни, чтобы быть принятыми, постановляется, что те, кто раз отвергнуты, никогда уже не могут быть приняты. Кроме того, просительницы обязаны поклясться духовнику, что они готовы терпеть вечные муки, если они вели греховную жизнь только затем, чтобы потом быть принятыми в число членов общины, и что они будут изгнаны из монастыря, хотя бы они даже уже приняли постриг и дали свой обет. Дабы женщины легкого поведения не слишком долго медлили со своим покаянием, воображая, что этот выход открыт им всегда, решено не принимать в члены общины женщин старше 30 лет». Возможностью покаяния исчерпывалось все, что общество сделало для ограничения проституции. Проститутка была заклеймена и должна была на всю жизнь сохранить это клеймо. Возвращение в ряды гражданского общества было для нее закрыто. Прошлого ничем нельзя было искоренить, даже браком с почтенным и уважаемым человеком. Достаточно привести один документ. В 1483 г. в Гамбурге было постановлено: «Публичная женщина не имеет права носить украшения. Если она выйдет замуж за честного человека, то ей все-таки возбраняется знаться с честными женщинами. Такая женщина должна носить чепец и никакого другого головного убора». При таких условиях немудрено, что опыт с кающимися не приводил к желанному результату. В шпейерской хронике говорится, например, что «эти женщины (кающиеся), по общему мнению, весьма вредные сводни». Также безуспешны были вообще все попытки поднять нравственность. Все негодующие слова были сказаны на ветер. Мы уже достаточно выяснили первую причину непрекращавшегося значительного спроса на проституцию. Нетрудно понять и другую причину, почему армия проституток постоянно возрастала, почему приток к ней никогда не прекращался, почему предложение еще превосходило спрос и повсюду промышляли руффианы, сводни и сводники. Эта причина коренится в продолжавшемся столетия перевороте, вызванном развитием капитализма. Этот переворот деклассировал в каждой стране сотни тысяч людей, впервые взрастил массовый пролетариат. Тот же самый процесс, который переполнял войска солдатами, готовыми отдать свою жизнь за чуждые им интересы, переполнял «женские переулки» и «дома» всего света девушками и женщинами, не менее готовыми отдать свою красоту и любовь чужим мужчинам, способным платить. Неисчерпаемое гигантское войско проституток представляло собой женское дополнение к войскам ландскнехтов. Те же причины (выше они были выяснены), почему в XV и XVI вв. наемные армии состояли в большинстве случаев из немцев, объясняют нам и тот факт, что во всех «женских переулках» мира встречались немки, в особенности уроженки Швабии. Лицом к лицу с такими побудительными причинами вся мудрость нравственных трактатиков была осуждена на бесплодие. Что же касается мужской проституции, то немецкий ученый Блох сообщает: «…Число проституированных мужчин в Венеции в XV веке было так велико, а выступление их на улице так свободно и непринужденно, что они составляли серьезную конкуренцию для женщин-проституток. Поэтому правительство было вынуждено прибегнуть к удивительной мере, о которой и теперь еще напоминает название Ponte е fondamente delle Tette в городе Сан-Кассиано: жившие в бордельном квартале Карампане проститутки должны были доходить до этого моста и, стоя с обнаженной грудью (tette), завлекать прохожих. Обычай этот объясняется законом Совета Десяти, который повелевал женщинам-проституткам стоять с обнаженной грудью у открытого окна или на улице, чтобы завлекать мужчин и удерживать их таким образом от увлечения педерастией…» И все-таки постепенно — особенно заметным это становится со второй половины XVI в. — люди становились нравственнее. Было бы, однако, нелепо приписать этот положительный результат нравственному влиянию Реформации, как часто делается, или вообще влиянию нравственных проповедей. Оба фактора могли привести к такому результату только потому, что нашли двух союзников, диалектика которых всегда была в истории наиболее убедительной. Первый из факторов уже упоминался нами однажды, а именно как решающая причина сокращения роскоши в костюме и упразднения развращенных мод, явления, тоже относящегося странным образом ко второй половине XVI в. Этим фактором стал экономический упадок, задержавший дальнейшее развитие капитализма, начавшееся в таком грандиозном масштабе.

Сифилис
 кономическая история, начиная со второй половины XVI в., представляет во многих странах историю упадка. Испания обанкротилась уже полстолетием раньше, Германия доходит до самой черты банкротства, Италия, Франция, Голландия испытывают самые серьезные потрясения.
То был первый и величайший всемирно-исторический кризис Нового времени.
Капиталистическое хозяйство впервые показало миру свое страшное лицо двуликого Януса[179].
Вторым фактором был сифилис[180]. Он погасил жизнерадостность даже и там, где ее не нарушили нужда и горе.
Первое появление сифилиса в конце XV в. было самым страшным испытанием, какое пришлось пережить тогдашнему человечеству. То, что в его глазах было высшим вакхическим проявлением жизни, вдруг получило отвратительное, ужасное клеймо. То был проклятый подарок, поднесенный Европе Новым Светом, завоеванным капитализмом рукою Колумба. То был вместе с тем апогей всемирно-исторической трагикомедии: бедные туземцы вновь открытого мира заранее отомстили своим будущим, жадным до золота мучителям. Из них хотели выжать только золото, а они влили в жилы Европы огонь, заставляющий еще теперь, четыреста лет спустя, корчиться в беспомощном отчаянии миллионы людей.
В последующие годы, после возвращения экспедиции Колумба, стали развиваться значительные эпидемии сифилиса сперва в Италии и Франции, а затем во всех странах Европы.
Поистине ошеломляющий ужас охватил человечество, когда оно почувствовало в своей крови ужасный бич этой болезни. Оно было бы слепым, если бы не поняло, где нужно искать главный очаг заразы, если бы не поняло, что болезнь выходила из домов терпимости, чтобы совершить свое зловещее шествие по городу.
Так подсказывалась сама собой мнимая панацея. Это радикальное средство состояло в том, что во время эпидемии закрывались все «женские дома», всепроститутки изгонялись из города или запирались до окончания эпидемии. Такого метода придерживались особенно часто в эпоху первой атаки болезни, в первой четверти XVI в. Там, где болезнь не носила такого зловещего характера или где по каким-нибудь другим причинам не решались закрывать притоны и изгонять проституток, «женские переулки» сами пустели, так как боязнь заразы вместе с плохими временами удерживала многих мужнин от тех мест, где они когда-то были постоянными посетителями.
Многие содержатели просили в эти годы городские советы об отсрочке условленных платежей или о понижении аренды. Такие прошения всегда мотивировались тем, что ввиду редких посещений хозяева не в силах платить. А вместе с количеством посетителей понижалось и число обитательниц домов. Там, где раньше их находилось с десяток, теперь можно было встретить лишь трех или четырех.
Мещанская добродетель и благопристойность пользовались к концу Ренессанса большим значением только потому, что существовало две большие угрозы: нужда и сифилис.
Только поэтому.
кономическая история, начиная со второй половины XVI в., представляет во многих странах историю упадка. Испания обанкротилась уже полстолетием раньше, Германия доходит до самой черты банкротства, Италия, Франция, Голландия испытывают самые серьезные потрясения.
То был первый и величайший всемирно-исторический кризис Нового времени.
Капиталистическое хозяйство впервые показало миру свое страшное лицо двуликого Януса[179].
Вторым фактором был сифилис[180]. Он погасил жизнерадостность даже и там, где ее не нарушили нужда и горе.
Первое появление сифилиса в конце XV в. было самым страшным испытанием, какое пришлось пережить тогдашнему человечеству. То, что в его глазах было высшим вакхическим проявлением жизни, вдруг получило отвратительное, ужасное клеймо. То был проклятый подарок, поднесенный Европе Новым Светом, завоеванным капитализмом рукою Колумба. То был вместе с тем апогей всемирно-исторической трагикомедии: бедные туземцы вновь открытого мира заранее отомстили своим будущим, жадным до золота мучителям. Из них хотели выжать только золото, а они влили в жилы Европы огонь, заставляющий еще теперь, четыреста лет спустя, корчиться в беспомощном отчаянии миллионы людей.
В последующие годы, после возвращения экспедиции Колумба, стали развиваться значительные эпидемии сифилиса сперва в Италии и Франции, а затем во всех странах Европы.
Поистине ошеломляющий ужас охватил человечество, когда оно почувствовало в своей крови ужасный бич этой болезни. Оно было бы слепым, если бы не поняло, где нужно искать главный очаг заразы, если бы не поняло, что болезнь выходила из домов терпимости, чтобы совершить свое зловещее шествие по городу.
Так подсказывалась сама собой мнимая панацея. Это радикальное средство состояло в том, что во время эпидемии закрывались все «женские дома», всепроститутки изгонялись из города или запирались до окончания эпидемии. Такого метода придерживались особенно часто в эпоху первой атаки болезни, в первой четверти XVI в. Там, где болезнь не носила такого зловещего характера или где по каким-нибудь другим причинам не решались закрывать притоны и изгонять проституток, «женские переулки» сами пустели, так как боязнь заразы вместе с плохими временами удерживала многих мужнин от тех мест, где они когда-то были постоянными посетителями.
Многие содержатели просили в эти годы городские советы об отсрочке условленных платежей или о понижении аренды. Такие прошения всегда мотивировались тем, что ввиду редких посещений хозяева не в силах платить. А вместе с количеством посетителей понижалось и число обитательниц домов. Там, где раньше их находилось с десяток, теперь можно было встретить лишь трех или четырех.
Мещанская добродетель и благопристойность пользовались к концу Ренессанса большим значением только потому, что существовало две большие угрозы: нужда и сифилис.
Только поэтому.
Фрагменты
Фрагмент 49. Страпарола. «Приятные ночи»
«Ночь V. Сказка V Мадонна Модеста, жена мессера Тристано Цанкетто, добыла в молодости от бессчетных своих любовников великое множество башмаков, а затем, с наступлением старости, раздает их в уплату за утехи любви слугам, грузчикам и другим простолюдинам самого последнего разряда. … В Пистойе[181], древнем городе Тосканы, жила в наше время одна молодая особа, прозывавшаяся мадонной Модестой; это имя, однако, ей не подходило[182] из-за ее достойных порицания нравов и бесстыдного поведения. Была она весьма привлекательна и мила, но происхождения низкого, и имела мужа, которого звали мессером Тристано Цанкетто[183] — вот его имя было поистине прямо по нем, — человека общительного и порядочного, но целиком отдавшегося своим торговым делам и немало преуспевавшего в них. Мадонна Модеста, бывшая по природе своей самою любовью и лишь о ней одной только и помышлявшая, видя перед собой мужа-купца, поглощенного своею торговлей, пожелала начать новое торговое дело, о котором мессер Тристано не должен был знать. И, располагаясь всякий день развлечения ради то на одном, то на другом балконе своего дома, она пристально разглядывала проходивших по улице и, скольких молодых людей среди прохожих ни замечала, всех завлекала своими взглядами и ужимками, распаляя их любовным желанием. И таково было ее старание наладить свою торговлю и с неустанным усердием заниматься ею, что во всем городе вскоре не осталось ни одного юноши, будь то богач или бедняк, знатное лицо или простолюдин, который не жаждал бы заполучить, отведать ее товара. Добившись широчайшей известности и всеобщего поклонения, мадонна Модеста в конце концов решила за скромную мзду угождать всякому, кто бы к ней ни явился, и за свою благосклонность она не хотела от них никакой иной платы, кроме пары обуви, которая была бы под стать положению и званию тех, кто предавался с нею любовным утехам. Таким образом, если наслаждавшийся с нею любовник был человеком знатным, она требовала с него бархатных башмаков; если то был простолюдин — крытых тонкою тканью, если ремесленник — кожаных. Посему у славной женщины был столь великий наплыв посетителей, что ее лавка никогда не пустовала. И так как мадонна Модеста была молода, пригожа и соблазнительна, а плата, которую она брала, была невелика, все пистойцы валили к ней валом и охотно тешились с нею, вкушая венчающие любовь вожделенные наслаждения. Своими столь милыми ее сердцу трудами и потоками пота мадонна Модеста заработала столько обуви, что заполнила ею просторнейший склад; этих башмаков, и притом всякого качества, было у нее столько, что, доведись кому-нибудь перерыть любую обувную лавку в Венеции, он бы в ней не нашел и третьей части того, что лежало у нее на складе. Случилось так, что ее мужу, мессеру Тристано, понадобилось помещение склада, чтобы сложить в нем некоторые товары, как нарочно доставленные ему тогда с разных сторон, и, призвав мадонну Модесту, свою обожаемую жену, он попросил у нее ключи от этого склада. Лукаво помалкивая и ни в чем не признавшись, она вручила их мужу. Тот отпер склад и, рассчитывая найти его пустым, увидел, что он забит башмаками — как мы уже говорили — различного качества. Это его вконец изумило, ибо ему было никак не понять, откуда взялось такое обилие всевозможной обуви. Позвав жену, он спросил, откуда взялось то несметное количество башмаков, что находится в складе. Находчивая мадонна Модеста ответила: «Чему вы удивляетесь, мессер Тристано, муж мой? Или вы полагали, что вы единственный купец в нашем городе? Бесспорно, вы глубоко заблуждаетесь, ибо и женщины знают толк в искусстве наживать деньги. И если вы оптовый купец и ворочаете большими делами, то я довольствуюсь этими малыми и поместила мои товары на складе и держу их под замком, дабы они были в сохранности. Итак, занимайтесь со всем рвением и усердием вашей торговлей, а я с надлежащим старанием и увлечением буду неустанно заниматься моей». Мессера Тристано, каковой решительно ничего не знал и ни о чем не догадывался, немало порадовал недюжинный ум и несравненная оборотливость его находчивой и благоразумной супруги, и он одобрил ее затею, пожелав ей и впредь не охладевать к делу, которое она начала. Итак, мадонна Модеста, продолжая тайком свою любовную пляску и отменно ведя столь обильную радостями торговлю, стала обладательницей такого богатого собрания башмаков, что могла бы снабдить ими с лихвой не только Пистойю, но и любой самый что ни на есть большой город. Пока мадонна Модеста была молода, соблазнительна и пригожа, торговля ее никогда не хромала, но поскольку всепожирающее время властвует надо всем и устанавливает начало, середину и конец всему сущему, то и мадонна Модеста, некогда свежая, пухленькая и прелестная, сменила облик, но не любострастие свое и свой нрав; ее перья слиняли и облезли, лоб избороздили морщины, лицо стянулось и съежилось, глаза стали слезиться, а груди сделались столь же дряблыми и пустыми, как бычий пузырь, из которого выпущен воздух, и, когда она улыбалась, лицо ее до того сморщивалось и корчилось, что всякому, кто тогда пристально смотрел на нее, становилось смешно, и это зрелище доставляло ему изрядное удовольствие. И вот мадонна Модеста волей-неволей превратилась в седую старуху, и больше не было никого, кто бы ее любил и за нею ухаживал, как в прежние времена, и, видя, что поступление к ней башмаков быстро идет на убыль, она сильно печалилась про себя и горевала. И так как с ранней юности и вплоть до этого часа она предавалась мерзкому блуду, врагу тела и кошелька, и сроднилась с ним и привыкла к нему, как ни одна женщина на всем свете, не существовало ни средства, ни способа, которые могли бы избавить ее от столь пагубного порока. И хотя живительной влаги, благодаря которой принимаются, набираются сил и идут в рост все растения, день ото дня становилось все меньше и меньше, мадонну Модесту все же не оставляло желание удовлетворять свою преступную и безудержную похоть. Увидав, что она начисто лишилась преклонения молодежи, что стройные и прелестные юноши не расточают ей, как некогда, ни ласк, ни льстивых речей, мадонна Модеста измыслила нечто новое. Расположившись у себя на балконе, она начала пожирать глазами всех проходивших тут слуг, грузчиков, крестьян, метельщиков улиц и праздношатающихся бездельников, и, кого ей удавалось завлечь, тех ради ублаготворения своей плоти она впускала к себе и от них получала привычное наслаждение. И если в прошлом в награду за свое ненасытное любострастие она требовала с возлюбленных, сообразно их званию и положению, по паре тех или иных башмаков, то теперь, напротив, в качестве возмещения за труды сама вручала то паре их всякому проявившему наибольшую неутомимость и сумевшему наилучшим образом ей угодить. Так мадонна Модеста дошла до того, что к ней стали валить все самые гнусные подонки Пистойи: кто, чтобы получить удовольствие, кто, чтобы насмеяться и поиздеваться над нею, а кто и ради того, чтобы заработать вручаемую ею позорную плату. Прошли немногие дни, и склад, который был полон обуви, почти опустел. Случилось так, что мессер Тристано пожелал однажды тайком поглядеть, как идет торговля жены, и, взяв, без ее ведома, ключи от склада, отпер его. Войдя внутрь, он обнаружил, что почти все башмаки куда-то исчезли. Не сразу справившись с охватившим его изумлением, он принялся размышлять, куда же подевала его жена столько пар обуви, находившейся на складе; и, решив, что жена, бесспорно, их сбыла и загребла кучу золота, внутренне немало утешился, представив себе, что какую-то долю он сможет употребить на свое дело. Призвав мадонну Модесту, он обратился к ней с такими словами: «Модеста, благоразумная и рассудительная супруга моя, сегодня я отпер твой склад, желая осведомиться, как идет твоя отменно налаженная торговля, и, полагая, что с той поры, как я впервые увидел твои товары, и до этого часа количество башмаков увеличилось, обнаружил, что, напротив, их стало намного меньше, и это изрядно меня удивило. Но, подумав затем, что ты их продала и что вырученные от их сбыта деньги у тебя на руках, я успокоился. Ведь они — если все обстоит действительно так — нешуточный капитал». Не без тяжкого вздоха, исшедшего из самых сокровенных глубин ее сердца, мадонна Модеста ответила: «Мессер Тристано, супруг мой, нисколько не удивляйтесь этому, ибо те башмаки, которые вы в таком изобилии видели на складе, ушли тем же путем, каким появились; и считайте бесспорным, что неправедно нажитое в короткое время полностью исчезает. Так что вы этому нисколько не удивляйтесь». Мессер Тристано, который не понимал, о чем идет речь, ошеломленный словами жены, призадумался и, устрашившись, как бы с его торговлей не случилось того же, не пожелал продолжать разговор, но в меру своих возможностей и умения постарался, чтобы его торговля не пришла в такой же упадок, как торговля жены. Увидев, что мужчины, кто б они ни были, окончательно от нее отвернулись и что она раздала все башмаки, заработанные столь милым ее сердцу занятием, мадонна Модеста от горя и обиды, которые ее мучали, тяжело заболела и, спустя короткое время, сломленная чахоткой, в самых прискорбных обстоятельствах умерла. Вот так вместе с жизнью пришел постыдный конец и торговле легкомысленной мадонны Модесты, в назидание другим оставившей по себе позорную память…» Перевод А. С. Бобовича. (Цитируется по изданию: Джованфранческо Страпарола. Приятные ночи. М., 1993.)Фрагмент 50. Джованни Боккаччо. «Декамерон»
«День VIII. Новелла I Гульфардо берет у Гаспарруоло деньги взаймы и, условившись с его женою, что он проспит с нею за такую же сумму, вручает их ей и говорит Гаспарруоло в ее присутствии, что возвратил их жене, а та подтверждает, что это правда. …Жил когда-то в Милане один немец, наемник, по имени Гульфардо, храбрый и очень верный тем, на чью службу он поступал, что редко бывает с немцами; а так как он честно расплачивался с долгами, нашлось бы много купцов, которые за малый барыш ссудили бы его любой суммой денег. Живя в Милане, он влюбился в одну очень красивую женщину, по имени Амброджиа, жену богатого купца по имени Гаспарруоло Кагастраччо, хорошего своего знакомого и приятеля; любя ее очень осмотрительно, так что ни муж, ни другие того не замечали, он послал однажды попросить ее быть к нему благосклонной в своей любви, со своей стороны обещая сделать все, что она прикажет. После многих переговоров дама пришла к тому заключению, что она готова сделать, что желает Гульфардо, при двух условиях: во-первых, чтобы об этом деле он никогда не рассказывал кому бы то ни было, а затем, так как ей необходимо иметь двести флоринов золотом, то она и желает, чтобы он, будучи человеком богатым, дал их ей, а она будет потом всегда к его услугам. Услышав о ее жадности и негодуя на подлость той, которую он считал женщиной достойной, Гульфардо сменил горячую любовь чуть ли не на ненависть и, решив подшутить над нею, послал ей сказать, что он охотно исполнит ей в угоду это и все другое, что в состоянии сделать; потому пусть только пошлет ему сказать, когда она желает, чтобы он пришел к ней, он принесет ей требуемое, и никогда о том не узнает никто, кроме одного товарища, которому он очень доверяет и который всегда с ним во всех его делах. Дама, или скорее дрянная женщина, услышав это, была довольна и послала сказать ему, что ее муж Гаспарруоло через несколько дней должен отправиться по своим делам в Геную и что тогда она даст ему знать и пошлет за ним. Выбрав время, Гульфардо пошел к Гаспарруоло и сказал ему: «У меня есть одно дело, для которого необходимо двести золотых флоринов; мне хочется, чтобы ты дал их мне взаймы с тем ростом, с каким обыкновенно ссужаешь мне и другие суммы». Гаспарруоло сказал, что охотно, и тотчас отсчитал ему деньги. Спустя несколько дней Гаспарруоло отправился в Геную, как сказала дама, почему она уведомила Гульфардо, чтобы он явился к ней и принес двести золотых флоринов. Гульфардо, взяв с собой товарища, пошел в дом дамы, встретил ее, поджидавшую его, и первое, что он сделал, отдал ей в руки при своем товарище те двести золотых флоринов, со словами: «Мадонна, вот деньги, отдайте их вашему мужу, когда он вернется». Дама взяла их, не догадываясь, почему так сказал Гульфардо; она полагала, что сделал он это, дабы его товарищ не заметил, что он отдал их ей в вознаграждение. Потому она сказала: «Я охотно это сделаю, но хочу посмотреть, сколько их тут» — и, высыпав их на стол и найдя, что их двести, спрятала их, очень довольная, и, вернувшись к Гульфардо, повела его в свою комнату; и не только в эту ночь, но и в другие, пока муж не вернулся из Генуи, она доставляла ему удовлетворение своей особой. Когда вернулся из Генуи Гаспарруоло, Гульфардо, улучив время, когда тот был вместе с женою, тотчас же отправился к нему и сказал в ее присутствии: «Гаспарруоло, деньги, то есть двести золотых флоринов, которые ты недавно дал мне взаймы, мне не понадобились, ибо я не мог сделать того дела, для которого взял их; вследствие этого я тотчас же принес их твоей жене и отдал их ей; потому уничтожь мой счет». Гаспар-руоло, обратившись к жене, спросил, получила ли она их. Видя, что тут и свидетель, она не могла отречься и сказала: «Да, я их получила, но еще не успела сказать тебе о том». Тогда Гаспарруоло сказал: «Гульфардо, я удовлетворен; ступай с Богом, а я устрою твой расчет». Гульфардо ушел, а проведенная дама отдала мужу позорную плату за свою низость. Так хитрый любовник, не расходуясь, воспользовался своей корыстолюбивой милой». Перевод А. Н. Веселовского. (Цитируется по изданию: Джованни Боккаччо. Декамерон. М, 1999.)Фрагмент 51. Маттео Банделло. Новелла XXXI
«Новелла XXXI Некий миланский юноша, влюбленный в венецианскую куртизанку, принимает яд, видя, что любовь его не встречает взаимности. Венеция… это город очень свободных нравов, где каждый, кто бы он ни был, может появиться на улицах один или в компании, как ему больше нравится, и никто не осудит и не будет брюзжать на него, как это бывает здесь… Однако Венеция известна еще тем, что там очень много гулящих женщин, и венецианцы, как и в Риме, и в других местах, называют их по-благородному куртизанками. Я слышал, что там существует обычай, которого нет в другом месте, и он таков: там бывают куртизанки, имеющие по шесть-семь любовников из числа венецианской знати, и каждому из них принадлежит один вечер в неделю, когда он может прийти поужинать и поразвлечься со своей дамой. День же принадлежит ей, и она может предоставить его к услугам всякого, кто захочет, чтобы мельница не стояла попусту и не ржавела от безделья. А если порой случается, что какой-нибудь чужеземец с полной мошной хочет провести ночь с куртизанкой, она его охотно принимает, но предупреждает того, кому эта ночь принадлежала, чтобы он приходил днем, ибо ночь она уже отдала другому. И эти так называемые любовники, платя им помесячно, соглашаются на то, чтобы их дама принимала ночью чужеземцев. Так вот, в то время когда я был в Венеции, в одну из таких куртизанок влюбился некий благородный юноша, не знавший о повадках этих цирюльниц, без бритвы умеющих брить по живому месту. Он стал заглядываться на нее и ухаживать за ней — ну точь-в-точь словно в Венеции ему встретилась и полюбилась самая благородная и добродетельная миланская дама. Лучше бы он пошел к понравившейся ему куртизанке и с веселым видом сказал ей: «Синьора, я пришел позабавиться с вами полчасика». Разумеется, она повела бы его в свою комнату и мило порезвилась бы с ним, а потом, без дальнейших разговоров, они очутились бы в кровати, и она задала бы юноше жару. И всякий раз, когда ему захотелось бы ее видеть, она встречала бы его радушно и осыпала бы ласками. Однако наш юноша, не умея владеть собой, воспылал к ней такой любовью, что не смел сказать ей ни слова, но печально глядел на нее и все вздыхал. Она же, заметив это и видя, что он богато одет и щедр с виду, решила, что ей попался голубок с хорошими перышками и неплохо будет пощипать его. Итак, она стала бросать на него украдкой многозначительные взгляды, встречая его с довольным лицом, отчего простоватый юноша совсем обезумел. И, набравшись однажды столько смелости, сколько его глупость ему позволяла, дрожащим голосом он стал просить ее, как о милости, об одном поцелуе. Она побранила его и сказала, что он слишком самонадеян и этого еще не заслужил, и тут же принялась нежно целовать другого мужчину, который был у нее… Так игра эта тянулась несколько месяцев; тогда он, отчаявшись, приготовил себе ядовитую настойку и, придя к куртизанке, умолял ее, горько плача, позволить ему провести с ней хотя бы полчасика, обещая вести себя как благородный человек и одарить ее так, что она будет довольна. Куртизанка сделала вид, что возмущена тем, что он посмел просить ее о такой вещи. Тогда юноша сказал: — Я вижу, что вы хотите моей смерти. Хорошо, я умру, и вы будете тогда довольны. И, велев своему слуге подать ему сосуд с водой, куда он заранее всыпал яд, залпом выпил его. Вернув сосуд слуге, не знавшему, что то была ядовитая настойка, он пожелал своей даме оставаться с миром. Она, считая, что все это шутка, смеялась, а юноша пошел домой, лег в постель и ночью в полном одиночестве скончался». Перевод Н. Георгиевской. (Цитируется по изданию: Итальянская новелла Возрождения. М., 1964.)Фрагмент 52. Джованни Боккаччо. «Декамерон»
«День II. Новелла V Андреуччио из Перуджии, прибыв в Неаполь для покупки лошадей, в одну ночь подвергается трем опасностям и, избежав всех, возвращается домой владельцем рубина. …Жил… в Перуджии юноша по имени Андреуччио ди Пьетро, торговец лошадьми; услышав, что в Неаполе они дешевы, он, до тех пор никогда не выезжавший, положил в карман пятьсот золотых флоринов и отправился туда вместе с другими купцами. Прибыв в воскресенье под вечер и осведомившись у своего хозяина, он на другое утро пошел на торг, увидел множество лошадей, многие ему приглянулись, и он приценялся к тем и другим, но ни на одной не сошелся в цене, а чтобы показать, что он в самом деле покупатель, как человек неопытный и мало осторожный, он не раз вытаскивал свой кошелек с флоринами напоказ всем приходившим и уходившим. Пока он так торговался и уже успел показать свой кошелек, случилось, что одна молодая сицилианка, красавица, но готовая услужить всякому за недорогую цену, прошла мимо него, так что он ее не видел, а она увидала его кошелек и тотчас же сказала про себя: «Кому бы жилось лучше меня, если бы эти деньги были моими?» И она пошла далее. Была с этой девушкой старуха, также сицилианка; когда она увидела Андреуччио, отстав от девушки и подбежав к нему, нежно его поцеловала; как заметила это девушка, не говоря ни слова, стала в стороне и начала поджидать старуху. Обратившись к ней и признав ее, Андреуччио радушно приветствовал ее; пообещав ему зайти к нему в гостиницу и не заводя долгих речей, она ушла, а Андреуччио вернулся торговаться, но в то утро ничего не купил. Девушка, заметив сначала кошелек Андреуччио, а затем его знакомство со своей старухой, желая попытать, нет ли какого средства завладеть теми деньгами совсем или отчасти, принялась осторожно выпытывать, кто он и откуда, что здесь делает и как она с ним познакомилась. Та рассказала ей об обстоятельствах Андреуччио почти столь же подробно, как бы он сам рассказал о себе, так как долго жила в Сицилии у отца его, а потом и в Перуджии; она сообщила ей также, где он пристал и зачем приехал. Вполне осведомившись о его родственниках и их именах, девушка с тонким коварством основала на этом свой расчет — удовлетворить своему желанию; вернувшись домой, она дала старухе работы на весь день, дабы она не могла зайти к Андреуччио, и, позвав свою служанку, которую отлично приучила к такого рода услугам, под вечер послала ее в гостиницу, где остановился Андреуччио. Придя туда, она случайно увидела его самого, одного, стоявшего у двери, и спросила у него о нем самом. Когда он ответил, что он самый и есть, она, отведя его в сторону, сказала: «Мессер, одна благородная дама этого города желала бы поговорить с вами, если вам то угодно». Услышав это, он задумался и, считая себя красивым парнем, вообразил, что та дама в него влюбилась, точно в Неаполе не было, кроме него, другого красивого юноши; он тотчас же ответил, что готов, и спросил, где и когда та дама желает поговорить с ним. На это девушка ответила: «Мессер, если вам угодно пойти, она ожидает вас у себя». Ничего не объявив о том в гостинице, Андреуччио поспешно сказал: «Так иди же впереди, я пойду за тобою». Таким образом служанка привела его к дому той девушки, жившей на улице, называемой Мальпертуджио (Скверная Дыра), каковое прозвище показывает, насколько улица была благопристойна. Ничего о том не зная и не подозревая, воображая, что он идет в приличнейшее место и к милой даме, Андреуччио развязно вступил в дом за шедшей впереди служанкой, поднялся по лестнице, и, когда служанка позвала свою госпожу, сказав: «Вот Андреуччио!» — увидел ее, вышедшую к началу лестницы в ожидании его. Она была еще очень молода, высокая, с красивым лицом, одетая и убранная очень пристойно. Когда Андреуччио подошел ближе, она сошла к нему навстречу три ступеньки с распростертыми объятиями, обвила его шею руками и так осталась некоторое время, не говоря ни слова, точно тому мешал избыток нежного чувства; затем, в слезах, она поцеловала его в лоб и прерывающимся голосом сказала: «О мой Андреуччио, добро пожаловать!» Изумленный столь нежными ласками, совсем пораженный, он отвечал: «Мадонна, я рад, что вижу вас!» Затем, взяв его за руку, она повела его наверх в свой зал, а оттуда, не говоря с ним ни слова, в свою комнату, благоухавшую розами, цветом померанца и другими ароматами; здесь он увидел прекрасную постель с пологом, много платьев, висевших, по тамошнему обычаю, на вешалках, и другую красивую богатую утварь; почему, как человек неопытный, он твердо уверился, что имеет дело по меньшей мере с важной дамой. Когда они уселись вместе на скамье у подножия кровати, она принялась так говорить: «Я вполне уверена, Андреуччио, что ты удивляешься и ласкам, которые я тебе расточаю, и моим слезам, так как ты меня не знаешь и, быть может, никогда обо мне не слышал. Но ты тотчас услышишь нечто, имеющее привести тебя в еще большее изумление: это то, что я — сестра твоя. Говорю тебе: так как Господь сделал мне такую милость, что я до моей смерти увидела одного из моих братьев (а как бы желала я увидеть их всех!), нет того часа, в который я не готова была бы умереть, так я утешена. Если ты, быть может, ничего не слыхал о том, я расскажу тебе. Пьетро, мой и твой отец, долгое время жил в Палермо, как ты, думаю я, сам мог проведать; и были там и еще есть люди, очень любившие его за его доброту и приветливость; но изо всех, так любивших его, мать моя, женщина хорошего рода и тогда вдова, любила его более всех, так что, отринув страх перед отцом и братьями и боязнь за свою честь, настолько сошлась с ним, что родилась я, — ты видишь, какая. Затем, когда по обстоятельствам Пьетро покинул Палермо и вернулся в Перуджию, он оставил меня, еще девочкой, с моей матерью и никогда, насколько я слышала, ни обо мне, ни о ней более не вспоминал. Не будь он мне отцом, я сильно попрекнула бы его за то, имея в виду неблагодарность, оказанную им моей матери (я оставляю в стороне любовь, которую ему следовало питать ко мне, как к своей дочери, прижитой не от служанки или негодной женщины), которая отдала в его руки все свое достояние и себя самое, не зная даже, кто он такой, и побуждаемая преданнейшею любовью. Но к чему говорить о том? Что дурно сделано, да и давно прошло, то гораздо легче порицать, чем поправить; так или иначе, но случилось именно так. Еще девочкой он оставил меня в Палермо, и, когда я выросла почти такой, как меня видишь, моя мать, женщина богатая, выдала меня замуж за родовитого, хорошего человека из Джирженти, который, из любви к моей матери и ко мне, переехал на житье в Палермо. Там, как рьяный гвельф, он завел некие сношения с нашим королем Карлом, о чем, прежде чем они возымели действие, доведался король Федериго, это было причиной нашего бегства из Сицилии — в то время, как я надеялась стать знатнейшей дамой, какие только были на том острове. Итак, захватив немногое, что могли взять (говорю: немногое по отношению к многому, что было нашим), покинув имения и дворцы, мы удалились в этот город, где нашли короля Карла столь признательным нам, что он вознаградил отчасти за убытки, понесенные нами ради него, дал нам поместья и дома и постоянно дает моему мужу, а твоему зятю, большие средства, как ты еще увидишь. Таким образом, я здесь, где по милости Божией, не твоей, вижу и тебя, мой милый братец». Так сказав, она снова обняла его и, проливая сладкие слезы, опять поцеловала его в лоб. Когда Андреуччио выслушал эту басню, так связно и естественно рассказанную, причем у рассказчицы ни одно слово ни разу не завязло в зубах и не запинался язык; когда он вспомнил, что его отец в самом деле был в Палермо, зная по себе нравы юношей, охотно в молодости предающихся любви, видя нежные слезы и скромные объятия и поцелуи, он принял все, что она рассказала ему, более чем за истину, и, когда она умолкла, ответил: «Мадонна, вам не должно показаться странным, если я удивлен, потому что в самом деле мой отец, почему бы то ни было, никогда не говорил ни о вашей матери, ни о вас, либо если и говорил, то до моего сведения это не дошло, и я ничего не знал о вас, как будто вас и не было; тем милее мне было обрести в вас сестру, чем более я здесь одинок и чем менее того чаял. По правде, я не знаю такого высокопоставленного человека, которому вы не были бы дороги, не то что мне, мелкому торговцу. Но разъясните мне, пожалуйста, как вы узнали, что я здесь?» На это она отвечала: «Сегодня утром мне рассказала о том одна бедная женщина, которая часто приходит ко мне, ибо, по ее словам, она долгое время была при нашем отце в Палермо и Перуджии; и, если бы мне не казалось более пристойным, чтобы ты явился в мой дом, чем я к тебе в чужой, я давно бы пришла к тебе». После этих речей она принялась подробно и поименно расспрашивать его о его родных, и Андреуччио о всех ответил; и это еще пуще побудило его поверить тому, во что верить следовало всего менее. Так как беседа была долгая и жара большая, она велела подать греческого вина и лакомств и поднести Андреуччио; когда после того он собрался уходить, ибо было время ужина, она никоим образом не допустила до того и, притворившись сильно огорченной, сказала, обнимая его: «Увы! Теперь я вижу ясно, как мало ты меня любишь; кто бы мог поверить, что ты у сестры, никогда тобою дотоле не виданной, в ее доме, где должен был бы и остановиться по приезде, — а хочешь уйти отсюда и отправиться ужинать в гостиницу! Не правда ли, ты поужинаешь со мной? И хотя моего мужа нет дома, что мне очень неприятно, я сумею, по мере женских сил, ублажить тебя хоть чем-нибудь». Не зная, что другое ответить, Андреуччио сказал: «Я люблю тебя, как подобает любить сестру, но, если я не пойду туда, меня прождут целый вечер, и я сделаю невежливость». Тогда она сказала: «Боже мой, точно у меня дома нет никого, с кем бы я могла послать сказать, чтобы тебя не дожидались! Хотя большею любезностью с твоей стороны и даже долгом было бы — послать сказать твоим товарищам, чтобы они пришли сюда поужинать; а там, если бы ты все-таки захотел уйти, вы могли бы отправиться вместе». Андреуччио ответил, что без товарищей он в этот вечер обойдется и что, коли ей так угодно, пусть располагает им по своему желанию. Тогда она сделала вид, будто послала в гостиницу, дабы его не ждали к ужину; затем, после разных других разговоров, они уселись за роскошный ужин из нескольких блюд, который она хитро затянула до темной ночи. Когда встали из-за стола и Андреуччио пожелал удалиться, она сказала, что не допустит этого ни под каким видом, потому что не такой город Неаполь, чтобы ходить по нему ночью, особенно иностранцам; и что, посылая сказать, чтобы его не ждали к ужину, она сделала то же и относительно ночлега. Он поверил этому и, так как, вследствие ложного о ней представления, ему, было приятно быть с нею, остался. После ужина завелись многие и долгие, не без причины, разговоры, уже прошла часть ночи, когда, оставив Андреуччио на ночлег в своей комнате и при нем мальчика, чтобы указать ему, коли что потребуется, она со своими служанками удалилась в другой покой. Жара стояла сильная, потому Андреуччио, оставшись один, тотчас же разделся до сорочки, снял штаны, которые положил у изголовья, и, так как у него явилась естественная потребность освободить желудок от излишней тяжести, спросил у мальчика, где это совершается; тот показал ему в одном из углов комнаты дверцу, сказав: «Войдите туда». Андреуччио пошел уверенно, но случайно ступил ногою на доску, другой конец которой оторван был от перекладины, на которой он стоял, вследствие чего доска поднялась, а вместе с нею провалился и он; так милостив был к нему Господь, что он не потерпел при падении, хотя упал с некоторой высоты, зато весь выпачкался в нечистотах, которыми полно было то место. Как оно было устроено, это я расскажу вам, дабы вы лучше поняли рассказанное и то, что последовало: в узком проходе на двух перекладинах, шедших от одного дома к другому, прибито было, как то мы часто видим между двумя домами, несколько досок и на них устроено сиденье; одна из этих досок и свалилась вместе с Андреуччио. Обретясь в глубине прохода, опечаленный этим происшествием, он стал звать мальчика; но мальчик, услышав, как он упал, побежал сказать о том своей госпоже; та бросилась в комнату Андреуччио и тотчас же принялась искать, тут ли его платье; найдя его и в нем деньги, которые он, никому не доверяя, по глупости всегда носил с собою, и получив то, чему расставила западню, став из палермитянки сестрою перуджинца, она, более о нем не заботясь, поспешила запереть дверь, которой он вышел, когда упал. Когда мальчик не отвечал, Андреуччио стал звать его громче; но это не вело ни к чему. Потому в нем уже зародилось подозрение, и он начал, хотя и поздно, догадываться об обмане; вскарабкавшись на низкую стену, замыкавшую проход с улицы, и спустившись на нее, он направился к двери дома, хорошо ему знакомой, и здесь долго и напрасно звал, рвался и стучал. Пустившись в слезы, как человек, ясно понявший свое несчастие, он стал так говорить: «Увы мне, бедному, в какое короткое время лишился я пятисот флоринов — и сестры!» После многих других слов он снова принялся стучать в дверь и кричать, да так, что многие из ближайших соседей, проснувшись, встали, не будучи в силах вынести такой докуки, а одна из служанок той женщины, с виду совсем заспанная, подойдя к окну, сказала бранчиво: «Кто там стучится внизу?» — «Разве ты не узнаешь меня? — сказал Андреуччио. — Я Андреуччио, брат мадонны Фьордолизо!» А она ему в ответ: «Если ты слишком выпил, дружок, пойди и проспись, завтра вернешься; я не знаю, какой там Андреуччио и какой вздор ты несешь; ступай в добрый час и дай нам, пожалуйста, спать». — «Как! — сказал Андреуччио. — Ты будто не знаешь, о чем я говорю? Наверно, знаешь; но, уже если таково сицилианское родство, что забывается в столь короткое время, так отдай мне по крайней мере мое платье, которое я у вас оставил, и я готов уйти с Богом». На это она сказала, чуть не смеясь: «Милый мой, мне кажется, ты бредишь». Сказать это, отойти и запереть окно было делом одного мига. Это окончательно убедило Андреуччио в его утратах; горе едва не обратило его великий гнев в ярость, и он решился добыть насилием, чего не мог вернуть словами; потому, схватив большой камень, он снова принялся бешено колотить в дверь, нанося гораздо большие удары, чем прежде. По этой причине многие из соседей, уже прежде разбуженные и вставшие, полагая, что какой-нибудь невежа выдумывает небылицы, чтобы досадить порядочной женщине, и рассерженные стуком, который он производил, высунулись в окна и принялись голосить, точно собаки с другой улицы лают на чужую: «Большое невежество — явиться в такой час к дому честных женщин с такой болтовней! Ступай-ка с Богом, любезный, дай нам, пожалуйста, спать; если у тебя есть до нее дело, придешь завтра, а сегодня ночью не учиняй нам такого беспокойства». Подбодренный, быть может, этими словами, кто-то бывший в доме, сводник той женщины, которого Андреуччио не видел и о котором не слыхал, подошел к окну и голосом сильным, страшным и грозным сказал: «Кто там внизу?» Андреуччио, подняв голову на голос, увидел кого-то, показавшегося ему, насколько он мог разглядеть, здоровенным детиной, с черной густой бородой; точно он встал с постели после глубокого сна, он зевал и протирал глаза. Андреуччио отвечал не без некоторого страха: «Я — брат дамы, что в этом доме». Но тот не выждал конца ответа Андреуччио, напротив, грознее прежнего сказал: «Не понимаю, что меня удерживает сойти и дать тебе столько ударов палкой, сколько нужно, чтобы ты не двинулся. Осел ты надоедливый, видно, что пьяница, не даешь нам поспать в эту ночь». И, отойдя, он захлопнул окно. Некоторые из соседей, лучше знавшие, что то был за человек, дружески сказали Андреуччио: «Бога ради, любезный, уходи с Богом, не напрашивайся быть здесь убитым ночью; уходи, лучше будет». Вследствие этого, испуганный голосом и видом того человека и побуждаемый убеждениями людей, говоривших, казалось, из сострадания к нему, огорченный, как только может быть человек, и отчаявшись в деньгах, Андреуччио, идя в направлении, по которому днем, сам не зная куда, следовал за служанкой, пошел по дороге к гостинице». Перевод А. Н. Веселовского. (Цитируется по изданию: Джованни Боккаччо. Декамерон. М., 1999.)
 Общественные развлечения
Общественные развлечения
Прядильня
 азвлечения эпохи Ренессанса представляют немало интересных данных для истории эротики. Важнейшие формы общественных увеселений были в те времена не чем иным, как средством создания благоприятных условий для любви, и притом для любви телесной. Так как большинство населения понимало под удовольствиями жизни только еду, выпивку и половое наслаждение, то пользоваться жизнью означало тогда поклоняться этим трем божествам.
Среди этих трех видов наслаждения на первом месте стояла любовь, культ Венеры и Приапа. Без них люди не могли себе представить удовольствие. Без них пресными казались дары Вакха и Цереры, да и Вакха и Цереру часто приглашали к столу только потому, что они были лучшими ходатаями перед Венерой.
Так как наша работа имеет своей темой не всю область нравов, а только часть ее — половую мораль, то в нашу задачу не входит нарисовать полную картину общественных развлечений Ренессанса. Мы должны ограничиться лишь теми формами и сферами, в которых обнаруживался сексуальный момент, другими словами, теми случаями, которые служили этой цели, и теми средствами, которыми она достигалась. Если к средствам относятся прежде всего игры и танцы, то главные случаи для осуществления культа Венеры представляли наряду с большими праздниками главные центры тогдашних общественных развлечений: прядильня и баня!
Посещение так называемой прядильни являлось во всех странах одной из основных форм общественных развлечений как в деревне, так и в городе. Как там, так и здесь совместная работа служила часто не более как предлогом для правильно организованного совместного культа Венеры и Приапа.
Речь идет в данном случае, конечно, не о частной прядильне, а о тех до известной степени публичных прядильнях, где собиралась вся деревня или по крайней мере несколько молодых и более пожилых женщин один или два раза в неделю зимой для совместной работы. Эти собрания носили самые различные названия. В этих помещениях женщины сходились с веретеном и прялкой, чтобы скоротать длинный зимний вечер. А так как местным парням доступ сюда был не запрещен, то эти учреждения стали отправными точками общественных увеселений.
На этих собраниях царил обычай, в силу которого каждый парень сидел сзади своей девушки — а честь девушки требовала, чтобы за ней непременно ухаживал какой-нибудь парень, — добросовестно исполняя возложенную на него обязанность, состоящую в том, что он должен был то и дело стряхивать с колен девушки обрывки пеньки. Исполнение этой обязанности, как нетрудно видеть, давало ухаживавшему за девушкой парню все новые возможности откровенного ухаживания, а как его, так и ее честь требовали, чтобы эти возможности не оставались не использованными.
Чем смелее действовал парень, тем выше была его репутация в глазах девушки и тем больше ей завидовали подруги, если верить жалобам современных проповедников морали. Из этого то и дело подтверждаемого современниками факта неоспоримо следует правильность нашего ранее сделанного указания, что работа была в общественных прядильнях только предлогом для культа Венеры и Приапа, что большинство крестьянских девок отправлялись туда главным образом для того, чтобы стать на целый вечер предметом подобных ухаживаний парней.
азвлечения эпохи Ренессанса представляют немало интересных данных для истории эротики. Важнейшие формы общественных увеселений были в те времена не чем иным, как средством создания благоприятных условий для любви, и притом для любви телесной. Так как большинство населения понимало под удовольствиями жизни только еду, выпивку и половое наслаждение, то пользоваться жизнью означало тогда поклоняться этим трем божествам.
Среди этих трех видов наслаждения на первом месте стояла любовь, культ Венеры и Приапа. Без них люди не могли себе представить удовольствие. Без них пресными казались дары Вакха и Цереры, да и Вакха и Цереру часто приглашали к столу только потому, что они были лучшими ходатаями перед Венерой.
Так как наша работа имеет своей темой не всю область нравов, а только часть ее — половую мораль, то в нашу задачу не входит нарисовать полную картину общественных развлечений Ренессанса. Мы должны ограничиться лишь теми формами и сферами, в которых обнаруживался сексуальный момент, другими словами, теми случаями, которые служили этой цели, и теми средствами, которыми она достигалась. Если к средствам относятся прежде всего игры и танцы, то главные случаи для осуществления культа Венеры представляли наряду с большими праздниками главные центры тогдашних общественных развлечений: прядильня и баня!
Посещение так называемой прядильни являлось во всех странах одной из основных форм общественных развлечений как в деревне, так и в городе. Как там, так и здесь совместная работа служила часто не более как предлогом для правильно организованного совместного культа Венеры и Приапа.
Речь идет в данном случае, конечно, не о частной прядильне, а о тех до известной степени публичных прядильнях, где собиралась вся деревня или по крайней мере несколько молодых и более пожилых женщин один или два раза в неделю зимой для совместной работы. Эти собрания носили самые различные названия. В этих помещениях женщины сходились с веретеном и прялкой, чтобы скоротать длинный зимний вечер. А так как местным парням доступ сюда был не запрещен, то эти учреждения стали отправными точками общественных увеселений.
На этих собраниях царил обычай, в силу которого каждый парень сидел сзади своей девушки — а честь девушки требовала, чтобы за ней непременно ухаживал какой-нибудь парень, — добросовестно исполняя возложенную на него обязанность, состоящую в том, что он должен был то и дело стряхивать с колен девушки обрывки пеньки. Исполнение этой обязанности, как нетрудно видеть, давало ухаживавшему за девушкой парню все новые возможности откровенного ухаживания, а как его, так и ее честь требовали, чтобы эти возможности не оставались не использованными.
Чем смелее действовал парень, тем выше была его репутация в глазах девушки и тем больше ей завидовали подруги, если верить жалобам современных проповедников морали. Из этого то и дело подтверждаемого современниками факта неоспоримо следует правильность нашего ранее сделанного указания, что работа была в общественных прядильнях только предлогом для культа Венеры и Приапа, что большинство крестьянских девок отправлялись туда главным образом для того, чтобы стать на целый вечер предметом подобных ухаживаний парней.

В прядильне. Ксилография
Вошедшее в поговорку плохое освещение этих помещений весьма способствовало таким эксцессам, на которые старики закрывали глада. Часто помещение, где пряли, освещалось одной только лучиной. Если она гасла, когда отворялась дверь или вследствие другой причины, — а это случалось каждый вечер, — то, разумеется, ни один парень не медлил как следует использовать случай, а девки не очень противились их ласкам. Порой таким образом устраивались целые оргии. А так как они были по душе многим участникам, то те сами способствовали тому, что лучина гасла но нескольку раз в один вечер. Существует немецкая поговорка (Das ist eine rechte Gurgelfuhr, вместо Kunkelfeier, Kunkel[184] — веретено) для обозначения дикой сутолоки, и в ней еще отражается воспоминание о свалках, происходивших в таких прядильнях. Не только девушки, но и замужние и вдовы участвовали в таких развлечениях. Если одни приходили с тем, чтобы помочь дочке сблизиться или пококетничать с парнем, то многие другие приходили для того, чтобы позволить парню или соседу таким образом поухаживать за ними. То, что эта причина часто вдохновляла замужних, видно хотя бы из того, что мужья вечно жаловались на частое посещение их женами публичных прядилен. В масленичной пьесе «крестьянская забава» мужик в следующих словах жалуется на жену: «Часто уходит она с вретеном и остается там до окончания службы. Когда же я ее спрашиваю, почему она вовремя не пришла и где она была, она отвечает: "Оставь меня в покое". И так набросится на меня, что я смолкаю и предоставляю ей делать, что она захочет». Такие собрания часто сопровождались и веселой пляской. В некоторых местах парни приводили поэтому специально для этой цели музыкантов. Во время танца обе стороны откровенно флиртовали. В масленичной пьесе «Такой чудесный масленичный карнавал» парень между прочим хвастает такими подвигами во время пляски. Обо всех этих обычаях кроме литературы наглядно свидетельствует и целый ряд пластических изображений, например рисунок Бехама «Прядильня», а также многочисленные карикатуры. Самым убедительным доказательством, что этот обычай был во многих местностях чрезвычайно распространен, являются разные деревенские и городские указы, направленные против него. Власти видели себя вынужденными вмешаться, так как порой, особенно когда тухла лучина, участники переходили все границы, а еще чаще на обратном пути парню ничего не стоило подчинить своим желаниям чувственно возбужденную девушку. Парни, хвастающие своими подвигами в прядильнях, поэтому всегда спешат упомянуть и о последствиях, которые они будут иметь для девушки. Под влиянием ревности часто доходило далее до драки, искалечения, даже убийства. Чем явственнее собрания прядильщиц вырождались в «ночи драк», как их называли в некоторых местностях, тем чаще власти были вынуждены протестовать против них путем предостережений и угроз. В одном таком постановлении, изданном в Нюрнберге в 1572 г., говорится, что «неоднократно на таких сходках девушки совращаются или тайком от родителей принуждаются к неравному браку, а порой и подвергаются насилию и позору», что «молодые люди ссорятся между собой, ранят и убивают друг друга». Когда все наказания оказались безуспешными, когда жизнь в прядильнях порой даже оказывалась причиной серьезных общественных бедствий, так как легкомысленное обращение с огнем приводило к пожарам, то во многих местах прядильни были закрыты. Но и эта мера была малодейственной и во всяком случае лишь временной. Прядильни то и дело снова возрождались, а с ними и прежнее времяпрепровождение, что видно из указов, направленных против безнравственности вообще и называющих ее главными очагами именно публичные прядильни.
Баня
 ледующей ступенью общественных развлечении были публичные бани. Если предлогом для посещения прядильни служил труд, то предлогом для посещения бани служили чистота и здоровье. В виде общественных бань эпоха создала, наряду с «пробными ночами» и публичнымипрядильнями, еще одну возможность откровенного флирта, с той только разницей, что в последнем случае он носил более индивидуальный характер, а в первом — более общий, массовый. Подобно своеобразной роли, которую играла куртизанка, обычай банной жизни придает эпохе Ренессанса особенно характерный отпечаток. Пристрастие к бане в Германии восходящее к древним германцам, основывалось на широко тогда распространенном убеждение, что частое и продолжительное посещение бани необходимо в интересах сохранения или восстановления здоровья. Обычай совместного купания мужчин и женщин также существовал с незапамятных времен. Обнажение во время купания имело свою гигиеническую причину. По крайней мере этим гигиеническим мотивом постоянно оправдывался обычай полнейшей наготы во время купания. Долгое пребывание в бане вызывало у большинства воспаление кожи, так называемую банную сыпь, и эта сыпь доставляла при трении о материю сильную боль. А так как в этом видели неизбежное условие полезного действия бани на здоровье, то она служила удобным поводом для дальнейшего обнажения во время купания.
Оба пола были в этом отношении одинаково требовательны. Мужчины носили в лучшем случае передник (Niederwadt) или же имели в руке маленький веник, когда выходили из бани. Одежда женщины была такая же легкая и состояла из маленького фартука (Badeher), едва прикрывавшего ее тело. Женщины обнажались даже еще охотнее мужчин. Вместе с тем они подчеркивали свою наготу, придавая ей характер раздетости. Они достигали этого изысканностью прически и сверкающими украшениями: ожерельями, браслетами и т. д. Они становились пикантно раздетыми дамами. Из первоначальной нужды таким образом сделали для собственного и чужого удовольствия — добродетель.
Обычай совместного купания существовал до XIII и XIV столетий. Только с этого момента мы встречаем в разных местах постановления, запрещавшие совместное купание мужчин и женщин и отводившие каждому полу особое время, а подчас и особое помещение для купания.
Этот обычай, служивший первоначально только целям чистоты и здоровья, превратился с течением времени в одну из важных форм культа Венеры. Так как господствовало убеждение, что баня только тогда бывает полезна для здоровья и только тогда имеет целительное действие, когда часто ее посещаешь (обыкновенно два раза в неделю, а в курортах, конечно, ежедневно), что необходимо как можно дольше мыться и париться, то появлялась, естественно, потребность скоротать время беседой и забавой. Так баня сделалась одним из главных центров общественного развлечения. А коротали время при помощи пения, музыки, шуток, а так как купались по целым часам, то и едой и выпивкой.
Не менее естественным было и то, что взаимные отношения между полами носили всегда главным образом галантный характер. Галантное обращение с купавшейся рядом женщиной служило лучшим поводом для знакомства. И разумеется, какой мужчина не пользовался подобным случаем для ухаживания. Надо принять во внимание и то, что помещение, где купались, все равно, была ли то баня или купальня, было в большинстве случаев очень ограничено и что даже там, где мужчины и женщины отделялись друг от друга перегородкой, последняя была так низка, что никогда не мешала взорам и очень редко — рукам. Что же касается ванн, то в них мужчины и женщины купались уже безусловно вместе, как показывает целый ряд картин и рисунков.
Словом, купание было наиболее благоприятным случаем для всех видов галантных: ухаживаний. К практиковавшимся здесь развлечениям принадлежал и разнузданный культ Венеры в словах, жестах и действиях, который придавал пикантность еде, выпивке и пению. Купание очень скоро превратилось из средства укрепления здоровья в удобную возможность для самого дерзкого и откровенного флирта. Купались, уже для того, чтобы иметь возможность поухаживать друг за другом, цель превратилась в средство.
ледующей ступенью общественных развлечении были публичные бани. Если предлогом для посещения прядильни служил труд, то предлогом для посещения бани служили чистота и здоровье. В виде общественных бань эпоха создала, наряду с «пробными ночами» и публичнымипрядильнями, еще одну возможность откровенного флирта, с той только разницей, что в последнем случае он носил более индивидуальный характер, а в первом — более общий, массовый. Подобно своеобразной роли, которую играла куртизанка, обычай банной жизни придает эпохе Ренессанса особенно характерный отпечаток. Пристрастие к бане в Германии восходящее к древним германцам, основывалось на широко тогда распространенном убеждение, что частое и продолжительное посещение бани необходимо в интересах сохранения или восстановления здоровья. Обычай совместного купания мужчин и женщин также существовал с незапамятных времен. Обнажение во время купания имело свою гигиеническую причину. По крайней мере этим гигиеническим мотивом постоянно оправдывался обычай полнейшей наготы во время купания. Долгое пребывание в бане вызывало у большинства воспаление кожи, так называемую банную сыпь, и эта сыпь доставляла при трении о материю сильную боль. А так как в этом видели неизбежное условие полезного действия бани на здоровье, то она служила удобным поводом для дальнейшего обнажения во время купания.
Оба пола были в этом отношении одинаково требовательны. Мужчины носили в лучшем случае передник (Niederwadt) или же имели в руке маленький веник, когда выходили из бани. Одежда женщины была такая же легкая и состояла из маленького фартука (Badeher), едва прикрывавшего ее тело. Женщины обнажались даже еще охотнее мужчин. Вместе с тем они подчеркивали свою наготу, придавая ей характер раздетости. Они достигали этого изысканностью прически и сверкающими украшениями: ожерельями, браслетами и т. д. Они становились пикантно раздетыми дамами. Из первоначальной нужды таким образом сделали для собственного и чужого удовольствия — добродетель.
Обычай совместного купания существовал до XIII и XIV столетий. Только с этого момента мы встречаем в разных местах постановления, запрещавшие совместное купание мужчин и женщин и отводившие каждому полу особое время, а подчас и особое помещение для купания.
Этот обычай, служивший первоначально только целям чистоты и здоровья, превратился с течением времени в одну из важных форм культа Венеры. Так как господствовало убеждение, что баня только тогда бывает полезна для здоровья и только тогда имеет целительное действие, когда часто ее посещаешь (обыкновенно два раза в неделю, а в курортах, конечно, ежедневно), что необходимо как можно дольше мыться и париться, то появлялась, естественно, потребность скоротать время беседой и забавой. Так баня сделалась одним из главных центров общественного развлечения. А коротали время при помощи пения, музыки, шуток, а так как купались по целым часам, то и едой и выпивкой.
Не менее естественным было и то, что взаимные отношения между полами носили всегда главным образом галантный характер. Галантное обращение с купавшейся рядом женщиной служило лучшим поводом для знакомства. И разумеется, какой мужчина не пользовался подобным случаем для ухаживания. Надо принять во внимание и то, что помещение, где купались, все равно, была ли то баня или купальня, было в большинстве случаев очень ограничено и что даже там, где мужчины и женщины отделялись друг от друга перегородкой, последняя была так низка, что никогда не мешала взорам и очень редко — рукам. Что же касается ванн, то в них мужчины и женщины купались уже безусловно вместе, как показывает целый ряд картин и рисунков.
Словом, купание было наиболее благоприятным случаем для всех видов галантных: ухаживаний. К практиковавшимся здесь развлечениям принадлежал и разнузданный культ Венеры в словах, жестах и действиях, который придавал пикантность еде, выпивке и пению. Купание очень скоро превратилось из средства укрепления здоровья в удобную возможность для самого дерзкого и откровенного флирта. Купались, уже для того, чтобы иметь возможность поухаживать друг за другом, цель превратилась в средство.

Бехам. В женской бане. Гравюра
Лучшим доказательством в этом отношении служат разнообразные специальные праздники, когда баня была лишь одним из номеров увеселительной программы. Приведем один только пример: так называемые свадебные бани. Понятно, что перед свадьбой, как перед праздником, люди принимали ванну. Однако в данном случае речь идет не о простом купании ради чистоты, а «о празднике, составлявшем часть свадьбы», о кульминационной точке всего свадебного торжества. Баня устраивалась обычно лишь после свадьбы и составляла заключительный эпизод свадебного пира. Этим объясняется также поведение молодых и гостей. В сопровождении музыкантов и гостей молодые отправлялись в баню, чтобы там выкупаться. Ради чистоты? Да, конечно, но только между прочим. А главным образом для того, чтобы довести свадьбу до конца среди пения, выпивки и веселья. Все современники единодушно сообщают, что при этом главную роль играли эротические шутки, забавы и игры. Но даже и впоследствии, когда оба пола купались раздельно, обе стороны имели после бани достаточно возможностей вознаградить себя за потерянное, так как существовал обычай, что после купания мужчины и женщины собирались для совместного кутежа, танца и пения. Так как скоро выяснилось, что чем меньше мешает платье, тем удобнее прыгать и скакать, то мужчины и женщины охотно отказывались надевать одежду, прежде чем перейти к игре и танцам. А это создавало удобный повод для самого откровенного флирта. В небольшом масштабе такое свадебное купание, по-видимому первый акт его, изображает одна гравюра Вацлава Холлара. Обычай совместного купания всех свадебных гостей, как и упомянутые оргии, представляют собой исторически достоверные факты, неопровержимо доказывают официальные указы и полицейские постановления, касающиеся этого обычая. Нам, например, известно, сколько гостей в тех или других городах сопровождало молодых в баню. Мюнхенское городское право начала XIV в. предписывало: «Участвовать в празднике и в купании могут только шесть женщин с обеих сторон, т. е. всего двенадцать». В Регенсбурге в XIV в. жениху разрешалось иметь даже 24 товарища для бани; «он и невеста должны иметь каждый по восемь женщин, и не больше». Уже из этих двух указов видно, что и жениху разрешалось иметь спутниц, сопровождавших его в баню.
Любовь бежит от тех,
Кто гонится за нею,
А тем, кто прочь бежит,
Кидается на шею.
Уильям Шекспир
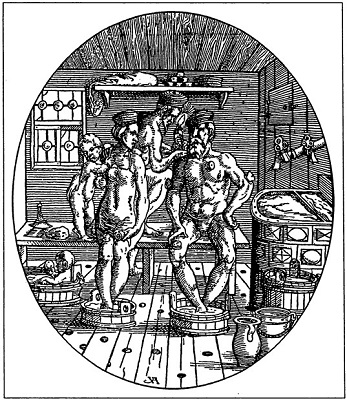
Йост Амман. Баня. Члены семьи при купании пускают кровь
Не следует забывать, что в эпоху Ренессанса публичные бани и купальни были не только городскими учреждениями, а имелись в большинстве деревень. В крупных встречались порою даже две. В городах их насчитывалось десяток и больше. Приведем в подтверждение несколько цифр. Из документов видно, что в период 1426–1515 гг. каждая из пяти деревень под Ульмом имела свою баню. В XV в. жители Лейпгейма просили разрешения открыть вторую. Деревня Бургау около Бюлау в Швейцарии, состоявшая из 35 дворов, имела также свою баню. По словам Гваринониуса, в Австрии не было города, местечка, деревни, в которых не было бы своей бани. Присоединим несколько цифр относительно более крупных городов. В период между XIII и XVI вв. в Цюрихе насчитывалось пять бань, в Шпейере — девять, в Ульме — десять, в Базеле — одиннадцать, в Вюрцбурге — двенадцать, в Нюрнберге (по словам Ганса Сакса) — тринадцать, во Франкфурте-на-Майне — пятнадцать, в Вене — двадцать одна и т. д. Так как трудно было придумать более удобный, а для той эпохи и более приятный случай поклоняться Венере словами, взглядами, жестами и поступками, так как все здесь прямо толкало к использованию этого случая именно таким образом, то баня и дом терпимости вскоре стали обозначать одно и то же. Это слияние объясняет нам и то обстоятельство, что профессия содержателя бани, как и профессия хозяина дома терпимости или скоморохов[186], считалась в продолжение всего Ренессанса ремеслом бесчестным. А само слияние этих двух учреждений замечается повсеместно и господствовало очень долго. По этому поводу голландский историк Йохан Хейзинга сообщает: «Герцог Бургундский велит привести в порядок бани города Валансьена для английского посольства, прибытия которого он ожидает, — "для них самих и для тех, кто из родичей с ними следует, присмотреть бани, устроив их сообразно с тем, что потребно будет в служении Венере, и все пусть будет наиотборнейшее, как они того пожелают; и все это поставить в счет герцогу"»[187]. Первым проявлением этого слияния бани с проституцией была банщица. К услугам посетителей всегда, кроме банщика, были и банщицы. Если первые часто обслуживали женщин, то вторые не менее часто — мужчин. Банщица не только мыла, но и готовила постель для посетителя, если он желал после бани отдохнуть, и т. д. Так становилась она естественным образом компаньонкой гостя, отвечавшей на все его даже самые грубые выходки, которым благоприятствовал уже один ее костюм. Одежда банщицы состояла только из сорочки, которая, по словам современников и по свидетельству искусства, часто была сделана из прозрачной ткани. Бывали случаи, как видно опять-таки из картин, что банщицы обслуживали гостей и совершенно обнаженными. Банщицы были лучшей рекламой хозяина бани, и он нанимал обыкновенно красивых и крепких, таких, которые могли смело обнажаться перед мужчинами, чтобы воспламенять их в таком виде. Некрасивые банщицы были всегда предметом насмешек. Доход хозяина возрастал, конечно, в зависимости от количества развлечений, которые посетитель находил в его учреждении. Нет надобности доказывать, что роль банщиц обыкновенно исполняли проститутки. Названия «банщица» и «проститутка» были синонимами. Назвать женщину «банщицей» считалось страшным оскорблением: «Она вела себя так скверно, как банщица». В песнях Клары Гетцлерин мы также находим подтверждение того, что банщицами были обыкновенно проститутки. В одном из ее стихотворений, описывающем радости мая, говорится: «После завтрака мы пойдем в баню и пригласим красавиц, чтобы они нас мыли и развлекали. Пусть никто не спешит, а прохлаждается, как князь. Эй, банщица, приготовь каждому хорошую постель». Заметим для полноты еще следующее: так как публичная баня была вместе с тем храмом Венеры, а банщица — прежде всего ее жрицей, то священникам и монахам посещение этих учреждений было или совсем запрещено, или же им предписывалось пользоваться услугами лишь банщика. Часто сами священники и монахи приводили банщика с собой. И вот случалось, что, когда чьи-нибудь дерзкие глаза заглядывали в помещение, где он мылся, банщик оказывался с косой. Таково, между прочим, содержание веселого стихотворения «Von einem schwarzen Monch, wie ihm und seinem Buhlen das Bad heiss wurde»[188]. Оно помещено в амбразском сборнике песен. Далее следует упомянуть, что банщицы представляли собой ту маску, за которой пряталась проституция в деревнях. Однако не только банщицы, но и многие из посетительниц бани принадлежали к большому ордену «веселых женщин» — femmes folles, как их называли во Франции, или «перепелок в башмаках», «соловушек», как их местами называли в Германии. На этот счет у нас имеются достоверные сведения относительно Вены, Берлина, Нюрнберга и других городов. В большинстве случаев только самые красивые проститутки выбирали баню местом своей деятельности. Так как оба пола купались вместе и без костюма, то красивая проститутка имела здесь лучший случай рекламировать себя. При многих банях находились обыкновенно одна или две комнаты, куда парочки могли уединиться.

Альбрехт Дюрер. В женской бане. Ксилография
Многие мужчины отправлялись в определенные бани со специальной целью развлечься с проститутками, и потому многие городские бани были, в сущности, лишь расширенными домами терпимости. Если мы встречаем в хрониках указания на так называемые собственные бани проституток (такое известие существует, например, относительно проституток Ульма), то мы едва ли ошибемся, увидев здесь только известную разновидность публичных домов. Убедительным подтверждением этого предположения служит то обстоятельство, что часто уставы публичных домов соединены с уставами бань, что в многочисленных указах бань подробно говорится о разрешении хозяевам иметь проституток. Есть и такие уставы бань, которые по существу являются просто уставами публичных домов. Таков древнейший устав, возникший в Англии в XII в. Здесь запрещения, касающиеся домов терпимости, распространены и на бани: «Ни один хозяин бани не должен впускать монахинь или замужних», «Ни один хозяин бани не должен держать у себя женщину, страдающую опасной болезнью», «Не следует никого насильно или обманно привлекать в. бани» и т. д. Подобные постановления лучше всего доказывают тождество бань и домов терпимости. Немецкий историк Блох по этому поводу сообщает: «…Бани, служившие местом проституции, постепенно превратились в кабаки с женской прислугой, в банные бордели. Их развитие относится к XII–XIII векам. Так, например, баня у Font Troucat в Авиньоне в 1435 году имела не менее 16 спален, кухню, большой купальный зал, сад. Все комнаты в изобилии снабжены были перинами. Составленный в 1446 году список инвентаря бани у La Pierre в Авиньоне перечисляет многочисленные кровати, каменные и медные ванны. Весьма замечателен также венецианский документ от 30 марта 1490 г., в котором в ответе на прошение арендатора бани Энрико Скваммико прямо сказано, что его банное заведение должно отныне считаться явным борделем, в котором могут находиться и жить все явные проститутки». Рядом с публичными банями следует упомянуть и о частных, находившихся в домах знатных патрициев. В них часто господствовали те же нравы и тот же тон, как и в общественных, так как и они были прежде всего местами увеселения и любви. Кто хочет повеселиться, тот устраивает у себя баню, — говорили тогда. Здесь влюбленная парочка могла удобнее всего предаться радостям Венеры и Приапа[189]. В этих домашних банях все ходили совершенно обнаженными. Как долго держалась эта простота нравов, видно из автобиографии веселого Ганса фон Швейнихена. Когда ему было девять лет (1561 г.), с ним произошел следующий случай, как он рассказывает в своих воспоминаниях: «Помню, был я всего несколько дней при дворе, как старая герцогиня пожелала взять ванну и я должен был прислуживать в качестве пажа. Не прошло много времени, как появилась девица, по имени Катерина, совсем нагая, приказала мне дать ей холодной воды. Мне это показалось очень странным, так как я раньше никогда не видал нагих женщин и так растерялся, что облил ее холодной водой. Она громко вскрикнула и сообщила герцогине, что я сделал. Герцогиня рассмеялась и воскликнула: "Из моего поросенка (игра слов: Schweinichen и Schweinchen) выйдет толк". Таким образом я узнал, как выглядят нагие женщины, но для чего это было сделано, я так и не понял». Этот обычай важен для истории общественных нравов по следующим двум причинам. Во-первых: частная баня была не только интимной комнатой для исключительного пользования членами семьи, сюда прежде всего приводили гостя, присутствуя во время его купания и посылая ему для услужения самую хорошенькую из горничных, и здесь же купались вместе с друзьями, развлекаясь едой, выпивкой, играми и шутками. Другая причина, заставляющая считаться с этим обычаем как материалом для истории общественных нравов, заключается в том, что эти домашние бани были, по словам скандальной хроники эпохи, главной ареной адюльтера, и прежде всего именно для жен. В домашней бане молодая, красивая хозяйка дома охотнее всего позволяла любовнику застать ее врасплох. Желая угодить другу, умеющему использовать отсутствие мужа, дама спешила устроить ему ванну и присутствовала во время купания. Желая намекнуть любовнику, что она готова исполнить все его просьбы, жена-изменница писала ему, что его «ждет приятная и веселая ванна». Такие «семейные радости» были весьма по вкусу многим ухаживателям и не менее охотно доставлялись им их красавицами. Доказательством могут служить разнообразные рассказы о том, как муж возвращается раньше, чем его ожидали, завершая сцену трагическим финалом. Домашняя баня представляла часто не более как импровизированное помещение, куда на случай надобности ставили ванну. В домах богатых бюргеров и патрициев, во дворцах знати и церковных сановников ванная комната, напротив, устраивалась с большой роскошью: с мраморным полом, драгоценными ваннами, картинами соответствующего содержания, с мягкими пуховиками на скамьях, манивших после бани к отдыху, и т. д. Классическим примером может служить великолепная ванная во дворце Фуггеров в Аугсбурге и разукрашенная фресками Рафаэля знаменитая ванная кардинала Биббиены в Ватикане. При таких условиях немудрено, что ванная становилась излюбленным местом увеселений и что развратники, вроде упомянутого кардинала Биббиены, именно ее выбирали ареной для оргий, устраиваемых ими в Папском дворце со своими метрессами и прекрасными куртизанками. Домашняя ванная, несомненно, более древнего происхождения, чем публичная баня. Она существовала уже в рыцарских замках, и из поэзии миннезингеров следует, что уже и тогда она служила предпочтительно для культа Венеры. Но до XII в. число их было, вероятно, еще очень незначительно, так как нам известно, что многие князья и государи посещали публичные бани. В XV и XVI вв. по мере роста богатства в среде восходившей буржуазии, по мере развивавшейся вместе с тем тенденции к более строгому обособлению классов число домашних ванных все увеличивается и общественная баня посещается уже почти исключительно средним и низшим классом. Как велико было число домашних ванных, видно из следующей цифры, которой мы и ограничимся: в Ульме в 1483 г. кроме общественных бань существовало не менее 168 домашних. Но местом для веселого времяпрепровождения были не только бани. По этому поводу Блох сообщает: «В некоторых городах, например в Париже, с борделями постоянно конкурировали цирюльни. Предписание от 1311 года запрещает парижским цирюльникам держать у себя проституток и эксплуатировать их экономически. …Проституция наблюдалась также на мельницах, известных нам из древних времен, в погребах и других подземных помещениях, где проститутки оставались только днем и в определенные часы, а с наступлением ночи уходили оттуда, чтобы избежать преступлений, возможных в этих темных углах».

Курорты
 остепенный отказ патрициата и вообще всех имущих классов от пользования публичными банями как публичными домами имел, однако, еще одну причину. Она заключалась не в том, что эти классы обращали все больше внимания на благопристойность и нравственность. Дело объясняется просто тем, что они нашли себе другое место развлечений. Удовольствия, от которых они добровольно отказывались, переставая посещать бани, они нашли в удвоенном и утроенном количестве на многочисленных курортах, расцветших начиная с XIII в. и становившихся такими же модными и роскошными местами свидания, какими являются и современные курорты.
Чтобы полностью и беспрепятственно вкусить сладких радостей жизни, многие совершали веселое «купальное» путешествие, как тогда говорили. Первоначально, конечно, отправлялись к различным целебным источникам, открытым в течение столетий, главным образом из соображений здоровья, чтобы вылечиться от разных болезней. Однако число больных, искавших лечения, уменьшалось с каждым годом в сравнении с теми, которые только ссылались на какую-нибудь болезнь, чтобы совершить купальное путешествие. Произошло это потому, что с целебными источниками было связано (помимо княжеских дворов и посещаемых иностранцами городов) возникновение светской жизни, посвященной жуированию. И это понятно.
У целебных источников впервые собиралось на более или менее продолжительное время значительное количество людей, живших для отдыха, т. е. для праздности. А там, где праздность становится главным условием существования значительного числа лиц, притом в течение более или менее продолжительного срока и на одном и том же участке, это место само собой превращается в увеселительное, где можно найти в большом количестве развлечения. Такие места всегда привлекали здоровых еще в большей степени, чем больных. Во все времена возникали модные курорты в интересах имущих классов. А так как в эпоху Ренессанса купание представляло почти единственную возможность стать кульминационным пунктом увеселения, то курорты, естественно, сделались центрами светской жизни. Сатирики смеялись поэтому, что купальное путешествие оказывает свое целительное воздействие только на богатых. «В мае мы поедем на курорт! Смотри, наполни свой кошелек! Тамошний источник имеет такое своеобразное действие, что не помогает тем, кто туда едет с женщинами и забывает захватить с собой деньги. Все его действие в таком случае сводится к тому, что человек потеряет все, что имел».
Так издевался Мурнер в своем «Gauchmatt».
А что купальное путешествие было прежде всего путешествием в царство Венеры, что жизнь на курортах была преимущественно праздником любви, это тоже обусловлено природой самого явления. Чувственная тенденция эпохи находила здесь самые удобные условия для своего проявления. Все должно было сосредоточиться в эротическом наслаждении. Не чем иным, как сплошной эротической вакханалией, и была жизнь на известных курортах.
О жизни и нравах на различных курортах эпохи Ренессанса мы узнаем как от путешественников и хронистов, из шванков и пословиц, так и из указов и запрещений властей, и эти сведения настолько обильны, что позволяют нам получить ясную картину.
Соблазнять и быть соблазненной, и притом путем самых дерзких и рискованных средств, составляло главную тему ежедневной жизни, облекавшуюся в сотни разнообразных форм. Женщины исполняли эту программу главным образом тем, что в продолжение целых часов доставляли мужчинам во время совместного купания самые пышные эротические зрелища, мужчины — тем, что постоянно побуждали женщин к такому поведению, создавая при помощи галантных слов, откровенных жестов и смелых выходок все новые комбинации для повторения старых приемов. Зрелище, которое женщина доставляла мужчине,
было притом не тайным, специально для него предназначенным, а открытой игрой, имевшей в виду, быть может, одного, но рассчитанной на всех. Эта игра должна была приковать к женщине взоры всех.
Посетительница целебных источников не могла, правда, обнажаться больше, чем дама, купавшаяся в своей домашней ванне, но зато она больше подчеркивала свою раздетость, устраивая более роскошную прическу, утопая под блеском украшений, надевая более богатый купальный костюм (если прибегала вообще к костюму), очень мало предназначенный служить своей первоначальной цели.
Картина Л. Кранаха и рисунок Йоста Аммана «Одежда купающихся турчанок» дают нам приблизительное представление о том, в каком виде представала взорам мужчин дама Ренессанса на модном курорте.
Да и самый акт купания носил характер публичного зрелища. Правда, купание было зрелищем, в котором большинство сами были участниками, но и публике давалась возможность насладиться этим зрелищем, так как вокруг места купания, как в Лейке, Бадене и т. д., шли галереи, откуда публика могла созерцать все, что делалось в воде. И эта некупавшаяся публика видела во всем, что там происходило, именно только зрелище, доставляемое чувствам.
Многочисленные хроники и сообщения свидетельствуют, что нравы, царившие на курортах, оставались неизменными в продолжение столетий. Достаточно упомянуть знаменитое описание курорта Бадена в Аргау, сделанное Поджо, или описание праздника, устроенного на курорте Висбадене, принадлежащее перу Генриха фон Лангенштейна и относящееся к восьмидесятым годам ХIV столетия. К сожалению, эти и тому подобные классические документы так построены, что нет возможности привести их здесь.
Взамен их мы процитируем здесь два указа, не только подтверждающие неизменность нравов, царивших на курортах, но и показывающих, что этот обычай сохранился во многих местах вплоть до XVII столетия.
В уставе вюртембергского курорта Болль от 1594 г. говорится:
«Запрещается произносить бесстыдные, скабрезные слова, а также петь непристойные песни. Провинившиеся обязаны уплатить полгульдена. Запрещаются, далее, непристойные жесты и поступки по отношению к честным женщинам и девушкам. Провинившиеся обязаны уплатить каждый раз по гульдену, и штраф этот ни в коем случае не может быть прощен».
остепенный отказ патрициата и вообще всех имущих классов от пользования публичными банями как публичными домами имел, однако, еще одну причину. Она заключалась не в том, что эти классы обращали все больше внимания на благопристойность и нравственность. Дело объясняется просто тем, что они нашли себе другое место развлечений. Удовольствия, от которых они добровольно отказывались, переставая посещать бани, они нашли в удвоенном и утроенном количестве на многочисленных курортах, расцветших начиная с XIII в. и становившихся такими же модными и роскошными местами свидания, какими являются и современные курорты.
Чтобы полностью и беспрепятственно вкусить сладких радостей жизни, многие совершали веселое «купальное» путешествие, как тогда говорили. Первоначально, конечно, отправлялись к различным целебным источникам, открытым в течение столетий, главным образом из соображений здоровья, чтобы вылечиться от разных болезней. Однако число больных, искавших лечения, уменьшалось с каждым годом в сравнении с теми, которые только ссылались на какую-нибудь болезнь, чтобы совершить купальное путешествие. Произошло это потому, что с целебными источниками было связано (помимо княжеских дворов и посещаемых иностранцами городов) возникновение светской жизни, посвященной жуированию. И это понятно.
У целебных источников впервые собиралось на более или менее продолжительное время значительное количество людей, живших для отдыха, т. е. для праздности. А там, где праздность становится главным условием существования значительного числа лиц, притом в течение более или менее продолжительного срока и на одном и том же участке, это место само собой превращается в увеселительное, где можно найти в большом количестве развлечения. Такие места всегда привлекали здоровых еще в большей степени, чем больных. Во все времена возникали модные курорты в интересах имущих классов. А так как в эпоху Ренессанса купание представляло почти единственную возможность стать кульминационным пунктом увеселения, то курорты, естественно, сделались центрами светской жизни. Сатирики смеялись поэтому, что купальное путешествие оказывает свое целительное воздействие только на богатых. «В мае мы поедем на курорт! Смотри, наполни свой кошелек! Тамошний источник имеет такое своеобразное действие, что не помогает тем, кто туда едет с женщинами и забывает захватить с собой деньги. Все его действие в таком случае сводится к тому, что человек потеряет все, что имел».
Так издевался Мурнер в своем «Gauchmatt».
А что купальное путешествие было прежде всего путешествием в царство Венеры, что жизнь на курортах была преимущественно праздником любви, это тоже обусловлено природой самого явления. Чувственная тенденция эпохи находила здесь самые удобные условия для своего проявления. Все должно было сосредоточиться в эротическом наслаждении. Не чем иным, как сплошной эротической вакханалией, и была жизнь на известных курортах.
О жизни и нравах на различных курортах эпохи Ренессанса мы узнаем как от путешественников и хронистов, из шванков и пословиц, так и из указов и запрещений властей, и эти сведения настолько обильны, что позволяют нам получить ясную картину.
Соблазнять и быть соблазненной, и притом путем самых дерзких и рискованных средств, составляло главную тему ежедневной жизни, облекавшуюся в сотни разнообразных форм. Женщины исполняли эту программу главным образом тем, что в продолжение целых часов доставляли мужчинам во время совместного купания самые пышные эротические зрелища, мужчины — тем, что постоянно побуждали женщин к такому поведению, создавая при помощи галантных слов, откровенных жестов и смелых выходок все новые комбинации для повторения старых приемов. Зрелище, которое женщина доставляла мужчине,
было притом не тайным, специально для него предназначенным, а открытой игрой, имевшей в виду, быть может, одного, но рассчитанной на всех. Эта игра должна была приковать к женщине взоры всех.
Посетительница целебных источников не могла, правда, обнажаться больше, чем дама, купавшаяся в своей домашней ванне, но зато она больше подчеркивала свою раздетость, устраивая более роскошную прическу, утопая под блеском украшений, надевая более богатый купальный костюм (если прибегала вообще к костюму), очень мало предназначенный служить своей первоначальной цели.
Картина Л. Кранаха и рисунок Йоста Аммана «Одежда купающихся турчанок» дают нам приблизительное представление о том, в каком виде представала взорам мужчин дама Ренессанса на модном курорте.
Да и самый акт купания носил характер публичного зрелища. Правда, купание было зрелищем, в котором большинство сами были участниками, но и публике давалась возможность насладиться этим зрелищем, так как вокруг места купания, как в Лейке, Бадене и т. д., шли галереи, откуда публика могла созерцать все, что делалось в воде. И эта некупавшаяся публика видела во всем, что там происходило, именно только зрелище, доставляемое чувствам.
Многочисленные хроники и сообщения свидетельствуют, что нравы, царившие на курортах, оставались неизменными в продолжение столетий. Достаточно упомянуть знаменитое описание курорта Бадена в Аргау, сделанное Поджо, или описание праздника, устроенного на курорте Висбадене, принадлежащее перу Генриха фон Лангенштейна и относящееся к восьмидесятым годам ХIV столетия. К сожалению, эти и тому подобные классические документы так построены, что нет возможности привести их здесь.
Взамен их мы процитируем здесь два указа, не только подтверждающие неизменность нравов, царивших на курортах, но и показывающих, что этот обычай сохранился во многих местах вплоть до XVII столетия.
В уставе вюртембергского курорта Болль от 1594 г. говорится:
«Запрещается произносить бесстыдные, скабрезные слова, а также петь непристойные песни. Провинившиеся обязаны уплатить полгульдена. Запрещаются, далее, непристойные жесты и поступки по отношению к честным женщинам и девушкам. Провинившиеся обязаны уплатить каждый раз по гульдену, и штраф этот ни в коем случае не может быть прощен».

Купание — служение Венере. Символическая картинка
В одном указе от 1619 г. говорится: «…Так как часто поступают жалобы от женщин, что мужчины пристают к ним непристойным и дерзким образом, мы постановляем во имя уничтожения подобной безнравственности: хозяин курорта должен смотреть за тем, чтобы мужчины и женщины купались в отдельных местах (за исключением благородных или родственников), если же ввиду обилия гостей или по другим каким-нибудь причинам это оказывается невозможным, то мы все же хотим (как можно больше) обезопасить женщин и облагаем штрафом в 2 пфеннига всех мужчин, чтобы удержать их от непристойных действий и бесстыдных слов и жестов и чтобы покончить с такой скандальной непристойностью». Стекавшаяся на модные курорты публика отличалась значительной пестротой, а на некоторых курортах была даже до известной степени интернациональной. Весь тогдашний жуирующий свет встречался здесь со знатью, ежегодно посещавшей эти места. К ним присоединялось не менее значительное число сводников, руффианов и прочей сомнительной черни. Во главе стояла армия прекрасных, рафинированных проституток. Так как слуги церкви всегда бывали там, где весело жилось, и усердно служили плоти, то и монахи, священники и монахини составляли довольно большой контингент постоянных посетителей курорта. Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения, в которых говорится о посещении священниками и монахинями целебных источников. Так, Пфиффер замечает в своей «Истории города и кантона Люцерна под 1566 г.» следующее: «Несколько духовных просили разрешения у совета совершить со своими возлюбленными купальное путешествие в Баден, но им отказали во избежание публичного соблазна». Нет ничего удивительного в том, что проститутки наезжали на курорты целыми ордами. Здесь их профессия была особенно прибыльна. Куртизанки, естественно, задавали тон всей жизни. Во время празднеств они были оживляющим элементом. Постоянное присутствие многочисленных проституток было далее обязательно для этих курортов, так как именно они позволяли надеяться многим мужчинам, предпринимавшим купальное путешествие специально для того, чтобы отдохнуть от семейной жизни, что они не ошибутся в своих расчетах. А таких посетителей было всегда немало. Суровый домашний режим был для высшего сословия тем более тяжелой обязанностью, что они не могли от него освободиться, особенно в тех случаях, когда интересы классового господства побуждали издавать строгие указы в целях охраны нравственности или не менее строгие законы против роскоши. По этой причине в Бадене в Аргау, например, всегда бывало много жителей Цюриха. Здесь они могли игнорировать те строгие законы против роскоши и безнравственности, которым они дома подчинили свою жизнь.
Если бы человек хотел быть только счастливым, то это было бы легко, но всякий хочет быть счастливее других, а это почти всегда очень трудно, ибо мы обыкновенно считаем других счастливее, чем они есть на самом деле.Желание отдохнуть от гнета семейного режима, от скуки супружеской жизни толкало не только многих мужчин к посещению курортов, но и многих «честных женщин». Глаубер говорит: «Многие женщины охотно посещают соляные или горячие источники, так как их мужья слишком стары и холодны». Еще в 1610 г. Гваринониус пишет: «Многие женщины едут в Галле, потому что там им нетрудно обмануть своих мужей». Другой современник сообщает: «В купальных каморках многие порядочные женщины развлекаются с молодыми людьми, от чего должны были отказаться дома из боязни сплетен, и многие усердствуют в этом отношении больше даже, чем банщицы». При таких условиях неудивительно, что бесплодие было той женской болезнью, которая легче всего излечивалась целебными ваннами. Поджо сообщает об этом со злой насмешкой: «Если ты, о друг, спросишь меня о действии здешних источников, то я должен тебе сказать, что оно очень разнообразно, но в некоторых пунктах оно прямо грандиозно и божественно. Ибо во всем свете нет других целебных источников, которые лучше излечивали бы женское бесплодие. Если сюда приезжает бесплодная женщина, то она очень скоро испытывает чудодейственную силу источника, если она только усердно прибегает к тем средствам, которые наука предписывает бесплодным». Короче и лучше всего выражает этот факт старинная поговорка: «Для бесплодных женщин лучшее средство — целебные источники. Чего не сможет сделать источник, то сделают гости». Разумеется, порой лечение было даже слишком успешно и превосходило первоначальную цель, как видно из другой поговорки: «Лечение на курорте оказалось слишком успешным, так как забеременели мать и дочь, служанка и собака». Последним документом, рисующим разнузданные нравы, царившие в банях и на курортах, служит искусство. Не может быть более нелепой мысли, чем та, постоянно вновь подвигаемая, будто пластические изображения не воспроизводят вовсе сущности эпохи. Разумеется, искусство передает действительность рельефнее, но это нечто другое, чем простое подчеркивание наготы и скабрезности! Картины и рисунки Флетнера, Солиса, Дюрера, Бехама передают, несомненно, основной тон времени. Нельзя отрицать, что этот тон получил некоторую окраску от всеобщего культа формы, т. е. красоты, который характеризует эпоху. Если же возражают, что большинство картин, изображающих жизнь на курорте или в банях, выставляют только красивые тела, и в частности только красивых женщин, то в этом надо видеть не прекрасный вымысел, а отражение того простого факта, что отцветшие и безобразные женщины лишь в исключительных случаях пользовались общественными купальнями, и притом всегда строго соблюдали в своем костюме благопристойность. Безобразие всегда неумолимый страж добродетели. Постепенное исчезновение обычая публичных бань и купален было вызвано теми же причинами, которые обезлюдили «женские дома», а именно, общим социальным упадком и сифилисом. Так как об этом мы говорили уже в первой вступительной главе, то более подробное обоснование этого положения является лишним. По поводу общего социального упадка надо заметить еще, что он осложнялся для содержателей бань тем, что в XVI в. сильно вздорожали дрова. Так как бани топились исключительно дровами, то посещение их становилось все дороже по мере того, как дорожали дрова, и сделалось под конец роскошью, недоступной для большой массы.Мишель Монтень

Игры и танцы
 о все времена игры взрослых имели в большинстве случаев эротическую подоплеку или, во всяком случае, в них всегда звучала эротическая нотка. Содержанием большинства игр, пользующихся симпатией взрослых, служит шутливое ухаживание друг за другом молодых людей или процесс взаимного завоевания одного другим.
В средние века и в эпоху Ренессанса это эротическое содержание игр выступает еще совершенно откровенно. Яснее всего в тех играх, в которых речь шла ни о чем другом, как об аллегорическом изображении грубого чувственного удовольствия. Мужчины и женщины хотели как следует и как можно удобнее насладиться удовольствием, доставляемым такими шутками. А проще всего это можно было сделать именно в рамках игры, в которой участвовали оба пола. Характерными примерами таких игр являются: «опрокидывание», «похищение поцелуя», «пастух из нового города» и др. Все эти игры были одинаково популярны и распространены.
Игра «опрокидывание» состояла в комическом единоборстве мужчины и женщины. Каждая из сторон должна была попасть поднятой ногой в пятку другого, чтобы вывести его из равновесия и повалить на пол. Дама сидела при этом верхом на спине мужчины, стоявшего на коленях, а кавалер свободно стоял на ногах. Так как женщины тогда не носили нижних юбок, то все единоборство было со стороны дамы беспрерывным добровольным обнажением перед взором зрителей ног и бедер. Это декольтирование снизу вверх достигало своего апогея, когда победа оставалась за кавалером и дама падала на пол. Аналогично содержание игры «похищение поцелуя». Поцелуй играл главную роль во многих играх. В той, которую мы имеем здесь в виду, примитивно-грубый характер развлечения бросается прямо в глаза. Борющиеся пары сидели верхом: женщина на плечах мужчины, мужчина на плечах женщины. Очевидно, это была не очень салонная игра, так как конь и всадник то и дело падали и парочки катались по полу или на траве в пестрой сутолоке, в чем и состояло главное удовольствие.
Игра «пастух из нового города» описана Мурнером. В ней тоже все вертелось вокруг поцелуя как награды. Эта игра требовала от женщины такой же силы, как от мужчины, так как и она должна была поднять и кружить его в воздухе. Только та способна участвовать в этой игре, которая «может поднять парня на воздух, когда он принимается скакать и прыгать». Мужчина мстил тем, что поднимал свою партнершу еще выше и вертел ее в воздухе еще отчаяннее. Мурнер замечает по поводу этой игры: «В ней нет ни приличия, ни пристойности. Когда парни поднимают девиц, то доводят игрул до того, что у них все видно». Игра заканчивалась, по-видимому массовыми поцелуями.
Йохан Хейзинга отмечает.
«Были также амурные игры-состязания в остроумии, такие, как "король, что не лжет", "замок любви", "фанты любви", "игра в фанты". Девушка называет цветок или еще что-нибудь, а кавалер отвечает в рифму, высказывая при этом комплимент даме:
о все времена игры взрослых имели в большинстве случаев эротическую подоплеку или, во всяком случае, в них всегда звучала эротическая нотка. Содержанием большинства игр, пользующихся симпатией взрослых, служит шутливое ухаживание друг за другом молодых людей или процесс взаимного завоевания одного другим.
В средние века и в эпоху Ренессанса это эротическое содержание игр выступает еще совершенно откровенно. Яснее всего в тех играх, в которых речь шла ни о чем другом, как об аллегорическом изображении грубого чувственного удовольствия. Мужчины и женщины хотели как следует и как можно удобнее насладиться удовольствием, доставляемым такими шутками. А проще всего это можно было сделать именно в рамках игры, в которой участвовали оба пола. Характерными примерами таких игр являются: «опрокидывание», «похищение поцелуя», «пастух из нового города» и др. Все эти игры были одинаково популярны и распространены.
Игра «опрокидывание» состояла в комическом единоборстве мужчины и женщины. Каждая из сторон должна была попасть поднятой ногой в пятку другого, чтобы вывести его из равновесия и повалить на пол. Дама сидела при этом верхом на спине мужчины, стоявшего на коленях, а кавалер свободно стоял на ногах. Так как женщины тогда не носили нижних юбок, то все единоборство было со стороны дамы беспрерывным добровольным обнажением перед взором зрителей ног и бедер. Это декольтирование снизу вверх достигало своего апогея, когда победа оставалась за кавалером и дама падала на пол. Аналогично содержание игры «похищение поцелуя». Поцелуй играл главную роль во многих играх. В той, которую мы имеем здесь в виду, примитивно-грубый характер развлечения бросается прямо в глаза. Борющиеся пары сидели верхом: женщина на плечах мужчины, мужчина на плечах женщины. Очевидно, это была не очень салонная игра, так как конь и всадник то и дело падали и парочки катались по полу или на траве в пестрой сутолоке, в чем и состояло главное удовольствие.
Игра «пастух из нового города» описана Мурнером. В ней тоже все вертелось вокруг поцелуя как награды. Эта игра требовала от женщины такой же силы, как от мужчины, так как и она должна была поднять и кружить его в воздухе. Только та способна участвовать в этой игре, которая «может поднять парня на воздух, когда он принимается скакать и прыгать». Мужчина мстил тем, что поднимал свою партнершу еще выше и вертел ее в воздухе еще отчаяннее. Мурнер замечает по поводу этой игры: «В ней нет ни приличия, ни пристойности. Когда парни поднимают девиц, то доводят игрул до того, что у них все видно». Игра заканчивалась, по-видимому массовыми поцелуями.
Йохан Хейзинга отмечает.
«Были также амурные игры-состязания в остроумии, такие, как "король, что не лжет", "замок любви", "фанты любви", "игра в фанты". Девушка называет цветок или еще что-нибудь, а кавалер отвечает в рифму, высказывая при этом комплимент даме:
"Вам хочу продать лилею.
— Милая, — сказать не смею,
Как сильно к вам любовь томит:
О том весь вид мой говорит"».

Данцель Кандель. Под сельской липой
Эта истинная сущность пляски объясняет очень многое. Так как она не только вся насыщена чувственностью, так как она — переведенный на язык стилизованного движения ритм полового акта, то естественно, никогда не существовало более опасного соблазнителя и сводника, как танец, и потому в танце перед сладострастием раскрываются самые широкие и смелые горизонты. В танцах конца средних веков и эпохи Ренессанса эта тенденция обнаруживается совершенно открыто. Танец представлял тогда высшее напряжение тенденций, олицетворенных в вышеописанных играх. И если сама пляска не приводила к этому, то пытались достигнуть цели с помощью разных экстравагантностей. Большинство, и притом самые излюбленные танцы Ренессанса, состояло из диких прыжков, бешеного кружения и вращения дамы так, что-бы юбки ее поднимались как можно выше. Поведение танцора было постоянным сладострастным топаньем и криком и представляло, таким образом, наиболее подходящий аккомпанемент к теме. Уже в одной придворной любовной песне говорится: «Она прыгала вверх на несколько клафтеров и больше!» Парень, умевший смелее других кружить в воздухе свою партнершу, пользовался славой лучшего танцора, так как позволял ей до дна испить сладкую чашу безумия. Многие девушки поэтому сами побуждали своих кавалеров вести себя как можно смелее. Современник пишет: «С парнем, не умеющим или не желающим как следует кружить девку, последняя ни за что не хочет плясать и называет его дураком, не способным двигать своими членами. Многие парни не плясали бы так бесстыдно, если бы сами девки не побуждали их к этому, даже более, теперь сами девки кружат в воздухе парней, если последние оказываются слишком ленивыми». Ддя девицы, женщины и вдовы — все они одинаково усердно танцевали — не было большей чести, как если ее приглашали к каждому танцу и кавалер поднимал ее выше других.

М. Трей. Пляшущие крестьяне
Когда безумие пляски охватывало девушку, она переставала скупиться на те щедрости, которых так жаждали мужчины и юноши. Более стыдливая расстегивала тайком для своего кавалера одну пуговицу в корсаже, более смелая делала это открыто и не ограничивалась одной. Генрих фон Миттенвейлер говорит в одном стихотворении: «Девушки бойко прыгали так высоко, что видны были их колени. У Гильды лопнуло платье так, что показалась вся грудь. Гюделейн стало так жарко, что она сама раскрыла спереди свое платье и все мужчины могли насладиться ее красотой». Главным пунктом танцев того времени было так называемое Verkodern (приманка). Автор вышедшего в 1580 г. «Дьявола пляски» описал нам этот прием. Он состоял в том, что кавалер вертел в воздухе свою даму и бросал ее на землю, причем падал сам, другие пары спотыкались, так что в конце концов образовывалась целая куча тел. «Кто любит непристойности, тому весьма нравится такое кружение, падение и развевание платьев. Он смеется и веселится, ибо ему устраивается настоящее bel videre (прекрасный вид) на иностранный манер» и т. д. Наибольшее удовольствие получала при этом публика, не участвовавшая в танцах. Многие мужчины отправлялись на пляску специально с тем, чтобы насладиться лицезрением. Поэтому пословица говорила: «Зритель хуже танцора». Не только женщины обнажались при этом непристойным образом, но и мужчины, особенно если они приходили на пляску без штанов или в короткой куртке. В одном полицейском уставе, опубликованном в 1555 г. содержится особая глава о непристойных танцах, в которой говорится, что было бы лучше, если бы все танцы были запрещены так как «мужчины участвуют почти голыми и вообще позволяют себе невозможно-непристойные выходки». Так как танцорки ничего не имели против того, что их опрокидывали на пол или на землю, то эта забава в некоторых местах вырождалась в настоящую оргию, без которой вообще не обходилась ни одна пляска. Власти старались помочь делу еще тем, что ставили танцующих под надзор. Алойзиус Орелли пишет в 1555 г.: «Так, например, запрещены все танцы, когда-то главное увеселение всех классов и возрастов. Они разрешались только на свадьбах, но должны были заканчиваться с заходом солнца. Чем реже становилось это удовольствие, тем с большей страстью наслаждались им. Молодые сильные юноши старались во время танца повалить других, причем неоднократно случалось, что девушка падала вместе с танцором, и падала так, что ее положение вызывало смех оскорблявший ее стыдливость. Правда, опрокидывание друг друга было запрещено, но в увлечении пляской забывали об этом запрещении. Если опрокидывали одного, это действовало заражающе и опрокинутый старался отомстить быстротой и ловкостью. Чтобы воспрепятствовать таким неприличиям, власти посылали особых цензоров на бал. То были слуги городского совета, носившие цвета города. Им было приказано при первой преднамеренной попытке опрокинуть одного из участников пляски запретить музыкантам играть и таким образом положить конец всему веселью». Пляска служила поводом для обмена всевозможными интимными нежностями. Главную роль играл поцелуй. Целовали женщину не только в губы и щеки, а охотнее всего в грудь. Эта ласка считалась актом преклонения, который каждая девушка и женщина могла разрешить, не рискуя потерять доброго имени. Еще усерднее губ действовали, однако, руки: «Мужчины хватают девок на виду у всех, за корсаж, что доставляет большинству из них тайное удовольствие». Женщины только слабо противились такому натиску, так как мужчины именно этим путем обнаруживали свой восторг перед партнершей по танцу. Только женщины, которые не могли гордиться пышной грудью, возмущались и ломались. Расстегивать своей партнерше корсаж — таково было и главное времяпрепровождение мужчины в антрактах, когда он стоял на коленях перед дамой или усаживался у нее на коленях. Когда веселье было в разгаре и кровь бешено бурлила в жилах, обе стороны становились все смелее в своих интимных ухаживаниях и женщины не только позволяли мужчинам самые дерзкие выходки, но и сами провоцировали их. Возбуждающее действие слова играло особо важную роль в так называемых хороводах. Здесь место индивидуальной беседы и музыки занимало хоровое пение, в некоторых местностях также чередование мужского и женского хора. Во время хоровода все брались за руки, причем мужчина стоял всегда между двумя женщинами, и плясали под такт плясовой песни. Эти песни носили всегда эротический характер и, по-видимому, нравились тем больше, чем скабрезнее было их содержание. Низшие классы и крестьяне, вероятно, распевали только такие скабрезные песни — ведь еще и в настоящее время деревенские плясовые песни преимущественно непристойны по своему содержанию. Эразм Роттердамский говорит об этих хороводах и плясовых песнях: «Там можно услышать скверные, бесстыдные песни и пение, пригодное для публичных женщин и слуг». В таком же духе пишет Гейлер из Кайзерсберга: «Я чуть не забыл упомянуть еще об одном танце, о хороводе, во время которого совершаются не меньшие непристойности, а именно распеваются позорные и гнусные песни, чтобы воспламенить женский пол к безнравственности и бесстыдству». Раз с обеих сторон делались такие уступки друг другу, то неудивительно, что целомудрие находилось в очень рискованном положении, и потому пословица гласила: «Когда целомудрие отправляется на пляску, оно пляшет в стеклянных башмаках» или «Девушка, отправляющаяся танцевать, редко возвращается неощипанной». То, чего требовали в упоении танцем, что наполовину обещалось взглядами и рукопожатием, осуществлялось потом на обратном пути, когда чувства еще были опьянены. Автор «Дьявола пляски» подробно описывает это в главе «Как люди возвращаются с легкомысленной пляски». Если из-за подобных приемов и нравов благочестивые люди требовали упразднения всякой пляски, ибо в «каждом танце замешан дьявол», то так называемое почтенное бюргерство осуждало только вечерние танцы, как единственные будто бы очаги безнравственности. Отказаться же от «приличных бюргерских танцев» оно ни за что не хотело. И не только потому, что пляска была одним из наиболее излюбленных увеселений, но и по той не менее важной причине, что балы тогда служили удобным случаем для почтенных матерей семейств заняться сводничеством и выгодно сбыть с рук своих дочек.

Титульный лист сочинения о банях
В своих проповедях о положении невест Кириак Шпагенберг говорит: «Наши предки устраивали такие публичные танцы также и для того, чтобы показать своих детей соседям и устроить свадьбу. Вот почему в Мейсене ежегодно в определенные дни устраиваются по распоряжению властей то в одной, то в другой деревне так называемые Lobetanze (хвалебные танцы)».
Любовь есть желание наслаждаться красотой. Красота же есть некое сияние, влекущее человеческую душу.Танцы позволяли лучше всего довести сводничество до желанной цели. А это неопровержимое обстоятельство опровергает мнимую «порядочность» бюргерской пляски. Ибо везде там, где занимаются сводничеством, всегда прибегают к тайным уловкам, чтобы не упустить выгодное, дельце. Самый надежный прием, который только может пустить в ход женщина, все равно, в салоне или на танцевальной площадке, состоит в том, чтобы давать мужчине авансы в счет будущего, так как эти авансы — лучшая «приманка для холостяков» и лучше всего возбуждают их аппетит. Кроме того, каждая девушка, все равно, крестьянка или мещанка, знала превосходно пословицу: «Женщина любит так, как танцует» и др. И умные девицы и вели себя сообразно таким пословицам. Если некоторые историки Ренессанса представляют дело так, будто такие грубые нравы во время танцев существовали только в деревнях, а в городах только среди черни, то это, безусловно, неверно. У простонародья они отличались только большей наивностью. Однако на балах богатых и знатных царили, по существу, те же обычаи, как и под липой на траве или в плохо освещенной харчевне или прядильне. Достаточно вспомнить хотя бы те уступки, которые делала, как нам известно из актов процесса, жизнерадостная Барбара Леффельгольц своим любовникам. Отсюда можно заключить, что в этих кругах и во время танцев вели себя не очень чопорно, если симпатичный партнер обнаруживал слишком большую любознательность или заходил слишком далеко в своем ухаживании. Впрочем, такой вывод из общих воззрений эпохи вполне подтверждается современными картинами, новеллами, многочисленными хрониками. Все они доказывают, что среди знатного сословия существовали те же нормы морали, что и среди крестьянства. В упомянутой выше новелле итальянца Корнацано «Он не он», изображающей нравы знатного бюргерства, подробно описано, как дамы города Пьяченца только потому ухаживают за одним танцором, что он во время танца невероятно смелым образом удовлетворял эротическое любопытство женщин. Во время входивших тогда в моду при дворах официальных танцев, напоминающих наш полонез и заключавшихся в том, что пары двигались по залу под звуки музыки, участники вели себя, несомненно, менее шумно и более чопорно. Однако эти танцы служили лишь официальным вступлением к какому-нибудь торжеству. Так, знаменитый «факельный танец» по своему происхождению не что иное, как церемония, сопровождавшая шествие молодых к брачному ложу. Но и в этих случаях главная суть также была в том, что выше мы определили как основную сущность танца, являющегося лишь стилизованной эротикой. Даже в этих чопорных церемониальных танцах чувственность подсказывала фигуры, определяла темп, диктовала движения и наклоны танцующих. Они также не более как символическое выражение любви между мужчиной и женщиной. Они только стилизованные формы взаимного ухаживания.Марсилио Фичино

Праздники и торжества
 ак как пляска представляла наиболее благоприятную почву для проявления и удовлетворения чувственности, то она всегда и занимала первое место среди увеселений, которыми отмечались дни веселья.
Если люди хотели веселиться, они приглашали музыканта и он должен был наигрывать пляску. Главный, ежегодно повторявшийся престольный праздник отмечался не только обильной выпивкой и едой, но и беспрерывной общей пляской. Уже за обедом музыканты играли плясовую, и едва обед заканчивался, как парень обхватывал девку, сосед — полную соседку и пары неслись по траве в бешеном вихре. Казалось, никто не может устать, мужчины топали ногами так, что земля гудела, цветные женские юбки развевались в пестрой сутолоке, точно огромное огненное колесо. Так как головы уже были подогреты вином, то скоро воцарялась всеобщая разнузданность. Никто не обращал внимания на то, замечает ли его сосед, мужчины не стеснялись, а женщины смеялись тем веселее, чем крепче прижимали их парни.
Чем выше поднималось настроение, чем бешенее становилась общая сутолока, тем чаще доставлял танец отдельным участникам сладострастные ощущения. То и дело уходили парочки, чтобы снова появиться украдкой, как они и исчезали. За окутанной вечерним сумраком изгородью тайком удовлетворялась жажда любви. и чопорная мещанка была так же снисходительна к своему ухажеру, как благородная дама к разнежившемуся аристократу или широкоплечая батрачка к похотливому батраку.
Когда солнце наконец клонилось к закату, слышалось уже не воркованье и сдавленный смех, а из горла вырывался сладострастный стон и крик. В этой стадии уже нет речи о противодействии. Из ритмической пляска превращается в дикое торжество разнузданности. Уста льнут к устам, и, подобно железным крючьям, впиваются пальцы в пышное тело. Парень уже не тащит девку с собой за изгородь, а бросает ее тут же на землю, чтобы насытить свою дикую похоть.
Так изобразил Рубенс праздник в деревне.
Эта картина воспроизводит действительность не такой, какая она есть на самом деле, но она самая грандиозная и потому самая правдивая символизация чувственной радости, которой отдавалась эпоха Ренессанса в праздничные дни. Вместе с тем и именно поэтому она стала смелым откровением последних тайн страсти, во время пляски текущей огнем по жилам людей. Наряду с престольным важнейшим народным праздником в эпоху Ренессанса, была масленица.
Заметьте — «народным праздником». Это нечто такое, о чем мы ныне не имеем никакого представления. В настоящее время бывают только случаи, когда много народа собирается в одно и то же время в одном и том же месте, пьянствует, орет, скандалит, но такое собрание еще не создает народного праздника. Сущность последнего заключается в том, что народная масса чувствует себя в известные торжественные случаи единой великой семьей.
Чтобы народная масса почувствовала себя единой семьей, необходимо, чтобы общество по крайней мере с внешней стороны представляло нечто однородное, чтобы оно еще не было разъединено классовыми противоречиями. Там, где этот процесс совершился, семейное единство нации раз навсегда перестает существовать, а вместе с тем исчезает и возможность для некоторых праздников стать общенародными. В настоящее время общество уже ни в одном культурном государстве не представляет такого однородного организма и потому общие праздники возможны уже только в рамках отдельных классов.
Эпоха Ренессанса еще знала народные праздники.
Несомненно, классовые противоречия обнаружились уже тогда, но противоположные интересы еще не привели в такой же мере к классовому сознанию. К тому же тогда существовало одно связующее звено — религия, церковь. Этим, равно как и господствующим положением церкви в государстве и общине, объясняется также, почему престольный праздник был тогда главным народным праздником и остался им везде, где церковь продолжала играть эту роль связующего звена, потому что классовые противоречия были не настолько сильно развиты, чтобы разорвать эту связь.
ак как пляска представляла наиболее благоприятную почву для проявления и удовлетворения чувственности, то она всегда и занимала первое место среди увеселений, которыми отмечались дни веселья.
Если люди хотели веселиться, они приглашали музыканта и он должен был наигрывать пляску. Главный, ежегодно повторявшийся престольный праздник отмечался не только обильной выпивкой и едой, но и беспрерывной общей пляской. Уже за обедом музыканты играли плясовую, и едва обед заканчивался, как парень обхватывал девку, сосед — полную соседку и пары неслись по траве в бешеном вихре. Казалось, никто не может устать, мужчины топали ногами так, что земля гудела, цветные женские юбки развевались в пестрой сутолоке, точно огромное огненное колесо. Так как головы уже были подогреты вином, то скоро воцарялась всеобщая разнузданность. Никто не обращал внимания на то, замечает ли его сосед, мужчины не стеснялись, а женщины смеялись тем веселее, чем крепче прижимали их парни.
Чем выше поднималось настроение, чем бешенее становилась общая сутолока, тем чаще доставлял танец отдельным участникам сладострастные ощущения. То и дело уходили парочки, чтобы снова появиться украдкой, как они и исчезали. За окутанной вечерним сумраком изгородью тайком удовлетворялась жажда любви. и чопорная мещанка была так же снисходительна к своему ухажеру, как благородная дама к разнежившемуся аристократу или широкоплечая батрачка к похотливому батраку.
Когда солнце наконец клонилось к закату, слышалось уже не воркованье и сдавленный смех, а из горла вырывался сладострастный стон и крик. В этой стадии уже нет речи о противодействии. Из ритмической пляска превращается в дикое торжество разнузданности. Уста льнут к устам, и, подобно железным крючьям, впиваются пальцы в пышное тело. Парень уже не тащит девку с собой за изгородь, а бросает ее тут же на землю, чтобы насытить свою дикую похоть.
Так изобразил Рубенс праздник в деревне.
Эта картина воспроизводит действительность не такой, какая она есть на самом деле, но она самая грандиозная и потому самая правдивая символизация чувственной радости, которой отдавалась эпоха Ренессанса в праздничные дни. Вместе с тем и именно поэтому она стала смелым откровением последних тайн страсти, во время пляски текущей огнем по жилам людей. Наряду с престольным важнейшим народным праздником в эпоху Ренессанса, была масленица.
Заметьте — «народным праздником». Это нечто такое, о чем мы ныне не имеем никакого представления. В настоящее время бывают только случаи, когда много народа собирается в одно и то же время в одном и том же месте, пьянствует, орет, скандалит, но такое собрание еще не создает народного праздника. Сущность последнего заключается в том, что народная масса чувствует себя в известные торжественные случаи единой великой семьей.
Чтобы народная масса почувствовала себя единой семьей, необходимо, чтобы общество по крайней мере с внешней стороны представляло нечто однородное, чтобы оно еще не было разъединено классовыми противоречиями. Там, где этот процесс совершился, семейное единство нации раз навсегда перестает существовать, а вместе с тем исчезает и возможность для некоторых праздников стать общенародными. В настоящее время общество уже ни в одном культурном государстве не представляет такого однородного организма и потому общие праздники возможны уже только в рамках отдельных классов.
Эпоха Ренессанса еще знала народные праздники.
Несомненно, классовые противоречия обнаружились уже тогда, но противоположные интересы еще не привели в такой же мере к классовому сознанию. К тому же тогда существовало одно связующее звено — религия, церковь. Этим, равно как и господствующим положением церкви в государстве и общине, объясняется также, почему престольный праздник был тогда главным народным праздником и остался им везде, где церковь продолжала играть эту роль связующего звена, потому что классовые противоречия были не настолько сильно развиты, чтобы разорвать эту связь.

Масленичные игры
 аряду с престольным праздником значение крупного народного праздника имела масленица.
Поскольку в нем участвовали взрослые, все здесь было насыщено эротикой: она была главной темой, которую культивировали. Это тем более естественно, что масленица служила, вероятно, продолжением древних сатурналий, т. е., другими словами, была не более как официальным поводом для безудержного торжества чувственности. Нет ничего удивительного поэтому в том, что масленица во многих местностях символизировалась гигантским фаллосом, который несли на шесте впереди процессии. Обычай маскироваться и рядиться давал особый, можно сказать, безграничный простор для этого культа, так как окутывал каждого дымкой безвестности.
С маской на лице, в шутовском костюме мужчины и женщины могли безбоязненно позволять себе всякие смелые выходки, на которые они не отважились бы с открытым лицом. Мужчина мог нашептывать свои признания и желания даме в такой форме, которая даже под маской вгоняла ее в краску стыда. А женщина позволяла себе слова, которые в будни никогда не сорвались бы с ее уст. Дерзкий мог свободно перейти все пределы приличия, так как по законам шутовской свободы снисходительно прощались и самые смелые выходки, а женщина, жаждавшая чего-нибудь необычного, могла поощрять робкого использовать удобный момент. Все это можно было делать и говорить, так как никто не знал другого. Она ведь не знала, что он так цинично провоцировал ее стыдливость, а он не знал, что его смелая выходка так понравилась ей, что она была та, которая позволила ему достигнуть цели всех его желаний.
Ряженье давало возможность еще для целого ряда эксцессов, так как при соблюдении осторожности человек мог не бояться разоблачения и преследования. Можно было исполнить в честь женщины или проститутки серенаду и отомстить ей неузнанным при помощи разных «позорных песен» за полученный от нее отказ, можно было в большой компании посетить «женский дом» и там устроить дебош, можно было на улице запугивать девушек и женщин и насладиться их страхом и т. д.
Все эти обстоятельства, а также в очень значительной степени обычай пользоваться маскарадом для оппозиционно-политических целей рано привели к тому, что городские советы или совсем запрещали публичное ряженье во время масленицы, или же представляли это право только некоторым группам и гильдиям.
Уже в одном постановлении, изданном в 1400 г. в Венеции, говорится: «Никто не имеет права ходить во время карнавала с покрытым лицом». Нечто подобное отмечается и в дневнике одного аугсбургского бюргера: «23 февр. 1561 г. я пошел с ними (перечисляются имена знакомых) под маской на карнавал ночью. Публичное ряженье было запрещено, и потому мы отправились с двумя музыкантами в разные заведения, где нас приняли благосклонно, мы плясали и скакали, как телята, так как там были belle figlie (красивые девушки), которые нам весьма понравились».
Как видно, intra muros (внутри стен) можно было по-прежнему безумствовать и оказывать принцу-карнавалу почести. Необходимо подчеркнуть, что таковы были карнавальные нравы не только низших слоев народа, до подобных развлечений в дни маскарада были одинаково падки патриции, дворяне и придворные. В этих кругах люди были только требовательнее, не так легко удовлетворялись, отличались большей изощренностью[190].
Об одном празднике, устроенном в 1389 г при французском дворе в связи с турниром, свидетель сообщает:
«Ночью все надевали маски и позволяли себе такие выходки, которые скорее достойны скоморохов, чем таких знатных особ. Этот вредный обычай превращать ночь в день и наоборот вместе со свободой безмерно есть и пить привели к тому, что люди вели себя так, как не следовало вести себя в присутствии короля и в таком священном месте, как то, где он во время похода держал свой двор. Каждый старался удовлетворить свою страсть, и все будет сказано, если мы упомянем, что права многих мужей были нарушены легкомысленным поведением их жен, а многие незамужние дамы совершенно забыли всякий стыд».
аряду с престольным праздником значение крупного народного праздника имела масленица.
Поскольку в нем участвовали взрослые, все здесь было насыщено эротикой: она была главной темой, которую культивировали. Это тем более естественно, что масленица служила, вероятно, продолжением древних сатурналий, т. е., другими словами, была не более как официальным поводом для безудержного торжества чувственности. Нет ничего удивительного поэтому в том, что масленица во многих местностях символизировалась гигантским фаллосом, который несли на шесте впереди процессии. Обычай маскироваться и рядиться давал особый, можно сказать, безграничный простор для этого культа, так как окутывал каждого дымкой безвестности.
С маской на лице, в шутовском костюме мужчины и женщины могли безбоязненно позволять себе всякие смелые выходки, на которые они не отважились бы с открытым лицом. Мужчина мог нашептывать свои признания и желания даме в такой форме, которая даже под маской вгоняла ее в краску стыда. А женщина позволяла себе слова, которые в будни никогда не сорвались бы с ее уст. Дерзкий мог свободно перейти все пределы приличия, так как по законам шутовской свободы снисходительно прощались и самые смелые выходки, а женщина, жаждавшая чего-нибудь необычного, могла поощрять робкого использовать удобный момент. Все это можно было делать и говорить, так как никто не знал другого. Она ведь не знала, что он так цинично провоцировал ее стыдливость, а он не знал, что его смелая выходка так понравилась ей, что она была та, которая позволила ему достигнуть цели всех его желаний.
Ряженье давало возможность еще для целого ряда эксцессов, так как при соблюдении осторожности человек мог не бояться разоблачения и преследования. Можно было исполнить в честь женщины или проститутки серенаду и отомстить ей неузнанным при помощи разных «позорных песен» за полученный от нее отказ, можно было в большой компании посетить «женский дом» и там устроить дебош, можно было на улице запугивать девушек и женщин и насладиться их страхом и т. д.
Все эти обстоятельства, а также в очень значительной степени обычай пользоваться маскарадом для оппозиционно-политических целей рано привели к тому, что городские советы или совсем запрещали публичное ряженье во время масленицы, или же представляли это право только некоторым группам и гильдиям.
Уже в одном постановлении, изданном в 1400 г. в Венеции, говорится: «Никто не имеет права ходить во время карнавала с покрытым лицом». Нечто подобное отмечается и в дневнике одного аугсбургского бюргера: «23 февр. 1561 г. я пошел с ними (перечисляются имена знакомых) под маской на карнавал ночью. Публичное ряженье было запрещено, и потому мы отправились с двумя музыкантами в разные заведения, где нас приняли благосклонно, мы плясали и скакали, как телята, так как там были belle figlie (красивые девушки), которые нам весьма понравились».
Как видно, intra muros (внутри стен) можно было по-прежнему безумствовать и оказывать принцу-карнавалу почести. Необходимо подчеркнуть, что таковы были карнавальные нравы не только низших слоев народа, до подобных развлечений в дни маскарада были одинаково падки патриции, дворяне и придворные. В этих кругах люди были только требовательнее, не так легко удовлетворялись, отличались большей изощренностью[190].
Об одном празднике, устроенном в 1389 г при французском дворе в связи с турниром, свидетель сообщает:
«Ночью все надевали маски и позволяли себе такие выходки, которые скорее достойны скоморохов, чем таких знатных особ. Этот вредный обычай превращать ночь в день и наоборот вместе со свободой безмерно есть и пить привели к тому, что люди вели себя так, как не следовало вести себя в присутствии короля и в таком священном месте, как то, где он во время похода держал свой двор. Каждый старался удовлетворить свою страсть, и все будет сказано, если мы упомянем, что права многих мужей были нарушены легкомысленным поведением их жен, а многие незамужние дамы совершенно забыли всякий стыд».

Г. Гольциус. Оргия
Вероятно, чтобы не нарушить общего единодушия, королева также не противилась принципу «каждая для каждого», как нам известно из другого документа. О карнавале 1639 г. сообщается, что герцогиня Мединская устроила маскарад, на котором фигурировала с двадцатью тремя красивейшими дамами в костюмах амазонок, и притом такого мифологического покроя, что этот праздник наготы вызвал целый ряд скандалов. Упомянутые выше игры борьбы между обнаженными куртизанками и крепкими лакеями, бывшие в ходу при дворе Папы Александра VI, были также карнавальной шуткой. С масленицей был связан ряд обычаев, безусловно, эротического характера. Упомянем лишь об обычае «соления девственности» или об обычае «паханья плугом и бороной». В одном описании последнего обычая говорится: «Молодые мужчины собирают всех девушек, участвовавших в продолжение года в танцах, впрягают их вместо лошадей в плуг, на котором сидит музыкант, и гонят всех в реку или пруд». Эти слова только описывают обычай, не объясняя его тайного смысла. На самом деле он служил средством высмеять в юмористической форме тех девушек, о которых было достоверно известно, что они весьма мечтали выйти замуж, но остались без женихов. В одной масленичной пьесе об этом говорится очень ясно: «Все девушки, оставшиеся без мужей, впрягаются в плуг или в борону и обязаны их тащить за собой…» Эротический смысл этого обычая нетрудно вскрыть, если вникнуть в символику, которой он обставлен. «Плуг» и «борона» служили как в средние века, так и в эпоху Возрождения (как некогда и в Древнем мире) символами мужской силы, тогда как недра земли, которые ими вспахиваются, считаются символами женского плодородия. Этим обычаем хотели сказать, что девушки тщетно искали пахаря, который вспахал бы их пашню любви, и потому их и гнали под град насмешек в воду, ибо воду нельзя распахать. В Англии этот обычай был приурочен к понедельнику, после Богоявления (Plough Monday). Другой нами упомянутый обычай имел точно такой же смысл. Искусство также наглядно доказывает эротический характер карнавала. Достаточно указать на великолепный рисунок Питера Брейгеля «Масленичные игры». Нетрудно понять, что мужчина, поднимающий здесь самострел со стрелой, украшенной перьями, и женщина, предлагающая ему как цель кольцо, через которое должна пролететь стрела, — это две фигуры, символизирующие эротический момент. Поистине классическим доказательством того, что карнавал был не чем иным, как христианскими сатурналиями, в которых главную роль играл эротический элемент, доведенный до фаллической скабрезности, являются, однако, масленичные пьесы. Большинство из них вращается исключительно вокруг эротики, и все ее стороны подробнейшим образом воспроизводятся в них. Так как мы привели уже достаточно примеров в других местах нашей книги, то мы можем ими ограничиться. Огромная ценность этого литературного жанра состоит в том, что пьесы, хотя и под покровом насмешки, сообщают нам значительную часть важнейших сведений о всех сторонах частных и общественных нравов эпохи Ренессанса. Правда, делается это обыкновенно с такой архисмелой грубостью, что если бы привести здесь некоторые, более характерные пьесы, то волосы стали бы дыбом не только у филистера.
Мистерии и театр
 связи с масленичными пьесами необходимо сказать несколько слов и о театре. Масленичные пьесы, хотя и не были основой театра, все же являлись одним из его главных источников. Они воплощают всегда веселый жанр — комедию и фарс. Элемент серьезный и трагический в свою очередь обретал свое выражение в мистериях. В этих зрелищах, не только находившихся под покровительством церкви, но и обыкновенно устраивавшихся ею, эротика играла также важную роль. Достаточно упомянуть, что, например, мотив непорочного зачатия трактовался в них с невероятной грубостью. Это справедливо главным образом относительно французских мистерий. В одной такой мистерии Дева Мария помогает в последнюю минуту забеременевшей от духовника игуменье выйти из фатального положения, а когда одна дерзкая женщина хочет удостовериться, правда ли Она дева непорочная, то Она лишает ее руки. Известно, какие смелые эротические мотивы и ситуации встречаются в драмах Гросвиты из монастыря Гандерсхейма: сцены массового совращения и изнасилования женщин, случаи инцеста и т. д.
При таких условиях неудивительно, что в светских драмах и комедиях эротике отводилось также весьма большое место. Такие произведения, как «Calandro» кардинала Биббиены или «Mandragora» Макиавелли, были не исключениями, а органическими частями общей картины эпохи. А если эти пьесы вызвали особенную сенсацию, то не только своим откровенным изображением дерзко-комического мотива о муже, который сам сводит свою противящуюся жену с любовником и напрягает все силы красноречия, чтобы убедить ее отдаться ему, а в гораздо большей степени своими художественными достоинствами и культурно-историческим значением.
Чем более торжествовал абсолютизм, чем более светский характер принимал театр, становясь все более главным средством публичных увеселений, тем больше проникался он порнографией. И не борьба против порнографии, а ее прославление становилось главным мотивом и целью театра. Это одинаково справедливо по отношению к Италии, Франции и Англии. Везде театр был как ареной самого разнузданного сладострастия, так и официальным случаем дать восторжествовать бесстыдству и провозгласить это торжество как наиболее достойную цель.
связи с масленичными пьесами необходимо сказать несколько слов и о театре. Масленичные пьесы, хотя и не были основой театра, все же являлись одним из его главных источников. Они воплощают всегда веселый жанр — комедию и фарс. Элемент серьезный и трагический в свою очередь обретал свое выражение в мистериях. В этих зрелищах, не только находившихся под покровительством церкви, но и обыкновенно устраивавшихся ею, эротика играла также важную роль. Достаточно упомянуть, что, например, мотив непорочного зачатия трактовался в них с невероятной грубостью. Это справедливо главным образом относительно французских мистерий. В одной такой мистерии Дева Мария помогает в последнюю минуту забеременевшей от духовника игуменье выйти из фатального положения, а когда одна дерзкая женщина хочет удостовериться, правда ли Она дева непорочная, то Она лишает ее руки. Известно, какие смелые эротические мотивы и ситуации встречаются в драмах Гросвиты из монастыря Гандерсхейма: сцены массового совращения и изнасилования женщин, случаи инцеста и т. д.
При таких условиях неудивительно, что в светских драмах и комедиях эротике отводилось также весьма большое место. Такие произведения, как «Calandro» кардинала Биббиены или «Mandragora» Макиавелли, были не исключениями, а органическими частями общей картины эпохи. А если эти пьесы вызвали особенную сенсацию, то не только своим откровенным изображением дерзко-комического мотива о муже, который сам сводит свою противящуюся жену с любовником и напрягает все силы красноречия, чтобы убедить ее отдаться ему, а в гораздо большей степени своими художественными достоинствами и культурно-историческим значением.
Чем более торжествовал абсолютизм, чем более светский характер принимал театр, становясь все более главным средством публичных увеселений, тем больше проникался он порнографией. И не борьба против порнографии, а ее прославление становилось главным мотивом и целью театра. Это одинаково справедливо по отношению к Италии, Франции и Англии. Везде театр был как ареной самого разнузданного сладострастия, так и официальным случаем дать восторжествовать бесстыдству и провозгласить это торжество как наиболее достойную цель.

М. Трей. Крестьянская пляска
Свадьбы и свадебные обряды
 очень широких кругах распространено мнение, будто Ренессанс был веком беспрерывной праздничной радости, будто один праздничный день сменялся другим.
Нет спору, в некоторых городах жизнь носила в самом деле такой праздничный характер, народные празднества сменялись длинной вереницей рыцарских турниров, шествий, княжеских посещений, выездов и т. д. Но это имело место только в некоторых городах. Это справедливо разве только по отношению к Италии, а здесь — относительно Венеции, Флоренции, Рима и некоторых других городов, о них можно было в самом деле сказать, что они никогда не скидывали с себя праздничного облачения.
Однако было бы глубоко неверно обобщить это явление. Праздничное настроение ограничивалось теми немногими городами, где огромные богатства соединялись с необходимостью пышного представительства и где, кроме того, ввиду их географического положения, проезды князей были явлением неизбежным.
В таких городах, как Нюрнберг, Аугсбург, Ульм, Базель, Страсбург — ограничимся только немецкими, — также игравшими немалую роль в эпоху Ренессанса, праздничные дни были, напротив, положительно исключениями.
Еще в большей степени это нужно сказать о городах, лежавших в стороне от больших дорог всемирной торговли, и о деревнях. Во всех этих местах уже одно появление странствующих актеров со слонами, медведями или львами или фокусников составляло событие огромной важности.
Вот почему вошло в моду превращать семейные торжества, особенно крестины и свадьбы в домах богатых бюргеров, в общие праздники, в которых участвовали все знакомые, друзья и все родичи до седьмого колена. Вот почему далее такие семейные торжества длились часто несколько дней, даже недель. Если тогда главная суть всех праздников состояла в еде и выпивке — в деревне свадьба была часто не более как продолжавшимся целый день обжорством и пьянством, — то значительное место было отведено также и утехам Венеры, так как в празднике, как мы знаем, всегда участвовали и проститутки.
Если, с другой стороны, главное удовольствие состояло именно в чрезмерной еде и выпивке, то тот же принцип прилагался и к культу Венеры. В интеллектуальных развлечениях и в беседе царила бесконтрольно скабрезность. Чем скабрезнее была острота или выходка, тем в больший восторг приводила она и знать и чернь. На свадьбах эротические остроты были, естественно, особенно в ходу. Самая цель праздника представляла постоянный повод для них, а царившая на почетном троне молодая пара служила естественной мишенью. Поэтому не только вся беседа во время свадебного пира, не только остроты, раздававшиеся со всех сторон, но и официальные духовные развлечения, праздничные игры, представления и зрелища, устраивавшиеся в честь молодых, — все было насыщено самой грубой эротикой.
Так называемые «свадебные супы», как назывались свадебные афоризмы и песни, которые сочинялись и произносились в честь молодой четы, все без исключения отличались скабрезностью. В них в очень ясных выражениях говорилось о том, что более всего интересовало жениха в невесте, описывались подробнейшим образом физические достоинства как его, так и ее. О драматических сценах, которые обыкновенно ставились в дни свадеб, К. Вейнгольд говорит в своей книге о немецкой женщине: «Все те, которые я видел, дышат тем же настроением, как и свадебные песни, и говорят самые дерзкие вещи невесте прямо в лицо. Однако подобная скабрезность была тогда обычным явлением».
На каждой свадьбе непременно бывал присяжный остряк, увеселявший гостей своими скабрезными, шутками. Один хронист говорит: «Редко бывает пир, на котором не было бы дерзкого скомороха или остряка». Слово «дерзкий» употреблено здесь не в смысле порицания, а просто для характеристики. Господствовавший на свадьбах обычай бросать орехи в толпу — пир часто происходил на виду у всех — имел, по-видимому, единственной своей целью отвлечь ее внимание от гостей, чтобы дать им возможность не стесняться в своих циничных словах и действиях.
очень широких кругах распространено мнение, будто Ренессанс был веком беспрерывной праздничной радости, будто один праздничный день сменялся другим.
Нет спору, в некоторых городах жизнь носила в самом деле такой праздничный характер, народные празднества сменялись длинной вереницей рыцарских турниров, шествий, княжеских посещений, выездов и т. д. Но это имело место только в некоторых городах. Это справедливо разве только по отношению к Италии, а здесь — относительно Венеции, Флоренции, Рима и некоторых других городов, о них можно было в самом деле сказать, что они никогда не скидывали с себя праздничного облачения.
Однако было бы глубоко неверно обобщить это явление. Праздничное настроение ограничивалось теми немногими городами, где огромные богатства соединялись с необходимостью пышного представительства и где, кроме того, ввиду их географического положения, проезды князей были явлением неизбежным.
В таких городах, как Нюрнберг, Аугсбург, Ульм, Базель, Страсбург — ограничимся только немецкими, — также игравшими немалую роль в эпоху Ренессанса, праздничные дни были, напротив, положительно исключениями.
Еще в большей степени это нужно сказать о городах, лежавших в стороне от больших дорог всемирной торговли, и о деревнях. Во всех этих местах уже одно появление странствующих актеров со слонами, медведями или львами или фокусников составляло событие огромной важности.
Вот почему вошло в моду превращать семейные торжества, особенно крестины и свадьбы в домах богатых бюргеров, в общие праздники, в которых участвовали все знакомые, друзья и все родичи до седьмого колена. Вот почему далее такие семейные торжества длились часто несколько дней, даже недель. Если тогда главная суть всех праздников состояла в еде и выпивке — в деревне свадьба была часто не более как продолжавшимся целый день обжорством и пьянством, — то значительное место было отведено также и утехам Венеры, так как в празднике, как мы знаем, всегда участвовали и проститутки.
Если, с другой стороны, главное удовольствие состояло именно в чрезмерной еде и выпивке, то тот же принцип прилагался и к культу Венеры. В интеллектуальных развлечениях и в беседе царила бесконтрольно скабрезность. Чем скабрезнее была острота или выходка, тем в больший восторг приводила она и знать и чернь. На свадьбах эротические остроты были, естественно, особенно в ходу. Самая цель праздника представляла постоянный повод для них, а царившая на почетном троне молодая пара служила естественной мишенью. Поэтому не только вся беседа во время свадебного пира, не только остроты, раздававшиеся со всех сторон, но и официальные духовные развлечения, праздничные игры, представления и зрелища, устраивавшиеся в честь молодых, — все было насыщено самой грубой эротикой.
Так называемые «свадебные супы», как назывались свадебные афоризмы и песни, которые сочинялись и произносились в честь молодой четы, все без исключения отличались скабрезностью. В них в очень ясных выражениях говорилось о том, что более всего интересовало жениха в невесте, описывались подробнейшим образом физические достоинства как его, так и ее. О драматических сценах, которые обыкновенно ставились в дни свадеб, К. Вейнгольд говорит в своей книге о немецкой женщине: «Все те, которые я видел, дышат тем же настроением, как и свадебные песни, и говорят самые дерзкие вещи невесте прямо в лицо. Однако подобная скабрезность была тогда обычным явлением».
На каждой свадьбе непременно бывал присяжный остряк, увеселявший гостей своими скабрезными, шутками. Один хронист говорит: «Редко бывает пир, на котором не было бы дерзкого скомороха или остряка». Слово «дерзкий» употреблено здесь не в смысле порицания, а просто для характеристики. Господствовавший на свадьбах обычай бросать орехи в толпу — пир часто происходил на виду у всех — имел, по-видимому, единственной своей целью отвлечь ее внимание от гостей, чтобы дать им возможность не стесняться в своих циничных словах и действиях.
Кто женский пол чрезмерно любит,
В себе живую душу губит:
Как Богу Богово воздать,
Коль слишком дамам угождать?
Себастьян Брант

Фрагменты
Фрагмент 53. Джованни Боккаччо. «Декамерон»
«День III. Новелла VI Риччардо Минутоло любит жену Филиппелло Фигинольфи; узнав, что она ревнива, он, рассказав ей, что Филиппелло на следующий день назначил свидание в бане его жене, устраивает так, что сама дама отправляется туда и, воображая, что была с мужем, узнает, что отдалась Риччардо. …В Неаполе, городе очень древнем и, может быть, столь приятном, и даже более, чем всякий другой город Италии, жил некогда один молодой человек, славный благородством своего происхождения, блиставший своими богатствами, по имени Риччардо Минутоло, который, хотя жена у него была молодая, очень красивая и милая, влюбился в другую, по общему мнению, далеко превосходившую красотой всех неаполитанских дам, по имени Кателла, жену другого столь же родовитого юноши, по имени Филиппелло Фигинольфи, которого она, женщина честнейшая, любила и лелеяла. Итак, Риччардо Минутоло, любя эту Кателлу и делая все то, чем приобретается благосклонность и любовь дамы, и, несмотря на это, не достигая ни в чем удовлетворения своих желаний, почти пришел в отчаяние; и, не умея или не будучи в силах отрешиться от своей любви, он и умереть не умел, и жизнь его не радовала. Когда он находился в таком настроении духа, случилось однажды, что некоторые дамы, его родственницы, стали настоятельно убеждать его отделаться от подобной любви, потому что это труд напрасный, ибо для Кателлы нет другого блага, кроме Филиппелло, которого она до такой степени ревнует, что боится всякой птички, летающей в воздухе, как бы она не отняла его у нее. Риччардо, услышав о ревности Кателлы, тотчас же сообразил, как ему достигнуть своих желаний, начал притворяться, что он отчаялся в любви Кателлы и потому перенес ее на другую благородную даму, и стал показывать, что из любви к ней он устраивает бои и турниры и все то, что он имел обыкновение делать для Кателлы. Немного времени спустя почти все неаполитанцы, а также и Кателла пришли к тому мнению, что он любит страстно уже не Кателлу, а эту другую даму; и он так долго это выдержал и так твердо в этом были убеждены все, что не только другие, но и Кателла оставила холодность, с которой относилась к нему из-за любви, которую он прежде изъявлял ей, и дружески, как соседу, кланялась ему, уходя и приходя, как то делала с другими. Случилось однажды в жаркую пору, что много дам и мужчин, но обычаю неаполитанцев, отправились обществом погулять на берег моря, пообедать там или поужинать. Риччардо, зная, что Кателла отправилась туда со своим обществом, тоже пошел со своим, и был приглашен в кружок Кателлы и ее дам, заставив наперед долго просить себя, как будто у него не было особенного желания быть там. Здесь дамы, а с ними и Кателла, стали шутить над ним по поводу его новой любви, он же, показывая себя сильно влюбленным, давал им тем больший повод к разговорам. Через некоторое время, когда дамы разошлись, как то обыкновенно там бывает, а Кателла с немногими оставалась там, где был и Риччардо, он, шутя, бросил ей слово об одной страстишке ее мужа Филиппелло, от чего она внезапно вошла в ревность и вся возгорелась желанием узнать, что хотел сказать Риччардо. Некоторое время она сдерживалась, но, не будучи более в состоянии сдержать себя, попросила Риччардо, ради его страсти к даме, которую он всего более любит, сделать ей одолжение, разъяснив, что такое он говорил о Филиппелло. Риччардо сказал ей: «Вы закляли меня именем такой особы, что я не смею не сделать, о чем вы меня просите, поэтому я готов вам сказать, но лишь при условии, что вы мне пообещаете никогда не говорить об этом ни ему, ни другим, пока не увидите на деле, что то, что я вам расскажу, правда; ибо, если вам угодно, я научу вас, как вам это увидеть». Дама согласилась на то, что он требовал, тем более уверившись, что это правда, и поклялась не говорить о том. Итак, отойдя в сторону, дабы никто не мог их услышать, Риччардо начал говорить так: «Мадонна, если бы я вас любил, как любил когда-то, у меня не стало бы духу сказать вам что-либо, что причинило бы вам досаду, но так как эта любовь прошла, то я с меньшим стеснением открою вам всю истину. Я не знаю, оскорблялся ли когда Филиппелло, что я питал к вам любовь, и полагал ли он, что я был любим вами; так или иначе, мне лично он ничего такого не показывал. Теперь же, быть может, выждав время, когда, по его мнению, у меня всего менее подозрений, он, кажется, желает сделать мне то, чего, полагаю, он боялся, чтобы я не учинил ему, то есть хочет склонить к своему желанию мою жену; насколько мне известно, он с недавнего времени тайно осаждает ее многочисленными посланиями, о чем я от нее узнал, и она отвечала ему, как я ей наказал. Но еще сегодня утром, прежде чем мне отправиться сюда, я застал дома у моей жены, в тесной с нею беседе, одну женщину, которую тотчас же признал за то, чем она и была, почему я позвал жену и спросил, чего та желает. Жена мне сказала: "Это — досаждение от Филиппелло, которое ты взвалил мне на плечи, когда приказал ответить ему и его обнадежить; он говорит, что желает знать откровенно, как я намерена поступить, а он, коли я пожелаю, устроит так, чтобы я могла тайно сойтись с ним в одной городской бане; об этом он меня просит и досаждает, и, если бы ты не заставил меня, не понимаю для чего, войти с ним в эти переговоры, я так бы отделалась от него, что он никогда бы более не глазел, где я". Тут мне показалось, что он зашел слишком далеко, что не следует больше терпеть, и надо сказать вам, дабы вы знали, какой награды заслужила ваша непреклонная верность, ради которой я был когда-то близок к смерти. А дабы вы не думали, что все это слова и басни, и могли бы, если явится у вас желание, все это увидеть и осязать, я приказал моей жене дать ожидавшей женщине такой ответ, что она готова быть в той бане около девятого часа, когда все спят, после чего та, очень довольная, удалилась. Вы, я думаю, не поверите, что я пошлю туда мою жену, но, если бы я был на вашем месте, я сделал бы так, что он принял бы меня за ту, которую ожидал там встретить, и, после того как я провел бы с ним некоторое время, я бы показал ему, с кем он был, и взгрел его так, как ему подобает; поступив таким образом, я полагаю, вы так бы пристыдили его, что оскорбление, которое он хочет нанести вам и мне, было бы разом отомщено». Кателла, слушая это и, по обычаю ревнивых, не обращая никакого внимания ни на то, кто это ей говорит, ни на его коварство, тотчас же поверив его словам, принялась сопоставлять с этим случаем разные другие, бывшие прежде, и, внезапно воспламенясь гневом, отвечала, что она непременно это сделает, что сделать это ей будет не так уж тягостно и что, если он придет, она наверно так пристыдит его, что всякий раз, как он увидит потом женщину, ему будет приходить это в голову. Риччардо, довольный этим и видя, что его затея хороша и удается, многими другими речами утвердил ее в ее намерении и упрочил уверенность, прося тем не менее не говорить никогда, что она это узнала от него, что она и пообещала ему своей честью. На следующее утро Риччардо отправился к одной досужей женщине, державшей баню, о которой он говорил Кателле; он рассказал ей, что намерен сделать, и просил быть в этом случае, насколько может, ему помощницей. Женщина, будучи ему очень обязанной, сказала, что охотно это исполнит, и условилась с ним, что ей говорить и делать. В доме, где находились бани, была одна очень темная комната, так как в нее не выходило ни одного окна, через которое мог бы проникать свет; согласно наставлению Риччардо, женщина устроила ее и поставила в ней постель, какую могла лучше, в которую Риччардо и лег, поужинав, и стал ожидать Кателлу. Дама, выслушав слова Риччардо и придав им более веры, чем то было нужно, полная негодования возвратилась вечером к себе, где случайноФилиппелло, занятый другими мыслями, не оказал ей, быть может, такого дружеского приема, с каким обыкновенно он ее встречал. Видя это, она стала подозревать его еще больше прежнего, говоря про себя: «Действительно, у него в мыслях та дама, с которой завтра он думает найти удовольствие и наслаждение; но этому наверно не бывать». С этой мыслью, раздумывая, что она ему скажет, когда пробудет с ним, она провела почти всю ночь. Сказывать ли далее? Когда настал девятый час, Кателла, взяв с собой свою служанку и не изменяя ни в чем своему намерению, отправилась в те бани, какие указал ей Риччардо; там, найдя ту женщину, она спросила, не приходил ли сюда сегодня Филиппелло? На это женщина, наученная Риччардо, сказала: «Не вы ли дама, которая должна прийти, чтобы поговорить с ним?» Кателла ответила: «Да, я самая». — «В таком случае, — сказала женщина, — пожалуйте к нему». Кателла, искавшая, чего не желала бы найти, велев отвести себя в комнату, где находился Риччардо, вошла туда с покрытой головой и заперла за собою дверь. Риччардо, видя, что она вошла, с радостью встал и, приняв ее в свои объятия, тихо сказал: «Добро пожаловать, душа моя!» Кателла, чтобы лучше притвориться не тою, кем была, обняла его и поцеловала и очень обласкала, не произнеся ни слова, из боязни быть им узнанной, если заговорит. Комната была очень темна, чем каждый из них был доволен; даже от долгого пребывания в ней глаза не приглядывались ни к чему. Риччардо повел ее на ложе, и там, ничего не говоря, дабы голоса нельзя было распознать, они долго оставались к большему удовольствию и утехе одной, чем другой стороны. Но когда Кателле показалось, что настало время выразить затаенное негодование, она, разгоряченная пылким гневом, начала говорить так: «Увы, как несчастна судьба женщин и как дурно расточают многие из них свою любовь к мужьям! Вот я, несчастная, уже восемь лет как люблю тебя больше жизни, а ты, как вижу, весь сгораешь и томишься любовью к посторонней женщине, преступный ты злодей! С кем, думаешь, провел ты время? С тою, которую благодаря лживым ласкам ты так долго обманывал, показывая ей любовь, но будучи влюблен в другую. Я — Кателла, а не жена Риччардо, бесчестный ты изменник! Прислушайся, не узнаешь ли ты мой голос? Ведь это я; тысячелетием кажется мне время, отделяющее нас от света, чтобы мне можно было пристыдить тебя, как ты того заслуживаешь, грязный ты, подлый пес! Увы, бедная я, к кому в течение стольких лет я питала такую любовь? К этому мерзкому псу, который, полагая, что держит в объятиях другую женщину, оказал мне более ласки и любви в столь короткий срок, проведенный мною с ним, чем во все остальное время, как я ему принадлежала. Ты сегодня очень был силен, поганый ты пес, а дома оказываешься обыкновенно таким вялым и бессильным! Но, хвала Богу, ты обработал свое поле, не чужое, как ты предполагал. Я не удивляюсь, что в эту ночь ты не приближался ко мне. Ты намеревался свалить тяжесть на стороне, и тебе хотелось явиться свежим всадником на поле битвы. Но, благодарение Богу и моей предусмотрительности, вода все же пошла по течению, как и надлежало. Почему же не отвечаешь ты, преступный человек? Почему не скажешь чего-нибудь? Или ты онемел, слушая меня? Ей-богу, не знаю, что удерживает меня всадить мои ногти в твои глаза и вырвать их. Ты рассчитывал очень скрытно устроить эту измену; но, слава Богу, что знает один, узнает и другой; тебе это не удалось: я послала по твоим следам лучших собак, чем ты думал». Риччардо радовался про себя этим словам и, ничего не отвечая, обнимал ее, целовал и расточал ласки пуще прежнего. Поэтому она продолжала речь, говоря: «Да, теперь ты думаешь задобрить меня твоими притворными ласками, постылый ты пес, успокоить и утешить меня, но ты ошибаешься. Я никогда не утешусь этим, пока не опозорю тебя в присутствии всех наших родственников и друзей, какие только есть. Но разве, злой ты человек, я не так же красива, как жена Риччардо Минутоло? Не такая же благородная? Отчего ты не отвечаешь, грязный ты пес? Чего у нее больше, чем у меня? Убирайся, не трогай меня, ведь ты уж слишком много поратовал. Я хорошо знаю, что теперь, когда тебе известно, кто я, ты принялся бы делать насильно то, что делал; но по милости Божией я еще заставлю тебя попоститься. Не понимаю, почему мне не послать за Риччардо, который любил меня больше самого себя и не мог похвалиться, чтобы я хотя бы раз на него взглянула; а какое было бы от того зло, если б я так поступила? Ты думал иметь здесь дело с его женой, и, кабы имел ее, не за тобой стало бы дело; потому, если бы он стал моим, у тебя не было бы основания осуждать меня». Много было еще речей и упреков со стороны дамы; однако же наконец Риччардо, сообразив, что если он дозволит ей удалиться в этом убеждении, то может произойти много зла, решил объявиться и вывести ее из заблуждения, в каком она находилась; обняв ее и обвив ее так, что она не могла уйти, он сказал: «Душа моя, не гневайтесь; чего я, любя вас, попросту не мог получить, то научил меня добыть обманом Амур; я — ваш Риччардо». Услышав это и узнав голос, Кателла хотела мгновенно вскочить с постели, но не могла; поэтому она собралась закричать, но Риччардо, закрыв ей рот рукою, сказал: «Мадонна, теперь уже нельзя устроить так, чтобы не было того, что совершилось, хотя бы вы кричали всю вашу жизнь, если же вы закричите или сделаете как-нибудь так, что о том кто-нибудь где-нибудь узнает, то могут произойти два последствия. Во-первых — и это не может не интересовать вас, — ваша честь и ваша добрая слава будут испорчены, потому что, если бы вы и стали говорить, что я завлек вас сюда обманом, я скажу, что это неправда и что, напротив, я побудил вас прийти сюда, обещая дать денег и подарок, а вы, не получив вполне, как надеялись, рассердились и завели эти пререкания и шум. А вы знаете, что люди более склонны верить дурному, чем хорошему; поэтому мне поверят не менее, чем вам. После этого между вашим мужем и мною возникнет смертельная вражда, и может так случиться, что или я его убью, или он меня, от чего вам не будет потом ни веселья, ни удовлетворения. Поэтому, сердце мое, откажитесь от намерения в одно и то же время и себя опозорить, и вовлечь в опасность и ссору вашего мужа и меня. Вы не первая, которая была обманута, и не будете последней, я же обманул вас не с тем, чтобы отнять у вас то, что вам принадлежит, а вследствие избытка любви, какую я питаю к вам и склонен питать всегда, оставаясь вашим нижайшим слугою. И так как я сам, и все мое, и все, что я смогу и чего стою, уже давно было вашим и к вашим услугам, я хочу, чтобы с этого времени и впредь все это было еще более таковым. Вы, рассудительная во всем, будете, я уверен, такою же и в этом случае». Пока Риччардо держал эту речь, Кателла сильно плакала, и, хотя была очень разгневана и распространялась в упреках, тем не менее рассудок указывал ей справедливость слов Риччардо, и она поняла, что может приключиться все то, о чем он ей говорил; поэтому она сказала: «Риччардо, не знаю, даст ли мне Бог силу перенести нанесенное мне тобою оскорбление и обман. Я не хочу кричать здесь, куда привели меня моя простота и излишняя ревность; но, будь уверен, я никогда не буду довольна, если не увижу себя тем или другим способом отомщенной за то, что ты со мною сделал; поэтому отпусти меня, не удерживай больше; ты добился того, чего желал, и получил от меня сколько тебе было угодно; пора меня оставить; оставь меня, прошу тебя об этом». Видя, что она еще сильно разгневана, Риччардо решил сам с собою не отпускать ее до тех пор, пока она не помирится с ним; поэтому он начал умилостивлять ее нежнейшими словами, и так говорил, так просил, так заклинал, что она, побежденная, помирилась с ним, и они с обоюдного согласия остались вместе довольно долго в величайшем удовольствии. Познав тогда, насколько поцелуи любовника слаще поцелуев мужа, дама, сменив свою строгость к Риччардо на нежную любовь, любила его с этого дня очень нежно; действуя с большой осторожностью, они часто наслаждались своею любовью. Да пошлет Господь и нам наслаждаться нашей». Перевод А. Н. Веселовского. (Цитируется по изданию: Джованни Боккаччо. Декамерон. М., 1999.)Фрагмент 54. Брантом. «Галантные дамы»
«…Мне довелось читать в одной испанской книге, озаглавленной «Еl viage del Principe», о путешествии, совершенном королем испанским в Нидерланды во времена правления отца его, императора Карла. Там рассказано, что среди прочих пышных приемов, которые устраивали для него тамошние изобильные и богатые города, особо отличилось празднество королевы венгерской, жившей в городе Бен, после какового празднества сложена была даже поговорка: «Mas brava que las fiestas de Bains».[191] Королева венгерская придумала представить и разыграть осаду замка со всеми положенными военными маневрами (случай сей был уже мною описан в другой книге), и вот во время этой осады устроила она, среди прочих роскошеств, праздник, по великолепию доселе невиданный, в честь императора, своего зятя, в честь сестры своей, королевы Элеоноры, в честь короля, своего племянника, а также для всех сеньоров и придворных кавалеров с дамами. В конце праздника пред гостями явилась дама со свитою из шести нимф холмов и гор, представлявшая богиню-девственницу охоты; все семь дам были облачены в античные одежды из серебристо-зеленого полотна, у всех семерых в волосах мерцал лунным светом алмазный полумесяц; они несли луки со стрелами и богатые колчаны за плечами, а сандалии их, также из серебристого полотна, столь изящно облегали ножки, что и описать невозможно. Вот такими и вошли они в зал, ведя собак на сворках, и приветствовали императора, разложив пред ним на столах всякого рода дичь, якобы добытую ими на охоте. Вслед за ними явилась богиня Палее, покровительница пастухов, в сопровождении шести нимф зеленых долин, одетых в серебристо-белое полотно, с такими же головными покрывалами, усыпанными жемчугом, и в серебристо-белых сандалиях; они несли молоко и сыры и также поставили все это перед императором. В третий выход настал черед богини Помоны с нимфами и дриадами, несущими плоды. Помоною была одета дочь графини Атремонтской, доньи Беатрисы Пачеко, фрейлины королевы Элеоноры; девочке было тогда не более девяти лет. Ныне она зовется госпожой адмиральшею де Шатильон, ибо адмирал женился на ней вторым браком; так вот, эта девочка-богиня преподнесла императору множество самых сочных и изысканных фруктов, какие только произрастают на земле, и, невзирая на юный возраст, сопроводила свой дар столь нежной и разумной речью, что император и все собравшиеся пришли в восторг, пожелав ей и впредь оставаться такой же прелестной, мудрой, благородной, добронравной, грациозной и остроумной дамою; так оно впоследствии и сбылось. Она, как и нимфы, была окутана серебристо-белым покрывалом, носила такую же обувь, и голова ее была убрана драгоценными каменьями: то были изумруды, зеленые, как листва плодов, что держала она в руках, а помимо плодов поднесла она императору и королю Испании лавровый венок из зеленой эмали, чьи листья были сплошь осыпаны жемчугом и другими камнями, — зрелище несравненно великолепное; королеве же Элеоноре подарила она веер с зеркальцем посредине, также роскошно изукрашенный и великой ценности. Как видите, принцесса и королева венгерская доказала непреложно, сколь она благородна, щедра и сведуща в искусстве обхождения, а равно и в ратных делах, так что сам император, брат ее, остался безмерно доволен и польщен приемом достойной высокородной сестры своей. Некоторые спросят меня, для чего привел я здесь этот рассказ. А вот для чего: знайте, что девицы, изображавшие нимф и богинь, были выбраны среди красивейших фрейлин королев Франции и Венгрии, а также герцогини Лотарингской; там были француженки, испанки, итальянки, немки, фламандки, лотарингки, все они, как одна, блистали красотою; Бог знает, не затруднилась ли бы королева венгерская указать, которая из них всех грациозней и прекрасней. Госпожа де Фонтен-Шаландре, ныне еще живущая, знала это прекрасно; она была тогда фрейлиной королевы Элеоноры; ее звали «прекрасною Торси», и она немало на сей случай порассказала. Так, от нее известно мне, что сеньоры, дворяне и придворные кавалеры всласть нагляделись тогда на изящные лодыжки, колени и бедра дам, представлявших нимф, коих платье, более чем короткое, предлагало глазу непривычно прекрасное зрелище; все мужские взоры, минуя женские лица, всегда открытые и доступные для обозрения, устремлялись вниз, к ножкам красавиц. И многие кавалеры, кого созерцание прелестных лиц оставляло равнодушными, теперь влюбились в эти хорошенькие ножки, ибо в том здании, где красивы колонны, не менее хороши должны быть фризы и архитравы, а роскошные капители изящно вылеплены и отполированы до блеска. Стоит ли мне продолжать сие сравнение и давать простор фантазии, когда речь идет о переодеваниях и представлении? Почти одновременно с празднествами в Нидерландах, особенно в Бене по случаю прибытия короля испанского, свершился въезд в Лион короля Генриха, вернувшегося из Пьемонта, где он проводил смотр своему гарнизону, и въезд этот пышностью и блеском превзошел все доселе виденное, по словам дам и кавалеров, кои были тому свидетелями. Если представление охоты Дианы являло собою прекраснейшую часть праздника королевы венгерской, то лионская мистерия устроена была во сто крат искуснее: так, на пути своего следования увидал король высокий античный обелиск, а по правую руку — лужайку, окруженную изгородью в шесть локтей высотой; лужайка эта была разбита на насыпи и засажена деревьями, густыми кустами и фруктовыми деревцами. А меж деревьев и кустов бегали олени, лани и козы, все ручные. И тут его величество услышал, как затрубили в рога и трубы, вслед за чем явилась из леса Диана со свитою из девственных охотниц; в руках у ней был роскошный турецкий лук и за плечами колчан, какие носили в древности нимфы; юбку ее туники из черного с золотом полотна усеивали серебряные звезды; пурпурные рукава и лиф сверкали золотыми нитями, а ножки с изящными ступнями и высоким сводом, открытые до колен, обуты были в сандалии пурпурного шелка, вышитые жемчугом, и нитями жемчуга также были перевиты густые пряди ее волос, в которых искрились драгоценные камни, а надо лбом блистал тоненький серебряный полумесяц, усаженный бриллиантами, и само золото померкло бы в этом блеске, ибо серебро, затмившее его, и впрямь сияло, как ясное серебристое ночное светило. Подруги ее были одеты в античные одежды всяческих фасонов из тафты с перемежающимися узкими и широкими золотыми полосами, а также и других цветов, коих смелые сочетания удивляли и веселили глаз; сандалии их и другая обувь также были сделаны из шелка, а головы убраны, как и положено у нимф, множеством жемчуга и драгоценностей. Некоторые из них вели испанских гончих, ищеек, маленьких борзых и прочих псов на черных и белых шелковых сворках, повторяющих цвета короля (он любил тогда даму по имени Диана); все эти собаки оглушительно громко лаяли, прыгая вокруг хозяек; другие несли маленькие бразильские дротики позолоченного железа с ниспадающими кистями черного и белого шелка, а также рога и трубы в золотых и серебряных чехлах с перевязью и шнурами из серебра и черного шелка. Едва король показался в виду, как из чащи выбежал лев, задолго до того прирученный, и, ласкаясь, припал к ногам описанной богини; она же, видя, сколь он кроток и послушлив, тотчас обвила его шею шнуром из серебра и черного шелка и проворно подвела к королю; и так, приблизившись вместе со львом к изгороди луга и став в одном шаге от его величества, она отдала ему льва, сопроводив свой дар рифмованным десятистишием, какие принято было слагать в то время; в сих стихах, тщательно отшлифованных и отнюдь не малозвучных, говорилось, что в образе этого льва дарует ему богиня город Лион и, так же, как ручной лев, город будет послушен, подвластен и покорен приказам и законам короля. Высказав все это в изящных словах, Диана и ее спутницы почтительно склонились пред королем, а он, милостиво и приветливо взглянув на них и поблагодарив от всего сердца за удовольствие, доставленное сей охотою, распрощался и продолжил свой путь. Итак, заметьте, что Диана и подруги ее были наивиднейшими и красивейшими женами, девицами и вдовами города Лиона, где в красавицах нет недостатка, и они исполнили мистерию «эту столь искусно и превосходно, что многие принцы, сеньоры, дворяне и придворные пришли в восхищение». Судите сами, были ли они в том правы». Перевод И. Я. Волевич и Г. Р. Зингера. (Цитируется по изданию: Брантом. Галантные дамы. М., 1998.)
 Сексуальная патология
Сексуальная патология
Исторические причины веры в ведьм
 одобно юному божеству, вступил Ренессанс в жизнь европейского культурного человечества. Шаги его оставили в истории огромный след, продолжающий сверкать еще поныне как великолепный победный знак прогресса.
И однако, над огненным плащом, в который облачился юный бог, над этим плащом, сообщавшим всем опьяняющую радость творчества, сгустились в полдень две огромные тени, приносившие духовную и физическую смерть всем тем, кто попадал в эту тень.
То были — сифилис и ведовство.
О первой болезни мы уже говорили, остается сказать несколько слов о второй.
Если сифилис был своего рода всемирно-исторической остротой, страшной иронией истории, то ведовство было всемирно-исторической фатальностью. Сифилис мог бы и не явиться, он не вытекал с внутренней необходимостью из исторического развития. Ведовство с его дьявольскими оргиями было, напротив, исторической необходимостью. Оно было неизбежно.
В ведовстве юный бог превратился в безумствующего дьявола, который доиграл героическую пьесу своего вступления в мировую историю до конца как безумный фарс.
Юный бог сошел с ума.
История ведовства навсегда останется одной из самых чудовищных глав во всей истории человечества. Эта трагедия остается непонятной лишь до тех пор, пока ее вырываешь из рамок эпохи. Если же ее рассматривать в связи с эпохой, то она является вполне логичной, ибо ее возникновение было неизбежно.
Не случайность, что вера в ведьм и преследование ведьм начинаются как раз на исходе XV в. В 1484 г. появилась булла Папы Иннокентия VIII против ведовства «С величайшим рвением», в 1487 г. вышел в свет дьявольский «Молот ведьм», составленный Генрихом Инститорисом и Яковом Шпренге-ром, — так сказать, догматика веры в ведьм, приведшая безумие в систему. Не простой случайностью является и то, что вера в ведьм и преследование ведьм совпадают с периодом между 1490 и 1650 гг.
«"Молот ведьм", или "Hexenhammer" (1486 г.) — бесспорно, основной и самый мрачный из всех трудов по демонологии. Он был общеобязательным кодексом, объединявшим древние легенды о черной магии с церковной догмой о ереси.
"Молот ведьм" состоит из трех частей. В первой обсуждается необходимость глубокого осознания должностными лицами гнусности колдовства, включающего отречение от католической веры, преданность и поклонение дьяволу, подношение ему некрещеных детей и плотские сношения с инкубом или суккубом.
Во второй части устанавливаются три типа злодейств, совершаемых ведьмами, и противодействие каждому из них.
Третья часть (видимо, написанная Крамером, имевшим больший практический опыт) содержала формальные правила для возбуждения судебного иска против ведьмы, обеспечения ее осуждения и вынесения приговора»[192].
В «Молоте ведьм» подробно были описаны ведьмы, союз их с дьяволом и прочие беззакония. Чтобы привлечь ведьму к суду, не требовалось никаких обвинений, основанных на доказательствах, достаточно было одного лишь доноса (denunciatio). Благодаря этому обвинитель был вполне гарантирован в том, что он не будет в ответе, если бы его обвинение оказалось ложным, но такого случая почти никогда не было, так как несомненным доказательством считалось признание самой ведьмы, а оно вынуждалось пыткой. Но если, несмотря на все пытки, ведьма не сознавалась, то тем самым ее вина становилась еще очевиднее, потому что такое упорство она могла проявить, разумеется, только с помощью дьявола. Нечего доказывать, что эти два обстоятельства особенно способствовали процессам о ведьмах и что лишь немногие обвиняемые избегли смерти.
Уже столетиями раньше ведьмы сжигались, и только в XVIII в. погасли последние костры, на которых ad majorem gloriam (к вящей славе) церкви жарили цветущие женские тела. Число сожженных ведьм доходит до нескольких миллионов.
Но временем истинного господства этого безумия был как раз период между 1490 и 1650 гг. Эти даты дают нам вместе с тем ключ к разгадке проблемы.
одобно юному божеству, вступил Ренессанс в жизнь европейского культурного человечества. Шаги его оставили в истории огромный след, продолжающий сверкать еще поныне как великолепный победный знак прогресса.
И однако, над огненным плащом, в который облачился юный бог, над этим плащом, сообщавшим всем опьяняющую радость творчества, сгустились в полдень две огромные тени, приносившие духовную и физическую смерть всем тем, кто попадал в эту тень.
То были — сифилис и ведовство.
О первой болезни мы уже говорили, остается сказать несколько слов о второй.
Если сифилис был своего рода всемирно-исторической остротой, страшной иронией истории, то ведовство было всемирно-исторической фатальностью. Сифилис мог бы и не явиться, он не вытекал с внутренней необходимостью из исторического развития. Ведовство с его дьявольскими оргиями было, напротив, исторической необходимостью. Оно было неизбежно.
В ведовстве юный бог превратился в безумствующего дьявола, который доиграл героическую пьесу своего вступления в мировую историю до конца как безумный фарс.
Юный бог сошел с ума.
История ведовства навсегда останется одной из самых чудовищных глав во всей истории человечества. Эта трагедия остается непонятной лишь до тех пор, пока ее вырываешь из рамок эпохи. Если же ее рассматривать в связи с эпохой, то она является вполне логичной, ибо ее возникновение было неизбежно.
Не случайность, что вера в ведьм и преследование ведьм начинаются как раз на исходе XV в. В 1484 г. появилась булла Папы Иннокентия VIII против ведовства «С величайшим рвением», в 1487 г. вышел в свет дьявольский «Молот ведьм», составленный Генрихом Инститорисом и Яковом Шпренге-ром, — так сказать, догматика веры в ведьм, приведшая безумие в систему. Не простой случайностью является и то, что вера в ведьм и преследование ведьм совпадают с периодом между 1490 и 1650 гг.
«"Молот ведьм", или "Hexenhammer" (1486 г.) — бесспорно, основной и самый мрачный из всех трудов по демонологии. Он был общеобязательным кодексом, объединявшим древние легенды о черной магии с церковной догмой о ереси.
"Молот ведьм" состоит из трех частей. В первой обсуждается необходимость глубокого осознания должностными лицами гнусности колдовства, включающего отречение от католической веры, преданность и поклонение дьяволу, подношение ему некрещеных детей и плотские сношения с инкубом или суккубом.
Во второй части устанавливаются три типа злодейств, совершаемых ведьмами, и противодействие каждому из них.
Третья часть (видимо, написанная Крамером, имевшим больший практический опыт) содержала формальные правила для возбуждения судебного иска против ведьмы, обеспечения ее осуждения и вынесения приговора»[192].
В «Молоте ведьм» подробно были описаны ведьмы, союз их с дьяволом и прочие беззакония. Чтобы привлечь ведьму к суду, не требовалось никаких обвинений, основанных на доказательствах, достаточно было одного лишь доноса (denunciatio). Благодаря этому обвинитель был вполне гарантирован в том, что он не будет в ответе, если бы его обвинение оказалось ложным, но такого случая почти никогда не было, так как несомненным доказательством считалось признание самой ведьмы, а оно вынуждалось пыткой. Но если, несмотря на все пытки, ведьма не сознавалась, то тем самым ее вина становилась еще очевиднее, потому что такое упорство она могла проявить, разумеется, только с помощью дьявола. Нечего доказывать, что эти два обстоятельства особенно способствовали процессам о ведьмах и что лишь немногие обвиняемые избегли смерти.
Уже столетиями раньше ведьмы сжигались, и только в XVIII в. погасли последние костры, на которых ad majorem gloriam (к вящей славе) церкви жарили цветущие женские тела. Число сожженных ведьм доходит до нескольких миллионов.
Но временем истинного господства этого безумия был как раз период между 1490 и 1650 гг. Эти даты дают нам вместе с тем ключ к разгадке проблемы.

Старуха в борьбе с дьволом
Вера в дьявола и демонов, так сказать, вечна, так как тесно связана с каждым сверхъестественным объяснением мира. Каждое понятие нуждается в своей противоположности, чтобы получить конкретное содержание. Понятие теплоты предполагает понятие холода, принцип добра предполагает принцип зла. Понятие «божество» тесно связано, таким образом, с понятием «дьявол». Принцип зла всегда, однако, олицетворяется творческой фантазией в большем количестве образов, чем идея добра. В зле люди видят незаслуженную злобу завистливых врагов. А так как мир в глазах каждого полон неразрешимых загадок, грозящих бедой и невзгодами, то он, следовательно, населен чертями. Существует 4 333 556 чертей и чертенят. Говорят, однажды у смертного одра игуменьи они все собрались вместе. Представляя прямую противоположность идее добра, вера в дьяволов и демонов является постоянным элементом во всех религиях откровения. Мы находим ее у древних египтян и греков, равно как и в христианстве. Блох по этому поводу сообщает: «Вера в любовную связь с дьяволом, то есть в половые сношения дьявола с мужчинами и женщинами, коренится в первобытном веровании в соитие демонов и духов с людьми, например Емпузы в греческих народных верованиях и Лилит в иудейских». Протестантизм не представляет в данном случае исключения. Достаточно одного примера. Один протестантский пастор начал свою рецензию появившегося в 1906 г. в немецком переводе «Молота ведьм» следующими словами: «Это библия ада. Так можно было бы в самом деле назвать книгу, о которой идет речь. Она носит на себе явные знаки адского внушения. Догма буквального внушения может быть смело применена к этой чудовищной книге. Вплоть до последней запятой она вдохновлена противником Бога». Эти слова представляют в классически чистом виде те элементы мышления, из недр которых в свое время родился «Молот ведьм». Если, несмотря на то что вера в ведьм — постоянная составная часть всякой религии откровения, эта вера только в ту эпоху привела к оргии всеобщего безумия, то это объясняется исключительно историческими условиями времени. Нам надо, следовательно, доказать, что исторические условия были тогда именно такими, что они должны были неизбежно привести к оргии ведовского безумия. Прежде всего надо иметь в виду взгляд католической церкви на дьявола. Мы уже знаем, что католическая церковь была всегда удивительно дельным экономом, умевшим все использовать в своих интересах, и потому она очень рано поняла, как выгодно сумеет она использовать в интересах своего господства именно эту фигуру. Она сделала из него то пугало, которым можно было стращать взрослых, внушая им путем ужасных образов и чудовищных представлений все то, что было полезно для церкви. Само собой понятно, что это пугало пускалось в ход особенно в те моменты, когда господство церкви колебалось. А это имело место, как известно, в особенности в период между XV и XVII столетиями, и потому тогда процветала литература о черте. Необходимо далее ответить на вопрос, какое обстоятельство позволяло церкви сделать из дьявола такое пугало душ. Генезис черта позволит нам ответить на этот вопрос. Небо и ад, божество и дьявол всегда не что иное, как отражение земной действительности, олицетворение ее радостей и страхов, ее блаженства и мук. В этом маскараде дьявол всегда воплощает горечь жизни. Так как последняя в ту или другую эпоху более или менее одинакова для всех людей, то и представления людей эпохи о дьяволе более или менее одинаковы или во всяком случае очень схожи. Другими словами, происхождение понятия о дьяволе объясняет нам то иначе необъяснимое явление, что каждая эпоха представляет себе дьявола по-своему. Далее отсюда следует, что, чем сложнее становилась жизнь, чем больше она навязывала людям скорбь и страдания, тем сложнее становились и представления о дьяволе, который все больше превращался в жестокого варвара, все на своем пути душащего и убивающего.

Ведьма искушает двух мужчин. Ксилография. 1531 г.
А именно так осложнилась жизнь для человечества вместе с воцарением капитализма. Новое время, родившееся вместе с новым хозяйственным режимом, принесло массам все ужасы нищеты. Вот почему в эпоху Ренессанса дьявол, властитель ада, уже не мог быть веселым шутом, каким он был в средние века, в эпоху натурального хозяйства. Теперь ад мог быть только синонимом страшных мук, а дьявол должен был казаться людям самым утонченно-жестоким мучителем из застенка. В эпоху Ренессанса жизнь не только, таким образом, осложнилась; на известной ступени развития должна была неизбежно разразиться катастрофа. Великие стремления, вспыхнувшие в XIII и XIV вв., начиная с XV столетия терпели по всей линии крушение. Век капитализма поставил себе цели, которые тогда были неосуществимы. С приходом капитализма перед человечеством раскрылись и все его последствия. Первым из них была необходимость изучения естественных наук, проникновения в тайную сущность вещей. Это было необходимо для осуществления поставленной цели. Чтобы объехать мир, нужна была астрономия; чтобы расчленить, познать и сделать своим собственным господином человеческое тело, высшее понятие эпохи, нужна была анатомия; чтобы разлагать вещества на составные элементы и произвольно комбинировать эти элементы, т. е. чтобы иметь возможность фабриковать, нужна была химия. Воли отдельных лиц было, однако, недостаточно для решения этих огромных задач. Требовалась подготовительная работа целых столетий, чтобы осуществить эту цель. А между тем все было обречено на половинчатость, все оставалось половинчатым. Человеческий дух поневоле заблудился. Астрономия превратилась в астрологию, анатомия — в шарлатанство, химия — в алхимию. А это было не чем иным, как банкротством первоначальных стремлений, внешними формами, в которых обнаруживалось это банкротство. Правда, никто не сознавал этого банкротства, но его последствия были налицо. А последствия сказывались в той беспомощности, с которой народная масса стояла лицом к лицу со всеми ужасами, обрушившимися на нее, начиная с XV в., благодаря разгоравшейся классовой борьбе и бессовестному проявлению всех тенденций первоначального накопления капитала. Ибо отныне все принимало характер социальных явлений, характер массовых явлений. Когда же люди стали постепенно сознавать по крайней мере факт банкротства — его причины и связь они никогда не уяснили себе, — то чувство беспомощности перешло в настоящую панику. Весь мир казался теперь одним сплошным преддверием ада, где тысяча дьяволов простирают руки к несчастной жертве, чтобы насладиться ее страхом. Добрый милосердный Бог, казалось, покинул землю. Если незрелость эпохи привела к суеверию, то общее отчаяние возвело его на трон. Люди продавались дьяволу, бросались в объятия веры в демонов, чтобы до известной степени примирить черта и обмануть таким образом судьбу, уже наметившую свою жертву. Таковы исторические предпосылки культа дьявола и веры в ведовство, принявших с конца XV в. характер массового явления. А так как медленное течение развития лишь постепенно выводило людей из запутанного лабиринта, то Европа неизбежно превратилась на полтораста лет в один огромный ведьмовский котел, где чудовищная галиматья «Молота ведьм» была высшим законом, а никогда не потухавшие костры — последней инстанцией мудрости. Необходимо в заключение дополнить эту картину некоторыми подробностями. Ешевский сообщает: «В Трире сожжено 7000 с лишним колдуний и чародеев, в Тулузе также огромное число. В Женеве за три месяца 1513 г. сожжено 500 человек. В небольших епископствах Вюрцбург и Бамберг, где верховная власть находилась в руках духовного лица, сожжено в первом почти 800 человек, а во втором — 1500. Даже возраст не спасает от страшного наказания: сжигают по обвинению в колдовстве виновных 11, 15, 17 лет. Один из светских судей, осудивший во время своей судебной деятельности в Лотарингии более 800 человек, горделиво говорил: "Мой суд был так хорош, что шестнадцать из схваченных и представленных суду, не дождались его и удавились"». В Германии серьезные преследования ведьм начались только с 1448 г., когда два доминиканца, Яков Шпренгер и Генрих Инститорис, получили от Папы Иннокентия VIII известную буллу «Summis desiderantes», дававшую им полномочие преследовать и искоренять ведьм. Этот Папский акт описывал союзы ведьм и чертей и все видимые деяния ведьм как действительные факты и предписывал всему духовенству оказывать содействие инквизиторам. Но, несмотря на это, процессы о ведьмах нелегко входили в обычай, так как никто не верил басням, которые возведены были в догмат главою римской церкви. Первый вопрос, постоянно всплывающий здесь, гласит: почему безумное дьявольское суеверие обращалось преимущественно против женщины, почему всегда говорили о ведьмах, а не о колдунах. Что касается специально Германии, то существенная причина этого явления заключается в положении древнегерманской женщины в религии. Женщина считалась жрицей, всегда находящейся в союзе с божескими силами. Ведьма являлась до известной степени наследницей германской жрицы. «Германцы— говорит Тацит, — видели в женщинах что-то святое и пророческое». Ешевский по этому поводу замечает: «Они просили у них советов, они слушали их замечания; некоторые женщины, например Ауриния, и в особенности Веледа, пользовались у древних германцев огромным влиянием. Пророчица Веледа, из племени Бруктеров, играла огромную роль в борьбе германцев с римлянами при Веспасиане. К ней обращались вожди за советом, к ней отсылали они трофеи, отбитые у римлян. Женщины занимали некоторые жреческие должности… В женщине германец предполагал что-то высшее, какое-то второе зрение, способность иногда видеть дальше мужчины, способность общаться с высшим миром, недоступным мужчине…» Гораздо важнее, однако, другой фактор, касающийся всех стран. Этот фактор заключается в обусловленном учением о первородном грехе презрительном отношении к женщине. «Через женщину в мир вошел грех», «женщина есть воплощение греха», «всякий грех от женщины», «объятия женщины подобны западне охотника», «всякое зло ничто в сравнении с женщиной». Так гласят главные положения христианства, и церковь комментировала их сообразно своему аскетическому мировоззрению с неисчерпаемым разнообразием. Отсюда только один шаг к убеждению, что женское начало — врата, ведущие в ад. А это один из главных пунктов веры в ведьм и «Молота ведьм». Благодаря тому что женщина вступает в любовную связь с дьяволом, ад подчиняет себе душу человека. Одна из самых длинных глав «Молота ведьм» обосновывает это положение. Это та чудовищная глава, где каждая строчка представляет собой глумление над женщиной. В ней встречаются и все вышеприведенные афоризмы, и ими автор отвечает на вопрос: «Почему подобные гнусности встречаются у слабого пола чаще, чем у мужчин». Однако последнюю решающую причину того, что преимущественно женщины предаются дьяволу, авторы «Молота ведьм» находят в их ненасытном сладострастии: «Подведем итог: все это делается из плотских вожделений, отличающихся у них ненасытностью… Вот почему они имеют постоянно дело с демонами, которые должны удовлетворить их похоть». При таких условиях немудрено, что всякая падкая до мужчин женщина подозревалась в том, что она ведьма. Ддя удовлетворения своей половой потребности она нуждается в сверхчеловечески сильном помощнике, которым мог быть только дьявол. Впрочем, так же часто положение это вывертывалось наизнанку и похотливость считалась делом дьявола: «Ведьмы — это те, кто из-за значительности своих преступлений обычно называются malefici, или носителями зла[193]. Эти ведьмы с соизволения Господа возбуждают стихии и смущают умы людей, не очень верующих в Господа. Не применяя никакого яда, они убивают с помощью великой силы своих заговоров… Они вызывают дьяволов и ухитряются так возбудить их, что те начинают убивать их недругов с помощью злых уловок. Ведьмы используют кровь своих жертв и часто оскверняют трупы мертвых… Применяя черные искусства, ведьмы смешивают кровь с водой, чтобы цвет крови мог скорее вызвать дьяволов, поскольку, как говорят, дьяволы любят кровь» (Грациан, «Decretum»)[194]. С понятием о грехе, в котором олицетворялась женщина, связано еще другое представление. Имея такое огромное индивидуальное влияние на мужчину, женщина является для мужчины не только грехом, но и загадкой. Это влияние превращало ее в воображении мужчины в демона, и постоянно ею возбуждаемые желания сливались невольно с постоянным страхом перед ней — так стала она ведьмой. Efficiens primaria т. е. первой и действительной причиной, почему человек делается ведуном, или ведьмой, и присягает в верности дьяволу, оказывается сам дьявол. Однако он ничего бы не мог достигнуть, если бы человек своими грехами не давал ему повода вмешаться. Неверующий или маловерный, тот, кто легкомысленно клянется, кто мстителен или злопамятен, человек с разнузданными инстинктами, кто неумеренно ест и пьет, наконец, любопытный, кто хочет знать больше других, всегда будет ощущать искушение искать помощи у дьявола. Но такое наущение получается или прямо от дьявола, или через его помощников — ведьм. Но если человек решился искать помощи у дьявола, то что он должен предпринять, чтобы быть принятым в общество ведьм?

Шабаш ведьм. Рисунок пером. XVII в.
На это достопочтенный пастор Давид Медерус в своей третьей проповеди о ведьмах отвечает таким образом: «Ослепленные люди сами признаются, что прежде всего они должны отказаться от святой Троицы, Христа, христианской веры и святого крещения, отречься от них и выразить поругание всему этому; в особенности же в церквах, когда священник читает текст Евангелия, отрицать про себя все читаные слова и таким образом объявить себя врагом Бога и Христа: ибо, пока они остаются еще при Христовой вере, до тех пор черт не может воспользоваться ими как орудием своей собственной воли; христианская вера причиняет ему всякие неприятности. Во-вторых, они должны также обещать быть врагами всему, что исходит от Бога, всем творениям, всем чадам Божиим, и вредить им везде, где возможно вредить, всегда и везде, где только они могут. В-третьих, они должны дать обещание признавать одного дьявола за своего бога, повелителя и царя, почитать его и быть покорными ему во всех делах. В-четвертых, они должны креститься иначе, а именно во имя дьявола, а иные во имя всех дьяволов; при этом обряде другие ведьмы приносят кипящую воду и купель; такое крещение совершает или сам сатана, или же одна из ведьм, и при этом не всегда с особой пышностью; часто посвящение происходит в колдобине или навозной луже; при этом новопосвященной ведьме дают другое имя. В-пятых, такое лицо, присоединенное к царству дьявола, немедленно получает для себя особого черта в качестве любовника или наложницы, они вступают между собой в брак и празднуют его, а другие ведьмы при этом веселятся. В-шестых, такой дьявол-любовник сопутствует ведьме повсюду, часто приходит к ней, совершает с ней блуд, а также и наставляет ее на то или иное злое дело, на что она получает приказание вместе с другими, которые имеют такое же приказание. В-седьмых, дьявол дает ведьме торжественное обещание не только заботиться о ней, но если она будет посажена в тюрьму по обвинению в ведовстве, то выручать ее из заключения; с тем, однако, чтобы она стояла твердо и не сознавалась, или если бы она в чем-нибудь призналась, то сейчас же опять отреклась бы от этого». Все, состоящее в связи с ведовством: крещение ведьм, ежегодные большие празднества, сожжение дьявола и его воскресение и т. д. — все это было пародией на священнодействия христианской церкви, относящиеся к событиям, имевшим место при ее основании. Культ дьявола и не мог быть ничем иным, как карикатурой богослужения.

Преследование ведьм
 сли спросить о предрасположенности отдельных людей к вере в существование ведьм и о главных причинах чудовищных преследований, которым подвергались ведьмы, то ответ откроет нам эротическую подоплеку ведовства.
Здесь важен тот факт, что многие женщины верили, что они вступали в любовную связь с дьяволом и находились в союзе с ним. Разумеется, мы не будем придавать значения ни одному слову тех чудовищных признаний в подобных любовных связях, подробнейшим образом описанных в массе актов, составленных во время процессов ведьм. Все подобные признания получены и сделаны под пыткой. А таким образом можно доказать все, что угодно.
Каждого, кого подозревали в ведовстве, обыкновенно привлекали на суд инквизиции, и если подозреваемый не умирал под пыткой, которой его подвергали, чтобы принудить его к признанию, то, без сомнения, он оканчивал свою жизнь на костре. Иной исход процесса о ведьмах был редкостью.
Однако в нашем распоряжении имеются и другие достоверные данные о распространенности этой веры. Что здесь идет речь о видениях и измышлениях безумцев, ничего, разумеется, не меняет.
Важно отметить здесь то, что эти безумные мечты становятся настоящим массовым явлением в эпоху упадка Ренессанса. Это также находит свое объяснение в исторической ситуации того времени. Эта эпоха была благодаря в значительной степени вышеописанной катастрофе, приведшей к гибели Ренессанса, вместе с тем веком постоянного недостатка в мужчинах (как было указано уже в другом месте). Никогда не было такого множества неудовлетворенных в половом отношении женщин, девушек и вдов, как тогда. Несомненно, как мы видели в каждой главе, сотни тысяч женщин без зазрения совести удовлетворяли свои желания полными глотками, но ведь и этот факт обусловлен в значительной степени той же причиной.
Было, однако, еще больше женщин, тщетно мечтавших об удовлетворении своих инстинктов. Их было много везде, в особенности же среди мелкой буржуазии, где экономические условия сильно затрудняли вступление в брак. Эта острая и отчаянная борьба за мужчину приводила к тому, что множество женщин насильно стремились добиться любви и предпочитали всем рисковать, лишь бы достигнуть своей цели. Вера в демонов приходила этим несчастным на помощь. Какая-нибудь старуха соседка или бродячая женщина знала тайну и располагала тайными средствами. Она умела мастерить всепобеждающие любовные напитки или знала средства получить над мужчиной тайную власть, так что он не успокоится, пока не будет обладать той, которая дала ему это средство. Это было тайной мечтой бесчисленного множества женщин, под влиянием социальной нужды их желание становилось могучим стимулом, и десятки тысяч женщин из года в год испытывали действие подобных формул и тайных рецептов. Порой соседка знала и еще гораздо больше, знала еще более действенные средства, победоносные формулы, заставлявшие дьявола служить ей, и она украдкой — по дружбе или за мзду — доставляла все, что было нужно, чтобы вступить в связь с дьяволом, — знаменитую мазь, которой нужно было натереться, чтобы ночью отправиться на шабаш, на «козий луг», место тайных свиданий и пляски ведьм. И соседка не лгала: правда, женщины не вылетали из трубы, сидя на метле. Но то, в чем им отказывала действительность, они находили в царстве мечты и сновидений.
Блох отмечает: «…Сводницы и проститутки издавна славились умением приготовлять и преподносить различные любовные и антилюбовные средства, волшебные напитки и применять чары любви путем заговора и колдовства; им приписывалось также искусство превращать честных молодых девушек в жадных к деньгам проституток. Согласно средневековым представлениям, в этих делах всегда принимал участие дьявол».
Ведьмовская мазь творила чудеса. Она удовлетворяла тайную тоску лучше еще, чем действительность. Ныне мы знаем, почему эта мазь творила подобные чудеса. Правда, она состояла из всякой ерунды — мышиного мозга, толченых жаб и т. д., но она состояла часто и из менее невинных средств, как-то: экстракта цикуты, мака и др.[195] Это значит, что многие мази и напитки были не чем иным, как эротически-возбуждающими снадобьями, вызывавшими состояние сна с эротическими экстазами.
«Чтобы добиться перемещения или превращения, ведьмы натирали свои тела мазью. В одном из первых рассказов, приведенных Нидером и датируемым примерно 1435 г., рассказывается о том, как женщина натирала себя мазью, сидя при этом в большой квашне для замешивания опары. Она тотчас заснула и представила себя летящей, сотрясая квашню так сильно, что выпала и разбила себе голову…
Джанет и Эллен Бирлей были обвинены в околдовывании ребенка до смерти. 14-летняя Грейс Соуэрбатс показала, что эти женщины вырыли маленький трупик и, "взяв его, отварили часть в горшке, часть изжарили на углях, и упомянутые Джанет и Эллен съели понемногу того и другого. И после этого упомянутые Джанет и Эллен положили кости упомянутого ребенка в горшок, а жиром, который вышел из названных костей, как они утверждали, они натирали себя и могли принимать образы других существ»".[196]
Если неудовлетворенная жажда любви приводила женщину к эротическому помешательству, то получалась в итоге женская болезнь, которая для тогдашней науки была неразрешимой загадкой, а суеверию должна была представляться признаком того, что такая женщинаодержима демоном и что в ней засел дьявол.
сли спросить о предрасположенности отдельных людей к вере в существование ведьм и о главных причинах чудовищных преследований, которым подвергались ведьмы, то ответ откроет нам эротическую подоплеку ведовства.
Здесь важен тот факт, что многие женщины верили, что они вступали в любовную связь с дьяволом и находились в союзе с ним. Разумеется, мы не будем придавать значения ни одному слову тех чудовищных признаний в подобных любовных связях, подробнейшим образом описанных в массе актов, составленных во время процессов ведьм. Все подобные признания получены и сделаны под пыткой. А таким образом можно доказать все, что угодно.
Каждого, кого подозревали в ведовстве, обыкновенно привлекали на суд инквизиции, и если подозреваемый не умирал под пыткой, которой его подвергали, чтобы принудить его к признанию, то, без сомнения, он оканчивал свою жизнь на костре. Иной исход процесса о ведьмах был редкостью.
Однако в нашем распоряжении имеются и другие достоверные данные о распространенности этой веры. Что здесь идет речь о видениях и измышлениях безумцев, ничего, разумеется, не меняет.
Важно отметить здесь то, что эти безумные мечты становятся настоящим массовым явлением в эпоху упадка Ренессанса. Это также находит свое объяснение в исторической ситуации того времени. Эта эпоха была благодаря в значительной степени вышеописанной катастрофе, приведшей к гибели Ренессанса, вместе с тем веком постоянного недостатка в мужчинах (как было указано уже в другом месте). Никогда не было такого множества неудовлетворенных в половом отношении женщин, девушек и вдов, как тогда. Несомненно, как мы видели в каждой главе, сотни тысяч женщин без зазрения совести удовлетворяли свои желания полными глотками, но ведь и этот факт обусловлен в значительной степени той же причиной.
Было, однако, еще больше женщин, тщетно мечтавших об удовлетворении своих инстинктов. Их было много везде, в особенности же среди мелкой буржуазии, где экономические условия сильно затрудняли вступление в брак. Эта острая и отчаянная борьба за мужчину приводила к тому, что множество женщин насильно стремились добиться любви и предпочитали всем рисковать, лишь бы достигнуть своей цели. Вера в демонов приходила этим несчастным на помощь. Какая-нибудь старуха соседка или бродячая женщина знала тайну и располагала тайными средствами. Она умела мастерить всепобеждающие любовные напитки или знала средства получить над мужчиной тайную власть, так что он не успокоится, пока не будет обладать той, которая дала ему это средство. Это было тайной мечтой бесчисленного множества женщин, под влиянием социальной нужды их желание становилось могучим стимулом, и десятки тысяч женщин из года в год испытывали действие подобных формул и тайных рецептов. Порой соседка знала и еще гораздо больше, знала еще более действенные средства, победоносные формулы, заставлявшие дьявола служить ей, и она украдкой — по дружбе или за мзду — доставляла все, что было нужно, чтобы вступить в связь с дьяволом, — знаменитую мазь, которой нужно было натереться, чтобы ночью отправиться на шабаш, на «козий луг», место тайных свиданий и пляски ведьм. И соседка не лгала: правда, женщины не вылетали из трубы, сидя на метле. Но то, в чем им отказывала действительность, они находили в царстве мечты и сновидений.
Блох отмечает: «…Сводницы и проститутки издавна славились умением приготовлять и преподносить различные любовные и антилюбовные средства, волшебные напитки и применять чары любви путем заговора и колдовства; им приписывалось также искусство превращать честных молодых девушек в жадных к деньгам проституток. Согласно средневековым представлениям, в этих делах всегда принимал участие дьявол».
Ведьмовская мазь творила чудеса. Она удовлетворяла тайную тоску лучше еще, чем действительность. Ныне мы знаем, почему эта мазь творила подобные чудеса. Правда, она состояла из всякой ерунды — мышиного мозга, толченых жаб и т. д., но она состояла часто и из менее невинных средств, как-то: экстракта цикуты, мака и др.[195] Это значит, что многие мази и напитки были не чем иным, как эротически-возбуждающими снадобьями, вызывавшими состояние сна с эротическими экстазами.
«Чтобы добиться перемещения или превращения, ведьмы натирали свои тела мазью. В одном из первых рассказов, приведенных Нидером и датируемым примерно 1435 г., рассказывается о том, как женщина натирала себя мазью, сидя при этом в большой квашне для замешивания опары. Она тотчас заснула и представила себя летящей, сотрясая квашню так сильно, что выпала и разбила себе голову…
Джанет и Эллен Бирлей были обвинены в околдовывании ребенка до смерти. 14-летняя Грейс Соуэрбатс показала, что эти женщины вырыли маленький трупик и, "взяв его, отварили часть в горшке, часть изжарили на углях, и упомянутые Джанет и Эллен съели понемногу того и другого. И после этого упомянутые Джанет и Эллен положили кости упомянутого ребенка в горшок, а жиром, который вышел из названных костей, как они утверждали, они натирали себя и могли принимать образы других существ»".[196]
Если неудовлетворенная жажда любви приводила женщину к эротическому помешательству, то получалась в итоге женская болезнь, которая для тогдашней науки была неразрешимой загадкой, а суеверию должна была представляться признаком того, что такая женщинаодержима демоном и что в ней засел дьявол.

Как последователи Антихриста живут в разврате. Иллюстрация из народной книги «Антихрист»
Этой болезнью была истерия в разных ее стадиях. Целый ряд описаний поведения женщин, слывших в том или другом городе, в той или другой местности ведьмами, показывает, что многие из таких женщин были просто истеричками. Швейцарская поговорка, вложенная в уста девушки, страдающей болезненной жаждой любви: «Мать, дай мне мужа, а не то я подожгу дом», служит типическим доказательством того, как часто половая неудовлетворенность принимала форму истерии. Таким образом, самая картина болезни давала — особенно когда женщина уже была тайно заподозрена — обильнейший материал для доносов. В то, во что верило общественное мнение, в тысяче случаев верила и сама подозреваемая женщина. Была еще третья причина распространенности тогда полового безумия, и эту причину также не следует игнорировать. Мы имеем в виду так часто практиковавшийся обычай религиозного самобичевания. Опыт доказывает, что самобичевание может даже нормальном в половом отношении лицам доставить половое наслаждение, и потому оно всегда и относилось под названием «флагелляции» к эротическим извращениям. В то время самобичевание было одним из главных козырей в руках церкви, которая таким образом сама искусственно взращивала то, что ею же осуждалось как высший порок, — то была, быть может, самая жестокая ирония заблудившегося духа века. Что главным содержанием проблемы ведовства является именно половой элемент, видно из того, что основные снадобья кухни ведьм имеют почти без исключения отношение к половой жизни. Женщина становится ведьмой, вступая с дьяволом в половую связь. Таким путем она получает свою тайную власть. В «Молоте ведьм» говорится: «В-пятых, такая женщина, приобщенная к царству дьявола, получает своего особого черта для любви. Он устраивает с ней свадьбу, а другие при этом веселятся. В-шестых, этот черт часто ее навещает, вступает с ней в половые отношения, иногда приказывает ей сделать то или другое зло вместе с другими, получившими такое же приказание». Постоянная половая связь с властителем ада или с одним из его заместителей (так называемый incubus — злой дух) — вот та монета, которой дьявол платит женщине за то, что она ему продалась. «Папа Бенедикт XIV в "De Servorum Dei Beaticicatione" писал: "В данном отрывке говорится о дьяволах, называемых инкубами и суккубами… хотя почти все исследователи допускают сношения с ними, некоторые авторы отрицают, что от них может произойти потомство… Другие же, допуская, что сношение возможно, утверждают, что могут быть и дети, и заявляют, что так действительно и происходит, хотя и неким новым и необычным способом, не известным обычному человеку". Инквизитор Мишель описывает признание сестры Мадлен де Демандоль в том, что она отправлялась каждую ночь на шабаш, где применялись различные формы половых сношений: "По субботам они оскверняли себя грязными совокуплениями с дьяволами, которые были суккубами и инкубами, по четвергам они оскверняли себя педерастией, по воскресеньям они развратничали, совершая скотоложство, в другие дни они пользовались обычным способом, который подсказывала им природа". Реми в "Demonolatreiae" сообщает: "Те, кто рассказывают о сношениях с демонами, как в мужском, так и в женском обличье, в один голос заявляют, что не может быть ничего более холодного и неприятного. Петроний рассказывал, что как только он заключал в объятия своего «Абраэля», все его конечности коченели, а Хеннцель утверждал, что вводил свой инструмент, вроде как в ледяную пещеру (speculum), и должен был покидать своего «Шварцбурга», не испытав оргазма. На самом деле сук-кубов называли такими странными именами". Де Ланкром в "Tableau" (1612) описал свидетельство Жеанны д'Агуэрра, заявившей под присягой: "Дьявол в образе козла, имевшего сзади член, имел сношения с женщинами, толкая и тряся им по их животам".

Андреа Виккарио. Похотливый фавн
Мари де Маригран, пятнадцати лет, жительница Биар-ритца, показала под присягой, что часто видела, как дьявол сходился с множеством женщин, которых она знала по именам, причем с красавицами он обычно сходился спереди, а с некрасивыми — сзади. Еще один свидетель, допрошенный де Ланкром, 17-летняя Маргарет де Сар, заявила под присягой, что, независимо от того, появлялся дьявол в образе человека или козла, у него всегда был член, как у мула, выбор же данного животного был связан с тем, что он был наилучшим образом устроен самой природой, являясь таким длинным и толстым, как рука, и что он всегда обнажал свой инструмент такой красивой формы и огромный. Около 1470 г., в книге Джордано де Бергамо говорится: "Одни и те же ведьмы признаются и заявляют, что инструмент дьявола, как и семя, всегда холоден". Практически во всех поздних описаниях обвиняемые в колдовстве говорили, что во время сношения они испытывали боль и не получали удовольствия. Так, Боге сообщал: "Тевьенн Паже заявила, что, когда сатана имел с ней связь, она испытывала такую же боль, как и работающая женщина. Франсуаза Секретен показала, что в это время она иногда ощущала жжение в животе, и практически все ведьмы говорили, что эти сношения никоим образом не доставляли им удовольствия, как из-за безобразного и уродливого облика дьявола, так и благодаря физической боли, которую он причинял им, о чем мы только что говорили". Реми также ссылается на показания ведьм, заявляя, что сношения были лишены удовольствия и являлись болезненными. В "Tableau" де Ланкр проясняет некоторые моменты: "Мари де Маригран из Биаррица, пятнадцати лет, рассказала, что член данного дьявола, развернутый во всю длину, состоял из двух частей, наполовину из железа, наполовину из плоти, и такими же точно были и его яички, которые она много раз видела на шабаше. Кроме того, она слышала, что многие женщины, спавшие с дьяволом, говорили, что он заставлял их кричать, как во время родов, и всегда держал свой инструмент обнаженным. Пьер де Линар свидетельствовал, что дьявол имел инструмент, сделанный из рога или чего-то подобного, и именно поэтому он заставлял женщин так сильно кричать". Другой свидетель де Ланкра добавляет новые подробности о дьявольском пенисе: "Он был обычно извилистым, остроконечным и змееподобным, сделанным иногда наполовину из железа и наполовину из плоти, в другое время — полностью из рога, и обычно расщепленный наподобие языка змеи, как правило, он одновременно занимался совокуплением и педерастией, причем иногда третий отросток достигал рта любовника"»[197]. Ведьма также умеет варить снадобья, пропитывающие кровь мужчины и женщины неодолимым желанием обладать определенной особой, но и столь же непреодолимым отвращением. «Чтобы вызывать жестокую гибель людей, ведьмы обычно выкапывают из земли трупы, особенно тех, кто был казнен и повешен на виселице. Из этих мертвых тел, пользуясь теми же самыми инструментами пыток, которые используют и палачи, они получают материалы для своей магии, наделяя их необыкновенной силой с помощью заклинаний». (Гваццо; 1626). В Англии, в Челмсфорде в 1616 г. одним из обвинений против Сюзанны Баркер было то, что она "злонамеренно вырыла из некой могилы на кладбище приходской церкви вышеназванного Апминстера череп, являвшийся частью тела некоего умершего человека, давно там похороненного, с намерением использовать упомянутый череп в определенных злых и дьявольских искусствах, называемых колдовством, заговорами и чародейством, с целью околдовать и очаровать некую Мари Стивенс". Другие формулы смертельных мазей были записаны Вейером, скептически настроенным лекарем герцога Клевского: "Болиголов крапчатый, сок из аконита, тополиные листья, сажа. Водяной болиголов, ирис сладкий, лапчатка ползучая, кровь крысы, беладонна, растительное масло. Жир ребенка, сок водяного болиголова, аконит, лапчатка ползучая, беладонна, сажа"»[198]. Ведьма также может увеличить до бесконечности половую способность мужчины или же совершенно ее уничтожить; она может сделать для мужа и жены невозможным исполнение супружеских обязанностей, даже лишить мужчину его полового органа, а женщине обещать зачатие. Таковы главные проявления искусства ведьмы, и им посвящена наибольшая часть глав «Молота ведьм». Ведьмы могут сделать брак бесплодным, положивши под кровать травы или завязавши узлы на ремне или шнурке, по числу узлов можно тогда видеть, сколько детей могли бы иметь супруги. Ведьмы силой своего искусства могут также изменять пол людей, превращать девушку в мужчину и обратно, чтобы этим причинить возможно большую неприятность. Они могут вызывать непогоду, ветер, дождь, холод, гром, молнию, снег и мороз. Иногда говорится также, что ведьмы в состоянии дать себе большую красоту, большой почет и богатство; однако большинство авторов сходятся в том, что редко бывало слышно, чтобы ведьма приобрела что-нибудь посредством своего искусства. Один из колдовских приемов особенно часто упоминается при различных дворах — по-латыни называли его invultare, по-французски — envoutement (порча). Для того чтобы извести врага — как это было повсеместно известно, — его вылепленное из растопленного воска или сделанное из другого материала изображение либо проклинали под его именем, либо вновь растапливали, либо протыкали чем-нибудь острым. Филипп VI Французский одну такую фигурку, попавшую ему в руки, сам швырнул в огонь со словами: «А ну-ка, посмотрим, кто сильнее: дьявол — чтобы меня погубить, или Бог — чтобы меня спасти». Натершись мазью, приготовленной из жира новорожденных детей и различных трав, каковы: мак, паслен, подсолнечник, головолом и белена, ведьмы могут носиться по воздуху на разного рода утвари — щетках, кочергах и сенных вилах. Эти вспомогательные средства употребляются ими обыкновенно во время большого годового праздника, шабаша ведьм, который обыкновенно справляется на какой-нибудь высокой горе, а в некоторых странах в большом лесу, на открытом месте. Датские и немецкие ведьмы, как известно, отправляются на Блоксберг (датские иногда также и на Геккенфельд, Геклу в Исландии), шведские — на Блаакуллу на Эланде, норвежские — на Лидергорн около Бергена; таким образом, ведьмы каждой страны имеют для этого свое особое место. Празднество происходит или в Вальпургиеву ночь[199] на первое мая, или в ночь на Иванов день. В этих празднествах должны участвовать все ведьмы; тех, кто отсутствует без уважительных причин, черт мучает всю ночь так, что они не могут спать. Когда настает время отъезда, ведьма натирается мазью, берет предмет, на котором хочет ехать, и тихо говорит следующие слова: «Взвейся вверх и никуда» («Oben auss und nirgends аn»). Выезжает она обыкновенно через дымовую трубу. Некоторые скачут на своем черте, который стоит у дверей в виде козла. Во время путешествия ведьмы должны особенно остерегаться того, чтобы не беспокоиться и не озираться вокруг; ибо в противном случае они падают вниз и могут причинить себе большой вред, так как они часто летят в воздухе очень высоко. Некоторые летают совершенно голые, другие — в одежде. Когда они соберутся на место празднества, то делаются все приготовления к пиршеству, столы и скамейки придвинуты и на стол ставятся дорогие серебряные и золотые вещи. Кушанья часто бывают превосходны, но иногда черт находит удовольствие шутить над своими гостями и угощает их падалью и другими нечистыми вещами; в кушаньях, однако, нет соли; так бывает всегда. После еды ведьмы рассказывают свои новости: каждая сообщает, что происходило в ее стране; ибо они обращают внимание на все, что делается у людей: «Для начальников ведьм и колдунов это служит таким средством, что они становятся как бы в своем роде новыми газетами». Затем дьявол дает своим слугам новый яд, чтобы творить новые несчастья. Этот яд, как рассказывают многие авторы, добывается таким образом: дьявол в образе козла приказывает сжечь себя, после чего ведьмы старательно собирают золу, которая чрезвычайно опасна для людей и скота. Вскоре после этого козел, однако, вновь появляется среди них и взывает страшным голосом: «Отомстите им, или вы должны умереть».

Летучий листок времен тридцатилетней войны
Затем все выражают дьяволу свою глубокую преданность и почтение; это делается в такой форме: козел обращает ко всему собранию заднюю часть тела и всякий целует его в это место. Но в этом виде он показывается не всем: новообращенным, на которых еще нельзя вполне положиться, отводят глаза, и они воображают тогда, что видят великого принца, у которого они целуют руки; но это одно только воображение. Затем начинается настоящее веселье, ведьмы становятся в круг, спинами внутрь круга, чтобы не видеть друг друга, и под свист начинают свой хоровод. Во время танца ведьмы и черти поют хором: «Господин, господин, черт, черт, прыгни здесь, прыгни там, скакни здесь, скакни там, играй здесь, играй там». В заключение каждый черт схватывает свою ведьму, удовлетворяет с нею свою похоть, после чего наступает время, когда каждая ведьма должна рассказать, какое несчастье сотворила она со времени последнего общего собрания. Тех, кто не может рассказать о какой-нибудь достаточно злой проделке, старшие дьяволы бьют плеткой. Когда новые сочлены увидят, таким образом, все, чего они могут ожидать худого и хорошего, их торжественно принимают в союз, причем они вписывают свое имя собственной кровью в большую книгу. Иногда заключается формальный контракт между дьяволом и лицом, вступающим в сделку; это лицо оговаривает в нем себе известные земные выгоды, за что по истечении определенного времени переходит во власть дьявола. Такой контракт может быть заключен не только во время праздника, но, вероятно, и во всякое время. «Сестра Мадлен де Демандоль примерно в 1611 г. вот как описывает шабаш: "Напиток, который они пьют, это мальвазия (красное вино), возбуждающая и готовящая плоть к распутству…Мясо, которое они обычно едят, — мясо маленьких детей, которое они готовят в синагоге, иногда принося их туда живыми, выкрав из домов, куда они имеют возможность входить. Они не используют ножей за праздничным столом из страха положить их поперек в форме креста, у них нет соли, которая символизирует мудрость и понимание, в равной степени не знают использования маслин или масла, которые являются символами милосердия". Договор с дьяволом[200] был основой колдовства. Благодаря договору оно рассматривалось как ересь и, следовательно, подпадало под юрисдикцию инквизиции. Первое подробное описание договора дается в книге Нидера "Formicarium"» (ок. 1435), второй печатной книге по колдовству, в рассказе о молодом человеке, сожженном за колдовство: "Во-первых, в субботу, перед освящением святой воды, будущий послушник должен пойти со своими наставниками в церковь и там в их присутствии отречься от Христа и его веры, крещения и католической церкви. Затем он должен выразить почтение magisterulus, то есть «маленькому хозяину» (так они обозначают дьявола). Затем он пьет из фляги [кровь убитых детей]; после этого он обязан соблюдать и хранить в тайне наше искусство и главные правила секты"»[201]. Впрочем, когда в союз с дьяволом вступает мужчина, то половой элемент также часто играет существенную роль. Одним из главных пунктов договора с дьяволом всегда является тот, что ни одна девушка или женщина не будет в силах устоять перед таким человеком. Считалось, что ведьму можно распознать по множеству признаков: ведьминскому знаку, клейму дьявола и др. Ведьминским знаком, считавшимся доказательством колдовства, были дополнительные груди и другие естественные физические уродства. «"Они раздели старую женщину и обнаружили за ее правым плечом нечто, очень похожее на вымя овцы, с двумя сосками, подобными двум большим бородавкам: один сзади под мышкой, другой на ладонь выше, у самого ее плеча. На вопрос, давно ли у нее эти соски, она ответила, что родилась с ними. Тогда они осмотрели Алису Гудридж и обнаружили на ее животе дырку величиной в два пенса, свежую и кровоточащую, как будто некая большая бородавка была вырвана в этом месте" ("Удивительнейшая история ведьмы по имени Алиса Гудридж», 1597). Тюремщик, чьей обязанностью является наблюдать за их погребением, снял с них одежду и, когда они были обнажены, обнаружил на теле старой женщины Алисы Самуэл маленький комок мякоти длиной полдюйма, выступающий, как будто сосок, увидев который, он и его жена сначала намеревались не показывать его людям, поскольку он находился в таком интимном месте, которое неприлично видеть. Однако, все-таки не желая прятать столь необычную находку и прилично прикрыв интимное место немного выше соска, они позволили осмотреть его тем, кто стоял рядом. После того как жена тюремщика взяла этот сосок в руки и слегка оттянула его, из него показалась сперва смесь желтого молока и воды, с виду похожая на молозиво (как сказал тюремщик). Во второй раз появилось нечто вроде чистого молока, и в самом конце — кровь» («Самое необыкновенное и удивительное изобличение», 1593).

Зачатие антихриста. Иллюстрация из народной книги «Антихрист». Ксилография. 1475 г.
Клеймо дьявола часто смешивается с ведьминским знаком, и поздние охотники за ведьмами принимали и то и другое как достаточное доказательство для установления колдовства. Термины использовались как взаимозаменяемые во время преследований и даже отдельными демонологами. Различие заключалось в том, что клеймо дьявола напоминало шрам, родимое пятно (родинку) или татуировку, в то время как ведьминский знак был выростом (отростком) на теле, который якобы могли сосать домашние духи (согласно английской концепции). Синистрари, один из поздних демонологов, также верил, что "дьявол ставит на [ведьм] некую отметину, особенно на тех, в чьей преданности он сомневается. Однако эта отметина не всегда одной и той же формы или контура, иногда она похожа на зайца, иногда на лапку жабы, на паука, щенка, соню. Она ставится в самых интимных местах тела: у мужчин под веком или под мышками, или на губах или плечах, в заднем проходе или еще где-нибудь; у женщин, обычно, на груди или в интимных местах. Иногда печать, которой делают эти отметки, является просто дьявольским когтем" ("De Demonialitate"). Обычно считалось, что если бородавка или мозоль не кровоточили и были нечувствительны к прокалыванию иглой, то подобная реакция доказывала причастность к колдовству. Старый шрам тоже мог не иметь чувствительности. Гваццо в "Compendium Maleficarum" ссылается на такой случай, имевший место в Бриндизи в ноябре 1590 г.: "Перед тем как подвергнуться пытке, Клавдия Богарта была обрита наголо в соответствии с обычаем, так что был обнаружен шрам в верхней части ее брови. Инквизитор, уже тогда подозревая правду, что это отметка, сделанная когтем дьявола, которая перед этим была закрыта ее волосами, приказал, чтобы глубоко вонзили в нее булавку. И когда это было сделано, она не почувствовала никакой боли, не показалась в ране ни единая капля крови. Однако она настаивала, отрицая истину, повторяя, что нечувствительность была вызвана много лет тому назад ударом камня". В 1652 г. Мишель Шадрон из Женевы была обвинена в околдовывании двух девочек, утверждавших, что они чувствуют постоянное покалывание в разных частях тела. Врачи осмотрели Мишель в поисках клейма дьявола и воткнули длинные иглы в ее тело, но кровь текла из каждого прокола, и Мишель кричала от боли. Не найдя клейма дьявола, судьи приказали подвергнуть женщину пытке: от страшной боли она призналась во всем, что от нее требовали. После ее признания врачи вернулись к поиску клейма дьявола, и на этот раз нашли крошечное черное пятно на ее бедре. Находившаяся после пытки в состоянии полного изнеможения, Мишель не вскрикнула. Подобное доказательство подтвердило ее признание, и она была немедленно приговорена к удушению и сожжению. Испытание погружением в воду является одним из древнейших способов определения невиновности или вины в ведовстве: "Если человек обвинит другого в черной магии и если его дела не поправятся, того, кто таким образом обвинен, должно отвести к реке и погрузить в воду. Если река поглотит его, тогда его собственностью будет обладать обвинитель. Если, однако, река докажет его невиновность, и он не утонет, обвинитель должен быть предан смерти, и собственность казненного должна перейти к тому, кто прошел испытание"»[202]. Существовали также способы защиты от ведьм. Если через нее бросить нож, на котором изображен крест, тогда она должна открыться. Кто носит при себе найденный им зуб от бороны или зерно, бывшее в хлебе, увидит ведьму в церкви с подойником на голове. Если взять с собой в церковь на утро Светлого Воскресения яйцо, то можно узнать всех женщин, принадлежащих дьяволу; но и они знают об этом и стараются раздавить яйцо в кармане; если им это удается, то разрывается и сердце у того, кому принадлежит яйцо. Если намазать свиным салом детские башмаки, то ведьмы не могут выйти из церкви, пока в ней остаются дети. Кто во время обедни в день Рождества станет на скамейку, сделанную из нового дерева, тот может узнать всех ведьм общины, так как они поворачиваются спиной к алтарю; но и ведьмы его видят, и он рискует жизнью, если они успеют настигнуть его после службы, прежде чем он придет домой. Можно также узнать ведьму по тому, что изображение, которое видно в ее глазу, перевернуто. (Если смотреть в глаз другого человека, то увидишь свое собственное изображение в прямом виде.) Если варить в одном горшке разные вещи, то этим можно причинить ведьме такую боль, что она придет и сама будет просить прекратить это кипяченье, и т. д. Всего опаснее считалось дать ведьме что-либо взаймы, ибо таким путем она легко могла внести в дом всякого рода несчастье при возвращении данного ей. Особенно же следовало остерегаться ссужать что-либо в те дни, когда происходили, как думали, перелеты ведьм. Иногда втыкали во все углы комнат бузину или дикую вишню, а часто даже и снаружи в стену дома, чтобы ведьмы не могли войти в дом. Если из дому выходило лицо, подозреваемое в ведовстве, то хозяйка брала горячую золу из печки и бросала ему вслед. На Иванов день обыкновенно собирали девять трав, тщательно сохраняли их дома и курили ими, если предвидели опасность быть околдованными. В некоторых странах считалось также опасным прясть по вечерам; во всяком случае, не следовало оставлять на ночь на веретене пряжу; в противном случае явились бы ведьмы и испортили бы ее вместе с другими вещами. Не было также недостатка в народных заклинаниях, имевших целью предотвратить колдовство ведьм; в Вестфалии 22 февраля перед солнечным восходом крестьянские работники старались колотить в дверь топором и пели:
Вон убирайся, птица нечистого,
Праздник св. Петра уж настал;
Строй себе дом, — и стойло, и двор,
Навес и овин, все, что надо тебе,
Чтобы не было здесь никакого вреда
На год, считая от этого дня.

Оргии одержимых
 и чем иным, как массовым эротическим безумием, все время вспыхивавшим под влиянием вышеизложенных причин, являются и многочисленные монастырские эпидемии, о которых мы узнаем. Бешеное желание кусаться, убеждение монахинь целого монастыря, что они одержимы дьяволом, — все это признаки нимфомании, вызванной половой неудовлетворенностью, насилием над природой. Мужчина как представитель пола играл центральную роль во всех этих безумствах. Дьяволом, безумствовавшим в крови монахинь, была бешеная жажда половых ощущений.
То же явление лежит в основе и многочисленных плясовых эпидемий, например массовой пляски св. Витта. В таких эпидемиях танец являлся часто не чем иным, как рядом бесстыдных поз, продиктованных безмерными вожделениями. Как только участников этих танцев охватывало возбуждение, они в диком бешенстве срывали друг с друга платье, женщины с мужчин, мужчины с женщин, чтобы путем такого бесстыдного зрелища дойти до настоящего эротического безумия.
Сотни совсем обнаженных и полуобнаженных женщин и мужчин в сладострастной истоме ждали спасителя. И спасение совершалось путем грандиозно-чудовищных оргий, всегда сопровождавших вспышку массового плясового безумия. Большинство женщин, участвовавших в таких плясовых эпидемиях, возвращались домой беременными, а меньшинство из них знало, кто отец ребенка, которого они носили под сердцем, ибо оргастическое опьянение бросало мужчин и женщин навстречу беспорядочному половому смешению.
Блох по этому поводу сообщает:
«…Характер сатанинской оргии Геррес описывает следующим образом: "Все, что развратнейшее безумие может придумать в сфере похоти, что жгучая чувственность может вытолкнуть из глубины своей на поверхность, все злое, перед чем пугается даже сама природа, — все это совершалось и практиковалось там как служение новому богу… Как проявляют свою любовь тигры и леопарды, так разрывают друг друга в мрачном сладострастии взбесившиеся, и только кровь потушит это пламя… Ненависть священников, посещающих шабаш, заставляет их иногда читать мессу над большими гостиями, затем вырезать их середину, обклеивать пергаментом и позорным образом употреблять для своей похоти… Во время мессы совершается тысяча бесчинств: одни высовывают язык, другие ругаются, третьи обнажают тело и т. д.
…Заканчивая танцевать, ведьмы предавались копуляции, сын не избегал матери, брат сестры, отец дочери — кровосмешение было повсюду"».
Де Накр дает заверенное под присягой свидетельство 16-летней Жанетт де Абади:
«При разделении на пары она видела каждого сходившегося с другим беспрестанно и в нарушение законов природы… Она винила себя в том, что была лишена девственности сатаной и была плотски познана бесчисленное количество раз (une infinit de fois) одним из своих родственников и другими, которые снизошли войти в нее. Она говорила, что боялась сексуальных сношений с дьяволом, потому что его член был покрыт чешуей и вызывал невыносимую боль, кроме того, его семя было исключительно холодным, таким холодным, что она ни разу не забеременела от него, фактически ее не обрюхатили и другие, обычные мужчины, бывшие на Ш.».
К подобным же явлениям приводила также эпидемия флагеллантов, с их процессиями самобичующихся, тоже обыкновенно завершавшимися отчасти открытыми, отчасти тайными оргиями…
Чувственность впала в смертельную болезнь.
Что было когда-то выражением грандиозной творческой силы, высшим осуществлением жизни, разрешалось теперь мучительными судорогами.
Божество умирало!
и чем иным, как массовым эротическим безумием, все время вспыхивавшим под влиянием вышеизложенных причин, являются и многочисленные монастырские эпидемии, о которых мы узнаем. Бешеное желание кусаться, убеждение монахинь целого монастыря, что они одержимы дьяволом, — все это признаки нимфомании, вызванной половой неудовлетворенностью, насилием над природой. Мужчина как представитель пола играл центральную роль во всех этих безумствах. Дьяволом, безумствовавшим в крови монахинь, была бешеная жажда половых ощущений.
То же явление лежит в основе и многочисленных плясовых эпидемий, например массовой пляски св. Витта. В таких эпидемиях танец являлся часто не чем иным, как рядом бесстыдных поз, продиктованных безмерными вожделениями. Как только участников этих танцев охватывало возбуждение, они в диком бешенстве срывали друг с друга платье, женщины с мужчин, мужчины с женщин, чтобы путем такого бесстыдного зрелища дойти до настоящего эротического безумия.
Сотни совсем обнаженных и полуобнаженных женщин и мужчин в сладострастной истоме ждали спасителя. И спасение совершалось путем грандиозно-чудовищных оргий, всегда сопровождавших вспышку массового плясового безумия. Большинство женщин, участвовавших в таких плясовых эпидемиях, возвращались домой беременными, а меньшинство из них знало, кто отец ребенка, которого они носили под сердцем, ибо оргастическое опьянение бросало мужчин и женщин навстречу беспорядочному половому смешению.
Блох по этому поводу сообщает:
«…Характер сатанинской оргии Геррес описывает следующим образом: "Все, что развратнейшее безумие может придумать в сфере похоти, что жгучая чувственность может вытолкнуть из глубины своей на поверхность, все злое, перед чем пугается даже сама природа, — все это совершалось и практиковалось там как служение новому богу… Как проявляют свою любовь тигры и леопарды, так разрывают друг друга в мрачном сладострастии взбесившиеся, и только кровь потушит это пламя… Ненависть священников, посещающих шабаш, заставляет их иногда читать мессу над большими гостиями, затем вырезать их середину, обклеивать пергаментом и позорным образом употреблять для своей похоти… Во время мессы совершается тысяча бесчинств: одни высовывают язык, другие ругаются, третьи обнажают тело и т. д.
…Заканчивая танцевать, ведьмы предавались копуляции, сын не избегал матери, брат сестры, отец дочери — кровосмешение было повсюду"».
Де Накр дает заверенное под присягой свидетельство 16-летней Жанетт де Абади:
«При разделении на пары она видела каждого сходившегося с другим беспрестанно и в нарушение законов природы… Она винила себя в том, что была лишена девственности сатаной и была плотски познана бесчисленное количество раз (une infinit de fois) одним из своих родственников и другими, которые снизошли войти в нее. Она говорила, что боялась сексуальных сношений с дьяволом, потому что его член был покрыт чешуей и вызывал невыносимую боль, кроме того, его семя было исключительно холодным, таким холодным, что она ни разу не забеременела от него, фактически ее не обрюхатили и другие, обычные мужчины, бывшие на Ш.».
К подобным же явлениям приводила также эпидемия флагеллантов, с их процессиями самобичующихся, тоже обыкновенно завершавшимися отчасти открытыми, отчасти тайными оргиями…
Чувственность впала в смертельную болезнь.
Что было когда-то выражением грандиозной творческой силы, высшим осуществлением жизни, разрешалось теперь мучительными судорогами.
Божество умирало!

Фрагменты
Фрагмент 55. Роберт Саути. «Баллада, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем и кто сидел впереди»
«На кровле ворон дико прокричал —
Старушка слышит и бледнеет.
Понятно ей, что ворон тот сказал;
Слегла в постель, дрожит, хладеет.
И вопит скорбно: «Где мой сын-чернец?
Ему сказать мне слово дайте:
Увы! я гибну; близок мой конец;
Скорей, скорей! не опоздайте!»
И к матери идет чернец святой:
Ее услышать покаянье;
И тайные дары несет с собой,
Чтоб утолить ее страданье.
Но лишь пришел к одру с дарами он,
Старушка в трепете завыла;
Как смерти крик, ее протяжный стон…
«Не приближайся! — возопила. —
Не подноси ко мне святых даров;
Уже не в пользу покаянье…»
Был страшен вид ее седых власов,
И страшно груди колыханье.
Дары святые сын отнес назад
И к страждущей приходит снова;
Кругом бродил ее потухший взгляд;
Язык искал, немея, слова:
«Вся жизнь моя в грехах погребена,
Меня отвергнул Искупитель;
Твоя ж душа молитвой спасена,
Ты будь души моей спаситель.
Здесь вместо дня была мне ночи мгла;
Я кровь младенцев проливала,
Власы невест в огне волшебном жгла
И кости мертвых похищала.
И казнь лукавый обольститель мой
Уж мне готовит в адской злобе;
И я, смутив чужих гробов покой,
В своем не успокоюсь гробе.
Ах! не забудь моих последних слов:
Мой труп, обвитый пеленою,
Мой гроб, мой черный гробовой покров
Ты окропи святой водою.
Чтоб из свинца мой крепкий гроб был слит,
Семью окован обручами,
Во храм внесен, пред алтарем прибит
К помосту крепкими цепями.
И цепи окропи святой водой;
Чтобы священники собором
И день и ночь стояли надо мной
И пели панихиду хором;
Чтоб пятьдесят на крылосах дьячков
За ними в черных рясах пели;
Чтоб день и ночь свечи у образов
Из воску ярого горели;
Чтобы звучней во все колокола
С молитвой день и ночь звонили;
Чтоб заперта во храме дверь была;
Чтоб дьяконы пред ней кадили;
Чтоб крепок был запор церковных врат;
Чтобы с полуночного бденья
Он ни на миг с растворов не был снят
До солнечного восхожденья.
С обрядом тем молитеся три дня,
Три ночи сряду надо мною:
Чтоб не достиг губитель до меня,
Чтоб прах мой принят был землею».
И глас ее быть слышен перестал;
Померкши очи закатились;
Последний вздох в груди затрепетал;
Уста, охолодев, раскрылись.
И хладный труп, и саван гробовой,
И гроб под черной пеленою
Священники с приличною мольбой
Опрыскали святой водою.
Семь обручей на гроб положены;
Три цепи тяжкими винтами
Вонзились в гроб и с ним утверждены
В помост пред царскими дверями.
И вспрыснуты они святой водой;
И все священники в собранье,
Чтоб день и ночь душе на упокой
Свершать во храме поминанье.
Поют дьячки, все в черных стихарях,
Медлительными голосами;
Горят свечи надгробны в их руках,
Горят свечи пред образами.
Протяжный глас, и бледный лик певцов,
Печальный, страшный сумрак храма,
И тихий гроб, и длинный ряд попов
В тумане зыбком фимиама,
И горестный чернец пред алтарем,
Творящий до земли поклоны,
И в высоте дрожащим свеч огнем
Чуть озаренные иконы…
Ужасный вид! колокола звонят;
Уж час полуночного бденья.
И заперлись затворы тяжких врат
Перед начатием моленья.
И в перву ночь от свеч веселый блеск.
И вдруг… к полночи за вратами
Ужасный вой, ужасный шум и треск;
И слышалось: гремят цепями,
Железных врат запор, стуча, дрожит;
Звонят на колокольне звонче;
Молитву клир усерднее творит,
И пение поющих громче.
Гудят колокола, дьячки поют,
Попы молитвы вслух читают,
Чернец в слезах, в кадилах ладан жгут,
И свечи яркие пылают.
Запел петух… и, смолкнувши, бегут
Враги, не совершив ловитвы;
Смелей дьячки на крылосах поют,
Смелей попы творят молитвы.
В другую ночь от свеч темнее свет,
И слабо теплятся кадилы,
И гробовой у всех на лицах цвет,
Как будто встали из могилы.
И снова рев, и шум, и треск у врат;
Грызут замок, в затворы рвутся;
Как будто вихрь, как будто шумный град,
Как будто воды с гор несутся.
Пред алтарем чернец на землю пал,
Священники творят поклоны,
И дыш от свеч туманных побежал,
И потемнели все иконы.
Сильнее стук — звучней колокола,
И трепетней поющих голос:
В крови их хлад, объемлет очи мгла,
Дрожат колена, дыбом волос.
Запел петух… и прочь враги бегут,
Опять не совершив ловитвы;
Смелей дьячки на крылосах поют,
Попы смелей творят молитвы.
На третью ночь свечи едва горят;
И дым густой, и запах серный;
Как ряд теней, попы во мгле стоят;
Чуть виден гроб во мраке черный.
И стук у врат: как будто океан
Под бурею ревет и воет,
Как будто степь песчаную оркан
Свистящими крылами роет.
И звонари от страха чуть звонят,
И руки им служить не вольны;
Час от часу страшнее гром у врат,
И звон слабее колокольный,
Дрожа, упал чернец пред алтарем;
Молиться силы нет; во прахе
Лежит, к земле приникнувши лицом;
Поднять глаза не смеет в страхе.
И певчих хор, досель согласный, стал
Нестройным криком от смятенья;
Им чудилось, что церковь зашатал
Как бы удар землетрясенья.
Вдруг затускнел огонь во всех свечах,
Погасли все и закурились;
И замер глас у певчих на устах,
Все трепетали, все крестились.
И раздалось… как будто оный глас,
Который грянет над гробами;
И храма дверь со стуком затряслась
И на пол рухнула с петлями.
И он предстал весь в пламени очам,
Свирепый, мрачный, разъяренный;
И вкруг него огромный Божий храм
Казался печью раскаленной!
Едва сказал: «Исчезните!» цепям —
Они рассыпались золою;
Едва рукой коснулся обручам —
Они истлели под рукою.
И вскрылся гроб. Он к телу вопиет:
«Восстань, иди вослед владыке!»
И проступил от слов сих хладный пот
На мертвом, неподвижном лике.
И тихо труп со стоном тяжким встал,
Покорен страшному призванью;
И никогда здесь смертный не слыхал
Подобного тому стенанью.
И ко вратам пошла она с врагом…
Там зрелся конь чернее ночи.
Храпит и ржет и пышет он огнем,
И как пожар пылают очи.
И на коня с добычей прянул враг;
И труп завыл; и быстротечно
Конь полетел, взвивая дым и прах;
И слух об ней пропал навечно.
Никто не зрел, как с нею мчался он…
Лишь страшный след нашли на прахе;
Лишь, внемля крик, всю ночь сквозь тяжкий сон
Младенцы вздрагивали в страхе».
Фрагмент 56. Уильям Шекспир. «Макбет»
«Действие I Сцена первая
Пустошь. Гроза. Входят три ведьмы. Первая ведьма Когда при молниях, под гром Мы в дождь сойдемся вновь втроем? Вторая ведьма Как только завершится бой Победой стороны одной. Третья ведьма Перед вечернею зарей. Первая ведьма Где встреча? Вторая ведьма В вересках. Третья ведьма До тьмы Макбета там увидим мы. Первая ведьма Кот мяукнул. — Нам пора! Все ведьмы (вместе) Жаба укнула. — Летим! Грань меж добром и злом, сотрись! Сквозь пар гнилой помчимся ввысь.* * *
Действие IV. Сцена первая
Пещера. Посредине — кипящий котел. Гром. Входят три ведьмы. Первая ведьма Трижды взвизгнул пестрый кот. Вторая ведьма Всхлипнул еж в четвертый раз. Третья ведьма Гарпия[204] кричит: «Пора!» Первая ведьма Сестры, в круг! Бурлит вода. Яд и нечисть — все туда. Жаба, что в земле сырой Под кладбищенской плитой Тридцать дней копила слизь, Первая в котле варись! Все ведьмы (вместе) Пламя, прядай, клокочи! Зелье, прей! Котел, урчи! Вторая ведьма Вслед за жабой в чан живей Сыпьте жир болотных змей, Зев ехидны, клюв совиный, Глаз медянки, хвост ужиный, Шерсть кожана, зуб собачий Вместе с пастью лягушачьей, Чтоб для адских чар и ков Был у нас отвар готов. Все ведьмы (вместе) Пламя, прядай, клокочи! Зелье, прей! Котел, урчи! Третья ведьма Ветка тиса, что была Ночью, чуть луна зашла, В чаще срезана дремучей, Пасть акулы, клык бирючий, Желчь козла, драконья лапа, Турка нос, губа арапа, Печень нехристя-жиденка, Прах колдуньи, труп ребенка, Шлюхой-матерью зарытый В чистом поле под ракитой, Потрох тигра, в ступке взбитый, И цикута на приправу Нам дадут отвар на славу. Все ведьмы (вместе) Пламя, прядай, клокочи! Зелье, прей! Котел, урчи! Вторая ведьма Павианью кровь цедите — Взвар крепите и студите. Входит Геката. Геката Хвалю за труд. Спасибо вам! Я каждой за него воздам, А вы покончите с волшбой, Сомкнувшись в пляске круговой, Как эльфы позднею порой. Музыка и пение: «Духи черные…» и т. д. Геката удаляется. Вторая ведьма У меня заныли кости. Значит, жди дурного гостя. Крюк, с петли слети, Пришлеца впусти. Входит Макбет. Макбет Эй, черные полуночные ведьмы, Чем заняты вы? Все ведьмы (вместе) Несказанным делом. Макбет Где б ваши знанья вы ни почерпнули, Я ими заклинаю вас, ответьте. Пусть даже ваш ответ принудит вихрь Сраженье с колокольнями затеять, Валы — вскипеть и поглотить суда, Хлеба — полечь, деревья — повалиться, Твердыни — рухнуть на голову страже, Дворцы и пирамиды — до земли Челом склониться, чтоб, опустошив Сокровищницу сил своих безмерных, Изнемогла природа, — отвечайте! Первая ведьма Спроси. Вторая ведьма Задай вопрос. Третья ведьма Ответ дадим. Первая ведьма Ты ждешь его от нас или от тех, Кто старше нас? Макбет От старших. Пусть предстанут. Первая ведьма В воду лей, в огонь струи Пот убийцы, кровь свиньи, Съевшей собственный приплод. Все ведьмы (вместе) Старший, младший — да придет Каждый призрак в свой черед. Гром. Появляется первый призрак: голова в шлеме. Макбет Скажи, безвестный… Первая ведьма Это ни к чему: Он мысль твою прочел. Внимай ему. Первый призрак Макбет, страшись Макдуфа. Файфский тан Опасен. — Мне пора: совет мой дан. (Исчезает.) Макбет Кто б ни был ты, спасибо за него. Струну боязни он во мне затронул. Скажи еще… Первая ведьма Он глух к твоим приказам. Но вот другой. Тот будет посильнее. Гром. Появляется второй призрак: окровавленный младенец. Второй призрак Макбет! Макбет! Макбет! Макбет Будь у меня Три уха, я тебе внимал бы всеми. Второй призрак Лей кровь и попирай людской закон. Макбет для тех, кто женщиной рожден, Неуязвим. (Исчезает.) Макбет Макдуф, живи: ты мне теперь не страшен. Но нет, пусть для уверенности вящей Судьба мне даст залог. Ты жить не будешь, Чтоб мог я бледный страх назвать лжецом И крепко спать назло громам. Гром. Появляется третий призрак: дитя в короне, с ветвью в руке. Кто это Дитя с осанкой отпрыска монархов, На чьем челе как признак высшей власти Лежит корона? Все ведьмы (вместе) Слушай и молчи. Третий призрак Будь смел, как лев. Да не вселят смятенье В тебя ни заговор, ни возмущенье: Пока на Дунсинанский холм в поход Бирнамский лес деревья не пошлет, Макбет несокрушим. (Исчезает.) Макбет Не быть тому! Стволы не сдвинуть с места никому. Их не наймешь, как войско. Я воскрес! Спи, бунт, пока стоит Бирнамский лес. Ликуй, Макбет! В сиянии венца Земным путем пройдешь ты до конца, Назначенного смертным. Но одно Скажите мне, коль все вам знать дано: Воссядет ли на трон державы нашей Род Банко? Все ведьмы (вместе) Не стремись узнать об этом. Макбет Нет, вы ответ дадите, или вас Я прокляну навеки! — Что случилось? Куда котел девался? Что за звуки? Гобои. Первая ведьма Появитесь! Вторая ведьма Появитесь! Третья ведьма Появитесь! Первая ведьма Сердце честолюбца раньте И во тьму обратно каньте! Появляются призраки: восемь королей, в руке у последнего зеркало; за ними — Банко. Макбет Ты чересчур похож на призрак Банко. Сгинь! Твой венец мне жжет глаза. И ты, Второй, в венце таком же, как и первый. И третий также… Мерзостные ведьмы! Зачем вы мне явили их? Четвертый! Иль цепь их только Судный день прервет? Еще один! Седьмой! С меня довольно!.. Но вот восьмой. Он с зеркалом, в котором Я вижу длинный ряд других. Иные Со скипетром тройным, с двойной державой. О вид ужасный! Призраки не лгут. Не зря же Банко, весь в крови, с улыбкой Глядит на них как на своих потомков. Не так ли? Первая ведьма Так. Но разве это Способно устрашить Макбета? В круг, сестры! Мастерством своим Мы дух его возвеселим. Заставлю воздух я для вас Запеть, а вы пуститесь в пляс, Чтоб за неласковый прием Нас не корил король потом. Музыка. Ведьмы пляшут, затем исчезают». Перевод Ю. Корнеева. (Цитируется по изданию: Уильям Шекспир. Трагедии, комедии, исторические хроники. М., 2000.)Фрагмент 57. Иоганн Вольфганг Гете. «Фауст»
«Часть I. Кухня ведьмы На огне низкого очага стоит большой котел. В подымающихся над ним парах мелькают меняющиеся призраки. У котла мартышка-самка снимает пену и смотрит, чтобы котел не перекипел. Мартышка-самец с детенышами сидят рядом и греются. Стены и потолок кухни увешаны странными принадлежностями ведьминого обихода. Фауст Меня тошнит, и вянут уши. Не этой тарабарской чушью От грустных дум меня отвлечь. Не старой бабе и кликуше Мне три десятка сбросить с плеч. И если у самой природы Нет средства мне вернуть покой, То нет моей хандре исхода И нет надежды никакой. Мефистофель Ты снова рассуждаешь здраво. Есть средство посильней питья, Но то — особая статья. Едва ль оно тебе по нраву. Фауст Что это? Мефистофель Способ без затрат, Без ведьм и бабок долго выжить. Возделай поле или сад, Возьмись копать или мотыжить, Замкни работы в тесный круг, Найди в них удовлетворенье. Всю жизнь кормись плодами рук, Скотине следуя в смиренье. Вставай с коровами чуть свет, Потей и не стыдись навоза — Тебя на восемьдесят лет Омолодит метаморфоза. Фауст Жить без размаху? Никогда! Не пристрастился б я к лопате, К покою, к узости понятий. Мефистофель Вот, значит, в ведьме и нужда. Фауст Зачем нам обращаться к бабе? Питья б ты сам сварить не мог? Мефистофель Кухарничать не мой конек. Я навожу мосты над хлябью. Готовить вытяжку из трав — Труд непомерного терпенья. Необходим спокойный нрав, Чтоб выждать много лет броженья. Тут к месту кропотливый дар, Предмет по-женски щепетилен. Хоть черт учил варить отвар, Но сам сварить его бессилен. (Заметив зверей.) Взгляни на миленьких зверей. Вот горничная. Вот лакей. (Зверям.) Хозяйки, видно, нет в квартире? Звери Она на пире. Хвать вьюшку за скобу— И фюить в трубу. Мефистофель Все шляется по ассамблеям? Звери Пока мы лапы греем. Мефистофель Как ты зверенышей нашел? Фауст Сама нелепость и безвкусье. Мефистофель Напрасно! С ними я провел Часы приятнейших дискуссий. (Зверям.) Что, малыши, у вас кипит? Какой попахивает пищей? Звери Похлебкою для братьи нищей. Мефистофель О, так у вас широкий сбыт! Самец (приблизившись к Мефистофелю и подлизываясь к нему) Сыграем в очко, А то нелегко На тощий желудок. А выставишь грош, Деньгу зашибешь, Окрепнет рассудок. Мефистофель Еще бы! Выиграв в лото, Ты будешь счастлив, как никто! Детеныши, играя, выкатывают на середину комнаты большой шар. Самец Вот шар земной, Как заводной Кубарь негромкий. Внутри дупло. Он, как стекло, Пустой и ломкий. Вот здесь пятно Освещено, А здесь потемки. Мой сын, постой, Своей судьбой И жизнью шутишь! Раскатишь зря, Нет кубаря, И не закрутишь. Мефистофель Зачем тут несколько решет? Самец (снимая решето) Сквозь лубяной их переплет Себя преступник выдает. (Подбегает к самке и заставляет ее посмотреть сквозь решето.) Жена уж вора уличила, Да страшно вслух назвать громилу. Мефистофель (приближаясь к огню) А для чего горшок? Самец и самка Какой дурачок! Ему невдомек Котла примененье, Горшка назначенье! Мефистофель Дурной ответ, И вы — нахалы. Самец Вот веник вместо опахала, Садитесь, вот вам табурет. (Предлагает Мефистофелю сесть.) Фауст (глядевший тем временем в зеркало, то приближаясь к нему; то удаляясь) Кто этот облик неземной Волшебным зеркалом наводит? Любовь, слетай туда со мной, Откуда этот блеск исходит. Кто эта женщина вдали? Уменьшится ли расстоянье, Иль образ на краю земли Всегда останется в тумане? И неужели не обман И что-то вправду есть на свете, Как бесподобный этот стан, И голова, и руки эти? Мефистофель Еще бы! Бог, трудясь шесть дней И на седьмой воскликнув «браво», Мог что-нибудь создать на славу. Покамест полюбуйся ей, А я почище грез твоих Тебе сокровище добуду, И счастлив будет тот жених, Кто раздобудет это чудо. Фауст по-прежнему смотрит в зеркало. Мефистофель, потягиваясь и обмахиваясь веником, продолжает: Я, как король, на вас взираю с трона. Вот скипетр мой, и только нет короны. Звери (проделывавшие между тем странные телодвижения, с криком несут Мефистофелю расщепившуюся надвое корону) Корону сдави, В поту, на крови Скрепи, словно клеем. (Неловкими движениями разваливают корону и прыгают с ее обломками.) И вот мы скорбим, И прозой вопим, И в рифму умеем. Фауст (перед зеркалом) Пропал! Я как в бреду. Мефистофель (указывая на зверей) Я тоже, кажется, с ума сойду. Звери А если меж строк Есть смысла намек, Тогда нам удача. Фауст (как выше) Я страстию объят горячей! Уйдем отсюда поскорей! Мефистофель (в прежнем положении) Зверюги эти, истины не пряча, Хоть откровенней многих рифмачей! По недосмотру самки котел перекипает. В пламени, которое выкидывает наружу, в кухню с диким воем спускается ведьма. Ведьма Ай-ай-ай-ай! Зеваешь, негодяйка? Получишь нагоняй! Ошпарила хозяйку! Вода из шайки Уходит через край! (Заметив Фауста и Мефистофеля.) А это кто, Копыл вам в бок? Кто вас позвал К нам на порог? Я вам скандал Чинить не дам! За шум и гам Огнем обдам! (Сунув шумовку в котел, обрызгивает всех воспламеняющейся жидкостью. Звери визжат.) Мефистофель (ручкой веника бьет посуду) И мы содом Произведем — И поделом! Имей в виду! Все в прах, все вдрызг! У, василиск! Подымешь визг! Я не твою Посуду бью,— Я под твою Пляшу дуду! Ведьма отступает в ярости и ужасе. Не узнаешь? А я могу Стереть, как твой прямой владыка, С лица земли тебя, каргу, С твоею обезьяньей кликой! Забыла красный мой камзол? Стоишь с небрежным равнодушьем Перед моим пером петушьим? Не видишь, кто к тебе пришел? Ведьма Слепа, простите за прием! Но что ж не вижу я копыта? Где вороны из вашей свиты? Мефистофель Прощаю. В промахе твоем Виновна долгая разлука. О том не пророню ни звука. Все в мире изменил прогресс. Как быть? Меняется и бес. Арктический фантом не в моде, Когтей ты не найдешь в заводе. Рога исчезли, хвост исчез. С копытом вышел бы скандал, Когда б по форме современной Я от подъема до колена Себе гамаш не заказал. Ведьма (приплясывая) Я просто обворожена, Вас видя, душка-сатана! Мефистофель Найди другие имена, А это мне вредит во мненье. Ведьма Что вредного в его значенье? Мефистофель Хоть в мифологию оно Давным-давно занесено, Но стало выражать презренье. Злодеи — разговор иной, Тех чтут, но плохо с сатаной. Ты можешь звать меня бароном, И я, как всякий князь и граф, На то имея больше прав, Горжусь своим гербом исконным. (Делает неприличный жест.) Ведьма (смеясь во все горло) Ха-ха-ха-ха! Года идут, А вы все тот же шалопут! Мефистофель (Фаусту) Все эти ведьмы льнут ко мне. Учись, как с ними обходиться. Ведьма Чем я могу вам пригодиться? Мефистофель Нужда у нас в твоем вине, Но не в таком, что в обращенье, А старого изготовленья. Такое действует вдвойне. Ведьма Вот есть немножко во флаконе, Понюхайте, какой букет. Теперь оно совсем без вони. Я пью. Налить и вам, сосед? (Тихо Мефистофелю.) Чужому вредно, если не пивал: Уложит с непривычки наповал. Мефистофель Ему не повредит и штоф, Не только то, что тут в стакане. Черти свой круг, тверди чуранье И чашу полни до краев. Ведьма со странными движениями проводит круг и ставит в него разные предметы. Горшки и миски начинают звенеть в музыкальном согласии. Ведьма достает большую книгу, ставит мартышек в середину круга, кладет книгу одной из них на спину, а другим дает в руки горящие факелы. Кивает Фаусту, чтобы он подошел. Фауст (Мефистофелю) Что за раденье обезьянье? Жестикуляция, кривлянье. Я знаю цену этой лжи. К чему мне это все, скажи? Мефистофель Профессиональная забава Врачующей. Не будь к ней строг. Пусть думает, что без приправы Действителен не будет сок. (Убеждает Фауста вступить в круг.) Ведьма (напыщенно декламируя по книге) Ты из одной Десятку строй, А двойку скрой, О ней не вой. Дай тройке ход, Чтоб стало чет, И ты богач. Четверку спрячь, О ней не плачь, А пять и шесть С семеркой свесть, И до восьми Их подыми. Девятка — кон, Десятку — вон. Вот ведьмина таблица умноженья. Фауст Старуху бредит в исступленье. Мефистофель О дорогой мой, погоди, Все это лишь еще цветочки! Еще что будет впереди! Я книгу изучил до точки, И все ж, представь, ни в зуб толкнуть. Согласие противоречий Для головы моей овечьей Непроницаемая муть. Веками ведь, за годом год, Из тройственности и единства Творили глупые бесчинства И городили огород. А мало ль вычурных систем Возникло на такой основе? Глупцы довольствуются тем, Что видят смысл во всяком слове. Ведьма (продолжая) Наук зерно Погребено Под слоем пыли. Кто не мудрит, Тем путь открыт Без их усилий. Фауст Я, кажется, с ума сойду От этих диких оборотов! Как будто сотня идиотов Горланит хором ерунду. Мефистофель Довольно, мудрая сивилла! Налей-ка другу пополней. Гляди, он не младенец хилый, Он и по этой части сила, Магистр всех пьяных степеней. Ведьма с видом священнодействия наливает питье в чашку. Когда Фауст подносит его к губам, оно загорается. (Фаусту.) Пей, пей от сердца полноты, Покуда чувства оживятся! Ты с дьяволом самим на «ты». Тебе ли пламени бояться? Ведьма размыкает круг. Фауст выходит из него. В дорогу! Двигайся, не стой. Ведьма Помочь душою рада всею. Мефистофель (ведьме) В Вальпургиеву ночь с тобой Добром сквитаться я сумею. Ведьма Вот песенка, мурлычьте в нос, Чтоб пользу эликсир принес. Мефистофель Пойдем, нельзя без моциона. Ты должен весь пропреть насквозь. Вся суть наливки потогонной, Чтоб тело жару набралось. Прогулка действие ускорит, Ты будешь словно возрожден, Когда тебя всего разморит Приятной ленью Купидон. Фауст Не торопи меня, указчик! От зеркала мне не уйти. Мефистофель Оставь! Ты женщин всех образчик Увидишь скоро во плоти. (В сторону.) Глотнув настойки, он Елену Во всех усмотрит непременно.* * *
Вальпургиева ночь
Горы Гарца близ деревень Ширке и Эленд. Фауст и Мефистофель. Мефистофель Ты б не прельстился добрым метловищем? А я бы прокатился на козле. Нам далеко, и мы еще порыщем. Фауст Покамест ноги носят по земле, Еще я пешеход неутомимый. Уменьшив путь, пропустим много мимо, В самой прогулке радость ходоку. Я для того пошел пешком по скалам И в руки взял дорожную клюку, Чтобы внимать лавинам и обвалам. Уж дышит по-весеннему береза, И даже веселее ель глядит. Ужель весна тебя не молодит? Мефистофель Нет, у меня в душе стоят морозы, Но я люблю и стужу и буран. К тому ж ущербный месяц сквозь туман Льет тусклый свет с угрюмым видом скряги. Ни зги не видно, и при каждом шаге — Перед тобой, негадан и неждан, Ствол дерева, и камни, и коряги. Я у блуждающего огонька Спрошу, как лучше нам пройти к вершине. В горах нет лучшего проводника. Вот сам он, кстати, легок на помине. Не откажи, чем даром тратить пламя, Нам посветить и вверх взобраться с нами. Блуждающий огонек Не прекословлю никогда природе: Я двигаться зигзагами привык, Всегда с оглядкой, а не напрямик. Мефистофель Не подражай двуногому отродью, Валяй во имя черта по прямой, Иначе я задую пламень твой. Блуждающий огонек Вы кто-то здесь из признанных владык. Я подчиняюсь вам беспрекословно, Но ведь сегодня тут ночной содом. Неровный свет мой неповинен в том, Что нам тут выпадает путь неровный. Фауст, Мефистофель и Блуждающий огонек (поочередно) Путь лежит по плоскогорью, Нас встречает неизвестность. Это край фантасмагорий, Очарованная местность. Глубже в горы, глубже в горы! Чудеса! Деревья бора Скачут в чехарде средь луга Через головы друг друга. Горы нагибают спины, Чтоб перемахнуть вершины. Мелких волн курчавя гребни, Ручеек бежит по щебню. Что мурлычет он ворчливо День и ночь без перерыва? Обвиненье ли в измене Пенят бешено каменья? Отзвук ли времен счастливых Слышен в этих переливах? И о том, что память прячет, Эхо, вспоминая, плачет? Переклички стай совиных Отзываются в долинах. Слышен, далью повторенный, Хохот филина бессонный. Месяц осветил тропинку, Блещет ящерицы спинка. По-гадючьи, змей проворней, Расползлись под нами корни, А над нами, пальцы скрючив, Виснет путаница сучьев. Темный лес оплел дорогу Щупальцами осьминога, И кишмя кишит под мхами Разномастными мышами. А светящиеся мушки Вьются на его опушке Кучами, несметным скопом, Огненным калейдоскопом. Но, скажите мне по чести, Не стоим ли мы на месте? Может, все, что есть в природе, Закружившись в хороводе, Мчится, пролетая мимо, Мы же сами недвижимы? Мефистофель Ухватись за мой камзол. Видишь, в недрах гор взошел Царь Маммон на свой престол. Световой эффект усилен Заревом его плавилен. Фауст Как облик этих гор громаден! Как он окутан до вершин Ненастной тьмой глубоких впадин И мглой лесистых котловин! Как угольщики, черномазы Скопившиеся в них пары, Как будто это клубы газа Из огнедышащей горы. И правда, языком багряным Бросаясь к облакам седым, Здесь пламя борется с туманом И пробивается сквозь дым. Вон искры отлетают блесткой, Вон в виде крупного зерна. Но вот скала у перекрестка Вся доверху озарена! Мефистофель Маммон залить не поскупился Иллюминацией чертог. Я рад, что ты сюда явился. Уж начался гостей приток. Фауст Скопленья шумного кортежа Столкнут меня с тропы проезжей Мефистофель Скорей за что-нибудь схватись, А то сорвешься с кручи вниз. На курганы лег туман, Завывает ураган. Гул и гомон карнавала Распугал сычей и сов. Ветер, главный запевала, Не щадит красы лесов. И расселины полны Ворохами бурелома И обломками сосны, Как развалинами дома, Сброшенного с крутизны. И все ближе, ближе вой, Улюлюканье и пенье Страшного столпотворенья, Мчащегося в отдаленье На свой шабаш годовой. Ведьмы (хором) На Брокен ведьмы тянут в ряд. Овес взошел, ячмень не сжат. Там Уриан, князь мракобесья, Красуется у поднебесья. По воздуху летит отряд, Козлы и всадницы смердят. Голос Старуха Баубо мчит к верхушке Верхом на супоросой хрюшке. Хор Колдунье и свинье почет. Вперед за бабкою, вперед! Всей кавалькадой верховых, Чертовок, ведьм и лешачих! Голос Откуда ты? Другой голос От Ильзенштейна, Лесной тропою чародейной. К сове наведалась в дупло, А как надулась, и пошло! Третий голос Освободи проезд, не мешкай! Второй голос Подумаешь, какая спешка! Да не пыхти ты, не потей, Я вся в следах твоих когтей. Ведьмы (хором) Нельзя ли чуть порасторопней? Так в давке сжали, что хоть лопни! Не тыкай вилами в живот! Задушите в утробе плод! Колдуны (половина хора) Ползут мужчины, как улитки, А видите, как бабы прытки. Где пахнет злом, там бабий род Уходит на версту вперед. Другая половина Еще довольно это спорно. Как ваша баба ни проворна, Ее мужчина, хоть и хром, Опередит одним прыжком. Голос (сверху) Пожалуйте к нам наверх с плеса! Голос (снизу) Сейчас взберемся на утесы. Мы вымылись водой холодной, Зато и дочиста бесплодны. Оба хора Стих ветер. Месяц со звездой Пропал за облачной грядой. Мы ж вихрем огненным летим, И веселимся, и галдим. Голос (снизу) Стой! Стой! Голос (сверху) Что там за образина Зовет меня со дна теснины? Голос (снизу) Мне хочется со всей гурьбой! Прошу вас взять меня с собой. За триста лет я еле-еле Наружу выполз из ущелья. Оба хора Сядь на козла, садись на шест, На вилах соверши свой въезд. Но знай: ты попадешь туда Сегодня или никогда. Полуведьма (внизу) С начала дня я семеню, А их никак не догоню. И дома маета внизу, И до хребта не доползу. Ведьмы (хором) Втиранье ускоряет прыть, Рвань может парусом служить, Садись в корыто, и айда! Сегодня или никогда. Оба хора Когда ж у ног увидим кряж, Опустится весь поезд наш, Рассядемся всем нашим роем, Толпой своей хребет покроем. (Садятся на землю.) Мефистофель Срамниц, страшилищ всяких, рож! А крик какой, какой галдеж! Поистине живой пример Мегер и фурий без манер. Мне руку в свалке протяни,— Нас разлучат средь толкотни. Где ты? Фауст (издали) Я здесь. Мефистофель Нашел едва. Вступлю в хозяйские права. Эй, рвань, с дороги свороти И дайте дьяволу пройти! Давай-ка, доктор, вон из давки И этой дикой тесноты Переберемся под кусты И мирно посидим на травке. Фауст Нет, у тебя все парадоксы! На Брокен совершить подъем, Куда весь ад на шабаш стекся, Чтоб тут сидеть особняком! Мефистофель Я враг таких больших компаний, И мне милее у костра Ночные толки на поляне. Фауст А я б взошел на верх бугра. Там весь ваш цвет в разгаре пьянства, Все дьявольское атаманство. И сатана у самых круч Ко многим тайнам держит ключ. Мефистофель Там и загадок новый узел. Нет, царедворцы не по мне, Меня б их вид переконфузил. Давай побудем в тишине. Лишь в маленьком кружке интимном Есть место тонкостям взаимным. Здесь, видишь ли, полутемно, И это лучше полусвета. На старых ведьмах домино, Молоденькие же раздеты, Будь с ними ради этикета Любезен, так заведено. Но, слышишь, — музыка давно. Как им играть не опротивит, Когда так зверски все фальшивят? Но пусть в разброде струнный хор, Составим пары для кадрили. Что скажешь ты? Какой простор! Кругом до самых дальних гор Пылает за костром костер. Ты видишь зрелище обилья, Танцоров, пьяниц и обжор. Найди, где лучше бы кутили. Фауст Ты выступишь как сатана Или в обличье колдуна? Мефистофель Я б предпочел инкогнито огласке, Но принято встречаться на пиру При орденах, в открытую, без маски. У нас не носят ордена Подвязки, Мое копыто больше ко двору. Мой знак отличья оползла улитка, Ей и тебя пронюхать удалось. Таиться здесь — бесплодная попытка, Здесь сразу видят каждого насквозь. Пройдемся вдоль костров по этим скатам. Ты будешь женихом, я буду сватом. (К группе старичков вокруг полупотухшего костра.) Что вы засели здесь в тени ракит? Поближе к поколенью молодому! Там в середине спор вовсю кипит. Отмалчиваться можно ведь и дома. Генерал Стоишь за честь и гордость наций, Как вдруг на них находит стих: Народы вероломней граций И любят только молодых. Министр Все изолгались, вот в чем горе. Былой уклад невозвратим. Покамест были мы в фаворе, Век был взаправду золотым. Разбогатевший делец И мы ловить умели случай, И мы хватали через край, Вдруг все закрылось черной тучей, И славные деньки прощай. Писатель К чему писать большие книги, Когда их некому читать? Теперешние прощелыги Умеют только отрицать. Мефистофель (вдруг на вид страшно состарившись) Не день ли скоро Страшного Суда? Как погляжу на этих я каналий, Вся бочка вытекла, на дне бурда,— Невольно мысль приходит о финале. Ведьма-старьевщица Эй, судари, а ну-ка к нам! Сговорчивее нет торговки, Таким приличным господам Свой хлам продам я по дешевке. Ни на каких торгах земли Добра такого не найдете. Все то, что тут лежит в пыли, Обломки эти и лохмотья Несчастье людям принесли. Здесь все клинки от крови ржавы, На рюмках — отпечатки губ С остатками былой отравы, Колечком каждым душегуб Надругивался над невинной, Здесь нет ни одного ножа, Который не вонзили в спину Из мести или грабежа. Мефистофель Ну что ты вынесла на рынок? Ведь это заваль, старина! Нет у тебя, кума, новинок? Теперь иные времена.. Фауст И публика, и самый торг, И ярмарка — один восторг! Мефистофель К вершине двинулся поток. Пихаешь в бок, сбивают с ног. Фауст Кто там? Мефистофель Лилит. Фауст На мой вопрос, Пожалуйста, ответь мне прямо. Кто? Мефистофель Первая жена Адама. Весь туалет ее из кос. Остерегись ее волос: Она не одного подростка Сгубила этою прической. Фауст Вон две сидят. Я — к молодой, А ты ступай к другой, седой. Мефистофель Представимся сейчас же им И танцевать их пригласим. Фауст (танцуя с молодою) Я видел яблоню во сне. На ветке полюбились мне Два спелых яблока в соку. Я влез за ними по суку. Красавица Вам Ева-мать внушила страсть Рвать яблоки в садах и красть. По эту сторону плетня Есть яблоки и у меня. Мефистофель (танцуя со старухою) Я видел любопытный сон. Ствол дерева был расщеплен. Такою складкой шла кора, Что мне понравилась дыра. Старуха Любезник с конскою ногой, Вы — волокита продувной. Готовьте подходящий кол, Чтоб залечить дуплистый ствол. Проктофантасмист (Задопровидец) Проклятая, безмозглая орда! Доказано как будто всесторонне: У духов нет конечностей. Тогда Как можете ходить вы в котильоне? Красавица (танцуя) Что взъелся он на наш невинный бал? Фауст (танцуя) Завистник и дурак, вот и пристал. Он просто глуп, как дважды два четыре И все не по нутру ему, придире. Лишь в пересудах он находит вкус, И сам как бы ходячий комментарий К делам, к словам, к вещам, ко всякой твари, К тому, что с вами в паре я кружусь. Проктофантасмист Вы тут еще? Ведь я сказал вам: сгиньте! В наш просвещенный век я слишком тих. В природе нет кикимор и шишиг! Что ж вы толчетесь в этом лабиринте И в Тегеле на чердаках моих Обосновались в виде домовых? Красавица Как терпят скучных приставал таких! Проктофантасмист Я, духи, это вам в лицо скажу: Сегодня я не одержал победы, Но я еще раз как-нибудь приеду И уж тогда конец вам положу! Танцы продолжаются. Не пощажу ни сил своих, ни дней, Чтоб извести поэтов и чертей. Мефистофель Сейчас он в лужу сядет для поправки. Он гнев смиряет, охлаждая зад. Поставленные к копчику пиявки От вида духов дух его целят. (Фаусту, переставшему танцевать.) Что ж даму упустил ты в заключенье И почему упорно так молчишь? Фауст Ах, изо рта у ней во время пенья Вдруг выпрыгнула розовая мышь. Мефистофель Ну что ж, не каждое ведь лыко в строку. Благодари, что мышка не сера, И не горюй об этом так глубоко! Фауст Затем… Мефистофель Ну, что ж? Фауст Взгляни на край бугра. Мефисто, видишь, там у края Тень одинокая такая? Она по воздуху скользит, Земли ногой не задевая. У девушки несчастный вид И, как у Гретхен, облик кроткий, А на ногах ее — колодки. Мефистофель Зачем смотреть на тот курган? Ведь это призрак, истукан Из тех видений и иллюзий, Вблизи которых стынет кровь. Пожалуйста, не прекословь. Небось ты слышал о Медузе? Фауст Покойница, которой глаз Рука родная не закрыла! Да, это тело Гретхен милой, Которая мне отдалась! Мефистофель Тут колдовской обычный трюк: Все видят в ней своих подруг. Фауст Как ты бела, как ты бледна, Моя краса, моя вина! И красная черта на шейке. Как будто бы по полотну Отбили ниткой по линейке Кайму, в секиры ширину. Мефистофель Ей голову срубил Персей. Она снимается, как крышка. Для обезглавленной ловчей Брать иногда ее под мышку. Зачем ты растравляешь боль? Смотри, как шумно на поляне, Как в Пратере во дни гулянья. Театр приехал на гастроль. Повеселить тебя позволь. Что тут дают? Servilbilis (Подлиза) Сейчас начнут премьеру Седьмую, между прочим, за сезон. Театр привержен к новостям без меры. Однако перейдемте в павильон. Идет любительское обозренье В любительском к тому же исполненье. Я тоже труд любителей делю: Я поднимать им занавес люблю. Поэтому я должен удалиться. Мефистофель На Брокене и место этой птице». Перевод Б. Пастернака (Цитируется по изданию: И. В. Гете. Фауст. М., 1969.)Фрагмент 58. Джованфранческо Страпарола. «Приятные ночи»
«Ночь X. Сказка IV Гражданин Комо Андриджетто из Вальсабии на смертном одре составляет завещание; свою душу; а также души своего нотариуса и духовника он отказывает дьяволу и умирает по этой причине осужденным на вечные муки. …В Комо, — небольшом городке Ломбардии, находящемся невдалеке от Милана, обитал один горожанин, прозывавшийся Андриджетто из Вальсабии. Этот Андриджетто владел такими обширнейшими поместьями, огромнейшими стадами, что никто во всем городе не мог бы сравниться с ним, но его нисколько не грызла совесть, сколь бы скверными ни были творимые им дела. Итак, будучи первейшим богачом и держа в закромах уйму пшеницы и другого зерна, которую ему доставляли его поместья, он никоим образом не желал продавать хлеб за деньги ни купцам, ни кому иному, а раздавал все свои урожаи бедным крестьянам и другим обездоленным. Делал он это вовсе не потому, что имел намерение помочь беднякам, но ради того, чтобы вырвать у них из рук тот или иной участок земли и тем самым увеличить свои поместья и урожаи; и он всегда норовил выбрать такое поле, которое принесло бы ему наибольшую выгоду, с тем чтобы мало-помалу подчинить себе всех в округе. Случилось так, что эти края постиг великий недород, и он был таков, что во многих местах мужчины, женщины и дети мерли от голода. По этой причине все окрестные крестьяне, и с равнины и с гор, стали обращаться за помощью к Андриджетто, и кто отдавал ему клочок луга, кто — леса, а кто и возделанной пашни и взамен уносил пшеницы или какого другого зерна, сколько кому было нужно, и такое множество просителей отовсюду устремлялось в дом Андриджетто, что казалось, будто там отмечается юбилейный год. Был у Андриджетто нотариус по имени Тонисто Распанте — человек в нотариальном деле чрезвычайно сведущий, а в искусстве обирать крестьян превосходивший кого бы то ни было. В Комо существовал закон, воспрещавший нотариусу составлять купчую крепость, если в его присутствии и при свидетелях продающему не были вручены деньги за приобретаемое имущество. Поэтому Тонисто Распанте не раз говорил Андриджетто, что ему не по душе составлять подобные купчие; ведь они нарушают установленное действующими законами, и он не хочет подвергнуться каре. Но Андриджетто в ответ осыпал его бранью и угрожал лишить жизни, и, так как был он человеком рослым и одним из виднейших в городе и всегда почитался столь же красноречивым, как святой Иоанн Златоуст, нотариус делал все, что бы тот ему ни велел. Случилось так, что Андриджетто пришла пора исповедоваться, и он послал своему духовнику великолепные и роскошные яства и сверх того кусок превосходнейшего сукна на две пары чулок — для него и для его домоправительницы, и условился с ним, что на следующий день явится к нему исповедоваться. Мессер священник, поскольку Андриджетто был влиятельным гражданином и богачом, получив обильную мзду, встретил его приветливо и принял любезно и ласково. Пав на колени перед священнослужителем и усердно обвиняя себя в многочисленных прегрешениях, Андриджетто заговорил и о кабальных договорах, которые он заключал, и подробно поведал о них своему исповеднику. Священник, который был человеком весьма сведущим и начитанным и хорошо знал, что договоры Андриджетто кабальные и ростовщические, принялся робко и мягко его порицать, разъясняя ему, что он обязан возместить нанесенный его беззакониями урон. Андриджетто, которому слова священника пришлись не по вкусу, ответил, что тот, видимо, и сам не знает, что говорит, и пусть сначала получше осведомится о том, что он, Андриджетто, до этого времени совершил. Священник, которого Андриджетто не раз щедро награждал, побоялся, как бы тот его не покинул и не ушел исповедоваться к кому-либо другому, и посему безотлагательно дал ему отпущение грехов и, наложив на него легкое покаяние, не стал его дольше задерживать, и довольный Андриджетто, вложив ему в руку флорин, ушел. Случилось так, что спустя короткое время Андриджетто жестоко занемог, и его болезнь оказалась такою, что врачи предрекли ему скорую смерть и даже перестали его навещать. Друзья и родичи Андриджетто, видя, что его болезнь сочтена врачами смертельной и неизлечимой, с завидною находчивостью дали ему понять, чтобы он исповедался и уладил свои дела, как подобает всякому католику и доброму христианину. А он, обуреваемый жаждой наживы, дни и ночи помышлял лишь о том, как бы еще больше возвыситься, не страшился смерти, гнал прочь от себя всех, кто ему хоть словом напоминал о ней, и приказывал приносить то ту, то другую вещь, находя в созерцании их развлечение и удовольствие. После длительных увещаний родичей и друзей он в конце концов согласился пойти навстречу их пожеланиям и распорядился вызвать своего нотариуса Тонисто Распаите и духовника отца Неофито, ибо захотел исповедаться и привести в порядок свои дела. Явившиеся на его зов духовник и нотариус предстали пред ним и сказали: «Мессер Андриджетто, да возвратит вам Господь утраченное здоровье. Как вы себя чувствуете? Крепитесь духом, не бойтесь и не тревожьтесь, ибо вскоре вы исцелитесь». Андриджетто ответил, что он тяжело болен и что сначала хотел бы навести порядок в своих делах, а затем уже исповедаться. Духовник принял на веру его слова, усиленно убеждая его помнить о всемогущем Господе Боге и руководствоваться в своих действиях Его волею, ибо, поступая подобным образом, он восстановит свое здоровье. Андриджетто приказал призвать семерых мужчин, дабы они стали свидетелями его устного и последнего волеизъявления. Свидетели явились и представились больному, и Андриджетто спросил нотариуса: «Тонисто, какую плату вы обычно взимаете за составление завещания?» Тонисто ответил: «В соответствии с принятой у нотариусов расценкой — один флорин, а, вообще говоря, бывает и больше, бывает и меньше, по усмотрению завещателей». — «Итак, — произнес Андриджетто, — бери два флорина, но смотри, пиши только то, что я прикажу». Нотариус ответил, что так и поступит. И, начав с обращения к Вышнему Богу, отметив год от Рождества Христова, месяц, день и все прочее, как это принято в нотариальных актах, он начал писать нижеследующее: «Я, Андриджетто из Вальсабии, в здравом уме, хоть и немощный телом, завещаю душу мою Создателю моему Господу, коему возношу столь великую, сколь только могу, благодарность за ниспосланные Им мне бесчисленные благодеяния». Тут Андриджетто обратился к нотариусу с такими словами: «Что же ты написал?» Нотариус ответил: «Я написал то-то и то-то», и он прочел слово в слово все, что успел написать. Тогда Андриджетто, воспламенившись гневом, воскликнул: «А кто тебе поручил писать именно так? Почему ты не исполнил того, что мне обещал? Пиши по-моему, пиши так: «Я, Андриджетто из Вальсабии, больной телесно и здравый разумом, завещаю душу мою великому дьяволу ада». Услышав эти слова, нотариус и свидетели опешили и обомлели, и их охватило немалое изумление, и, не сводя глаз с лица завещателя, они вскричали: «Ах мессер Андриджетто, где же ныне ваш ум, где же ваше здравомыслие? Или вы помутились рассудком? Такие слова на устах лишь у безумных и бесноватых. Послушайте, не делайте этого из любви, которую вы питаете к Богу! Ведь это пагубно и для души и для чести вашей и несмываемый позор всему вашему роду. Люди, доселе почитавшие вас человеком разумным и мудрым, отныне станут смотреть на вас как на самого отпетого, самого вероломного, самого коварного предателя и изменника, каких когда-либо создавала природа, ибо, пренебрегая собственным благом и собственной пользою, вы еще больше пренебрегаете пользою и благом других». Тут Андриджетто, распалившийся, как огонь в очаге, крикнул нотариусу: «Не говорил ли я, чтобы ты писал так, как я тебе прикажу? Не заплатил ли я тебе сверх положенного, дабы ты писал все, что бы я ни сказал?» Нотариус ответил: «Да, синьор, все это так». — «В таком случае, — продолжал завещатель, — отмечай и пиши только то, что я говорю, и не пиши того, чего я не желаю». Нотариус, которому на этот раз хотелось вовсе не разуметь грамоте, увидев непреклонную решимость Андриджетто и опасаясь, как бы тот не умер от гнева, написал все, что выслушал из его уст. Затем Андриджетто сказал нотариусу: «Пиши: "Item душу моего нотариуса Тонисто Распанте я завещаю великому сатане, дабы она воссоединилась с моею, когда расстанется с телом"». — «Ах, мессер, вы меня обижаете, — воскликнул нотариус, — отнимая у меня честь и доброе имя». — «Продолжай, злодей, — оборвал его завещатель, — и не смей мне перечить. Я тебе заплатил, и намного больше, чем полагается, дабы ты писал, как мне заблагорассудится. Итак, пиши, будь ты неладен, следующее: "Ведь если бы он не потворствовал мне и не составлял столь кабальные и ростовщические договоры, но прогнал бы меня прочь от себя, я теперь не знал бы забот. И так как в ту пору для него большую цену имели деньги, чем моя и его собственная душа, я и препоручаю его Люциферу"». Нотариус, опасаясь, как бы на него не свалилось чего-нибудь еще худшего, записал все, что наказал ему Андриджетто, который вслед за тем произнес: «Пиши: "Item душу моего здесь присутствующего духовника отца Неофито я завещаю тридцати тысячам пар дьяволов"». — «Постойте, что вы говорите, дорогой мессер Андриджетто? — вскричал духовник. — Разве это слова разумного человека, каковым вы являетесь? Не говорите такого! Ужели вам неизвестно, что мессер Иисус Христос милосерд и жалостлив и что объятия Его всегда отверсты в ожидании тех, кто явится с покаянием и воззовет к Нему, винясь и сокрушаясь в своих прегрешениях? Итак, повинитесь в своих тяжких и чудовищных преступлениях и молите Господа о прощении, ибо Он великодушно смилуется над вами. Вы можете исправить причиненное вами зло, и, после того как вы это сделаете, Господь, который милостив и не желает, чтобы кто-нибудь умирал во грехе, простит вас и дарует вам рай». Андриджетто на это ответил: «Ах, преступный священник, исполненный алчности и продажности губитель своей и моей души! Теперь ты подаешь мне совет! Пиши, нотариус, что душу его я завещаю самому пеклу ада, ибо, не будь чумоносной алчности отца Неофито, он не давал бы мне отпущений, и я не свершил бы стольких проступков и не попал бы в то положение, в котором сейчас нахожусь. Тебе представляется достодолжным и подобающим, чтобы я возместил неправедно нажитое имущество? Тебе представляется справедливым, чтобы я оставил моих сыновей бедняками и нищими? Прибереги этот совет для других, ибо ныне он мне ни к чему. Пиши, нотариус, пиши дальше: "Item я завещаю моей любовнице Феличите поместье в долинах Коммакьо, дабы у нее было на что пропитаться и одеться и дабы она могла приятно проводить время со своими любовниками, как всегда и делала это, а также, чтобы по окончании дней своих она разыскала меня в непроглядной пучине адовой и вместе с нами тремя была терзаема вечными муками. Что до остального моего имущества, движимого и недвижимого, наличного и имеющего перейти в мою собственность, так или иначе причитающегося и принадлежащего мне, то я завещаю его Коммоде и Торквато, моим законным и рожденным от меня сыновьям, заклиная их не заказывать по мне заупокойных месс и псалмопений ради моей души, но напропалую играть в кости, распутничать, сражаться оружием и творить все то, что наиболее отвратительно и омерзительно, дабы мое в беззаконии нажитое добро в самое короткое время истаяло и исчезло, и сыновья мои, ввергнутые в отчаянье своим разорением, повесили сами себя за шею". И я хочу, чтобы это было последнею моей волею, и прошу об этом вас всех — свидетелей и нотариуса». По написании и оглашении завещания мессер Андриджетто повернулся лицом к стене и, испустив рев — ни дать ни взять мычание быка, отдал душу Плутону, который всегда пребывал в ее ожидании. Вот так-то злокозненный и преступный Андриджетто, без исповеди и не покаявшись, окончил свою грязную и преступную жизнь…» Перевод А. С. Бобовича. (Цитируется по изданию: Джованфранческо Страпарола. Приятные ночи. М., 1993.)
Примечания
1
Шванк — сатирический рассказ в немецкой средневековой литературе. (обратно)2
Гинекей — женская половина в древнегреческом доме. (обратно)3
Фацетия — короткий рассказ типа анекдота, жанр, особенно популярный в эпоху Возрождения. (обратно)4
Французы и по этой части обогнали своих европейских соседей, о чем свидетельствуют многие страницы романа Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». (См. Фрагмент 1) (обратно)5
Здесь можно перевести как «место для массовых прогулок». (6
Одежда, имитирующая беременность на 2-м, 3-м, 4-м месяцах (фр.). (обратно)7
От французского «retrousser» — подбирать платье. (обратно)8
Каллипига (греч. «прекраснозадая») — мраморная статуя, изображающая женскую фигуру, в изящном повороте обнажающую зад. (обратно)9
Старый режим (фр. l'аncien regime) — королевский режим, государственное устройство Франции до 1789 г. (обратно)10
Маргарита Наваррская. «Гептамерон» (См. Фрагмент 2) (обратно)11
Маргарита Наваррская. «Гептамерон» (См. Фрагмент 3) (обратно)12
Джованни Боккаччо. Декамерон (См. Фрагмент 4) (обратно)13
Бонавентур Деперье. «Новые забавы и веселые диалоги». (См. Фрагмент 5) (обратно)14
Франко Саккетти. «Триста новелл» (См. Фрагмент 6) (обратно)15
Боккаччо. «Декамерон» (См. Фрагмент 7) (обратно)16
Франческо Граццини Ласка. Из «Вечерних трапез» (См. Фрагмент 8) (обратно)17
Франсуа Рабле (1494–1553) — французский писатель. Отвергая ср.-век. аскетизм, ограничение духовной свободы, ханжество и предрассудки, Рабле раскрывает в гротескных образах своих героев, навеянные фольклором (великаны Гаргантюа, Пантагрюэль, правдоискатель Панург), гуманистические идеалы своего времени. (обратно)18
Брат Любен (лат.). (обратно)19
А где вы их возьмете? (искаж. лат.) (обратно)20
Маргарита Наваррская (1492–1549) — французская писательница, королева Наварры. (обратно)21
Герцог Орлеанский — Карл, третий сын короля Франциска I, умерший в 1545 г. Новелла, следовательно, написана после 1545 г. и до 1547 г., когда умер Франциск I. (обратно)22
У католиков 28 декабря — день памяти невинных младенцев, перебитых, по евангельской легенде, царем Иродом. По старому французскому обычаю, в этот день молодые люди утром стремились застать женщин, еще не вставших с постели, и били их за лень, и это называлось «избивать невинных». (обратно)23
Джованни Боккаччо (1313–1375) — итальянский писатель раннего Возрождения. (обратно)24
Бонавентур Деперье (ок. 1500–1544?) — французский писатель. (обратно)25
Спрашивается (лат.). (обратно)26
По тысяче причин, из которых я укажу ради краткости только одну (лат.). (обратно)27
Следовательно, умозаключая по Барбара (лат.). (обратно)28
Франко Саккетти (1330–1400) — итальянский писатель. (обратно)29
Аполлон — в греческой и римской мифологии бог света, поэзии, искусства, медицины; Геркулес (греч. Геракл) — в римской мифологии полубог и герой, наделенный необычайной силой, совершил множество подвигов; Венера (греч. Афродита) — в римской мифологии богиня любви и красоты; Юнона (греч. Гера) — в римской мифологии хранительница брака, покровительница рожениц, материнства. (обратно)30
Пер. Е. Солоновича. (Цитируется по изданию: Европейские поэты Возрождениям., 1974.) (обратно)31
Перевод Д. В. Сильвестрова. (Цитируется по изданию: Йохан Хёйзинга. Осень средневековья. М. 1995.) (обратно)32
Аргус — в греческой мифологии великан, тело которого было испещрено множеством глаз. (обратно)33
Пер. Е. Витковского. (Цитируется по изданию: Европейские поэты Возрождения. М., 1974.) (обратно)34
Пер. Ю. Корнеева. (Цитируется по изданию: Франсуа Вийон. Я знаю все, но только не себя. М., 1999.) (обратно)35
См. Фрагмент 9. (обратно)36
Маттео Банделло. Из «Новелл». (См. Фрагмент 10). (обратно)37
«Масленичные празднования мельничихи». (обратно)38
«Прелестная масленица». (обратно)39
«Не услышанная жалоба одной женщины, которая была не удовлетворена своим мужем». (обратно)40
Пер. Ю Корнеева. (Цитируется по изданию: Франсуа Вийон. Я знаю все, но только не себя. М., 1999.) (обратно)41
Парис — в греческой мифологии троянский царевич, судья в споре трех богинь (Геры, Афины и Афродиты) о прекраснейшей из них. (обратно)42
Так как нам придется еще неоднократно в нашей работе цитировать сеньора Брантома, произведение которого заключает ценные данные для истории нравов эпохи, то мы уже здесь заметим следующее, чтобы уяснить, какие нравы иллюстрируют его показания. Все пикантные истории, часто сугубо эротические, переданные Брантомом потомству, касаются аристократического общества. Он сам подчеркивает это во многих местах. Он пишет, например: «Кроме этого, я должен заметить, что все эти случаи, которые я здесь сообщаю, имели место не в маленьких местечках или деревнях, а в изысканном обществе, а герои их не простые люди, хотя язык мой и прост, но я занимаюсь только высокими и крупными предметами». Приведя однажды пример из простонародной жизни, Брантом спешит извиниться: «Мне досадно, что я привел этот пример, так как он касается человека низкого состояния, и мне не хочется пачкать бумагу такими людьми, а хочется говорить только о высоко стоящих особах». В самом деле, он говорит в большинстве случаев о французском дворе Екатерины Медичи, и притом очень часто о любовных приключениях, героинями которых являлись сама королева и принцессы. Здесь и далее Брантом цитируется в переводе И. Я. Волевин и Г. Р. Зингера по изданию: Галантные дамы. М., 1998. (обратно)43
«Итак, она лежала в кровати в бесстыдной позе, когда Буондельмонт и муж, со свечой в руках, вошли в комнату. Буондельмонт торопливо схватил край простыни и прикрыл ей лицо. Затем он стал постепенно открывать ее раздвинутые ноги» (фр.). (обратно)44
Джованфранческо Страпаролла. «Приятные ночи». (См. Фрагмент 11). (обратно)45
Дословно: «посаженный на осла». Здесь можно перевести как «рассерженный», «выведенный из себя». (обратно)46
Вот как обыграл тему гульфика, как средоточия мужского самомнения и донжуанских достоинств, в присущем ему виде Франсуа Рабле в «Гаргантюа и Пантагрюэле»:«Сунув в гульфик мячик меткий,
Познакомившись с ракеткой,
Скрыв под шапкой волос редкий,
В хоровод веселый встав,
Будешь тотчас доктор прав».
47
Франко Саккетти. «Триста новелл». (См. Фрагмент 12). (обратно)48
Франко Саккетти. «Триста новелл». (См. Фрагмент 13). (обратно)49
Цитируется по изданию: Федор Коммиссаржевский. История костюма. Минск. 1998. (обратно)50
Всемогущее чрево (лат.). (обратно)51
Да не вспомнишь [ты] (лат.). (обратно)52
Матео Банделло (1485–1561) — итальянский писатель, автор любовных стихов, поэм и многочисленных новелл. (обратно)53
Джованфранческо Страпаролла (1480–1558?) — итальянский поэт и новеллист. (обратно)54
«В Болонье, матери наук…» — Болонья — главный город провинции Эмилии; Болонский университет — старейший в Европе, основан в 1111 г. (обратно)55
«…K той, которую звали Эмеренцьяной…» Имена трех дам, о которых повествуется в этой новелле, переводятся так: Эмеренцьяна (лат.) — заслуженная, Пантемья (греч.) — всеми чтимая, Симфорозья (греч.) — счастливая. (обратно)56
«…При помощи птичьего клея». — Речь идет о клее, приготовленном из ягод омелы — растения, паразитирующего на коре дуба, груши и других деревьев. Этим клеем смазывают стволы и ветви деревьев и таким способом ловят увязших в нем птиц. (обратно)57
«…Следует верить не больше, чем сновиденьям больных или бредням романов». — Имеются в виду так называемые «рыцарские» романы; полные всяческих небылиц, эти пространные романы встречали презрительное отношение со стороны просвещенных людей Возрождения. Их беспощадно осмеял в первой части «Дон Кихота» Сервантес. (обратно)58
Мужеподобная женщина, женщина-воительница (фр.). (обратно)59
Перевод А. С. Бобовича. Перевод стихов Н. Я. Рыковой. (Цитируется по изданию: Джованфранческо Страпарола. Приятные ночи. М., 1993.) (обратно)60
Аньоло Фиренцуола. Из «Бесед о любви». (См. Фрагмент 14). (обратно)61
«Масленичные празднования вдовы и дочери». (обратно)62
Джованни Боккаччо. «Декамерон». (См. Фрагмент 15). (обратно)63
Пер. И. Эренбурга. (Цитируется по изданию: Франсуа Вийон. Я знаю все, но только не себя. М., 1999.) (обратно)64
Здесь и далее пер. В. Никитина и Р. Родиной (Цитируется по изданию: Жан Фабье. Франсуа Вийон. М., 1991.) (обратно)65
Джованни Боккаччо. «Декамерон». (См. Фрагмент 16). (обратно)66
Франсуа Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль». (См. Фрагмент 17). (обратно)67
Епитимья — в христианстве церковное наказание в виде поста, длительных молитв и т. п., налагается исповедующим священником. (обратно)68
«Одна его рука жала грудь, а другая — колени, а она, чтобы скрыть это, распустила нижнюю юбку» (лат.). (обратно)69
Джованни Боккаччо. «Декамерон». (См. Фрагмент 18). (обратно)70
Бонавентур Деперье. «Новые забавы и веселые диалоги». (См. Фрагмент 19). (обратно)71
В XV столетии в Италии была распространена эстетическая проституция, которая, по свидетельству Графа, представляла собою возрождение проституции Древней Греции. Проститутки этого класса, в отличие от обыкновенных, назывались «Meretrices honestae». Они отличались, в общем, высоким образованием и вращались в высших сферах общества: среди артистов, сановников, принцев и т. п. У Графа мы находим следующее описание некоторых из них: знаменитая Imperia изучила искусство сочинять стихи у Nicolo Compono, прозванного «Lo Strascino», и владела латинским языком. Лукреция, прозванная «Madrema non vuote», могла служить образцом корректного и изящного языка, и Аретино говорит о ней устами известного прожигателя жизни Ludovico в одном из своих Ragionamenti следующее: «Ее можно было бы назвать Цицероном: она знает на память всего Петрарку и Боккаччо и массу стихов из Вергилия, Горация, Овидия и многих других авторов». Лукрецию Squarcia, родом венецианку, о которой говорится в известной Tarifa, можно было часто видеть на гуляньях с сочинениями Петрарки, Вергилия и Гомера в руках: Recando spesso il Petrachetto in mano, Di Virgilio le carte ed or d'Omero. Она считалась в свое время большим знатоком чистого итальянского языка. Имена Туллии д'Арагона и Вероники Франко известны в истории литературы, а Камилла Пизана написала книгу, которую редактировал Франциск дель Неро. Дошедшие до нас письма ее отличаются немного вычурным слогом, но не лишены изящества; в них встречается множество латинизмов и даже целые латинские выражения. Говоря о знаменитой Изабелле де Луна, испанке, которая объездила полсвета, Банделло замечает, что она считалась самой умной и ловкой женщиной в Риме. Аристократы и писатели не только не скрывали своих связей с наиболее известными куртизанками, но даже хвастали ими, и каждый стремился добиться у них большего внимания, чем его соперники. Знаменитый полководец Джованни Медичи приказал увести насильно Лукрецию («Madrema non voule») от Giovanni del Stufa, который давал в честь ее праздник в Recanati. В 1531 году шесть рыцарей вызывали во Флоренции на поединок всякого, кто не хотел бы признать Туллию д'Арагона самой почтенной и достойной удивления женщиной в свете. Когда такая Аспазия меняла место своего жительства, то об этом говорили столько же, сколько о приезде и отъезде королевы. Посланники извещали даже об этом свои дворы. (обратно)72
«Говорят, как собаки, но молчат, словно камень держат во рту» (итал.). (обратно)73
«Игра девиц и парней». (обратно)74
Франко Саккетти. Из «Трехсот новелл». (См. Фрагмент 20). (обратно)75
Перевод В. Никитина и Р. Родиной. (Цитируется по изданию: Жан Фабье. Франсуа Вийон. М., 1991.) (обратно)76
Страпарола. «Приятные ночи». (См. Фрагмент 21). (обратно)77
Карпократ основал секту, которая учила, что стыд должен быть приносим в жертву Богу. Сын его, Епифан, развил учение своего отца, установив общность жен, по которой ни одна из них не должна была отказать в своих ласках кому бы то ни было из мужчин, если он потребует их на основании своего естественного права. (обратно)78
Джованни Боккаччо. «Декамерон». (См. Фрагмент 22). (обратно)79
Бонавертур Деперье. «Новые забавы и веселые диалоги». (См. Фрагмент 23). (обратно)80
«О человеке безвкусном, что ценил в женщине два входа» (лат.). (обратно)81
Франсуа Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль». (См. Фрагмент 24). (обратно)82
Маргарита Наваррская. «Гептамерон». (См. Фрагмент 25). (обратно)83
Джованни Боккаччо. «Декамерон». (См. Фрагмент 26). (обратно)84
«Тот, кто хочет уберечь женщину, — не должен все оставлять. Следовало бы упрятать ее в трубку и наслаждаться ею через "втулку"». (обратно)85
Франко Саккетти. Из «Трехсот новелл». (См. Фрагмент 27). (обратно)86
Бонавентур Деперье. «Новые забавы и веселые диалоги». (См. Фрагмент 28). (обратно)87
Альбы — в поэзии трубадуров утренние песни. (обратно)88
Маргарита Наваррская. «Гептамерон». (См. Фрагмент 29). (обратно)89
Вакх (лат. Бахус) — в греческой мифологии одно из имен бога виноградарства и виноделия Диониса; Церера (греч. Деметра) — в римской мифологии богиня плодородия и земледелия. (обратно)90
«Они есть и были, на деле или по собственному желанию, гулящими» (фр.) (обратно)91
Маргарита Наваррская. «Гептамерон». (См. Фрагмент 30). (обратно)92
«Он (англ.). слишком женщина, она — слишком мужчина» (обратно)93
Мазуччо Гуардати. Из «Новеллино». (См. Фрагмент 31). (обратно)94
Уильям Шекспир. «Отелло». (См. Фрагмент 32). (обратно)95
Матео Банделло. Из «Новелл». (См. Фрагмент 33). (обратно)96
Женские приспособления известны, опять-таки, с древнегреческих времен. Рабыням надевали кожаный пояс, от которого через промежность шла также кожаная полоса, имевшая отверстие напротив заднего прохода (отверстие напротив мочеиспускательного канала, очевидно, считалось роскошью). Повод вполне банален: беременная рабыня становилась нетрудоспособной, обузой для хозяина. Однако постепенно такой способ предохранения увял, поскольку гораздо большее внимание стали уделять приросту численности рабов. Интерес к обязательному соблюдению супружеской верности вернулся с началом крестовых походов. По всей Европе, а особенно в Италии, появилась мода на «пояса верности», призванные обеспечить отсутствие половой жизни, даже если женщина стремилась к ней всей душой. Лучшие пояса изготовляли в Бергамо и Венеции, а потому так и называли: «венецианская решетка», «бергамский замок». Модели были самые разные, хотя все они не так далеко ушли от древнегреческих образцов. К поясу крепилась полоса, проходящая от пупка до поясницы через промежность, причем предусматривались 2 отверстия для естественных надобностей (сношение таковой не считалось). Были пояса из бычьей кожи (она самая толстая и грубая), были железные, были из драгоценных металлов. В любом случае сооружение получалось громоздким, неуклюжим, поскольку основное значение придавали надежности, а не удобствам пострадавшей. Женщины, вынужденные носить «пояс верности» порой годами, быстро наживали себе мозоли на пояснице и в промежности, порой образовывались пролежни, а вследствие затруднений с гигиеной от прекрасной дамы дурно пахло. Постепенно конструкция пояса усложнялась, что было вполне обоснованно. Низкий уровень техники приводил к тому, что пояс могли снимать и вновь надевать на женские чресла все, кому не лень, и у кого был в кармане ржавый гвоздик. Кроме того, оказалось, что можно исхитриться добраться до желанной цели, используя оставленные отверстия. Изготовлением «пояса верности» стали заниматься ювелиры. Их работы были дороги, но стоили своих денег. Легкие и тонкие пояса чуть не вошли в моду, но дамы благоразумно отказались от такого шага, предпочитая быстрый секс долгой и кропотливой работе над замочком. Многие пояса, сохранившиеся до нашего времени, представляют шедевры как ювелирного, так и инженерного искусства. Тонкий обруч на бедрах заменил неуклюжий пояс. Однако металл, пошедший на горизонтальную часть, был прочен и не поддавался попыткам деревенских кузнецов, чей инструмент был весьма несовершенен. Вертикальная часть пояса стала округлой, чтобы не травмировать бедра и промежность. Отверстия для естественных отправлений стали более широкими, а отверстие напротив влагалища — забрано решеткой. Замочки стали более изящными, с тонкими узкими прорезями для ключа. Порой хитрые ювелиры, которым почему-то было не жаль несчастных женщин, делали замочек с секретом: если в механизме начинали колупаться непредусмотренным предметом, пружинный захват защемлял введенный стержень, откусывая кусочек на память, чтобы по приезде хозяин мог полюбоваться кусочками железа и подсчитать, сколько попыток было предпринято, чтобы снять пояс. Кроме того, изготовители порой предусматривали парочку очаровательных сюрпризов для особо пылких прелюбодеев. которых не останавливали даже железяки. Например, во внутреннюю часть кольца, отграничивающего вход во влагалище, вделывали тонкие иглы, направленные острием внутрь. Практически незаметные извне, они впивались в предмет, прошедший через запретное отверстие, как в рыбу впиваются колья верши (рыбаки поймут). Кроме того, со временем стали делать подобные сюрпризы и на отверстии напротив заднего прохода, поскольку женщины массово стали прибегать к анальным контактам, не в силах противостоять искушению. По этому поводу было специальное постановление святой римско-католической церкви, где подобные дважды блудницы и извращенки были преданы анафеме. (обратно)97
Брантом. «Галантные дамы». (См. Фрагмент 34). (обратно)98
Батшеба (Вирсавия) — в библейской мифологии одна из жен израильско-иудейского царя Давида (X в. до н. э.), в которую тот влюбился, увидев ее купающейся. (обратно)99
Амур (греч. Эрот) — в римской мифологии божество любви. (обратно)100
Дословно: «Зеркало дам нашего времени». (обратно)101
Аньоло Фиренцуола (1493–1545) — флорентийский писатель. (обратно)102
Собор св. Доминика. (обратно)103
То есть Люцифера, изображение которого находится в церкви Санта Мария де Серви. (обратно)104
Город в центральной Италии, недалеко от Флоренции; во время Страпаролы входил в состав Папских владений. (обратно)105
Локоть — мера длины, равная приблизительно 50 см. (обратно)106
Аминь, аминь, да будет так, да будет так — в отличие от Папы (искаж. лат.). (обратно)107
Стало быть (лат.). (обратно)108
Плодитесь, все живые, и множитеся (лат.). (обратно)109
…когда придет Господь судить землю (лат.). (обратно)110
Неразрешимые проблемы (лат.). (обратно)111
Гераклова лилия (лат.). (обратно)112
Непорочная, чистая» (лат.). (обратно)113
«О воздухе, воде и местности» (лат.). (обратно)114
«О семени» (лат.). (обратно)115
Кал, и моча, и мокрота — врачам то нажива без счета.
В этом — соль ремесла; о прочем не к месту заботы (лат.).
116
Нам в чинах красоваться, а вам — дерьмом объедаться (лат.). (обратно)117
«Об осмотре чрева» (лат.). (обратно)118
Графство Мен (Maine) — старая французская провинция. Деревня Каррель (Carrelles) находится в округе Майен. (обратно)119
Имеется в виду большая плетеная корзина, с помощью которой веяли зерно. (обратно)120
Капитан Монтесон — сподвижник знаменитого Байара, прославившегося своей храбростью во время итальянских походов. (обратно)121
Шомон — Шарль д'Амбуаз, также плехмянник Жоржа д'Амбуаза. (обратно)122
По старинному закону беременная женщина не могла быть казнена раньше своего разрешения от бремени. (обратно)123
Пер. И. Грицковой. (Цит. по изданию: Европейские поэты Возрождения. — М., 1974.) (обратно)124
Флагелляция — самобичевание, разновидность умервщления плоти; также — половое извращение, характеризующееся возникновением полового возбуждения при избиении партнера или при избиении партнером; разновидность мазохизма или садизма. (обратно)125
Джованни Боккаччо. «Декамерон». (См. Фрагмент 35). (обратно)126
Пер. Е. Солоновича. (Цитируется по изданию: Европейские поэты Возрождения — М., 1974.) (обратно)127
Джованни Боккаччо. «Декамерон». (См. Фрагмент 36). (обратно)128
Маргарита Наваррская. «Тептамерон». (См. Фрагмент 37). (обратно)129
Джованни Боккаччо. «Декамерон». (См. Фрагмент 38). (обратно)130
Мазуччо Гуардати. Из «Новеллино». (См. Фрагмент 39). (обратно)131
Кармелиты — монашеский орден, называемый так потому, что центром его был основанный во второй половине XII в. монастырь в горном массиве Кармел в Палестине. С 1245 или 1247 г. — конгрегация нищенствующих монахов. (обратно)132
Тамплиеры, или храмовники (полное название — Бедные рыцари Христа и Соломонова Храма), — духовно-рыцарский орден, т. е. орден, члены которого, помимо обычных монашеских обетов — бедности, послушания и целомудрия, — принимали еще обет борьбы с неверными. Был основан в Палестине в эпоху Крестовых походов, в 1118 или 1119 г. (обратно)133
Капуцины — члены католического монашеского ордена, основанного в 1525 г. в Италии (как ветвь францисканцев). (обратно)134
Маттео Банделло. Из «Новелл». (См. Фрагмент 40). (обратно)135
«Улей Священной Римской империи Пчелиный рой». (обратно)136
Бегинки — члены возникших в позднее средневековье полумонашеских объединений одиноких женщин, посвятивших себя уходу за больными и другим делам милосердия. Жили общинами, проповедовали воздержание, скромность в поведении и одежде. (обратно)137
Маргарита Наваррская. «Гептамерон». (См. Фрагмент 41). (обратно)138
Джованни Боккаччо. «Декамерон». (См. Фрагмент 42). (обратно)139
Маргарита Наваррская. «Гептамерон». (См. Фрагмент 43). (обратно)140
Джованни Боккаччо. «Декамерон». (См. Фрагмент 44). (обратно)141
Маргарита Наваррская. «Гептамерон». (См. Фрагмент 45). (обратно)142
Пер. Л. Гинзбурга. (Цит. по изданию: Европейские поэты Возрождения. — М., 1974.) (обратно)143
Маргарита Наваррская. «Гептамерон». (См. Фрагмент 46). (обратно)144
Маргарита Наваррская. «Гептамерон». (См. Фрагмент 47). (обратно)145
Аньоло Фиренцуола. Из «Бесед о любви». (См. Фрагмент 48). (обратно)146
Согласно Библии, у подножия этой горы принял смерть царь Саул. (обратно)147
По церковной традиции, то место, где будет происходить Страшный Суд при кончине мира. (обратно)148
Всемогущий и вечный Боже, Ты, что подвигнул вчера ночью нашего преподобного отца взойти на гору Гелвуйскую, и там зазвонить в небесные колокольчики, и спуститься потом в долину Иосафатскую, где свершил он много чудес, и прочее (лат.). (обратно)149
Коньяк — город в 50 км от Ангулема, резиденция графа Ангулем-ского, где родилась и провела первые годы жизни Маргарита Наваррская. Шерв (Cherves) — деревня, входящая сейчас в кантон Коньяк. (обратно)150
Монастырь Жиф (abbaye de Gif) находится в долине Шеврез, неподалеку от Версаля. (обратно)151
Золовки королевы Маргариты — сестры ее второго мужа, Генриха д'Альбре, короля Наваррского, — Екатерина д'Альбре, аббатиса монастыря Монтивилье неподалеку от Гавра, и Мадлена д'Альбре, аббатиса монастыря св. Троицы в Кане. (обратно)152
Канцлер — Антуан Дюпра, сделанный кардиналом и Папским представителем (легатом) в 1530 г.; так как Дюпра умер в 1535 г., действие новеллы, по-видимому, происходило между 1530 и 1535 гг. (обратно)153
Память об этом аббатстве сохранилась в современном названии местечка — Жи ле Ноннэн («nonnain» — «монашка»). Монтаржи — город в Луарэ, неподалеку от Орлеана. (обратно)154
Франциск Ассизский — основатель ордена нищенствующих монахов, францисканцев; во Франции их называли cordelier (от слова «corde» — «веревка»: они опоясывались веревкой в знак своей бедности). Деятельность Франциска Ассизского в Италии XIII в. была первоначально направлена против излишеств и пороков официальной церкви, но католическая церковь, вначале косо смотревшая на Франциска и его последователей, затем санкционировала орден, который вскоре после смерти Франциска стал одним из оплотов католицизма. (обратно)155
Максимилиан и впоследствии Карл V, проведший юность во Фландрии, часто там бывали. (обратно)156
Кулон — Кулонж Сюр Л'Отиз (в департаменте Двух Севр), недалеко от города Ниора; река Севр около впадения в нее Отизы сильно расширяется. (обратно)157
Болтун, брехун (итал.). (обратно)158
Старинный итальянский танец. (обратно)159
Итальянская поговорка. (обратно)160
Сукно, изготовлявшееся в горных местностях Романьи. (обратно)161
Болоньин — болонская монета ценностью в шесть кватринов. (обратно)162
Этот священник, оставив любовнице свой плащ, взял у нее на время ступку, а затем отослал ступку назад с просьбой вернуть плащ (Боккаччо, «Декамерон», день VIII, новелла II). (обратно)163
Проституция была различных категорий. В числе их выделяется эстетическая, или просвещенная, проституция, которая впоследствии наблюдалась в 1500 году в Италии и в 1700 году во Франции. Проститутки, принадлежащие к этому классу, славились как искусные певицы, музыкантши и флейтистки. Они вели совершенно свободный образ жизни и занимались своим искусством особенно во время различных религиозных празднеств. Гетеры эти не отдавались за деньги, подобно обыкновенным проституткам диктериад, первому встречному, но следовали в этом отношении своим симпатиям и антипатиям. Они часто по своему уму, образованию и изяществу манер становились достойными подругами самых выдающихся людей Греции. Их можно разделить на две различные категории, которые и составляют аристократию этого рода проституции: на гетер-наперсниц и гетер-философок. Представительницы второй категории, находясь постоянно в обществе мудрецов и поэтов, научились от них искусству трактовать о философии и других науках и бывали посвящены во все современные вопросы, между тем как гетеры-наперсницы, менее образованные, чем эти, отличались умением веселиться, оживленностью, умом, благодаря которому им удавалось подчинить себе выдающихся людей своими утонченными ласками, и репутацией. Так, например, в Египте с Птолемеем Филопатором совершенно разделяла власть его гетера Агатоклея. Но к какому бы классу проститутки ни принадлежали, положение их в Древней Греции было официально, и находились они всегда в зависимости от народа. Они, например, не имели права самовольно оставлять пределы республики, не испросив на то предварительно разрешения архонтов, которые давали его только в тех случаях, когда были уверены, что уезжавшие вернутся назад на свое место жительства. Гетеры занимались своим ремеслом совершенно свободно, публично, и это доказывает, насколько нормальным явлением считалась во все времена проституция. Если молодому афинянину нравилась какая-нибудь гетера, он, по словам Люциана, Алкифрона и Аристофана, писал ее имя на стенах храма, прибавляя к нему несколько лестных или шутливых эпитетов. Утром каждая куртизанка посылала свою рабыню читать на стенах храма надписи, и если в числе их находилось и ее имя, то она в знак согласия отправлялась в храм и там ожидала своего поклонника у своей надписи. Эсхил прямо говорит, что «гетеры торгуют собою у ворот храма». Люциан выражается более точно, говоря, что «большой рынок гетер находится в конце двора храма, направо, около ворот Dipylon». Нередко любовный торг совершался и у подножия той или другой статуи, воздвигнутой в честь какого-нибудь знаменитого гражданина, павшего в бою. Значение проституции в жизни греков было так велико, что она породила даже особую, специальную литературу. Так, например, Киллистрат написал «Историю гетер», а Макон собрал наиболее остроумные изречения всех знаменитых куртизанок. Аристофан Византийский, Апполодор и Горгий собрали сведения о жизни ста тридцати пяти гетер, которые прославились у афинян и славные подвиги которых были достойны того, чтобы о них узнало потомство. Те из них, клиентами которых были военачальники, правители городов, жрецы и философы, подчинялись одному только ареопагу, между тем как все прочие проститутки зависели обыкновенно от низших судебно-административных учреждений. (обратно)164
Перевод Ф. Мендельсона. (Цитируется по изданию: Жан Фабье. Франсуа Вийон, М., 1991.) Вообще на эту тему Франсуа Вийона можно цитировать бесконечно. Франсуа Вийон. «Баллада-завет прекрасной оружейницы гулящим девкам»«…Цени веселый звон монет!
Лови гостей без промедленья!
Пройдут года — увянет цвет:
Монете стертой нет хожденья.
Пляши, цветочница Нинетта,
Пока сама ты как букет!
Но будет скоро песня спета,—
Закроешь дверь, погасишь свет…
Ведь старость — хуже всяких бед!
Как дряхлый поп без приношенья,
Красавица на склоне лет:
Монете стертой нет хожденья.
Франтиха шляпница Жанетта,
Любым мужчинам шли привет,
И Бланш, башмачнице, про это
Напомни: вам зевать не след!
Не в красоте залог побед,
Лишь скучные — в пренебреженье,
Да нам, старухам, гостя нет:
Монете стертой нет хожденья».
165
Страпарола. «Приятные ночи». (Фрагмент 49). (обратно)166
Слово «borde» употреблялось для обозначения отдельной хижины или ночного убежища, находившегося где-нибудь при дороге или у реки, вдали от города, в предместье его или даже в чистом поле. В таких «bordes» и ютилась вначале проституция, подальше от надзора городской полиции и в безопасности от шумных скандалов. (обратно)167
Лорд-мэр — глава местных органов власти в Лондоне и других крупных городах Англии. (обратно)168
Джованни Боккаччо. «Декамерон». (См. Фрагмент 50). (обратно)169
Франсуа Вийон. «Баллада о толстухе Марго»«Слуга и «кот» толстухи я, но, право,
Меня глупцом за это грех считать:
Столь многим телеса ее по нраву,
Что вряд ли есть другая, ей под стать.
Пришли гуляки — мчусь вина достать,
Сыр, фрукты подаю, все, что хотите,
И жду, пока лишатся гости прыти,
А после молвлю тем, кто пощедрей:
«Довольны девкой? Так не обходите
Притон, который мы содержим с ней».
Но не всегда дела у нас на славу:
Коль кто, не заплатив, сбежит, как тать,
Я видеть не могу свою раззяву,
С нее срываю платье — и топтать.
В ответ же слышу ругань в бога мать
Да визг: «Антихрист! Ты никак в подпитье?» —
И тут пишу, прибегнув к мордобитью,
Марго расписку под носом скорей
В том, что не дам на ветер ей пустить я
Притон, который мы содержим с ней.
Но стихла ссора — и пошли забавы.
Меня так начинают щекотать,
И теребить, и тискать для растравы,
Что мертвецу — и то пришлось бы встать.
Потом пора себе и отдых дать,
А утром повторяются событья.
Марго верхом творит обряд соитья
И мчит таким галопом, что, ей-ей,
Грозит со мною вместе раздавить и
Притон, который мы содержим с ней.
В зной и мороз есть у меня укрытье,
И в нем могу — с блудницей блудник — жить я.
Любовниц новых мне не находите:
Лиса всегда для лиса всех милей…»
Последние комментарии
2 часов 22 минут назад
18 часов 26 минут назад
1 день 3 часов назад
1 день 3 часов назад
3 дней 9 часов назад
3 дней 14 часов назад