У крутого обрыва
РУКА ДРУГА
«Несправедливость?! — ответил я ему. — Тогда что же Вы называете справедливостью? Право безнаказанно драться? Право бить и оскорблять женщину? Я не знаю, чем провинилась перед Вами та, на которую Вы подняли руку, заслуживает она унижения или нет. Но одно я знаю твердо: ударивший женщину недостоин называться мужчиной…»Я думал, он мне не ответит. Или ответит слезливой бранью. Письмо пришло недели через две:
«…Зачем Вы отчитали меня, не разобравшись? Я открыл Вам душу, а Вы надо мной подсмеялись. Вот Вы пишете: «Не знаю, чем провинилась, заслуживает уважения или нет». А раз не знаете, зачем судите? В том-то и дело, что провинилась, обманула, а я ей так верил! Я назначил Вальке свидание, ждал ее, она не пришла. Я побежал к ней домой, говорят — она у сестры. Побежал к сестре — нет! А потом ребята мне сказали, что Валька была в одной компании, с совсем чужими ребятами. Разве так поступают настоящие советские девушки, да к тому же еще комсомолки? …За что три года?! Ведь это значит поощрять разврат! Я сижу, а Валька ходит с гордо поднятой головой. Вот и вся «справедливость». Но главное, что меня возмущает, это как отнеслись ко всему на заводе. Говорят разные слова про мораль, человек человеку друг и брат. Когда же доходит до дела, своему лучшему рабочему требуют тюрьмы, а распущенную девчонку объявляют ангелочком, с чепчиком на лбу… (Так и написал: с чепчиком на лбу. Ума не приложу, что это значит?! — А. В.) Мне три года отсидеть — раз плюнуть, но жаль терять веру в людей».Тоже, между прочим, песня не новая. Человек совершил преступление, его наказали — и вот уж он сразу утратил веру в людей!.. А чего же он ждал от людей-то? На что рассчитывал? Что «войдут в положение», «учтут», простят? Что все обойдется? Тогда он, конечно, сохранил бы свою «веру», да вот только сохранит ли ее в этом случае жертва рукоприкладства? И те самые люди, верой в которых клянется автор письма, сохранят ли они уважение к закону и справедливости, если преступление, совершенное на их глазах, останется безнаказанным? Об этом я и написал Анатолию. Наверно, бессмысленно, бессмысленно и жестоко требовать от того, кто наказан, холодной объективности по отношению к самому себе. Вряд ли наше мнение о преступнике и совершенном им поступке может полностью соответствовать его собственному мнению. Было бы странно, если бы он, находясь в заключении, не жалел себя, не оплакивал своей судьбы, если бы не старался найти оправдания, пусть наивного и нелепого, тому, что содеял. Это стремление самооправдаться психологически вполне понятно: куда как «слаще» чувствовать себя непонятым, обиженным, осужденным чрезмерно сурово… Да и не только в эмоциях дело: за попыткой самооправдаться стоит вполне конкретная цель. В природе человека — стремиться облегчить свою участь. Но кто же облегчит ее, если ты сам будешь утверждать, что наказан справедливо?! Так что понять «обиженных» можно. Согласиться с ними — труднее. Здесь, собственно, и кроется главный конфликт между обществом и человеком, преступившим закон. Ведь не мстить оно хочет преступнику — этой цели нет и не может быть у советского права, как не может у него быть стремления причинить даже очень дурному человеку неоправданные и чрезмерные страдания. Цель в другом: излечить его нравственно, не допустить, чтобы впредь он когда-нибудь нарушил закон. Есть один-единственный суд, которому под силу достичь этой цели: суд совести. Люди, облеченные правом судить других, стремятся, в сущности, лишь к одному: пробудить в преступнике совесть, чтобы заставить его бескомпромиссно и трезво взглянуть на свое прошлое и чтобы он сам без понуждений, не из страха, а подчиняясь рассудку, сжег к нему все мосты… Больше года был отрезан от мира стенами колонии Анатолий Б., но в письмах своих вполне искренне — я уверен — продолжал твердить о «несправедливости»: обманула его Валя, не пришла на свидание, разве мог он смолчать и простить ей обман?
«Вы опасный для общества человек, — написал я ему. — Да, опасный, потому что убеждены в своем праве кулаком решать споры и недоразумения, понуждать к любви, навязывать свою дружбу, наконец, самочинно расправляться с теми, кто относится к Вам не так, как Вам бы хотелось. И, сколько бы Вы ни стенали, общество имеет моральное право (не говорю уже о законе) изолировать Вас, пока Вы не осознаете справедливость и обязательность правил поведения, установленных людьми, и добровольно им не подчинитесь».Это было жестоко — написать так человеку, которому лихо. Это было безжалостно — лишить его всякой надежды на снисхождение. Но ни в чем не нуждался сейчас Анатолий больше, чем в суровом суде над самим собой. Не каждому осужденному дано пойти на эту нравственную пытку, на эту казнь без милосердия, но лишь тот, кто на нее решится, достоин называться человеком и незапятнанным вернуться к людям… Ответа не было долго, потом он пришел, все еще брюзгливый, но в нем уже звучали какие-то новые нотки.
«Хорошо, пусть я погорячился, пусть виноват, но неужели я такой зловредный преступник, что меня надо упрятать на три года? В приговоре написано — «злостный хулиган». Ну какой же я злостный хулиган, когда за всю свою жизнь мухи не обидел? Никаких выговоров или чего-нибудь еще такого не имел никогда. И вот вам, пожалуйста: немного погорячился — сразу три года. Это Вы считаете справедливым?»Что ж, три года — большой срок, и никем еще не доказано, что длительная изоляция от общества — самый лучший, самый надежный способ благотворного воздействия на ум и душу преступника, самое верное «противоядие», самый сильный тормоз на пути к рецидиву. Но как измерить с оптимальной точностью, сколько «дать» вот этому, а сколько — тому, чтобы и справедливо было, и эффективно, не слишком много, но и не слишком мало? Нет таких приборов, которые пришли бы здесь на помощь человеку, помогли бы прогнозировать процесс нравственного излечения подвергшейся коррозии души. Судейский опыт, житейская умудренность тех, кто решает судьбу человека, умелое и гибкое применение закона — вот гаранты от ошибок и промахов, которые вообще-то всегда неизбежны там, где люди судят людей.
«Ошиблись ли судьи в Вашем деле? — ответил я Анатолию. — Не знаю. Я не сторонник крутых мер, особенно если речь идет о человеке, впервые попавшем на скамью подсудимых, да и наши ученые, основываясь на изучении практики, все больше приходят к выводу о нецелесообразности больших сроков наказания для тех, кто не совершил слишком тяжкого преступления. Но это — в принципе. Если же говорить конкретно о преступнике по имени Анатолий Б., то пока еще трудно сказать, ошибся суд или нет. Наказание становится бессмысленным, когда человек сам осудил себя строже, чем нарсуд, строже и безжалостней. К этому колония уже ничего не может добавить, и дальнейшее пребывание там — не на пользу, а во вред, потому что нужно скорей возвращаться к нормальной, обычной жизни, в трудовой коллектив, к семье, к друзьям, и делом доказать свое исправление. Созрели Вы для этого — как Вам кажется, положа руку на сердце? Не обижайтесь: я думаю — нет. Вот почему пока еще рано говорить об ошибке, о том, что суд обошелся с Вами слишком сурово…»Следующее письмо Анатолия разительно отличалось от предыдущих, во всяком случае своим началом:
«Вы даже не представляете себе, насколько иначе идет здесь время. Я хочу сказать — иначе, чем на воле. Оно тянется очень медленно, один день похож на другой, и кажется, этой удручающей тоске не будет конца… …Все-таки я не пойму, как же это меня мой завод бросил на произвол судьбы. Я там работал два года до армии и почти четыре года — после. Как у нас говорят, кадровый рабочий. По моим понятиям такому человеку, если он попал в беду, завод должен оказать помощь. Они же на суд прислали не общественного защитника, а обвинителя! Не только, значит, бросили на произвол судьбы, но доконали!..»Я решил узнать, действительно ли завод «бросил» его, «доконал», забыв все доброе, что сделал Анатолий, работая почти шесть лет в одном и том же цехе. Да, так бывает, и далеко не всегда мне это кажется правильным. Далеко, далеко не всегда… Помню, следствие занималось делом одного шофера, которого подозревали в том, что он помогал расхитителям вывозить со склада «левый» товар. Как водится, прокуратура запросила характеристику. И получила… Чего в ней только не было! Имел выговор за опоздание на работу (четыре года назад). И другой выговор — общественный, за появление в нетрезвом виде на вечере художественной самодеятельности (два с половиной года назад). И школа сигнализировала: не ходит, мол, на родительские собрания, не следит за воспитанием сына, а тот плохо ведет себя. И выходило, что этот самый шофер крайне отрицательный тип, о котором нельзя сказать доброго слова. А за три месяца до этого шофер был представлен к грамоте ЦК профсоюза. И тоже писали характеристику. Там нашли для него множество добрых слов. Зато о выговорах, о родительском нерадении даже не упомянули. Ни в той, ни в другой характеристике не было лжи. Просто услужливая память подсовывала авторам этих документов те детали, которые казались более пригодными для данного случая. Ежели для премии — вспоминай все хорошее. Ну, а ежели для суда — вали все плохое. Да, шофер имел те выговоры, о которых говорилось в характеристике. Но их уже больше нет: через год они снимаются автоматически. Таков закон. Зачем же вспоминать о них, тем более что к действию, в котором шофер обвинялся, они никакого отношения не имели? Чтобы бросить на него тень? Чтоб причинить ему зло? Следствие установило, что шофер ни в чем не виновен. Незапятнанный, он вернулся на фабрику. Какими же глазами посмотрели на него авторы «черной» характеристики?! И что он подумал о них? Какой след эта история оставила в его душе? Велика гуманность закона: в трудовой книжке можно прочитать о всех поощрениях — наградах, грамотах, благодарностях, — которыми отмечается жизненный путь рабочего человека. Но там не оставлено места, где можно было бы сделать запись о полученных им взысканиях: закон это категорически запрещает. Вот ведь какой «необъективный» наш закон: благодарность следует за человеком всю жизнь, она украшает его и через двадцать лет, и через тридцать. А выговор и отметить нельзя. Проходит год — он вообще снимается. Нехорошо… Нет, хорошо. Добро надо помнить всегда. Про зло следует позабыть, если оно кануло в прошлое, если видишь, что наука пошла впрок. Во все века и у всех народов доброта считалась величайшим украшением человека, умение прощать — его достойнейшей чертой. Но никто и никогда не воспевал злопамятство. Человек меняется. Меняется к лучшему. Не будем мерить его прошлогодней меркой: он вырос. Он хочет, чтобы о нем судили по тому, каков он сегодня, а не по тому, каким был он вчера. Безгрешных не бывает, — мало ли что у кого было! Но ведь кто старое помянет, тому, как известно, глаз вон… Об истории шофера и о многих похожих думал я, садясь за письмо, обращенное к администрации завода, где работал Анатолий, к руководителям заводских общественных организаций. Мне хотелось понять, что заставило их обвинять своего рабочего. Вот что мне ответили:
«Анатолий Б. был очень хорошим работником нашего завода, пользовавшимся заслуженным уважением и почетом, свидетельством чему были полученные им поощрения и премии, а также выдвижение его в состав цехкома профсоюза. Мы считали, что у него есть все основания для дальнейшего производственного и общественного роста. Тем больше удивил весь наш коллектив его возмутительный, не имеющий никакого оправдания поступок. …Самое огорчительное заключалось в том, что Б. не только не раскаивался в своем поступке, но ходил до своего ареста с гордо поднятой головой и похвалялся, что ему ничего не будет, так как завод «станет за него горой». Он не только не устыдился своих товарищей, на глазах у которых совершил хулиганство, но требовал от них (не просил, а требовал) защиты. Нельзя забывать, что Валентина Ш., грубо оскорбленная Б., — тоже наша работница. И общее собрание рабочих единодушно приняло решение защитить ее честь, а это значило — резко осудить Б. Коллектив не только не отворачивается от него, но убежден, что Б., если в нем проснется совесть, вернется на наш завод, где его встретят, не напоминая о прошлом, дадут работу и сделают все, чтобы он мог совершенствовать свою квалификацию, учиться и быть равноправным членом нашего большого трудового коллектива».Копию этого письма — без единой приписки — я отослал Анатолию. Комментировать письмо не хотелось — оно достаточно красноречиво говорило само за себя. И тут наша переписка надолго прервалась. Я терпеливо ждал, понимая, что рано или поздно Анатолий ответит. Обрадовало ли его это письмо или разочаровало, разозлило или озадачило — кто знает?.. Но в одном я не сомневался: оно заставило его о многом задуматься и многое пересмотреть. А тот, кто задумался, кто усомнился в своей непогрешимости, кто по-иному взглянул на содеянное — глазами товарищей, искренне расположенных к нему, — тот уже на пути к нравственному прозрению. И это значит, что наказание достигло цели и что отбывать его дальше нужды нет. Ни для общества, ни для того, кто временно был от него отторгнут…
«Долго не писал Вам, извините… Вы, наверно, знаете, что у нас строгий порядок. Писать на волю не столько, сколько захочешь, а сколько положено. Правда, я за перевыполнение плана получил право на одно дополнительное письмо в месяц, но все же… А я за это время наладил переписку с заводскими ребятами и, как у нас говорят, свой лимит исчерпал. И, правду сказать, позабыл о Вас, не сердитесь. Многое хотел бы Вам сказать, да стоит ли, Вы, наверно, сами все понимаете… Мне осталось отбыть один год и четыре месяца. Как-нибудь дотерплю, уже пошло на вторую половину. Чтобы время не терять даром, штудирую немецкий язык, ребята прислали учебник. Хочу поступать в институт, да не знаю, возьмут ли, имея в виду мое «темное прошлое». Но на всякий случай все же готовлюсь…»Потом было еще два письма — скупых, торопливых, хотя обычно в колониях пишут обстоятельно, подробно, не жалея подробностей, — вечера длинные, спешить некуда, и хочется отвести душу… И вот — телеграмма:
«Нахожусь дома работаю на том же заводе привет и спасибо Анатолий».До конца срока ему оставалось одиннадцать месяцев. И по закону условно-досрочно он освободиться не мог… Теперь я знаю достоверно, что Анатолий не просил о снисхождении, никого не пытался разжалобить и честно настроился ждать «последнего звонка». Но рабочие, о которых Анатолий когда-то писал мне, что они отнеслись к нему «вопиюще несправедливо», ходатайствовали о том, чтобы помиловали их товарища, осознавшего и искупившего свою вину, и, получив отказ, не успокоились, а написали снова и даже отрядили «ходоков» для доклада «в инстанциях». Их голос услышали — разумный, честный и добрый голос… Вот и весь рассказ об Анатолии Б., рассказ с горьким началом и добрым концом. Впрочем, конца у него еще нет, потому что жизнь продолжается и, значит, продолжается процесс духовного роста оступившегося, но нашедшего в себе силы подняться молодого человека. Подняться, опираясь на руку товарищей — рабочих многотысячного заводского коллектива, проявивших не злопамятность, а выдержку, терпение, объективность и доброту. Недавно я был на этом заводе. У проходной, пока мне выписывали пропуск, я прочитал объявление:
«В четверг состоится общее цеховое собрание. Повестка дня… 4. Выдача рекомендации Анатолию Б. для поступления в вуз».
1969
ТУМАННЫМ УТРОМ
Двадцатилетний рабочий Вадим Белозеров умер через несколько часов, не приходя в сознание, от смертельной раны: пуля пробила брюшину, почку и селезенку. Охотники сами доставили его в больницу. Они молчали, потрясенные случившимся и отчетливо сознавая, что их ждет. Рядом, в крохотной комнатушке приемного покоя, рыдала молоденькая девчонка — подруга Вадима. Позже приехали его отец и мать: их едва разыскали в поле — стояла страдная, уборочная пора. Все было ясно, оставалось только пройти через необходимые формальности следствия и предстать перед судом. И мужественно принять, а потом и достойно пронести справедливую кару. Все было ясно, потому что оба стреляли, легкомысленно приняв размытую туманом и расстоянием цель за вполне реального, а не призрачного медведя. И оба склонили свои головы перед ожидавшим их мечом правосудия, ибо не чувствовали никакого оправдания своему поступку, приведшему к такой чудовищно бессмысленной и оттого еще более страшной беде. Для Вадима, для его родных и близких это был несчастный случай. Для Солдатова и Боброва он имел вполне точное правовое наименование: неосторожное убийство. Жертве и тем, кто оплакивает ее, безразлично, какое прилагательное стоит перед словом «убийство»: итог один и горе одно. Но юристам не безразлично. И уж конечно не безразлично убийцам: итог один, но иная мера вины и ответственность тоже иная. В законе на сей счет очень дробная шкала статей, а значит, и санкций, ибо издавна известно, что нельзя мести всех одной метлою. Хотел ты или нет гибели жертвы? А может быть, не хотел, но все-таки допускал, что из-за твоих действий смерть наступит? Или если не допускал, то должен был допустить? Принял ли все меры предосторожности? Не допустил ли небрежность, обернувшуюся несчастьем? Вот какие вопросы ставит закон, и от ответа на них зависит судьба человека. Не того, которого не вернуть, но живого, ставшего обвиняемым, а затем и подсудимым. Судьба, ибо и его жизнь отмерена сроком, и ему отнюдь не все равно, какую именно ее часть — третью, пятую или седьмую — проведет он вдали от общества, от семьи, от любимого дела, от всего того, что зовется свободой… Слишком сложно? Не очень понятно? Что ж, юстиция — вообще довольно сложная область. А если точнее — исключительно сложная, органически чуждая всякого примитива, приблизительности, некомпетентности, требующая глубоких специальных познаний. Тем более что имеет она дело с людьми — распоряжается их судьбами, а то и жизнью. Веками вырабатывалась и оттачивалась правовая мысль, облекалась затем в формулировки законов, в принципиально важные положения судебных решений. На помощь праву приходили завоевания психологии и медицины, педагогики и философии, естественных и точных наук — все, что помогало и помогает отысканию истины и торжеству справедливости. Вершить суд над людьми — ответственно, трудно, и никогда это занятие не станет легким и быстрым, сколько бы ни призывали нетерпеливые к «простоте» и «решительности». Простота в этом деле слишком опасна, о чем убедительно свидетельствует исторический опыт. А решительность хороша, если покоится на твердой основе закона. Но это так, к слову… А почему, собственно, «к слову» разговор о сложности, когда речь идет о деле наипростейшем? Солдатов и Бобров, проявив преступную небрежность, убили Вадима — и сами не отпираются, и улики все налицо. В чем же сложность? Два следа от двух пуль были на теле убитого. Одна рана, оказавшаяся смертельной. И другая — попросту никакая: попав в карман спортивной куртки, пуля ударилась о лежавшую там металлическую коробку, отклонилась в сторону, отлетела, лишь осколок разбитой коробки слегка оцарапал грудь. Если бы оба х о т е л и убить Вадима, то отвечали бы на равных. Как сообщники. Как совместно задумавшие и совместно осуществившие убийство. Кто попал, кто промахнулся — принципиального значения это бы не имело. Но они не хотели. Не умысел руководил их поступком, а легкомыслие. То, что юристы называют небрежностью. И в этом случае уголовной ответственности подвержен лишь тот, чья небрежность завершилась роковым финалом. Таков закон. Не тот отвечает в уголовном порядке, кто только стрелял. Тот, кто убил! Правильно это? Или неправильно? Мнения могут и разойтись. У юристов не могут. Ибо сомнения свои они поверяют не расхожей житейской логикой, а законом. Что в законе написано, то и верно. Это не фанатизм, не казуистика, не слепая вера, это то, без чего сами понятия «правосудие» и «законность» потеряли бы всякий смысл. Стреляли оба. Убил один. Вот в чем сложность. Проблема. И — драма. Потому что нравственно вина одного ничем не отличается от вины другого. Юридически — между ними пропасть: один виновен, другой нет. Но кто же он — тот, что виновен?.. Обычно такие загадки решаются довольно просто. На помощь следователю приходят эксперты — специалисты по оружию, по баллистике, по медицине. Криминалисты находят точно место, откуда стреляли, и место, где находилась цель. По траектории полета пули, по виду оружия, по следу, который пуля оставила (сопоставив все это с другими уликами, добытыми следствием), делают вывод. Научно обоснованный, безупречно доказательный вывод. Нашли место, откуда стреляли. И место, где была цель. И оружие. И пули. Улик было хоть отбавляй. И чистосердечные показания стрелявших, охотно помогавших следствию в отыскании истины. Но истину не открыли: поразительное совпадение обстоятельств не позволило даже специалистам отличить выстрел роковой от выстрела нерокового. Оба были одинакового роста, оба стреляли стоя, почти касаясь плечами друг друга: след ноги Солдатова лишь на двадцать сантиметров был ближе к реке, чем след ноги Боброва. И ружья были одного калибра. И пули одинаковые. Сначала Солдатов и Бобров никак не могли понять, из-за чего, собственно, столько хлопот. Так ли уж важно, кто попал? Вместе стреляли, вместе и отвечать должны — по справедливости. — Любого спросите, — горячился Бобров, — всякий скажет, что вместе. Он почему-то был убежден, что промахнулся. Если это докажут, неужели осудят только Солдатова? Да как же он тогда посмотрит людям в глаза?.. Но следователь знал, что с такими вопросами «к любому» не обращаются, что искать ответ положено только в законе. Только в законе и нигде больше. Следствие зашло в тупик. О его плачевных итогах доложили районному прокурору. Прокурор, однако, не счел итоги плачевными. Стреляли оба? Стреляли. В одну цель? Да. Имели право стрелять в подобной обстановке, не убедившись с абсолютной непреложностью, что в кустах скрывается медведь? Конечно, нет: правилами охоты это воспрещено. Чем же тогда положение Солдатова отличается от положения Боброва? Тем, что пуля одного из них рикошетировала от коробки? Но ведь это случайность: стреляли они, чтобы убить, а не промахнуться. Вместе создали реальную угрозу для жизни людей. Один подстраховывал другого, оттого и стреляли вдвоем. Да, в медведя: но их ведь и не обвиняют в умышленном убийстве. А в неосторожном убийстве повинны оба. И логика здесь была, и здравый смысл, и даже попытка каким-то образом истолковать закон, подогнав его под заранее сложившуюся схему. Но, как всегда бывает, когда закон «подгоняют» под что-то, он трещит и рвется по швам, не выдержав произвольного с ним обращения. Ни разуму, ни здравому смыслу закон, конечно, не противоречит. Он и есть высшая справедливость. И высший здравый смысл. Он остается таким и тогда, когда в бесконечном многообразии жизненных ситуаций встретится ситуация, подобная нашей. Ситуация, при которой отступить от закона кажется более справедливым, чем следовать ему. Как заманчиво — отступить… Но и как опасно! Допустим такую возможность, и пресловутая «целесообразность» оттеснит закон. Призванные исполнять его, проводить в жизнь, прокурор и судья вместо этого станут решать, а не лучше ли в таком-то случае и в таком-то его нарушить. И вместо законности получается хаос. И мнимая справедливость частного случая обернется чудовищной несправедливостью по отношению к обществу, чья мудрость и воля выражены в законе, который обязателен всегда и для всех. — Нет, — твердо сказал следователь Фролов, — обвинять двоих, когда виновен только один, я не вправе. Закон мне этого не позволяет… Прокурор был не менее тверд: — Дело доведет до конца ваш коллега. Коллега довел. И суд вынес обоим обвинительный приговор. Солдатов и Бобров обжаловать его отказались. Совесть не позволяла. Фролова тоже мучила совесть. Уж он-то, казалось, сделал все, что зависело от него, даже пошел на открытый скандал с начальством ради истины и закона. Чего же еще?
Рабочий день давно закончился. Фролов и его коллега — тот, что «довел дело», — остались вдвоем. У них был общий кабинет — три шага в длину и два в ширину, — где они проработали бок о бок пятнадцать лет. Коллега — умный, совестливый юрист, не будет же он настаивать на ошибке, тем более сейчас, когда разговор — по душам. Он должен понять, он обязан убедить прокурора, что нужно сделать представление «наверх», добиваться протеста. Да, коллега понимает. Да, ему близки горячность Фролова, его благородное преклонение перед законом, его мятущаяся совесть. Но надо же, дорогой мой, стоять двумя ногами на земле. Негоже терять чувство реальности. Нельзя игнорировать сложившееся мнение. Люди не поймут, если за убийство человека никто не ответит. С чем мы придем к ним? С юридическими головоломками? С ребусом, который мы не в состоянии разгадать? Покажем свою беспомощность? Подорвем свой авторитет? Чтобы люди перестали верить в юстицию? И потом — приговор уже вынесен. Его встретили с одобрением. Сами осужденные его не обжаловали. Значит, они считают его справедливым. И тем самым одна из основных задач процесса — убедить подсудимых в справедливости определенного им наказания — достигнута. Почему, собственно, ты должен печься о них больше, чем они сами? — Но приговор не правосуден. Один из двух осужден «за компанию» лишь потому, что наука оказалась бессильной ответить на вопрос, интересующий следствие и суд. Что же, молчать, утешаясь тем, что лично я к беззаконию не причастен? — Все зависит от того, с какой позиции смотреть. Один осужден «за компанию», говоришь ты. Пожалуй. Но будь они оба свободны, это значило бы, что один опять-таки «за компанию» ответственности избежал? Тут твоя совесть молчит? Ты забыл, что мы решаем не абстрактный казус на студенческом семинаре, что труп безвинно погибшего взывает о каре. — Кара не может постигнуть того, кто не виновен. — Но кто-то же виновен! Как быть с известным положением о неотвратимости наказания для виновного? Считать, что в данном случае это положение недействительно? — Считать, что в данном случае виновный не найден. Вспомним о другом положении, не менее известном: все сомнения толкуются в пользу обвиняемого. — Попробуй объяснить это людям. Родителям Белозерова, например. Они сочтут это за издевательство. И будут правы. Вот вам убийцы, скажут они. Убийцы, не отрицающие своей вины. Как я докажу несчастным родителям, что по житейской логике убийцы виновны, а по юридической — нет? — Ты считаешь, что этот довод оправдывает нарушение закона? Нет убийц, есть убийца. А кто именно — неизвестно. — Напрасно ты стараешься столкнуть лбами закон и справедливость. Закон тоже на стороне обвинения: действовали совместно, пусть совместно и отвечают. И потом — опять повторю: нельзя игнорировать общественное мнение…
Конституционный принцип — «судьи независимы и подчиняются только закону» — универсален. Судьи независимы не только от всевозможных ходатаев и телефонных звонков, но и от общественного мнения, сложившегося в районе. Ибо мнение это может быть ошибочным, основанным на незнании фактов. На ложной информации. На нагромождении слухов. На недостаточно высоком уровне правосознания. На плохом знакомстве с законом или чрезмерно вольном его истолковании. Суд не следует за «мнением», а формирует его — своей верностью истине, своей неподкупной беспристрастностью и объективностью, своим служением только закону. Формирует, смело разбивая, если надо, поспешные выводы, порожденные некомпетентной молвой. Поступи он иначе — от правосудия ничего не осталось бы. «В идеале» итогом всякого судебного процесса должно быть осуждение виновного и оправдание невиновного. В огромном большинстве случаев именно так и бывает на практике, а не только «в идеале». Но на этот раз, по причинам, которые теперь известны читателю, вопрос стоял иначе: или будут наказаны двое, один из которых заведомо невиновен, или будут освобождены от наказания двое, один из которых заведомо виновен. Третьего же, к великому сожалению, на этот раз не было дано. Вот как стоял вопрос, над которым бился наедине со своей совестью следователь Фролов, решая, что же ему делать. Солдатов и Бобров терпеливо отбывали наказание, не ропща и не требуя снисхождения. Они и не знали, что в это время Фролов, взяв отпуск, отправился по инстанциям — «искать правду». Он был убежден, что найдет ее, и поступок свой считал естественным, а вовсе не подвигом и не геройством. Я опускаю рассказ о том, как ходил он из кабинета в кабинет, как спорил, доказывал, убеждал. И как не всюду встречал сочувствие, а кое-где даже ловил на себе косые и недоуменные взгляды: с чего бы это вдруг следователю выступать в роли незваного адвоката? Но он не смущался косых взглядов, он делал правое дело и в сознании этого черпал энергию и силу. Его принял прокурор республики. Принял и поддержал. И наступил в конце концов день, когда Солдатову и Боброву сообщили о том, что дело их производством прекращено. Я не знаю в точности, было ли это сообщение для них совершенно неожиданным, несло ли оно нечаянную радость, или в глубине души они на что-то надеялись, не знаю. Человеку свойственно всегда на что-то надеяться и не обрекать себя без нужды на лишние страдания. Сначала они помчались домой, к своим близким, к друзьям, получили новые документы, оформились — все честь по чести, но, прежде чем приступить к работе, сели в самолет и вернулись в те места, где разыгралась эта жестокая драма. Как приняли их там, в деревне, где, сами этого не желая, они обагрили землю кровью хорошего человека? Прогнали и прокляли? Или молча повели на могилу Вадима — как раскаявшихся грешников, принесших повинную? Этого я тоже не знаю. Но как бы ни приняли, исход дела, наверное, у каждого оставляет горький осадок. Преступление не повлекло за собой наказания. Один из двух — несомненный преступник — судом (судом!) объявлен ни в чем не повинным. Не заслуживающим снисхождения, не прощенным, а невиновным. С таким финалом действительно трудно и больно смириться. Наше чувство справедливости уязвлено… Бывает, пешка, еще в дебюте поставленная «не на то» место, до предела ограничивает в эндшпиле выбор вариантов, заставляя шахматиста отказаться от эффективнейших продолжений. Как было бы хорошо, если бы стояла она на одно поле, на одно только поле, дальше или ближе!.. Но она стоит там, где стоит, и — хочешь не хочешь — приходится с этим считаться. Жизнь — не шахматная партия, но и она сплошь и рядом задает задачи, решая которые хотелось бы «пешку» куда-нибудь передвинуть. А она «стоит», вынуждая нас выбирать не между лучшим и худшим, а «из двух худших». И тогда не остается ничего другого, как выбрать наименьшее зло. Сколь ни велика потребность наказать порок, во сто крат хуже осудить невиновного и сделать «по справедливости» маленькое, совсем незаметное отступление от закона. Из самых что ни на есть благороднейших побуждений… Именно в таких редких драматических коллизиях, которые подчас задает нам жизнь, с особой остротой обнажается высокогуманная, нравственная сущность основных принципов правосудия, содержащихся в нашем законе. В том числе и того, который гласит: «Все сомнения… толкуются в пользу подсудимого». Это не «награда» ему, это гарантия законности и правового порядка, на страже которого стоит суд.
1972
ИГРУШЕЧНОЕ ДЕЛО
1964
ЛЮБИТЕЛЬ ИЗЯЩНОЙ СЛОВЕСНОСТИ
Толя Петровский еще в детстве отличался от многих сверстников упорством и целеустремленностью. Ему было, кажется, восемь или девять лет, когда он твердо решил стать пилотом. Обычная мальчишеская игра? Нисколько. Толя в свою мечту не играл — он к ней стремился. Читал книги, которые и взрослый-то не всегда осилит. Тренировал волю. И тело: уже к восьмому классу он имел спортивный разряд по плаванию, лыжам, волейболу, борьбе, водному поло… Он учился в школе, где придирчиво относились к успехам учеников, ненавидели дутые цифры, не создавали фиктивных кумиров. И однако же педсовет единодушно рекомендовал Анатолия в вуз: его способности и трудолюбие ни у кого не вызывали сомнений. Но Анатолий в вуз не пошел: по-прежнему неудержимо влекло небо. Он поступил в летное училище. Получив право сесть за штурвал, он стал вторым пилотом местных линий на маленьком областном аэродроме. Осуществилась мечта… Осуществилась мечта?!. Да неужто такой представлялась ему жизнь, отданная небу, жизнь, сплошь состоящая из подвигов и приключений? Его воображению рисовались могучие белоснежные лайнеры — именно могучие и белоснежные: ведь так, и только так, именуют их в репортажах и очерках, — красавцы машины, подвластные его сильным, тренированным рукам. А пришлось летать на «кукурузниках», которых он про себя называл не иначе как «черепахами». Он хотел «возить» дипломатов и чемпионов, журналистов и кинозвезд, величественно проходить по роскошному салону, красуясь кителем с золотыми нашивками, а на борт его «черепах» поднимались пассажиры совсем иного «масштаба». Ему виделись под крылом Манила и Гонолулу, а летал он в Кощеево и Урусобино, в Игрищи и Пестяки. Человек начитанный и толковый, он понимал, конечно, что сразу ничего не дается, что никто не доверит лайнер пилоту, не освоившему «кукурузник». Но на все это требовались годы, надо было работать, не суетясь, не гоняясь за призрачной «красотой» жизни. А ему было жалко молодых лет, которые, как учит расхожая мораль, быстро проходят. В принципе он готов был ждать, но только с гарантией, что ему удастся хоть чего-то дождаться. Он готов был — опять-таки в принципе — работать засучив рукава, но так, чтобы не очень потеть и чтобы деньги текли золотым ручьем. Деньги, увы, не текли, потеть приходилось изрядно, и гарантий на будущее никто не давал. А тут еще стал заедать быт. Вроде бы совсем недавно он бегал на свидания, дарил цветы, писал пылкие письма. Девчонка из его класса восторженно слушала стихи, которые он читал, когда ночи напролет они бродили до безлюдным набережным, и вместе с ним строила розовые воздушные замки. Но, как и все женщины, став женой, а потом и матерью, она опустилась на землю. Нужно было обживать дом, заботиться о ребенке, думать о будущем — реальном, а не иллюзорном. Эта постылая трезвость еще больше подчеркивала крах надежд и призрачность юношеских мечтаний. Шли годы, а он все еще торчал в «провинциальной дыре» и в сотый раз разглядывал сверху Бакуниху и Макарьев… Правда, было ему всего-навсего двадцать три — мальчишеский возраст по нынешним временам — а казалось: грядет чуть ли не старость. Он работал, и работал неплохо, поступил заочно в академию гражданской авиации — это сулило потом продвижение, рост. Но учиться предстояло несколько лет, а после учебы «пробиваться», одолевать служебную лестницу ступень за ступенью, откладывать «на потом» все, о чем так сладко мечталось… Боже мой, да как же это он прогадал? Вон в кино, говорят, покрутишься перед камерой — и тебе деньги и слава… А жизнь-то какая: премьеры, поклонницы, фестивали!.. Или, скажем, балет: попорхает, попрыгает — и полтыщи отвалят… Но на балетные лавры Петровский все же не посягнул. И в кино не полез: хлопотно очень. Литература — дело другое: сидишь себе, покуривая, за письменным столом, водишь пером по бумаге, потом относишь «нетленку» на почту и ждешь перевода. Очень мило. Главное — просто. Работенка — не бей лежачего, зато какой результат. Брезжил план большого романа, но роман он решил отложить до лучших времен, обратившись сначала к жанрам малоформатным. Пришла идея рассказа: бывший пастух становится доктором наук. Или — еще того лучше: доктор наук приезжает в родное село и по старой памяти поспешает на пастбище… Он безуспешно промаялся весь день над первой фразой, но не впал в отчаяние, — как истинный литератор, завел записную книжку и стал копить заготовки в стихах и прозе. Придумал — на всякий случай — оригинальные рифмы: «доцента, процента, акцента». Оригинальный диалог: «Ты почему такой веселый? Гулял на свадьбе? — Нет, отгадал четыре цифры в спортлото». Сюжеты будущих произведений он брал прямо из жизни. У него только что родился сын — «по обоюдному недосмотру», как заявит он впоследствии прокурору. Он озлился на «недосмотр», отказался от сына, порвал с женой, грубо толкавшей его в пропасть обыденщины, и забрал все подарки, которые сделал ей к свадьбе. В записную книжку он занес потом такой сюжет для небольшого рассказа: «Сын, никогда не видавший отца, приглашает его на свою свадьбу». Но за сюжеты гонорар не платили, и со славой дела обстояли неважно. Толя снова сменил жанр, перешел не на малый формат — на мельчайший. Как раз вошли в моду сатирические миниатюры, шуточки, спрессованные подчас до единственной фразы. И вот в один прекрасный день сотрудники «Клуба 12 стульев» извлекли из почты материал, предложенный Анатолием Петровским для шестнадцатой полосы «Литературной газеты»:
ФРАЗЫ. «Одна голова хорошо, а ученая степень лучше», «Сколько волка ни корми, он все равно слоном не станет», «Не имей сто рублей, а имей удачу в «Спортлото». СЛОВАРИК. «Аквариум — рыбье общежитие»; «Газон — часть суши, по которой ходить запрещено»…Что-то, право, не густо. Конечно, обильная почта 16-й полосы приносит еще и не такой «улов». Далеко не каждому хватает выдумки и блеска, чтобы тягаться с Евг. Сазоновым. И мне в голову не пришло бы оговаривать автора, у которого что-то не получилось. Но тут мы имеем дело не с обычным редакционным самотеком, не с естественным желанием попробовать свои силы на газетных страницах. Для Анатолия его худосочные афоризмы были отнюдь не забавой — заявкой на место под солнцем, способом начать красивую жизнь, приобщившись к изящной словесности… Приобщение не состоялось. Но хода назад уже не было. Он снова сменил жанр, спустившись еще на одну ступеньку: стал составлять кроссворды. Это было, конечно, не бог весть что, но все же позволяло сойти за эрудита. И опять неудача. Оказалось, что без пота и кроссворд не составишь. А потеть, как мы знаем, ему не хотелось. Тогда он решил передохнуть, перебиться месяц-другой от грядущих свершений, но, конечно, не кое-как, а на уровне, достойном незаурядного человека.
Давно и не раз писалось, что существующие среди некоторой части молодежи представления о престижности той или иной профессии создают для планирующих организаций немалые трудности. Но — и это, пожалуй, главное — деформированная шкала нравственных ценностей приводит к последствиям еще более опасным: притягательным, достойным уважения и почета становится не труд сам по себе, а те побочные блага, которые он сулит, тот парадный фасад, который его украшает. С натужным пафосом расписывая романтику «престижной» профессии, ее декоративную позолоту, живописуя овации, доставшиеся актеру, дипломы, венчающие заслуги ученого, мы стыдливо избегаем говорить о муках, из которых соткано творчество, о невидимых миру слезах, сплошь и рядом сопровождающих путь в науку или искусство. Любой труд потому и называется трудом, что он труден. Не приятен, не доходен, не увлекателен, а труден. Полон рутины, однообразен и утомителен. И только потом (но далеко не всегда!) — увлекателен и доходен. Вот положения, без усвоения которых я не представляю себе нравственного воспитания, ибо они избавляют от разлада мечты с реальностью, разлада, действующего подчас как шок на иные незрелые души. Иерархия профессий по степени их престижности, немало зависящая от того, каким почетом окружены они в обществе, — явление откровенно безнравственное: за ним стоят несложившиеся судьбы, неудовлетворенные амбиции, уязвленное самолюбие. И крушение надежд. И зависть… За ним стоят диспропорции в распределении рабочей силы, хронический недобор специалистов из числа непрестижных профессий, перебор — престижных, да и множество других сложностей, хорошо известных социологам и экономистам. Стереотипы мышления здесь так укоренились, что деление профессий на почетные и непочетные стало чуть ли не нормой. В этой связи мне вспомнился маленький эпизод из личного опыта, которым в порядке самокритики я бы хотел поделиться. Выходила у меня публицистическая книжка, и были в ней размышления о том, как относятся взрослеющие дети к противоправным поступкам родителей. Об отце одной девочки, продавце газированной воды, оказавшемся на скамье подсудимых, говорилось, что сама по себе его работа (работа, а не преступление) вполне почетна и достойна, ибо почетен и достоен любой честный труд, и что без продавцов страна не может пока обойтись, как и без инженеров. Красный редакторский карандаш безжалостно прошелся по этим пассажам. «Разливать газировку с сиропом, по-вашему, так уж почетно? — язвительно спросил меня редактор, человек доброжелательный, вдумчивый и серьезный. — В век научно-технической революции вы считаете возможным уравнять инженеров и продавцов?» Мне стыдно признаться, но я сдался без боя, не нашел в себе силы опровергнуть этот вредный стереотип. Так и отправились в корзину не ахти какие оригинальные, но очень нужные, по-моему, слова о том, что всякий — решительно всякий! — труд и достоин, и почетен.
Разум подсказывал: перестань суетиться, делай хорошо свое дело, которому ты обучен, к которому стремился, которое умеешь и можешь делать. Но потребность в красивой жизни оказалась сильнее рассудка. Толя Петровский бросил на кон последние карты: обаяние и расчет. Он действительно был веселым, общительным парнем, умеющим «обаять», когда чувствовал в этом потребность. С ним любили поболтать, послушать его байки, не лишенные живости и воображения, ему верили, как верят совсем своему человеку. Эта вера притупила служебную бдительность кассиров аэропорта, где Толя работал: они впустили его в помещение кассы, и слушали его байки, и смеялись до слез, а он тем временем забрался в незамкнутый сейф и засунул в карман — нет, не деньги — чистые бланки авиационных билетов: целую пачку, тысячу штук. Еще раньше таким же манером он завладел печатью и штампом. И наконец, предусмотрев операцию до мельчайших деталей, стащил у приятеля документ, удостоверяющий его личность. Наступил последний этап операции — самый простейший: выписать билет на имя приятеля, а потом сдать в кассу возврата. В своем аэропорту это сделать невозможно. Другое дело — Москва: и касс много, и Толю не знает никто. Он торопился: подгоняли жадность и страх. За несколько дней ему удалось прикарманить почти две тысячи рублей — скупиться не имело смысла, билет он выписывал самый дальний: через Москву в Магадан. Ревизорская служба довольно быстро засекла поток не совсем обычного возврата и пришла к выводу: в Москве появился загадочный пассажир. Каждый день он собирается улететь на Дальний Восток, но какие-то таинственные обстоятельства всякий раз мешают ему довести намерение до конца. Мало того: отказавшись от полета, он тут же возвращается в исходную точку, чтобы непостижимым образом уже наутро вернуться в Москву с новым билетом. Но так и не отваживается отправиться дальше. Всего этого Петровский не знал. Одиннадцать раз хитроумный трюк сошел ему с рук, — казалось, так будет и впредь. Карманы трещали от шальных червонцев, хотелось скорее пустить их в дело. Несколько сот рублей он «кинул» на бега. Еще на несколько сот купил лотерейных билетов, карточек «Спортлото». И не обеднел. Он проник в творческий клуб, и его распирало от довольства. Он чувствовал себя не бедным родственником, а на равной ноге с народным артистом, с известным драматургом, с выдающимся режиссером. И даже выше: народный ограничивался бифштексом да стаканом вина, а он мог запросто шикануть тремя порциями запеченных грибов, выставить батарею бутылок и отвалить «чаевые», которые народному не под силу. Некогда зеваки рвались в такие клубы, чтобы поглазеть на знаменитости, иметь возможность похвастаться, как коротали они вечерок в обществе «Вани Козловского» и «Лени Утесова» (помнится, рассказывал об этом в своих мемуарах милый наш «домовой» — директор ЦДЛ Борис Михайлович Филиппов). Зевакам нового образца этого уже мало: им самим бы сойти за собрата «Жени Евтушенко», за коллегу «Кеши Смоктуновского». Им бы членские билеты творческих союзов (хоть творить они не способны), ученые степени (хотя к науке не имеют ни малейшего отношения), книги, написанные другими, но подписанные их именами. Им бы афиши, рекламы, упоминания в титрах. Именно так: не только в гонорарной ведомости, но еще и в афишах и титрах… А на самый худой конец, если с книгами и титрами ничего не выходит, то хотя бы благодарную аудиторию, чтобы делиться «творческими планами», обсуждать литературные новинки, вещать о «достигнутых успехах». Так появились и у Петровского случайные собутыльники: без них упоение «победой» не было бы столь полным. Он уже был на примете у милиции, когда в одном ведомственном журнале появилась рецензия — единственное его сочинение, которому удалось пробиться в центральную печать. Это, собственно, была не рецензия — самоуверенный разнос хорошего фильма, сделанного талантливыми людьми. Рецензент вычитывал авторам за то, что они плохо знакомы с кодексом — не могут отличить, где «псевдоромантика» и где «хулиганский поступок, а если называть вещи своими именами, то даже преступление». Под рецензией красовалось его имя, и Петровский небрежно подсовывал знакомым номер журнала, словно пропуск в литературу. Деньги уже иссякали, а билетов оставалась толстенная пачка. Он заполнил очередной — как банковский чек — и предъявил его в кассу аэровокзала. Заранее предупрежденная милицией кассирша замешкалась, засуетилась. Петровский тотчас заметил это и, оставив билет в кассе, сбежал… Но никто не явился за ним — ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Он узнал, что арестован тот самый приятель, на имя которого заполнялись поддельные билеты, — это не напугало его, а обрадовало: следствие пошло по ложному пути. И Петровский снова почувствовал себя человеком, согнал страх, отправился на бега, а потом в «свой» клуб — просадить то, что осталось, и снова поиграть в незаурядную личность: эта роль пришлась ему по душе.
Преступление никогда никому не приносит счастья: истина, открытая давным-давно. Но с маниакальным упорством иные пытаются открыть ее заново. Не открыть — опровергнуть. Горько обходится им этот «эксперимент»… Изучаются ли глубинные, подлинные мотивы, которые толкают человека на поступок, не только наносящий ущерб обществу, но и безжалостно ломающий его собственную судьбу, перечеркивающий его жизнь? А если изучаются, то делаются ли какие-нибудь практические выводы? В какой мере исследования криминологов, изучающих личность преступника, мотивацию его поведения, входят в повседневную практику воспитательной работы? Известны ли вообще эти выводы за пределами узкого круга юристов? Беспокоит ли педагогов все более заметный юристам разрыв между ничтожностью цели и ценой, которую платят люди типа Петровского за попытку ее достигнуть? Как-то мне пришлось побывать на судебном процессе — этому не чета: трое погибших, с десяток раненых, жестокость, поражающая воображение. Петровский обиделся бы, уравняй я его с теми садистами. Но почему же? Связь прослеживается довольно четко. И там, и тут до убогости мелки, чудовищно примитивны цели: у одного — покутить в «престижной» обстановке, у других — опять-таки покутить, разве что без претензий на обстановку. И там, и тут — полнейшее пренебрежение к чужой боли: садисты ради ящика пива шагали по трупам, Петровский ради жалкого «престижа» обрек на арест (пусть временный, пусть краткосрочный) ни в чем не повинного человека. А ведь предвидел, что арест этот может быть и не краткосрочным. Предвидел и допускал: лишь бы только пронесло стороной, не задело его самого… Дорого же обходится эта «престижная» мания, эта тяга к «непыльной» работе, эта духовная и душевная пустота, выдающая себя за непонятый, неоцененный, не нашедший поддержки «интеллектуальный» порыв. Задумаемся над тем, к каким нравственным издержкам и вполне ощутимым, реальным потерям приводит бездумно повторяемый — такой демократичный на вид! — тезис, будто человек всего может добиться, стоит только проявить настойчивость и упорство. В одной читательской аудитории я попробовал было развить мысль, что каждый не может стать писателем, и артистом — не может, и ученым — тем более! — не может. Не должен! Что для этого нужен талант. А талант дается не всем. Он — социальная ценность. Он, а не упорство, с каким лезут в науку, в искусство, в литературу те, у которых его нет. В зале собрались ученые и студенты, уж они-то, казалось бы, эту мысль должны поддержать. Но не поддержали… «Не зовете ли вы к элитарности?» — сурово спросил меня молодой кандидат наук. А мне подумалось: на дрожжах вот такой демагогии как раз и взрастают толи петровские, готовые любой ценой проникнуть в «неэлитарный» круг.
В последнем слове Петровский сказал, что о случившемся он сожалеет: красть билеты не стоило, ни к чему хорошему это не привело. Он добавил, что, осознав ошибочность своего поступка, имеет право на снисхождение, тем более что полон решимости, отбыв «срок», писать рассказы о летчиках, об их суровом и мужественном труде, а также работать «по линии юмора и сатиры». Таким образом, через шесть лет — этот срок определил ему суд — почта 16-й страницы «ЛГ», возможно, принесет нам весть о Петровском.
1975
ПОЩЕЧИНА
1973
ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
Две резиновые надувные лодки приняли на этот раз не просто туристов — коллег. Почти все они были одного возраста и почти все — одного профессионального «цеха». Технолог Гена приехал из Ростова, конструктор Борис — из Златоуста. Восемь инженеров представляли восемь городов из шести союзных республик. Другую половину составляли студенты: будущие химики, биологи,металлурги, строители. Состав подобрался ровный, словно профсоюзная фортуна специально позаботилась, чтобы туристы легче притерлись друг к другу. Только двое резко отличались по возрасту: ташкентский инженер Георгий Николаевич, который ничуть не чувствовал груза своих сорока с лишним лет и поэтому отрекомендовался как Жора, да почтеннейший дядя Вася, мастер одного из уральских заводов, а в отпускное время — «ветеран туризма и смеха». На общем собрании группы Жору единодушно выбрали старостой, дядя Вася охотно принял роль «заводилы и смехача». Харьковским студенткам Наде, Ире и Оле повезло: когда началось распределение по понтонам, староста взял их на флагманский плот. Туда же был зачислен и дядя Вася, который тотчас приступил к исполнению веселых обязанностей. Повесив на шею объемистую грелку, он лихо прицепил резиновый шланг и под задорные прибаутки стал потягивать содержимое, не отрываясь от весел. Мужская часть плота (всего на нем было одиннадцать пассажиров) посмеивалась. Студентки прятали от дяди Васи глаза. А потом вступил в права «капитан». Он приказал приналечь на весла. Но девчонки «приналечь» не умели. Ни сил, ни навыка у них не было. К тому же они не совсем понимали, зачем, собственно, налегать? Им хотелось не спеша проплывать мимо этих упоительно красивых берегов, ради которых они и приехали издалека, нанеся изрядный урон скромному студенческому бюджету. Они ничуть не чурались физической работы, но она для них была не самоцелью, а лишь необходимым и вовсе не самым желанным условием путешествия — условием, которому приходится подчиняться, но не ценой отказа от того, что составляет смысл и цель поездки. Путешествие еще только началось, а уже назревал конфликт. «Капитан» требовал дисциплины. Если он приказал приналечь, значит, следовало приналечь. Если он благосклонно смотрел, как дядя Вася тянет из шланга, то и всем полагалось смотреть на это благосклонно, а вовсе не осуждающе. Но у харьковских подружек, как назло, было почему-то свое мнение… «Капитанские» команды им казались не руководящей мудростью, а самодурством чистой воды. И кривлянье дяди Васи — не забавой, а пошлостью. Конфликт разрастался. Он особенно вспыхивал на привале, когда есть возможность покомандовать всласть и ассортимент приказов куда разнообразнее, чем на лодке. «Поставить палатку!», «Сходить за валежником!», «Разжечь!», «Почистить!», «Сварить!» — да мало ли… И все скорей, пошевеливайся, здесь не курорт, не к теще на блины приехали, давай нажимай, нагрузочку соблюдай!.. Гена и Борис выручали подруг. Они таскали втрое, вчетверо больше валежника, чем полагалось по «норме», и палатки ставили, и костер разжигали. И даже мыли посуду. Им казалось естественным, что мужчина берет на себя часть женской нагрузки, не уравнивая свои физические возможности со слабым полом. И даже просто из старомодного рыцарства делает то, что, возможно, женщине и под силу, но что лучше сделать мужчине. «Капитан» считал это пережитком, блажью, он во всеуслышание называл девочек тунеядками, и они сначала отшучивались, потом спорили, потом возмущались. Но — тщетно… У «капитана» были крепкие нервы, он сознавал свою силу и власть, и, странное дело, все остальные обитатели «ковчега» приняли это как реальную данность. Безропотно подчинились. Поносили в душе, но молчали. А «капитан» тем временем придумал новое испытание. На плоту, в перерывах между командами, он стал рассказывать анекдоты — из тех, что называются сальными. Его казарменное остроумие могло рассмешить разве что недоумка. И оно никого не смешило. Однако же на плоту натужно смеялись — лишь бы не прогневить «капитана», лишь бы не внушить ему мысль, что плот взбунтовался, что на плоту — раскол и смута. Запас анекдотов иссяк, но не иссякло желание покуражиться, не иссякло упоение властью — самозванной, призрачной, иллюзорной. И все-таки властью. И вроде бы даже не самозванной: ведь «капитан» на свой «мостик» взобрался не сам, он добровольно был избран туристами, и теперь они пожинали плоды легкомысленного отношения к этому вроде бы формальному акту. На смену анекдотам пришли «случаи из жизни». Все они были на одну колодку. «Капитан» рассказывал о своих победах над женщинами, красочно живописуя детали и не затрудняя себя выбором выражений. Он был горазд на фантазии, а воображение, подхлестнутое злобой, подсказывало невероятные «сюжеты». Все больше и больше распаляясь, он входил во вкус, и пытке этой, казалось, не будет конца. Аудитория уже перестала льстиво хихикать, но обрезать хама никто не посмел. Только и отважились — стыдливо молчать. «Неужели никто не остановит этого пошляка?!» — воскликнула, не стерпев, Надя, самая непримиримая из девчонок. «Лучше не связываться…» — тоскливо шепнул сидевший рядом Борис. Что было делать? Куда деться с понтона, где укрыться, чтобы не слышать наглый, самодовольный, торжествующий голос? Дождаться ближайшей стоянки — и сбежать? Выход вроде бы наипростейший… Да как же это — сбежать? А каникулы, а деньги, затраченные на путевки и на дорогу, а обманутые надежды, объяснения дома, самолюбие, наконец! Нет, сбежать они не решились. Но когда стало совсем уже лихо, после какой-то невыносимой сальности, Надя встала и в отчаянии замахнулась на «капитана» веслом. Он отбил весло, грязно выругался, пригрозил утопить. Сейчас, когда миновало время, «капитан» вспоминает дорожные приключения не без юмора и даже в меру самокритично. «Ругаться не надо было, — соглашается он, — вы правы. Но ведь не утопил же я ее… Да это я так — попугать…» Только одно он категорически отрицает: не замахивалась Надя веслом, он сам замахнулся, когда она отказалась грести. Не может признать, что на него замахнулись: выходит, было за что. Да и признать это — значит допустить: кто-то все-таки посмел поднять на него руку! …Послушайте, что делать нам с хамом? Как обуздать его? Какие «меры» принять, чтобы он почувствовал себя уязвимым, чтобы сбить с него самодовольную спесь? Дуэлей давным-давно нет, и никто не собирается гальванизировать этот изысканно кровавый обычай. К тому же женщины не дрались на дуэлях, их честь защищали мужчины, расплачиваясь за это порою и жизнью. Как быть, если иной наш современник не хочет жертвовать ради женщины не то что жизнью — минутным покоем? Правда, есть закон, есть суд — можно привлечь хама к ответственности за оскорбление, добиваться справедливого приговора. Именно — добиваться! По этой схеме харьковские студентки должны ехать в Ташкент и там в суде «поддерживать обвинение» против обидчика. Это значит — представлять доказательства. А какие у них доказательства? Свидетели, раскиданные по разным городам, — те стыдливо молчавшие очевидцы, которые давно уже вернулись к своим делам, вычеркнув из памяти досадный эпизод, омрачивший милое путешествие. Нет, возьмись студентки преследовать хама в судебном порядке, еще не известно, кто больше был бы наказан. Материально хотя бы. Ведь только билет Харьков — Ташкент и обратно стоит куда дороже, чем те издержки, которые, может быть (может быть!), понесет хам. Даже в сверхоптимальном, почти немыслимом варианте, если всю «операцию» удалось бы довести до логического конца, что ждет обидчика? Штраф — двадцать или тридцать рублей? А то и вовсе — порицание: кара, которую мало кто принимает всерьез. Я далек от мысли считать суровость наказания надежным (тем паче единственным) лекарством от порока, распространившегося достаточно широко. Но безнаказанность развращает, а хам и вправду чувствует себя вне опасности: он знает, что хамство сойдет ему с рук, а в «случае чего» он прикроется демагогией. Вот и наш «капитан», когда я проявил интерес к тому дорожному инциденту, тотчас выпустил дымовую завесу: он был, разумеется, не грубым, а требовательным, боролся за дисциплину, не давал спуску «тунеядкам», уклонявшимся от работы. Попробуйте переспорить демагога: он и вас обвинит в том, что вы против трудового воспитания подрастающего поколения, что потворствуете капризам и лени, а белоручки не исчезнут, пока у них есть такие заступники и покровители… Когда воришка посягает на чужую «трешку», у жертвы не спрашивают, большой ли урон она понесла и жаждет ли кары. Тотчас вступает в действие хорошо отработанный механизм дознания и следствия, а затем и суда, чтобы нарушение закона не осталось безнаказанным — ради нашего общего блага. Всю заботу о том, чтобы за правонарушением последовало наказание, берет на себя государство, в лице органов, стоящих на страже закона. Когда же речь идет о посягательстве на честь человека, на его достоинство, этот механизм в движение автоматически не приходит. Жертва сама должна возбудить дело — и притом не в милиции, не в прокуратуре, а прямо в суде, в меру сил обеспечив свое заявление доказательствами, которые ей удалось собрать. Почему, однако, оскорбленный, чья честь унижена, чье достоинство попрано, должен сам защищать в суде свою личность, принимая на себя непосильное бремя чисто формальных забот, с которыми неизбежно связано возбуждение и ведение судебного дела? Разве в нашем обществе достоинство личности не является самой большой социальной ценностью? Верно, испокон веков так принято, что дела подобного рода возбуждаются и ведутся самими жертвами обиды или клеветы. Так принято, поскольку издавна считалось, что это сфера сугубо личных отношений, что никто, кроме самого обиженного, не может решить, обижен он или нет. Допуская, что тут есть какой-то резон, осмелюсь все же спросить: не пора ли нам отказаться от этого правового стереотипа? С незапамятных времен посягательство на карман ближнего закон признавал куда более грозным криминалом, чем посягательство на его честь. Но в нашем обществе шкала ценностей совершенно иная, и только властью привычных анахронизмов можно объяснить коллизию, непостижимую для правосознания человека нового мира: по-прежнему мой кошелек, с точки зрения правовой, считается ценностью неизмеримо большей, чем мое достоинство, моя честь. Между прочим, когда на страницах «Литературной газеты» обсуждалась проблема «Преступление и проступок», многие читатели прислали взволнованные письма, протестуя против предложений включить в будущий Кодекс проступков такие деяния, как оскорбление и клевета. Конечно, составители примерного проекта этого кодекса отнюдь не считали подобные деяния какой-то извинительной шалостью — пустячком, который следует карать помягче, поделикатнее. Как раз напротив: сознавая, сколь непримиримо надо бороться с клеветой, грубостью, цинизмом, они искали путь, на котором расплата за такие поступки — пусть и не слишком суровая, но все же расплата — следовала бы неизбежно и незамедлительно: ведь практика показала, что в судебном порядке она, увы, наступает куда как редко… И все же самый факт появления этого мотива в читательской почте мне кажется весьма отрадным и знаменательным. Он говорит о благотворных сдвигах в правосознании: теперь уже не кошелек, а личность стала самой большой социальной ценностью, на страже которой обязан прежде всего стоять закон. Я пока намеренно перевожу проблему в плоскость юридических реалий, а не нравственных категорий — не только потому, что юридические реалии и нравственные категории теснейшим образом связаны друг с другом, но и потому еще, что люди, пострадавшие от хама, ждут не проповеди, а действий. Какие же действия мы им предложим, какие дадим рекомендации? Обратиться в суд? Посоветовать это сегодня я смог бы вовсе не каждому. И когда Надя спросила меня, что же ей делать, — признаюсь честно: я не знал, что ответить.
Но одно я знал совершенно точно. Для того чтобы хам перестал быть хамом, не надо краснеть от его сальностей, не надо в отчаянии плакать и опрометью бежать куда глаза глядят. Сложные душевные переживания он попросту не понимает. Сожаление и раскаяние ему чужды. Слезы и бегство он принимает как свою победу. Как торжество силы над слабостью. А уважает он только силу. Не уважает — боится… Ведь оттого только и куражился «Жора-капитан», что, околдованные его «магической» силой, трусливо молчали пассажиры плота, предпочитая собственное спокойствие гражданской активности и самому естественному из человеческих порывов: прийти на помощь слабому, защитить того, кто страдает. Я был убежден, что их молчание объяснялось именно трусостью, но встреча с Геной из Ростова спутала все карты. Он не обиделся, когда я намекнул, что считаю его трусом, — не обиделся и не возмутился. Снисходительно улыбнувшись, Гена спросил: — Вы полагаете, я такой слабак, что один не мог справиться с этим Жорой? Один!.. А мы ведь были вдесятером. И если бы даже дядя Вася поддержал «капитана» — девять против двух… — Тем более… — заметил я. Он снова уставился на меня, пытаясь понять, шучу я или прикидываюсь простачком, не разбирающимся в элементарных вещах. — Осадить «капитана» ничего не стоило, — упрямо повторил Гена. — Он был груб и нахален, это верно, но не надо делать из мухи слона. Если к любому пустяку относиться как к мировой катастрофе, можно испортить сердце. Или попасть в сумасшедший дом. — В его голосе мне послышалось торжество прагматизма над старомодной чувствительностью — ранимой и беззащитной. — Что, собственно, произошло? Слово на вороту не виснет… В одно ухо влетело, в другое вылетело, только и всего. Здоровье дороже. Разве не так? — Он явно искал сочувствия и злился оттого, что не находил. — Нет, вы мне скажите, разве кому-нибудь удалось прошибить лбом бетонную стену? И потом… Знаете, времена меняются… То, что еще вчера считалось дерзостью, сегодня воспринимается иначе. Согласитесь, что девица, чуть ли не падающая в обморок от какого-нибудь непечатного слова, сегодня выглядит смешной. Разве не так? Он не знал, как расценить мое молчание, — как поддержку, протест или желание поразмыслить над неотразимой логикой его суждений. — Проще надо быть! Проще! — почти выкрикнул он свой самый сильный, самый убедительный аргумент и бросил на меня взгляд, полный задора и превосходства. Я тотчас вспомнил сцену в автобусе, свидетелем которой мне довелось быть. Рослый детина фамильярно оперся на плечо незнакомой девчонки — на его изысканном языке это означало предложение познакомиться, прошвырнуться. Девчонка не приняла его «язык», сбросила руку, сказала нечто такое, что положено в подобных случаях говорить. «Деточка, будь попроще!» — презрительно рявкнул детина, и на лицах иных пассажиров я увидел сочувственные улыбки.
Так получилось, что недели за две до того, как мне стало известно о дорожном приключений на Чусовой, я получил письмо из Тирасполя от молодого рабочего Юрия Романенко.
«Я весьма удручен, — писал Юрий, — почти ничем не пресекаемым у нас разгулом сквернословия. Речь, пересыпанную гнусными словами, слышишь на улицах, в троллейбусах, у кинотеатров. Особенно громко «изъясняются», часто не обращая внимания на присутствие окружающих, молодые люди, слушая которых начинаешь невольно думать, что или они вовсе никогда не учились в школе, или безнаказанность породила у них убеждение, что так и надо, что так было всегда. Я спросил одного такого «любителя» брани, что его заставляет так выражаться. Он удивился вначале. Потом, подумав, ответил, что просто привык. Не замечает даже. Никто его ни разу не одернул. К сожалению, таких, как он, довольно много. Я считаю, что надо незамедлительно принимать решительные меры для искоренения этой заразы».Меня радует, что сварщик одного из тираспольских заводов, вчерашний школьник, прислал такое письмо. Радует, но не удивляет. Потому что подобных писем в последнее время я получил немало. Свердловский школьник с горечью рассказывает, как он потерял уважение к отцу, бесстыдно бранящемуся дома в присутствии родителей и детей. Паренек из Саратова, подписавшийся только инициалами, сообщает о случае, глубоко его возмутившем: группу выпускников ПТУ в первый же их заводской день мастер встретил такой похабной речью, что у них, пишет читатель, «пропала охота работать». Преподаватель алма-атинского вуза сообщает о том, что сквернословие проникло «даже в инженерную среду», и предлагает ряд крутых мер, которые помогут, по его мнению, борьбе с этим злом. Некогда брань была достоянием ночлежек и злачных мест с сомнительной репутацией: кабаков, барахолок, притонов. Сохранилось даже выражение: «ругается, как ломовой извозчик»… У отсталых, измученных непосильным трудом людей бранное слово оказывалось подчас примитивным способом разрядиться — в него вкладывалось все: и усталость, и бессилие перед лицом судьбы, обрекшей человека на такую жизнь, и злость, и потребность на ком-нибудь ее сорвать. Одни всего лишь чертыхались «с досады», другие выбирали словечки покруче. Любопытно, что сознательные, передовые рабочие с презрением относились к такой форме «протеста». Известно немало случаев, когда организованные пролетарии, у которых всегда была тяга к духовности и культуре, сурово осуждали тех, кто унизился до площадных ругательств — чтобы «отвести душу», «забыться». Сурово осуждали и даже изгоняли из своей среды. Давно уже нет ни ломовых извозчиков, ни ночлежек, ни трактиров, где в пьяном угаре слезливо бранятся жалкие забулдыги. Исчезли все социальные причины, породившие этот унизительно тарабарский жаргон. Но сам жаргон, однако, не канул в прошлое. Осовременившись, но оставшись прежним по своей сути, по своей постыдной «содержательности», он неожиданно возродился на наших глазах и с ошеломительной наглостью утвердился в повседневной разговорной речи. Было бы очень интересно (и полезно, я думаю) изучить истинные причины и масштабы этого грустного феномена — именно изучить, используя всю могучую технику исследования, которой сегодня обладает наука. Потому что с любым антиобщественным явлением, с любым злом, отравляющим нашу жизнь, можно бороться, лишь познав досконально его корни, его питательную среду, обстоятельства, обусловившие его жизнестойкость. Но и до того, как такие исследования будут проведены, можно с уверенностью сказать, что в основе «современной» брани всегда лежит духовная бедность и удивительное нравственное разгильдяйство. Сколь бы ни кичились иные словоблуды университетскими дипломами а то и учеными степенями, сколь бы ни были они порою профессионально близки к культуре, к искусству, все равно беспардонная матерщина, щегольски украшающая их речь, — неоспоримое свидетельство духовной убогости, этического примитива и эстетической глухоты. В печати давно уже идет тревожный разговор об оскудении разговорного языка, о стремительном уменьшении активного словарного запаса, об унылом «арго», вытесняющем красоту, гибкость, выразительность русского слова. Но жаргон, против которого с такой священной яростью восстают ревнители родного языка, — детская забава в сравнении с похабщиной, бесстыдно вторгающейся в наше повседневье. Как метастазы злокачественной опухоли, прорастает она в живые клетки народной речи, поражая их своим ядом и обрекая на гибель. Так что же делать? Молча взирать на то, как пачкается, калечится, уничтожается великий язык — из опасения прослыть отсталым ханжой, великопостным занудой? Поток протестующих писем — таких, как письмо Юрия Романенко, — убеждает в том, что дать этой заразе распространяться и дальше — нельзя, невозможно. Но какой именно заслон поставить на пути сквернословия — об этом, пожалуй, еще надо подумать. Разумеется, первое, что приходит в голову: не обратиться ли к закону, чтобы он помог нам отстоять от матерщинников нашу честь, наше достоинство. Целомудрие наше. Наше богатство — русский язык? Давно замечено: человек вообще склонен уповать на административные меры, наивно полагая, что росчерком пера и страхом перед наказанием можно устранить глубоко пустившее корни и достаточно распространившееся зло. Конечно, закон — оружие сильное, и пренебрегать им не надо. Сквернословие в публичном месте — будь то улица, автобус, столовая или кино — это и есть «умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу». Я процитировал статью 206 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за хулиганство. Так что для сквернослова наказание предусмотрено, и совсем не мягкое: запросто может он схлопотать «пятнадцать суток», а то, глядишь, и полновесную «пятерку». Не суток — лет… Не слишком ли мы снисходительны к брани? Не только «обыкновенные» граждане, но даже юристы воспринимают ее как привычную слабость. Наверное, поэтому так редко привлекают сквернословов к ответственности — уголовной, административной. А ответственность общественная? Ведь в Положении о товарищеских судах прямо говорится, что в их компетенцию входит рассмотрение дел «о недостойном поведении в общественных местах и на работе», «о недостойном отношении к женщине», «об оскорблении» — и, наконец, прямо, черным по белому: «о сквернословии». Но часто ли члены товарищеских судов — эти испытанные выразители общественного мнения — используют данное им право (и свою обязанность!), возвышая голос против тех, кто рядом с ними оскверняет самые святые слова, нравственно растлевая подростков и даже малых детей? Выходит, есть у нас отличные законы, направленные на пресечение этого зла, но сплошь и рядом они остаются мертвой буквой — из-за нашей «стеснительности» ли только? Или потому, что к ругани мы притерпелись, притерлись, привыкли, да и не замечаем ее даже, если не поразит наш слух необычной уж виртуозностью или не обратится своим острием против нас же самих. Да и тогда — лишь поморщимся, отвернемся брезгливо, промолчим… Торжествующее хамство всегда сильнее стыдливо ранимой натуры… Словом, наказывать за матерщину надо, но рассчитывать на то, что приговор (пусть даже много, много приговоров) в состоянии покончить со сквернословием, — все же не стоит. Многовековой исторический опыт наглядно свидетельствует, что ни одно антисоциальное явление нельзя ликвидировать с помощью лишь административных, карательных мер. Так где же выход? Я думаю, — в создании той общественной атмосферы, при которой брань выглядела бы не привычной забавой, а патологией, атавизмом. Тогда она застрянет в горле, не вырвется наружу, а, вырвавшись по привычке, сама себя устыдится. Это не благие пожелания, а реальность, если те, например, кто возмущается и ахает, кого коробят бранные слова, выразят свое возмущение не в узком семейном кругу и не в письме в редакцию, а, как говорится, на месте преступления, взывая к совести тех, кто находится рядом. Я не верю в то, что совесть всегда смолчит, что в коллективе не найдется никого, кто поддержал бы человека, рискнувшего идти «против течения». А главное… Вот я слышу, бранится мальчишка, смачно выплевывает непристойнейшие слова, подхваченные им у «умудренных» жизненным опытом парней постарше. Чуть поодаль, но, в сущности, совсем рядом стоят девочки. Нисколько их не стесняясь, он продолжает демонстрировать свой убогий словарь. Да и правда — чего стесняться? Ведь девчонки никак не реагируют на его брань. Все прекрасно слышат, но делают вид, что это их не касается. Как же так?! Ведь это ее, девчонку — женщину! — прежде всего оскорбляет матерщинник, ей плюет в душу, ее низводит до уровня животного, ее топчет и унижает. Ее — мать, жену, сестру, дочь. И она — прежде всего она! — должна восстать против этого хамства. А всегда восстает ли? Боится показаться «немодной»… И даже сама порой втягивается в порочную «игру», сама щеголяет сомнительными словечками, с веселой удалью демонстрируя свою причастность к «современному кругу». Оттого-то так вольготно чувствует себя сквернослов, оттого не стесняется он окружающих, оттого распаляется и входит во вкус. Давайте же покажем ему, что не оскудели наши души, что есть в нас достоинство и гордость. Пусть женщина не смолчит, услышав бранное слово. И пусть мужчина заступится за ее честь. Попробуем же хоть раз: что из этого выйдет? Уверяю вас: что-то выйдет! Брань, конечно, не исчезнет «в один прекрасный день» из нашего словаря, из нашего быта. Но она почувствует себя уязвимой. Она утратит свою лихость. Ей станет неуютно в обществе людей, стоящих на страже собственного достоинства. И это будет началом ее конца.
Как же бороться нам с хамством, если оценки того, что есть хамство, а что — милая и непринужденная шутка, столь неодинаковы, а то и полярны у разных людей? Закон четок, он формулирует правовую норму, тщательно выверяя каждую букву, каждую запятую, чтобы исключить возможность двоякого толкования, чтобы правило поведения было действительно правилом — единым и всеобщим. Нравственная норма нигде не записана, ей чужды безапелляционная чеканность и категоричность, но значит ли это, что она так уж зыбка, противоречива и субъективна? Вспоминаю дискуссию, разгоревшуюся на читательской конференции. «Если кто-то хочет спать, — горячился один из спорщиков, — а я — петь и танцевать, то почему именно я должен уважать его желание, а не он — мое? Почему я должен соблюдать тишину, а не он — присоединиться к моему веселью?» Конечно, требовать тишины под угрозой правовых санкций можно только в ночное время. Но какой воспитанный человек в какое бы то ни было время станет плясать над ухом спящего? И какой воспитанный, придя в компанию, где поют и танцуют, завалится спать? Все это кажется элементарным, очевидным, само собой разумеющимся. Как же тогда получилось, что серьезные люди могли спорить о вопросе, которого попросту не существует? Браниться нехорошо, это знает каждый, но, тысячу раз повторенное, такое нравоучение едва ли проймет того, кто привык «смотреть на вещи просто». Не полезней ли уяснение «правила» не столь категоричного, но зато более жизненного: если плоские анекдоты встречают с жеребячьим ржанием трое или четверо твоих друзей, это еще не значит, что с таким же успехом ты их можешь рассказывать в незнакомой компании, где критерии остроумия, быть может, совершенно иные, а представления о человеческом достоинстве решительно расходятся с твоими. Подобных вопросов, подсказанных самой жизнью, можно было бы привести множество. Вопросов не надуманных, не риторических, а сугубо практических. Не такое это малое дело — научиться вести себя в обществе: на производстве, в быту, в дороге, со случайными и неслучайными спутниками на житейских перекрестках.
1975
ВНИМАНИЕ: ЧЕЛОВЕК!
Не о вежливости я говорю, не о корректности, не о «форме». О внимании к личности. О той степени интеллигентности и культуры, когда немыслимо пренебречь чувствами человека, его самолюбием, его достоинством и честью. Когда никакой, даже самый правильный по сути, поступок не может быть оправдан, если он сопровождается обидным невниманием, равнодушием к миру чувств, бестактностью, которая сродни хамству. …Семидесятипятилетний ученый протянул мне приказ по институту: «Профессора такого-то освободить от работы с 1 сентября…» Причина «освобождения» указана не была, но я-то знал, что его просто отправили на пенсию. — Только, пожалуйста, — просил профессор, — не придавайте особого значения формальным нарушениям. Обратите внимание на дату приказа: 26 августа. Я приехал из отпуска тридцатого, к началу учебного года, и нашел в почтовом ящике письмо… И все, голубчик… Пятьдесят два года работы на кафедре, и после этого приказ об увольнении — по почте. Вот так… Вы не можете мне объяснить: за что?! Увы, я не мог объяснить. Я знал, что передо мной крупный ученый: добрых два десятка докторов и чуть ли не сотня кандидатов наук воспитались под его прямым руководством. Я знал еще, что он автор значительных научных трудов, что по его учебникам студенты постигают азы той науки, в которой он заявил себя видным специалистом. Тут что-то не так, подумал я. Вероятно, профессор чем-то провинился на старости лет, есть за ним, как видно, какой-то грешок, и немалый, наверно, если он смог перечеркнуть все то доброе, чем отмечен долгий путь ученого в большой науке. — Что он там натворил у вас, этот профессор? — нарочито небрежно начал я телефонный разговор с директором института, надеясь столь невинной хитростью скрыть поначалу свое отношение к тому, что случилось. — Натворил?! — неподдельно удивился директор. — Что-то случилось? — В голосе его прозвучала тревога. — Да нет, ничего, в сущности, не случилось… — Я не знал, как продолжать разговор. — Просто хотелось знать ваше мнение… За ним есть что-то предосудительное? — Господь с вами!.. — изумился директор. — Да это же большой ученый!.. Благороднейший человек… Студенты его обожали… — Тогда как прикажете объяснить его увольнение? — Профессор жалуется? — еще больше изумился директор. — Ну, знаете!.. Мне очень жаль, но ведь он иногда засыпает во время лекции. Путает термины… Заслуги заслугами, а учебный процесс мне все же дороже. — Он выдержал паузу. — Надеюсь, вы не против омоложения кадров? Разумеется, я не против. Возраст, увы, никого не красит, и даже самый блистательный ум подвержен действию неумолимых законов природы. Почему, однако, этот вполне естественный и очень грустный процесс должен сопровождаться обидой? — Он еще жалуется! — не унимался директор. — Мы ему и грамоту выписали, и премию дали в размере месячного оклада. А он даже не явился их получить. Кому на кого обижаться, хотел бы я знать?.. Директор так и не знал, кому на кого обижаться. На самом деле — не знал… Бестактность ранит того, кому она адресована, но унижает того, кто ее себе позволяет. Хотя вроде бы она признак независимости и силы, практически она всегда оружие слабых, не способных добиться иначе желанного для них результата. Но бестактность не только ранит. В ней тонет и то разумное, чем пытаются ее прикрыть, оправдать. Если руководитель лаборатории (привожу случай, рассказанный в одном из читательских писем) хочет достигнуть высоких научных результатов, понукая и подгоняя своих сотрудников, дрожащих от одного лишь вида его начальнического ока, обижая их, превращая в безропотных роботов, то сомнителен и конечный эффект, которым он хвастается в своих отчетах. Ибо для нас важно не только ч т о, но и к а к. А всегда ли в бушующих страстях производственных собраний, в спорах за «круглым столом», в полемическом задоре на печатной трибуне, отстаивая дорогую нам мысль, — всегда ли мы выбираем точные, необидные слова, критикуя, осуждая или просто возражая своему оппоненту? Ведь даже преступника, заслуживающего суровейшего из всех наказаний, нельзя оскорблять, нельзя задевать его личное достоинство, нельзя использовать выражения, унижающие его человеческое «я». Наказание — да! Но не грубость… Так не слишком ли мы порой благодушны, когда обидные слова, обращенные не к преступнику, а к товарищу, коллеге, срываются с уст иного оратора или полемиста? Не признаем ли мы молчаливо тем самым правомерность бестактности? Не превращаем ли ее, вопреки незыблемым правилам нашей морали, в нечто извинительное, в какую-то милую слабость? Не обкрадываем ли этим духовно и нравственно сами себя? Мне прислали вырезку из газеты — рецензию одного журналиста на книгу другого журналиста. Рецензент счел эту книгу порочной, ошибочной, даже вредной, и я, ничего, к сожалению, не смысля в вопросах, о которых идет речь (книга — о футболе), сразу, без обсуждения, полностью и безоговорочно считаю справедливыми все замечания, которые адресует автору его критик. Но вот что мне непонятно: если критик прав, то почему ему для утверждения правоты мало одних аргументов? Почему он должен, как к подпоркам и костылям, прибегать еще и к брани? «Схоласт», «дилетант», «полуслепец, забравшийся на куриный насест и не видящий дальше своего носа», — это что, для усиления позиции? Оскорбить противника еще не значит его победить. Древние римляне, которые знали толк в дискуссиях и оставили бессмертные образцы полемического искусства, завещали нам не пользоваться «аргументами», обращенными к личности, а не к существу спора, — ибо никакие это вовсе не аргументы, а булавочные уколы, ранящие, но ничего не доказывающие. Решительно ничего!
Откуда оно, это пренебрежение чувствами человека, его переживанием, его болью? Только ли от невоспитанности, от недостаточно высокой культуры, от отсутствия тех навыков человеческого общения, которые в совсем недавние времена жеманно именовались правилами хорошего тона? Или еще от «модного», в высшей степени «современного» прагматизма, что повелевает превыше всего ставить «интересы дела», не считаясь со столь сомнительными, неосязаемыми и бесконечно старомодными категориями, как эмоции и сантименты? Это только кажется, что такт лишь «оболочка», лишь некий «декор», которым «в интересах дела» можно пренебречь. В действительности, я думаю, не так уж трудно вычислить, во что обходится — для дела, а не для «эмоций» — это пренебрежение. Разве секрет, что человек, которого походя ранили окриком, грубостью, нечутким поступком, кого не к месту избрали мишенью для сатирических стрел или унылых проработок, долго не может обрести необходимую трудовую форму, что он подчас на целые месяцы остается выбитым из колеи? Пусть для иных его реакция на обиду покажется чрезмерной чувствительностью. Не у всех ведь задубела кожа, и еще неизвестно, непременно ли надо ей задубеть.
1972
СМЕРЧ
«…Обратить внимание на смену растительности… Назвать типичных представителей… зонтичных (борщевик, лигустикум, бутень и другие) и сложноцветных (крестовники, цицербита и др.). …Тропа медленно поднимается вверх… Инструктор делает привал и рассказывает обзор панорамной точки…»Накануне они долго сидели с туристами у костра, ели традиционную лапшу, замешенную на сгущенке, и пели столь же традиционные песни — про пресловутые голубые пижамы, издавна ставшие для любителей горных походов синонимом изнеженности, праздности и лени. И еще они пели про счастье трудных дорог, про перевалы, покорившиеся отважному племени путешественников, про бури и штормы, которые нипочем сильным, умелым и ловким. Пели, пока костер не затух и не пришло время короткого сна — до ранней побудки, донехитрого завтрака и до старта — наверх, по узкой неровной тропе, почему-то отмеченной на картах и атласах как автодорога. Итак, они вышли в восемь с минутами. Вскоре показалась вершина Гузерипля — начались альпийские луга. Предстояло сделать привал и «рассказать обзор». Но тут вдруг солнце скрылось, и сразу заморосил дождь, колючий и нудный. До «панорамной точки» оставалось всего ничего, а там шел спуск к приюту «Фишт»; который туристы одолевают обычно за какой-нибудь час. Решили идти дальше, ускорив шаг.
«Примерно через восемь километров пути — из шестнадцати, которые надо было пройти в этот день, — вслед за дождем неожиданно налетел ураганный ветер. Совершенно черные тучи не ползли, а летели прямо на нас. Мы оказались на ровной, голой местности, спрятаться было негде… Я вырос в горах, ходил с отцом на Эльбрус, но ничего подобного не видел».(Показания следователю инструктора Алексея Сафронова.)
«Все произошло внезапно… Мелкий дождь не предвещал бури, даже когда он перешел в мокрый снег. Вдруг поднялся ветер такой силы, что невозможно было удержаться на ногах… Через несколько минут сдуло, как пушинку, одного из наших туристов — Феликса Шипова. Мы видели, как с огромной быстротой он пролетел по равнине и его унесло в пропасть. Он даже не успел крикнуть… Вскоре из-за туч, ветра и снега нельзя было ничего увидеть даже в двух шагах от себя… Нас охватили паника и страх…»Это был печально знаменитый смерч, который обрушил в те же часы гигантские столбы воды на Сочи, Хосту и Адлер. Тот самый смерч (о нем много писали), который сломал дома, искорежил машины, вырвал с корнем сотни могучих деревьев, перепутал линии электропередач, смял в гармошку рельсы железных дорог. Сюда, на северные склоны Кавказского хребта, донеслось его громкое эхо в виде ураганного ветра и снежной метели. На побережье в единоборство со смерчем тотчас вступили десятки тысяч хорошо организованных, умело нацеленных оперативным штабом людей: моряки и солдаты, монтеры и железнодорожники, пожарные, строители, врачи… Здесь, в горах, отрезанные от жилья, лишенные связи, не имеющие никакого опыта борьбы со стихией, его встретили пятьдесят три туриста, которым внезапно выпала тяжкая доля побороть слепую силу природы не в песне, а в жизни. Наступила критическая минута принимать немедленное решение. Отдать приказ, которого ждали растерявшиеся, испуганные люди. Приказ, очевидный даже тогда, в панике и смятении: вернуться назад, по тропе, которую еще не успело занести снегом (от леса туристов отделяло всего каких-нибудь триста метров). Это был знакомый, только что пройденный путь, по которому в первую очередь и могла прийти помощь. Но вместо этого единственно правильного приказа был отдан иной: спускаться к другому лесу — по заросшему кустарником склону. В неизвестность незнакомым путем… Впрочем, местным жителям этот обрыв хорошо известен. И обрыв, и ручей, текущий внизу, они окрестили зловещим словом «Могильный» — именем, которое говорит само за себя. Ни туристы, ни инструкторы ничего про Могильный не знали. Сафронов отдал приказ, и ему тотчас повиновались: последний приказ, имевший реальную силу. Больше никто уже не слушал инструкторов, даже тогда, когда их распоряжения были точны и разумны. В пурге туристы растеряли друг друга. Ураганной силы ветер глушил их голоса. Ноги скользили по снегу. Колючий кустарник не давал возможности найти опору рукам. Цель, казалось, была уже близка, когда в пропасть сорвался Семен Рожанский. Он чудом застрял на крохотном уступе: за ним была крутая, почти отполированная скала, под ним — глубокая бездна. «Сеня, — крикнул ему его друг Николай Загорянский, забойщик из Кадиевки, — я сейчас…» — «Коля, не надо, — отозвался Рожанский, — засыплешь меня и свалишься сам. Когда устроитесь, кинь мне веревку». — «Хорошо, Сеня, — кричал Загорянский, — вот костер разведем и вытащим тебя. Ты продержишься, Сеня?» — «Продержусь!.. — донеслось снизу. — Не волнуйтесь, я продержусь!..»(Показания следователю туристки Людмилы Лисаковой.)
Спуск занял часа полтора. Выбившихся из сил, продрогших людей внизу ждала преграда: тот самый Могильный ручей, который вздулся от потока воды и превратился в грозную реку, с дьявольской скоростью несшую не только стволы деревьев, но и огромные каменные глыбы. Группы номер девяносто три больше не существовало. Были разрозненные группки людей, отрезанные друг от друга водой, лавиной и лесом, мятущиеся среди пурги в поисках хоть какого-нибудь навеса. Добравшись наконец-то до леса, инструкторы увидели, что с ними всего лишь человек двадцать. Остальные отстали. Один из инструкторов — Ольга Королева ослепла от снежной сечки. Другой — Алексей Сафронов — отправился на поиски отставших. Ему удалось найти только троих. Надвигался вечер. Метель все еще не прекращалась. Ни на туристах, ни в их рюкзаках почти не было теплых вещей. Легкая одежда превратилась в ледяную коросту. Каждое движение причиняло боль. Спички, беззаботно брошенные в рюкзаки, отсырели: ушли часы, прежде чем кое-как удалось разжечь костер. Никому не хотелось идти за сучьями — только бы стоять, не двигаясь и заткнув уши… Из тех, кто, ища спасения от урагана, устремился к лесу по склонам обрыва Могильный, лишь половина собралась ночью у чуть тлеющего костра. Кто половчее, оказались ближе к огню и локтями отталкивали других, пытавшихся к нему пробиться. Костер быстро затух. Еще больше похолодало. Даже здесь, за стеною густого пихтарника, не унимался снежный ветер. Где-то рядом, на другом берегу ручья, так и не успевшие соединиться с основной группой, обессилевшие туристы, накрывшись клеенкой, легли на рюкзаки и, тесно прижавшись друг к другу, заснули. Эта роковая ошибка стоила четырех жизней. Утром Сафронов с пятью туристами пошел искать пастуший балаган. Этот крохотный домик без окон стоял на голом плато метрах в двухстах от туристской тропы. Сейчас все замело снегом, не осталось ориентиров, и все-таки Сафронов сумел добраться до цели. Практически было мало надежды на то, что в балагане есть люди. Когда близится непогода, животные чуют беду и сами спускаются вниз, а с ними, естественно, и пастухи. Так случилось и на этот раз: старая корова Машка еще под вечер 9 сентября стала тревожно мычать, увлекая за собой стадо с альпийских лугов. Но в гуртах, которые опекали пастухи Виктор Острецов и Владимир Крайнев, Машки не оказалось — только неопытные молодые бычки. Их неопытность спасла много человеческих жизней. Когда налетел ураган, спускаться уже было поздно: Острецов и Крайнев остались в своем балагане. На них и вышел Сафронов утром 11 сентября. У пастухов была только пара сапог на двоих, и, однако, Крайнев тотчас стал оказывать помощь пришедшим, а Острецов, не медля ни единой минуты, помчался к месту беды. «Помчался» — это сказано, конечно, в запале. Мчаться было ему никак невозможно. Снега намело по пояс. А местами — и больше. Сильный ветер задул следы. Объяснить, где остались туристы, Сафронов не мог. Надо было искать. И Острецов нашел. Помогла собака — умная, натренированная. Она вела, словно знала дорогу, почти три километра. Туристы стояли полукругом у потухшего костра и ждали. Слабая и случайная, помощь все же пришла. Что он мог, Острецов? Один, без одежды, без транспорта, без снаряжения и медикаментов. Разве что указать путь в свой балаган. Это вовсе не мало. Но слабые от этого не стали сильнее. Одолеть новый подъем, увязая по грудь в снегу, сумели не все. Те, кто был здоровее и крепче, сразу взяли быстрый темп: не терпелось скорее к теплу. Обмороженные, изможденные отстали. Острецов сдерживал группу, требуя оказать помощь отставшим. Его не слушались, рвались вперед, поспешая за уверенно ведшей к дому собакой. «Ребята, не бросайте меня! — уже без слез, едва слышно прошептала Зина Николаева. Она совсем не могла двигаться. Изо рта шла пена. — Ради детей… Их у меня двое…» Рядом были инженер Михаил Решкин и механик Валерий Соколов. И еще Владимир Третьяков, преподаватель одного из училищ. Именно он и сказал: «Зина, не бойся, мы тебя не оставим… Полежи немножко, мы скоро придем». Они лихо рванулись вперед и — не пришли. Добравшись до балагана, она залезли под одеяло и вскоре уснули. Кроме Зины на пути к балагану погибли еще трое. «Если бы мы всем помогали, трупов было бы больше», — заявит потом на следствии Соколов. Крохотный балаган вмещал от силы шестерых-семерых, но тут уж было не до комфорта. На нарах вповалку под тремя одеялами набилось человек пятнадцать. Острецов остался оказывать помощь. Крайнев обул его сапоги и собрался на поиски остальных. Тут-то и раздались за дверью возбужденные голоса: увязая в снегу, к дому направлялись полсотни мужчин и женщин. Это была девяносто четвертая группа — в полном составе, под руководством трех инструкторов. Нисколько не пострадавшие в сложных условиях трассы, инструкторы и туристы не стали, однако, искушать судьбу; свернув с тропы, они решили заглянуть к пастухам, чтобы узнать, много ли снега на перевале. «На Фишт не пройти, — коротко ответил Крайнев. И сразу же перешел к делу: — Водка есть?» — «С утра пораньше?» — съязвил один из туристов, вглядываясь в темноту балагана. «Растереть… — не вдаваясь в подробные объяснения, сказал Крайнев и обреченно кивнул на нары: — Видишь, сосульки…» Еще с четверть часа новоприбывшие топтались на месте — совещались, как быть. Потом — цепочкой, с ровным интервалом один от другого, во главе с инструкторами — тронулись в обратный путь к приюту «Армянский». Впрочем, из трех инструкторов девяносто четвертой дезертировало только двое. Третий остался — это была Галя Казьмина, студентка политехнического института.
«В о п р о с. В вашей группе было много больных? О т в е т. Больных не было. Только здоровые и физически выносливые. В о п р о с. Возникло ли хоть у кого-нибудь из ваших туристов желание помочь терпящим бедствие? О т в е т. Такого распоряжения туристам не давалось. В о п р о с. Вы не только не пошли на поиски, но даже унесли с собой ледорубы, все продукты и теплые вещи. Разве вы не понимали, что они пригодятся пострадавшим? О т в е т. У нас просили только водку… Если бы нас попросили о продуктах или о помощи, мы не отказали бы. В о п р о с. А кто вас должен был об этом просить? О т в е т. Не знаю».(Допрос в суде Сергея Борзова, инструктора 94-й группы, студента политехнического института.)
«В о п р о с. Почему вы повернули назад? О т в е т. Пастухи сказали, что пути на Фишт нет. В о п р о с. Судьба 93-й группы вас не интересовала? О т в е т. У них были свои инструкторы. Мы несли ответственность за 94-ю. Благодаря правильно принятому решению у нас обошлось без жертв. В о п р о с. Но люди попали в беду, они нуждались в вашей помощи. Вы подумали об этом? О т в е т. Нам это не пришло в голову. В о п р о с. Однако Казьминой это в голову пришло. Чем вы можете объяснить, что она все же осталась? О т в е т. У нее были личные мотивы, а не общественные…»«Личные мотивы» у Гали действительно были. С ее разрешения я предаю это гласности. Алексей Сафронов был для нее не «просто товарищ», а друг, и она не захотела оставить его в эту трудную, критическую минуту. Сафронов двигаться не мог: его растерли водкой, накормили, дали воды. Ольга Королева по-прежнему ничего не видела. Пастух Крайнев и Галя Казьмина вдвоем пошли в район Могильного обрыва — на поиск. Уже совсем стемнело. Девяносто четвертая вернулась на «Армянский» и преспокойно варила обед. Трапеза заняла четыре часа, хотя за час даже слабейший мог бы спуститься на базу «Кавказ» и рассказать о драме, разыгравшейся в горах. Крайнев и Казьмина в полной темноте несколько часов блуждали по заснеженному, таящему опасности лесу. Поздно ночью они привели в приют спасенных ими людей. Судьба по крайней мере человек двадцати все еще была неизвестна.(Допрос в суде Людмилы Терентьевой, инструктора 94-й группы, студентки политехнического института.)
Семеро из тех, кто не был найден, грелись в этот момент у костра и предавались воспоминаниям о приключениях, выпавших на их долю. Им тоже пришлось нелегко при спуске к ручью, их тоже валил буран и глушил ветер. Им тоже отнюдь не было жарко, несмотря на теплые вещи, извлеченные из рюкзаков. И конечно, их тоже охватил-таки страх, когда они остались ночью в лесу, на снегу, без крова, вдали от людей. Но оторвались от своих товарищей они вовсе не по злой воле рока, а по своей собственной воле, отлично сознавая, что именно они делают. И зачем. Когда Сафронов после спуска к ручью ушел на розыск оставшихся, семеро самых опытных и выносливых — две женщины и пятеро мужчин — бросили слабых и «решили пробиваться, рассчитывая лишь на себя»: так показывал потом на следствии инженер-конструктор Анатолий Иващенко.
«Считаю, что мы поступили правильно, — продолжал он. — Конечно, наш уход усложнил положение оставшихся. Если бы мы были все вместе, многие из погибших остались бы живы. Но должен ли я считать ответственным за случившееся себя? Нами плохо руководили… Если бы мы остались, может быть, выжили бы другие, но погиб кто-то из нас…» «В о п р о с. Почему вы самовольно ушли от группы?. О т в е т. Я как все… Вижу, уходят шестеро других, и я с ними. В о п р о с. Но вы обещали вытащить из пропасти своего упавшего друга. Почему вы не сделали этого? О т в е т. Рожанский к тому времени уже погиб. В о п р о с. Вы это знали точно? О т в е т. Предполагал. В о п р о с. Это случилось днем 10 сентября? О т в е т. Да».(Допрос на суде туриста Николая Загорянского.)
«Рожанский Семен Семенович, 1940 года рождения… умер от переохлаждения организма… Смерть наступила не ранее 11 сентября…»У другого члена «великолепной семерки» — Виктора Стеженцева — оказался неплохой «аварийный запас»: продукты, одежда, надежно укрытые от влаги бумага и спички. И даже карта — плохонькая, но все-таки карта, пригодная для ориентировки.(Заключение судебно-медицинской экспертизы.)
«Мы не должны расплачиваться за легкомыслие инструкторов, — напишет он потом в собственноручных показаниях следователю. — …Я был уверен, что помощи ждать неоткуда, и рассчитывал только на себя».Следователь попросит уточнить: на кого же тогда должны были рассчитывать те, у кого меньше сил? Стеженцев ответит — опять же собственноручно:
«Самым основным фактором, приведшим к катастрофе, явилось отсутствие воли к жизни у большинства людей. Кто хотел выжить — тот выжил».Последнюю фразу, как афоризм, он жирно обведет чернилами несколько раз и трижды еще подчеркнет. Значит, жить не хотела Зина, умолявшая помочь ей добраться до балагана? Или Таня Федяева, тоже, как и Зина, мать двоих детей, оставшихся сиротами? Или Сеня Рожанский, висевший над пропастью не менее суток, терпеливо ожидая, когда протянется к нему рука друга? Но оставим эти риторические вопросы. Задавать их бессмысленно. Познакомимся лучше еще с одним из тех, кто хотел и сумел выжить. Кандидат технических наук, доцент института Трофим Иванович Зотов был одним из «старейшин» группы. И по возрасту (43 года), и по туристскому опыту, и по общественному положению. Чтимый студентами преподаватель, солидный ученый, душа компаний, признанный вожак походов и экскурсий. На его туристском счету — не то что кавказский маршрут первой категории (то есть простейший из всех возможных), но и труднейшие походы по Карпатам и Алтаю. И сейчас, когда пишутся эти строки, он, кажется, где-то в Киргизии: путешествует по Тянь-Шаню. В блокноте Трофима Ивановича есть такие теплые записи на память от его друзей по походам: «Мужчину красит порядочность, я рад, что был с вами»; «В веселых и трудных походах по Волыни ты, Троша, был настоящим мужчиной»; «В походах легко, когда рядом с тобой сильный на выручку товарищ, такой, как ты, Троша». Как же мог он, этот «сильный на выручку», этот «настоящий мужчина», оставить мятущихся, растерянных людей, как не понимал, что самое главное, в чем нуждались они, — это в опытном руководстве, в авторитетном слове, в правильно принятом решении, которому все поверили бы и подчинились? Ведь ясно же, что девятнадцатилетние инструкторы, годившиеся ему в дети, ни по жизненному и туристскому опыту, ни по внутренним волевым качествам не сумели перед лицом внезапной беды возглавить людей. Как же мог именно он, воспитатель, учитель, «настоящий мужчина», турист-разрядник с немалым стажем, — как же мог он сбежать, не принять руководство, не сплотить вокруг себя товарищей по несчастью? Я искал ответы на эти вопросы в его скупых показаниях следствию — искал, но, увы, не нашел. Вместо них я нашел другое.
«Спуск на дно ущелья занял почти полтора часа и был очень труден… Несколько раз мне приходилось останавливаться, чтобы передохнуть и осмотреться. Снег на деревьях, кустарнике, траве создавал очень красивый пейзаж».Только что сдуло Шипова, и он погиб на глазах у всех. Свалился в пропасть Рожанский… Сквозь рев урагана слышны тревожные голоса мечущихся в поисках укрытия людей…(Собственноручные показания Т. И. Зотова следователю.)
«В о п р о с. На что вы обратили внимание при спуске в ущелье? О т в е т. …Зелень в снегу смотрелась очень красиво…»Что же делали они потом, эти «эстеты», эти «истинные мужчины», эти яростные «борцы за жизнь»? Двое суток они пережидали в лесу непогоду, греясь у костра и ведя неторопливые беседы. Они жарили тушенку с зеленым горошком, варили макароны и манную кашу, пили какао и кофе. Не торопясь, экономя силы, любуясь пейзажем, в обход дошли до приюта «Армянский». И ждали оваций: ведь они без всяких потерь, не растерявшись, сохранив присутствие духа, одолели стихию. Вместе со всеми их поместили в больницу, но там им действительно было нечего делать. Иващенко и Стеженцев из больницы сбежали и в самый разгар следствия, когда шел поиск причин, приведших к гибели их товарищей, на поезде отправились в Сочи. Стеженцев пошел в горисполком — требовать «чуткого отношения к пострадавшим». Про драму в горах там уже знали, отнеслись поистине чутко — выделили для него и для Иващенко двухместный коттедж, где они и проблаженствовали недели три. На суд иные члены «семерки» предпочли не явиться, сослались на занятость и нездоровье. Кое-кто уклонился даже от явки в прокуратуру — за счет государства.(Допрос Т. И. Зотова на предварительном следствии.)
«Уважаемый прокурор, — ответил Иващенко, получив повестку, — если вас интересует, каким образом я остался жив, пришлите следователя в Киев, где мы с ним поговорим…»Ошибется тот, кто решит, что в девяносто третью туристскую группу затесались одни лишь — как бы выразиться помягче? — «порядочные мужчины». Это было бы оскорблением для памяти тех, кого уже нет, и несправедливостью ко многим живущим. Когда Александр Новосельский отталкивал слабых от едва тлеющего костра, Виталий Галушко из Запорожья обмороженными руками рубил сучья для этого же костра и, продрогший до костей, отдал обессилевшим девчонкам свой спальный мешок. Когда Решкин, Соколов и Третьяков бросили Зину, ее и другую туристку, Зою Губину, тащил на себе рабочий Валерий Никитенков. Потом он выбился из сил, и Валерия сменил семнадцатилетний повар из Днепропетровска Игорь Коляда. Он остался с ними до последней минуты. Когда Светлана Ветрова не смогла идти от усталости, ей вызвался помочь электросварщик из города Жданова Михаил Осипенко. Он ушел за брошенным рюкзаком, где были продукты, заблудился и погиб. Светлана выжила — с обмороженными ногами ее последней разыскали спасатели.
Зададим вопрос столь же банальный, сколь и необходимый: как могло все это произойти? Имеем ли мы дело с несчастным случаем — трагическим, но неотвратимым — или речь идет о преступной халатности, о пренебрежении к долгу, о безответственном легкомыслии, за которое заплачена слишком дорогая цена? Контрольный срок прихода группы на Фишт истекал в шестнадцать часов. Для нормальных условий этот срок давался с солидным запасом: ни одна группа за весь сезон не пришла позже тринадцати. В условиях непогоды три лишних часа как раз и составляли необходимый резерв. Девяносто третьей не было ни в шестнадцать часов, ни в семнадцать. За стенами каменных корпусов, надежно защищавших от бури и стужи, лютовала метель, выходить, естественно, не хотелось, и инструкторы, находившиеся на базе, решили, что девяносто третья, застигнутая в пути ураганом, просто-напросто вернулась на Армянский приют. Правда, двое отправились все же навстречу, но, не дойдя до перевала, вскоре вернулись…
«Я был инструктором 92-й группы. Мы пришли на Фишт днем раньше и должны были дождаться 93-й… Она не пришла к сроку, и мы были убеждены, что туристы укрылись на Армянском. В о п р о с. Вы не допускали, что их могло постигнуть бедствие и что они нуждаются в помощи? О т в е т. В принципе это не исключалось. В о п р о с. Почему же вы не пошли их искать? О т в е т. Меня никто не приглашал. В о п р о с. А кто вас должен был пригласить? О т в е т. Не знаю».Этот срок потому и называется контрольным, что его нарушение должно немедленно влечь за собой какие-то меры. Даже если светит солнце и полный штиль. А уж при внезапной метели, при бешеном ветре тем паче. Ведь любому понятно, что это значит: не гром — ураган среди ясного неба! В горах. Ранней осенью, когда его не ждут. Но никаких обязательных правил — что надо делать, если срок этот истек, — оказывается, не существует. Нигде не записано, кто, как и когда принимает на этот случай совершенно определенные, заранее предусмотренные меры. С учетом конкретной обстановки и — главное — с учетом реальных возможностей каждый действует в меру своей совести и своего разумения. И все-таки действует! А если бездействует?.. Рации на Фиште не было. Телефона — тоже. Никакой связи с внешним миром. Но были десятки здоровых, выносливых, не уставших от схватки с непогодой людей. Они грелись у огня и сквозь толстые стекла окон любовались необычным пейзажем.(Допрос на следствии Геннадия Беляева, альпиниста, студента университета.)
«Инструкторы группы № 92, находившиеся на приюте Фишт, имели реальную возможность сообщить в контрольно-спасательный отряд области о нарушении группой № 93 контрольного срока. Для этого им было необходимо не позднее 16.30—17.00 10 сентября 1975 года направить оперативную группу в Бабул-аул, где имеется действующая радиостанция Кавказского государственного заповедника. Также нужно было… послать мобильную труппу на турбазу «Кавказ» через Армянский перевал и Партизанскую поляну. Реальность такого шага подтверждается прохождением этого маршрута 10 сентября (от Партизанской поляны до Фишта) и 11 сентября (в обратном направлении) в одиночку инструктором Гасиловым при тех же погодных условиях, в каких оказалась группа № 93».Инструктор Гасилов группу не вел, он был, как говорится, в простое и на досуге фотографировал туристов перед их уходом с «Кавказа». Верный своим обязательствам, он не поленился пройти двадцать семь километров в один конец, чтобы вручить девяносто третьей готовые снимки. В пути его также застигла пурга, но дорога, по которой он шел, была хоть и длиннее, а легче. Она обходила стороной продуваемые всеми ветрами альпийские луга, да и недаром Гасилов слыл бывалым и сильным спортсменом. Он добрался до Фишта, прождал группу весь вечер и ночь, а утром вышел обратно и около часа дня вернулся на базу «Кавказ». Прошли уже сутки с тех пор, как девяносто третья попала в беду, и почти двадцать два часа после истечения контрольного срока. Наконец-то на базу поступило достоверное сообщение о том, что группа потеряна. Поступило случайно, но все-таки поступило. Вот сейчас — хотя бы сейчас! — поднимут тревогу!.. Директор базы Крикор Заробян отличался спокойствием и хладнокровием. Он не любил быстрых решений, тем более, если их принимать предстояло ему самому. Куда торопиться? Зачем нервничать? «За туристов отвечают инструкторы, — сказал Гасилову Заробян. — За то им и деньги платят». И потом — есть ли точные данные, что действительно что-то случилось? Поднять шум — значит напугать других туристов. Отвлечь занятых людей от работы и отдыха. Вот информировать начальство в общей форме, с максимальным спокойствием, что погода ухудшилась и что «группа застряла в пути», — дело другое. Галочка была поставлена: «Меры приняты». Шли телефонные разговоры с Майкопом: «Что случилось?» — «Пока ничего. Но метель…» — «А точнее?..» — «Меня беспокоит…» — «Только без паники… Проверьте маршрут…» Время неумолимо отсчитывало часы… Инструкторы Деев и Росинов пошли по тропе к Армянскому приюту — узнать, как там все же дела. Уже темнело. Заканчивался день 11 сентября. Туристы девяносто третьей больше суток мерзли в горах. Внизу — «проверяли маршрут». Маленькие ручейки превратились в ревущие потоки. Снег валил и валил, а над ним, над снегом, в черных тучах, обложивших все небо, грохотал гром, и лиловые молнии били прямо в лицо. Девяносто третьей на Армянском, естественно, не было. Была девяносто четвертая, которой — по расписанию — давно полагалось быть тоже на Фиште. «Как там, наверху? — спросил, кажется, Деев. — Про девяносто третью не слыхали?» — «Не слыхали, а видели, — мрачно ответила Людмила Терентьева, инструктор девяносто четвертой. — Половина затерялась, есть мертвые и больные». Спуститься от Армянского до «Кавказа» и сообщить наконец на базу всю правду не представляло никакой сложности — это мог сделать любой из тех, кто был на приюте. Но предпочли это сделать все же Росинов и Деев, опытные инструкторы, не уставшие от похода, прекрасно экипированные, отлично знающие местность. Они выбрали путь не наверх, к терпящим бедствие, а вниз — к дому.(Экспертное заключение мастеров спорта по туризму Ю. Штюрмера, Б. Гельфгата и Ю. Александрова.)
Продолжались телефонные переговоры. Шли совещания. Издавались приказы «об организации оперативного штаба», «о повышении требовательности к инструкторскому составу», «о подготовке к проведению спасательных работ». После ужина, на танцах, Заробян и Росинов отозвали Гасилова и предупредили: «если спросят», сказать, что тот вернулся на «Кавказ» не в четырнадцать часов, а в двадцать. Ложь «оправдывала» бездействие еще в течение половины дня. Девяносто третья осталась без помощи на вторую ночь… …Спасатель — должность не штатная. В спасатели идут добровольцы, любящие и знающие горы, не равнодушные к чужой беде, готовые в любую минуту, по первому зову выйти на помощь. И «деньги за это» им вовсе не платят. По первому зову! Значит, все-таки надо поднять тревогу, бросить клич, чтобы люди собрались и отправились на гуманнейший и опасный подвиг. Рабочие, колхозники, механизаторы, шоферы, врачи, они, в сущности, вечно мобилизованные «альпийцы», которых сигнал беды и посреди дня, и посреди ночи может оторвать от работы, поднять с постели и бросить в бой. «Сигнал беды», «зов тревоги» — до сих пор мне казалось, что это не только метафора, что за нею скрывается сугубо практический, деловой смысл. Что есть вполне конкретный, заранее установленный м е х а н и з м спасения, четко срабатывающий, когда некий дежурный на вахте нажмет тревожную кнопку. Увы, только казалось…
«С момента нарушения контрольного срока до поступления сигнала об этом (совершенно случайно! — А. В.) прошло около 22-х часов. С момента поступления на турбазу сообщения о ЧП до выхода первой спасгруппы (четыре человека! — А. В.) прошло еще 11 часов… Поступившая в областной совет по туризму информация о происшествии была доведена председателем совета Кононишиным до начальника спасотряда с задержкой более чем на 4 часа, а до краевой контрольно-спасательной службы — на срок около суток, что лишило возможности квалифицированные кадры спасателей включиться в поиск… Особо следует отметить отсутствие заранее разработанной схемы развертывания поисково-спасательных работ и плана мероприятий на случай чрезвычайного происшествия».Медленно, на ощупь, со скрипом приходили в движение плохо пригнанные друг к другу рычаги «машины спасения». Разными путями, иногда по чистой случайности, люди узнавали о драме в горах, не получая ничьих указаний, спешили наверх, чтобы влиться в группы, отправляющиеся на помощь. 12 сентября пешком и на лошадях, разными тропами и без всяких троп, обрастая все новыми и новыми добровольцами, устремились на поросшие лесами горные склоны спасательные отряды. К вечеру число спасателей достигло почти двухсот человек (в том числе свыше ста мастеров спорта). Но было уже поздно. 13 сентября в условиях почти нулевой видимости из Адлера пробились сквозь пургу и туман два вертолета, и летчики отважно посадили свои машины на крохотном «пятачке» возле горы Гузерипль. Прибыли альпинисты, врачи… Но было уже поздно. На долю спасателей выпала горчайшая из задач: разыскать и эвакуировать погибших. Все оставшиеся в живых были к тому времени уже в безопасности. А совсем рядом — дружно, без паники, помогая слабым, подбадривая унывающих — боролись со стихией туристы из параллельного маршрута 825. Не поддавшись ни ветру, ни стуже, москвичи под руководством инструктора майкопской студентки Надежды Волковой спасли и себя, и других. И по другую сторону перевала, на южных склонах хребта, спасатели, огранизовавшись быстро и четко, не допустили в горах ни единой жертвы.. Сочинский спасатель Николай Быковский и его товарищи вывели из района бедствия не только шедших по маршруту туристов, но и самодеятельные (в том числе нигде не заявленные) группы, пастухов, строителей, спелеологов — много сот человек. В девяносто третьей группе, вернувшейся в Майкоп, недосчитали многих…(Заключение судебно-туристской экспертизы.)
Нравственная вина иных участников турпохода для всех очевидна, но она не снимает вины правовой с тех, кто обязан был по службе и должности предотвратить или хотя бы уменьшить беду. Это потом, когда все позади, призывают к ответу презревших совесть и честь. А сначала — спасают. С одинаковой мерой старания врач лечит достойных и недостойных. Пожарный тушит огонь, не задаваясь вопросом, законно ли приобретены горящие вещи. И милиционер не сверяется с характеристикой, чтобы взять под защиту жертву пьяного хулигана. Так что пусть не сместятся акценты, пусть малопривлекательный облик иных участников этой истории не заслонит от нас важной проблемы, столь зримо обнажившейся в ходе следствия и суда: имя этой проблемы — беспечность. Только теперь, когда беспечность обернулась трагедией, мы можем осмыслить ее масштабы. Только теперь мы понимаем, как зыбка, ненадежна была судьба людей, ушедших наверх, как зависели они от воли случая, строкового «авось». Повторю это снова: на горных приютах не было ни раций, ни телефона. Но там не было и аварийного фонда: когда пробило тревогу, на Фиште не оказалось ни одежды для спасателей и для терпящих бедствие, ни снаряжения, ни продуктов, хотя в акте ревизии от 1 августа утверждалось, что «спасфонд полностью укомплектован». Маркировка тропы была сделана из рук вон плохо, вопреки протоколу, где торжественно утверждается, что она в отличнейшем состоянии. Туристов повели не инструкторы-профессионалы (хотя бы и профессионалы-общественники), а совсем еще юные студенты, решившие летом подзаработать: у них не было ни опыта, ни квалификации, ни подготовки. Предельное число туристов, которые могут быть в подчинении одного инструктора, было сильно завышено: «гнали план». Медицинскому осмотру перед выходом в горы туристы фактически не подверглись: у них только измерили давление крови. Никто не проверил, умеют ли они действовать в условиях непогоды и есть ли у них теплые вещи. Их «забыли» предупредить, что осенью в горах случается всякое («они испугались бы выйти в поход» — так «объяснит» потом эту забывчивость председатель областного совета по туризму Ким Кононишин). Запасного варианта маршрута и плана спасения на случай чрезвычайного происшествия не было вовсе. И наконец, никто не поинтересовался даже самым простейшим — сводкой погоды на ближайшие сутки. Еще утром 8 сентября Майкопская метеостанция получила так называемое «штормовое предупреждение» — сигнал близящейся непогоды. В течение суток прогноз уточнялся, и, наконец, 9-го утром дежурный синоптик Тимохина составила сводку, правильность которой днем позже испытали на себе туристы девяносто третьей: «…снег, метель, сильное понижение температуры». Штормовое предупреждение от 8 сентября («похолодание, сильные дожди и грозы») дошло до туристских организаций, но не вызвало у них ни малейшей тревоги, не возымело никакого практического результата. Штормовое предупреждение от 9 сентября вообще не дошло: Тимохина заполнила его «не на том» бланке. Номер телефона, по которому областной туристский совет должен был получить тревожное сообщение, в этом бланке отсутствовал. Сводку, переданную в эфир, туристские руководители, естественно, не услышали: на приюты и базы «не завезли» даже плохонькие приемники. Да если б и «завезли»!.. При той безалаберности, которая царила в туристском «ведомстве», вряд ли даже точнейший прогноз сыграл бы должную роль. Эта безалаберность, это преступное легкомыслие существовали, конечно, и раньше. С тем же риском, с той же мерой опасности, с той же самой реальной возможностью попасть в западню к слепой силе природы шли и до девяносто третьей девяносто вторая, девяносто первая и все остальные. Так же не было плана спасения, так же «отменно» маркировали тропу, так же ждал своего часа «укомплектованный» аварийный фонд. И подготовка инструкторов была нисколько не выше. Просто сжалилась, удружила природа, не подвела, выдала вволю тепла и чистого неба. Все обошлось. И казалось, так будет всегда. Беспечность и равнодушие, ставшие нормой рабочего поведения, как бы подтверждались самой жизнью: зачем тратить силы, зачем проявлять служебное рвение, если и так все идет хорошо? И туристские песни про сильных и смелых становились не призывом к истинной боевитости, к готовности встретить любую опасность, а ничего не значащим ритуалом — очередной галочкой о «проведенных мероприятиях». Словесная трескотня, заполняющая вакуум, который образуется от беспечности и безделья, всегда сопряжена с огромными нравственными издержками, с материальным уроном. Иногда же, как видим, она превращается в подлинное бедствие. И может поставить человека на грань катастрофы. В тот самый день, 9 сентября, когда — не в силу особенной человечности, а всего лишь в силу профессиональной обязанности — надо было проверить, какая будет погода, и принять реальные меры (задержать группу или придать ей для сопровождения отряд спасателей), Кононишин созвал на «важное совещание» большое и малое руководство всех турбаз и приютов, спасательные службы и инструкторов. Он важно рассуждал о чуткости к людям, о том, что надо «повысить», «поднять», «мобилизовать». И все ораторы — их было не меньше чем два десятка, — уткнувшись в бумажки, целый день долдонили про «прибывших на отдых, забота о которых составляет первейший долг каждого из нас». Долдонили, не слушая себя и не слушая выступавших, а тем временем оставались считанные часы до драмы в горах, где с трагической беспощадностью предстала по истинному своему паритету цена трескучего слова. Работая над этим очерком, я перечитал десятки инструкций, приказов, положений, постановлений — великое множество документов, определявших права и обязанности тех, кто профессионально причастен к этому массовому, увлекательному спорту. И знаете, что оказалось? Все там есть — и про то, какими должны быть инструкторы, и про то, как готовить туристов к походу. Есть про маркировку тропы и спасательный фонд, про аварийные сроки, про метеосводки и сигналы тревоги. Все предусмотрено до мелочей: на бумаге — не в жизни. Когда во время процесса и прокурор, и судья пытались понять, почему эти разумные правила столь дружно не выполнялись, один из подсудимых произнес звонкую фразу, которая заставила о многом задуматься: «Мы же не формалисты!»
Добавить к сказанному остается немного. После длительного следствия в Майкопе состоялся суд над главными виновниками разыгравшейся драмы. К уголовной ответственности были привлечены директор турбазы «Кавказ» Заробян, директор турбазы «Горная» Строев, старший инструктор Роговин, начальник контрольно-спасательного отряда Гайдаров и синоптик Тимохина. Ни один подсудимый виновным себя не признал: все кивали на кого-то другого, а больше всего — на погоду. Получалось, что только погода одна виновата, а поскольку посадить ее на скамью подсудимых нельзя, то и судебный процесс становился вроде бы неправомочным. Получалось, что можно успешно работать только при хорошей погоде, а при плохой никто ни за что вообще не отвечает и, стало быть, спрашивать за печальный итог решительно не с кого. Но суд с такой «божественной логикой» не посчитался. За преступную халатность виновные осуждены к лишению свободы на срок от двух до трех лет (три года — максимальное наказание по закону), некоторые условно. Приговор этот совсем недавно вступил в законную силу. Частными определениями суда отмечена самоотверженность пастухов Острецова и Крайнева и инструктора Волковой. (Мужественное поведение Гали Казьминой не отмечено, видимо, потому, что ею руководили столь не чтимые «личные мотивы».) В порядке поощрения все они получили по пятьдесят рублей. Для Острецова и Крайнева это было особенно кстати. Не рубли, разумеется, а благодарность. Дело в том, что, пока они спасали туристов, скот, естественно, остался без присмотра, и в итоге колхоз лишился девяти бычков. На пастухов уже было наложили суровый материальный начет, но тут подоспела благодарность, и наказывать их за «упущение» стало как-то некстати. Что касается постыдного поведения некоторых туристов, то по этому поводу частного определения не вынесли: все они считались потерпевшими от преступного бездействия подсудимых, а осуждать недостойное поведение потерпевших, хотя бы и нравственно, почему-то не принято. Очень жаль!.. Но как было не отметить самоотверженность, мужество и порядочность туристов, не поддавшихся панике и даже в самых тяжких условиях оставшихся верными принципам нашей морали, в которых они были воспитаны и с которыми вступили в жизнь? Они заслуживают, эти люди (а их было все-таки большинство), добрых слов и нравственного поощрения — в благодарность за сделанное и в укор слабодушным. Областной, краевой и центральный советы по туризму издали приказы — о допущенных ошибках и об уроках, которые следует из них извлечь. Приказы дельные, самокритичные, содержащие немало очень нужных рекомендаций. Перед самой публикацией очерка мы решили проверить, как эти рекомендации проведены в жизнь. Некоторые базы — не все! — действительно получили рации — связь с Майкопом поддерживается, но нерегулярно. Телефон установлен только на базе «Горная» (прямой провод с Гузериплем), но и он действует лишь с 10 до 17 часов в будни, когда работает почта. Машины и вездеходы — на случай аварийной ситуации — обещают выделить в 1977 году. Метеостанция, которая раньше «забывала» предупреждать совет по туризму штормовыми прогнозами, теперь ударилась в другую крайность: только в последние месяцы их уже было за семьдесят! Перестраховочным этим прогнозам никто, конечно, не верит, и когда придет сигнал о подлинном шторме, боюсь, на него опять внимания не обратят. Ну и, наконец, самое главное. Несмотря на грозные приказы, на «строгие», «самые строгие» и «строжайшие» указания, из 67 инструкторов, работающих в этом сезоне, только трое имеют право водить туристские группы. У остальных нет опыта и подготовки, квалификационной комиссией им не присвоено звание инструкторов, но они тем не менее руководят людьми — перечисляют «типичных представителей» зонтичных и сложноцветных, «рассказывают обзор панорамной точки» и поют веселые песни про голубые пижамы. Так что пожелаем туристам хорошей погоды.
1976
В таком виде очерк опубликовала «Литературная газета». Готовя его для книги, я решил не исправлять ни единого слова — разве что фамилии участников драмы в горах, — хотя очерк порядком уже «устарел»: многое, очень многое изменилось и в организации туристских походов, и в системе спасательной службы. Но «устарел»-то очерк именно потому, что он появился!.. Огромная читательская почта, которую вызвала публикация, принесла и официальный ответ руководства Центрального совета по туризму и экскурсиям (ответ был тоже напечатан в газете). Там говорилось, что совет «считает публикацию очерка весьма актуальной и полезной как для дальнейшего совершенствования организации туристских путешествий и обеспечения их безопасности, так и для воспитания читателей и привития им ценных для советского человека качеств — коллективизма, взаимопомощи, мужества, дисциплинированности». В официальном ответе сообщалось также о конкретных мерах, принятых для исправления серьезных недостатков, о которых шла речь в очерке. На турбазах и приютах установлены радиостанции, что позволяет получать оперативную информацию о движении туристских групп. На приюте «Фишт» организован метеопункт. Выделены вертолеты для проведения профилактических и поисково-спасательных работ. Чтобы резко улучшить обслуживание туристов, были ассигнованы сотни тысяч рублей. Оборудованы дополнительные укрытия для туристов на случай неожиданных метеорологических изменений. После публикации очерка пересмотрена программа подготовки инструкторов, улучшено обеспечение горных турбаз и контрольно-спасательных служб транспортными средствами и снаряжением.
«По заданию Центрального совета, — говорилось далее в письме, — очерк «Смерч» широко обсуждался насовещаниях и семинарах туристских работников, в туристских базах, клубах туристов и т. д., где особое внимание было уделено этическим сторонам поднятой в очерке «Смерч» проблемы».Публикация официального ответа вызвала новую волну читательских писем, где рассказывалось о действенности принятых мер, о том, какие реальные, зримые перемены к лучшему наступили в организации туристских походов и обслуживании туристов на базах. Но самой интересной была, конечно, та часть почты, где читатели остро и полемично обсуждали проблемы нравственные — то, ради чего, собственно, очерк и писался. Многие вспоминали о прекрасных поступках, свидетелями которых они были, — о самоотверженности и бескорыстии, о готовности всегда прийти на помощь, презрев опасности и забыв о собственном благе. По-разному, но с одинаковой горячностью и заинтересованностью, читатели говорили о необходимости воспитать в каждом человеке такой нравственный фундамент, который позволил бы ему в любой непредвиденной ситуации, при любом случайном стечении обстоятельств проявить мужество, гуманность и чувство локтя.
СВАДЬБА ПОД СТЕНОГРАММУ
1973
ЗАМОЧНАЯ СКВАЖИНА
Судья встретил меня хмуро: назначенный на завтра процесс предвещал бурю. Один из педагогов училища привлекался к ответственности за серьезное преступление против нравственности, и этот поистине редчайший случай не мог оставить никого равнодушным. Вина педагога — я цитирую обвинительное заключение — состояла в том, что он «клал руку на плечо своих учениц…». Я помнил «искусителя» еще по первому приезду: он был, пожалуй, самым яростным противником чтения любовных писем, смакования пикантных деталей — он решительно восстал против вторжения в альковные тайны, а когда Ангелина Кузьминична стала перед ученицами «разоблачать» порок, во всеуслышание назвал это грязью и пошлостью. Теперь его позиция в том конфликте обращалась косвенно против него: выходит, он тогда уже, затаив порочные мысли, пытался усыпить бдительность недремлющих стражей морали. Учителю было за пятьдесят. Пройдя войну и закончив ее в Берлине, он вернулся домой с нашивками за ранения и с ленточками боевых орденов. Четверть века он отдал педагогике, из них четырнадцать лет преподавал здесь, в этом училище. Вот уж, право, кого невозможно представить в облике сластолюбца — добродетельного семьянина, порядочного и скромного человека! Но, с другой стороны, безупречное прошлое само по себе ведь не служит еще доказательством, что данный поступок не совершен. И все же, и все же… Я читал собственноручные заявления «потерпевших», протоколы допросов, а в ушах звучал голос Ангелины Кузьминичны — ее стиль, ее пафос, ее любимые обороты. На следующий день, когда начался процесс, я уже не читал эти показания — я их слышал, и трудно было отделаться от мысли, что вещает не Ангелина, а три девочки школьного возраста, успевшие вжиться в образ пламенного трибуна, обличающего порок. «Считаю, что гражданин такой-то (следовала фамилия учителя — без имени, без отчества) должен быть сурово наказан… Он посягнул… Он нарушил… Мы требуем…» Поражали не столько жесткость и непримиримость и даже не лишенная малейшей стыдливости откровенность, сколько гладкая обкатанность формулировок, традиционный набор фраз, не несущих решительно никакой информации, но продиктованных яростным гневом. Гнев, однако, был не всамделишный — напускной: дав показания и вернувшись на место в зале, обличительница зла тут же сбросила с себя чужие доспехи и, с милой непринужденностью улыбнувшись подругам, победно им подмигнула: роль и правда была сыграна очень неплохо… А тем временем «гражданин такой-то» мучительно вглядывался со скамьи подсудимых в эти симпатичные детские лица — пытался что-то понять и явно не понимал. Предстоящая кара едва ли страшила его — в самом худшем случае она не могла быть слишком суровой, — но легко представить себе мучительный стыд, который испытывал этот, не первой молодости, учитель, выслушивая обвинительные речи своих учениц. Когда у одной из них внезапно умерла мать, он встретил девочку в коридоре на следующий день после похорон, увидел ее глаза и в них — страх, беспомощность, боль… Он подошел, молча положил руку на плечо, притянул голову к себе, и она уткнулась носом в его пиджак, всхлипывая и дрожа. Учитель провел ладонью по ее голове, так ничего и не сказав, — слова были бессильны… И совсем не придал значения кривой ухмылке проходившей мимо другой ученицы, ставшей очевидицей этой «странной сцены»… Теперь и та, что тогда ухмыльнулась, и та, которой он посочувствовал, равно усердствовали в обличении. «Ну хорошо, — иронизировала «очевидица», — допустим, вы такой чуткий, такой душевный, не можете пройти мимо чужого горя. Допустим… Ну, а когда вы вызвали меня в свой кабинет и разглядывали с головы до ног, — это тоже была ваша чуткость? У меня, кажется, никто не умер…» И я видел, как сжался учитель, как втянул он голову в плечи, сраженный снайперским вопросом, которому мог позавидовать даже опытный прокурор. «Я?.. Разглядывал тебя?.. То есть вас?..» Он бормотал какие-то ненужные слова — беспомощный и нелепый в попытках оправдаться, отбиться, а она торжествовала, почувствовав, что удар попал в цель, что учитель тушуется и никнет. «Но ведь я вас вызвал, чтобы поговорить… о вашей успеваемости…» Она не дала ему докончить: «Придирались!.. Теперь ясно — зачем…» У всех обличительниц были двойки по истории, которую преподавал подсудимый, — им грозила вполне реальная переэкзаменовка. До этого, однако, не дошло: всполошившийся папа той девчонки, что теперь неистовствовала больше других, возбудил дело, и учитель, срочно заменивший привлеченного к следствию коллегу, поспешил выставить «жертвам» полновесные четверки. Все это сильно смахивало на новый «психологический эксперимент», задуманный и поставленный Ангелиной Кузьминичной в отместку за провал предыдущего. Но нет: проверка, которая впоследствии была проведена по моей просьбе, убедительно доказала полную ее непричастность. После увольнения и безуспешной попытки восстановиться через суд Ангелина Кузьминична отбыла в далекие края, порвав все прежние связи. Ее алиби (сам собой напрашивается юридический термин) было установлено неопровержимо. Значит, что же — на этот раз обошлось без Ангелины? И суд над учителем истории — не ее рук дело? Вот в это я никак не поверю. То, что ею посеяно, дало всходы и, боюсь, прорастет еще не единожды. Отзвуки бури, которая по воле незадачливого психолога сотрясла стены училища, мы услышим и через много лет, когда войдут в жизнь воспитанники нынешних его воспитанников. Войдут с теми взглядами на мораль, на отношения между людьми, на понятия о добре и зле, которые их будущие педагоги усваивали на уроках от некоторых учителей, а затем применяли «на практике»… Суд не пошел на поводу у юных борцов за нравственность, не поддался их домыслам, не клюнул на демагогию, распаленную богатым воображением и мелкой корыстью, столь зримо обнажившейся в ходе процесса. Учитель оправдан, но как же ему работать дальше? Как посмотрит он в глаза своих коллег? А в глаза учениц? И не будет ли он теперь обходить их стороной, поддастся ли искушению улыбнуться или посочувствовать горю? Учитель оправдан, но как наказать зло, породившее этот процесс?
1976
СЕМЕЙНАЯ ДРАМА
«Люда! — писал он ей в родильный дом. — Нам нужно серьезно обо всем поговорить. Сейчас же первой и самой сложной проблемой является жилье… Я тебя предупреждал обо всем этом, но ты же все решала только сама. Вот результат — проблемы, проблемы».Не слишком-то ласковое письмо — первый отклик на весть о рождении сына. Нет в этом отклике ни радости, ни любви, но есть трезвое сознание ответственности за самое элементарное — крышу над головой ребенка, которому ты дал жизнь. Крыша над головой — во веки веков это долг и забота мужчины. Виноват ли он в том, что далеко не всегда, даже с печатью о регистрации брака, ему удается ее обеспечить? «Крыши» не продаются в соседнем универмаге. При всем желании обеспечить каждому и немедленно нужное жилье, при том огромном размахе строительства, которое разворачивается на наших глазах, государство не может еще без промедления удовлетворить в полной мере растущие потребности каждой семьи. Приходится ждать. А ждать было некогда.
«Люда! — Это я цитирую еще одно письмо Виктора, оно написано на следующий день. — Где-то через три месяца завод сдает дом… Одну комнату могут дать мне… Сможешь ли ты это время прожить в общежитии? Если нет, то я просто ума не приложу, как выкарабкаться из этой ситуации… Я отвечаю не только за себя, но и за тебя, и за нашего сына, так что принимать поспешные решения — преступно. Напрасно ты пишешь, что будешь проклинать меня. Да, я виноват, виноваты мы оба, но Он будет в любом случае расплачиваться за наши необдуманные решения…»По правде говоря, я не знаю, какие поспешные и необдуманные решения Виктор имел в виду, но за что же, собственно, проклинать его? Двое взрослых людей з н а л и, что ни у Люды, ни у Виктора во Владивостоке жилья еще нет. Комнату, которую через три месяца Виктор должен был получить, он имел намерение отдать Люде и сыну. Он высказал это категорично и ясно. Никто не мог заставить его так поступить. Никто — кроме голоса совести. И он внял ему. Что же еще в этом положении мог он сделать? И что — должен? В Ленинграде был дом. Отец, мать и сестра. Квартира. Не так-то просто — и странно, пожалуй, — привести в родительский дом женщину — не жену, если к тому же и не собираешься стать ее мужем. Но — ребенок… Ребенок-то все-таки не чужой… Он решился. Как раз подошло время отпуска. «Мне необходимо лететь домой и разговаривать с родителями», — написал он Люде. Перед тем как лететь, он сделал главное: зашел в загс и подал заявление о признании своего отцовства. Совести была чиста, и долг исполнен. Разговор с родителями не получился. Что он, в сущности, мог им предложить? Взять ребенка на воспитание? Или поселить его здесь. Вместе с матерью? Но в какое двусмысленное положение он поставит и ее, и себя? И родителей — тоже… Он уже твердо знал, что жениться на Люде не сможет. Не хочет. Почему — это касалось только его одного. Только его — и никого больше. Письмо Люды, которое он получил, — гневное, оскорбительное, задевшее его достоинство — лишь укрепило Виктора в этом решении. К тому же здесь была Галя — девушка, которую он знал, с которой дружил. Она ждала его, а он чувствовал себя виноватым, не мог смотреть ей в глаза. Ему казалось, что она не простит его. Но, выслушав Виктора, рассказавшего ей всю правду, она простила. Не думаю, чтобы кто-то был вправе судить его судом более строгим, чем судила она. Мы вообще часто склонны, хотя бы в мыслях, давать непререкаемую оценку поступкам людей — поступкам, за которые они отвечают только друг перед другом. Рискуя повториться, скажу еще раз: если никто никого не обманывает, не использует во зло доверие и неопытность, не раздает заведомо неисполнимых обещаний, то двое, свободно распоряжаясь собою, не посягают на общественную мораль. Это та сфера жизни, где человек может поступать по своему желанию, и конечно же он несет ответственность за свои поступки — по закону и совести. Ответственность эта в равной мере ложится на обоих, точно так же, как право судить или прощать принадлежит не нам с вами, а лишь тому, кого этот поступок прямо задел. …Он послал телеграмму на работу: «По семейным обстоятельствам прошу дать дополнительный отпуск». И женился. Я думаю, это был не только голос сердца. Но и бегство от совести. Потребность скрыться от тех самых «проблем, проблем», которые возникли перед ним во всей своей реальности и неразрешимости. Впрочем, неразрешимы они были не в смысле формальном, но в том, как он сам их воспринимал. Формально он был свободен, и никто не мог ему помешать устроить жизнь по своей воле. И нравственно он был тоже свободен: он никому не сулил златые горы, не солгал, не унизил, не отрекся от отцовства, от помощи ребенку, от заботы о нем. И все же мысль о том, что «что-то не так», не давала покоя.
«Галя, милая, здравствуй! — писал он жене сразу же по возвращении во Владивосток. — Все эти десять дней как сказочный сон, от которого я не могу прийти в себя. Мне все кажется, что я ушел из дома на работу и вот-вот должен возвратиться. Остались одни воспоминания, которыми я живу. Прошло три дня, как мы расстались, а кажется, что прошлацелая вечность. Как все было прекрасно! Я тебя люблю и не стесняюсь это говорить и писать… Не волнуйся, все образуется и станет на свои места… Целую много-много раз. Люблю, тоскую. Твой Виктор».Верил ли он сам, что «все образуется»? Он сказал Люде: «Ребенка я буду полностью содержать. И воспитывать его, если ты позволишь. Могу взять его к себе. Могу отправить к родителям. Реши, как лучше. И построю тебе кооперативную квартиру. Но большего — не могу, хоть убей». Теперь мы никогда со всей точностью не узнаем, какой разговор произошел между ними. Не простым, как видно, он был: сразу же после этого разговора Люда купила билет и с грудным ребенком отправилась за тысячи километров — в Ленинград, к совершенно незнакомым ей людям. Цель была ясна, ее с предельной краткостью изложил Виктор в записке, небрежно нацарапанной на вырванном из тетради листке:
«Галя, я вынужден просить тебя дать мне развод. Прости. В.».Самолет еще был в воздухе, когда Виктор, не найдя в себе мужества распутать узел, который он сам завязал, ушел из жизни. Он зримо представил себе, какая буря разразится в Ленинграде, когда Люда вручит адресату эту записку. И еще того раньше — когда она только появится в доме родителей, от которых он скрыл свой «позор». Буря действительно разразилась, а еще через час, после того как Люда, вручив записку, ушла, принесли телеграмму: «Виктор погиб…» Он погиб, не решив ни одной из «проблем, проблем», а лишь создав новые, которые остаются и по сей день. Я читаю письмо Люды в редакцию — огромное письмо, занявшее полностью две ученические тетрадки, — и пытаюсь представить себе их разговор — тот последний разговор перед тем, как ей улететь в Ленинград. И не только этот разговор, но и те, что велись между ними все последние месяцы, полные обид и претензий. И чем больше я читаю эти тетрадки, тем отчетливей — из намеков и полунамеков — проступает фраза, которую особенно часто она повторяла: «Ты должен!.. Ты должен!..» А что, в сущности, он должен? Виктор выполнил все требования закона. И поступил так, как диктовала ему совесть. Он не сделал лишь одного — не женился. Но э т о было п р о т и в его совести, а то, что против совести, то безнравственно. Ибо — фальшиво. Можно ли удивляться, что непомерные требования к Виктору сменились столь же непомерными к тем, кто потерял сына и мужа? Случилась трагедия, но Люда требует, чтобы родители и жена построили ей квартиру, чтобы — «по моральным соображениям» — отказались в ее пользу от своих «прав на наследство» (вклад в сберкассе на очень скромную сумму). По моральным соображениям отказаться от права? Меня сильно смущает встречающееся порою в письмах и даже в газетных статьях «столкновение лбами» морали и права. Советский закон воплощает в себе нравственные принципы нашего общества, которым придана обязательная сила, поэтому человека, поступающего по закону, решительно не в чем упрекнуть. Достаточно допустить даже самое малое исключение из этого непреложного правила, и каждому откроется произвольная возможность самому толковать, когда следует поступать по закону, когда — нет. Борясь с правовым нигилизмом, нельзя поощрять этот же самый правовой нигилизм под флагом борьбы за мораль. Допустим, действительно, женщине, прожившей с мужем лишь десять дней, негоже претендовать на наследство. Допустим, хотя это, конечно, не так. Посмотрим, однако, на историю с наследством ее глазами: ведь она должна отказаться от того, что ей законно положено, в пользу женщины, которая самим своим существованием стала причиной гибели ее мужа. Хороша ли эта женщина, плоха ли, виноват ли Виктор в чем-нибудь, нет ли — вопрос другой, но ведь муж погиб, и эта женщина, — разумеется, вопреки своей воле, — прямо к этому причастна. Так можно ли, нравственно ли требовать от жены т а к о г о шага? Или — квартира. Да, Виктор обещал ее построить, обещал — чтобы ж и т ь. Но он трагически ушел из жизни — должны ли теперь родители в своем безутешном горе оплачивать еще и этот счет? Или — ребенок. Да, Виктор хотел воспитать его, он выполнил все те формальности, которые были необходимы, чтобы ребенок имел отца, он мечтал, чтобы его родители заботились о внуке. Теперь Виктора нет, и внуку — этой живой плоти безвременно ушедшего сына — они готовы отдать все тепло. Но допустимо ли диктовать им те формы, в которые только и может облечься их забота? Вопросов много, и, вероятно, каждый из них породит вовсе не однозначные ответы. Жизнь вообще не любит однозначных ответов, она сложна, и каждая человеческая судьба — свой мир, непохожий на остальные. Оттого-то всегда кажется грубой и примитивной «отмычка», с которой иные «моралисты» любят ломиться в чужие души, навязывая априорно готовые схемы. Легко понять человека, жизнь которого не задалась, надежды рухнули, а планам не было дано свершиться. Понять и посочувствовать ему… Но нельзя согласиться с такими людьми, искренне считающими, что все вокруг им что-то должны. Мало думая о последствиях своих поступков, не чувствуя всерьез никакой ответственности за свои действия, они не ведают, как именно повелевает поступить им их собственный долг, но чрезмерны в своей необузданной требовательности по отношению к другим. Если бы каждый помнил прежде всего о с в о е м долге, соблюдал бы его в точности, он не позволил бы себе и к другим предъявлять требования невыполнимые, находящиеся за гранью того, что человек обязан. Наверно, драм тогда стало бы меньше, а «конфликтные ситуации», которые вообще-то неизбежны до тех пор, пока существует жизнь, в значительной мере лишились бы своей остроты.
1973
Никогда еще мне не приходилось читать такой противоречивой, непререкаемо категоричной в своих полярных суждениях почты! Письма яростно спорили друг с другом, безоговорочно поддерживая какого-либо одного героя очерка и столь же безоговорочно осуждая других. Крайность «обвинителей» была под стать крайности «защитников», и какое-то время я даже жалел, что вынес подлинную человеческую драму на публичный суд. Драма эта, как видно, задела многих, «наложившись» на чьи-то трудные судьбы, разбередив незажившие раны. Она вызвала у многих потребность рассказать о себе — с той же обнаженностью и болью, с какими была воспринята ими чужая драма, чужая несложившаяся судьба… «Прочитала очерк уже лежа, перед сном, и настолько взбудоражилась, что во втором часу ночи вскочила с постели — и вот строчу» — так начиналось одно письмо. Подобных писем — взволнованных, доверительных, даже обидных — было много, очень много, и это убедило меня в том, что за «частной» семейной драмой действительно кроется нравственная проблема, требующая осмысления и обсуждения. В письмах не только давались безапелляционные «оценки» героям, не только рассказывалось об иных — похожих и непохожих — семейных драмах: размышляя о поступках Виктора, Люды и Гали, авторы писем спорили о подлинных и мнимых этических ценностях, о том, что такое порядочность и долг.
«Эта история, — писала контролер заводского ОТК из Новороссийска З. Матвеева, — вызывает много мыслей, заставляет по-новому увидеть и пересмотреть сложившиеся стереотипы нашего отношения к подобным конфликтам. Не сомневаюсь, что под влиянием традиционных представлений о «покинутой», «обманутой» женщине с ребенком многие возьмут под защиту Люду. И глубоко ошибутся. Автору удалось показать очень характерный, но, к сожалению, не очень привлекательный тип женщин, которых отличает непомерная требовательность к другим и полное забвение чувства личной ответственности. Женщин, не упускающих ни одного случая напомнить о своих правах, но упорно забывающих о своих обязанностях. У таких людей всегда есть в запасе и демагогия, и набор безотказно действующих аргументов, рассчитанных на жалость, на участие. Не могу представить себе, чтобы женщина, искренне любившая Виктора, могла оскорбить его память шантажом по отношению к родителям, оплакивающим потерю сына. Не могу представить себе, чтобы любовь и семейные узы можно было навязывать кому бы то ни было, фальшиво прикрываясь при этом «интересами ребенка». Только большое взаимное чувство, глубоко осознанное обоюдное желание быть вместе способны создать счастливую семью на долгие годы».Однако такую точку зрения заняли далеко не все мои корреспонденты. Позиция тех, кто был решительно «против», наиболее решительно и резко выражена в письме владимирского журналиста А. Белявского:
«Вызывает удивление концепция автора, рассказавшего о «семейной драме» не с позиций высокого нравственного идеала, а с точки зрения примитивной житейской утилитарщины. Рассуждения автора, в сущности, близки концепции циничного аморализма, отрицающего существование общепринятых моральных ценностей… История Виктора и Людмилы — не только «материал для раздумий». Она — симптом опасной болезни нравов, эпидемии, которая поразила современный буржуазный мир. Бациллы этой болезни проникают иногда и к нам. И хотя в нашем обществе подобные «связи» — крайняя редкость, это не значит, что мы должны относиться к ним терпимо… Главные герои этой истории наказаны за опошление любви».Учительница Н. Новикова из Свердловской области ничего не знала о доводах А. Белявского, но ее письмо — как бы ответ на них, ответ, основанный не на абстрактном теоретизировании и не на «житейской утилитарщине», а на жизни. Такой, какая она есть: многотрудной и многосложной, не влезающей в тесные рамки, сколоченные раз и навеки. Хотя Н. Новикова не цитирует прямо К. Маркса и В. И. Ленина, однако в своих размышлениях она исходит из хорошо известных их высказываний о нравственной основе союза мужчины и женщины.
«Автор, — пишет учительница, — отвергает привычную схему: или большая любовь — или пошлые, аморальные отношения. И третьего будто бы не дано. Между тем в жизни все сложнее: дано и третье, и четвертое, и пятое… Далеко не к каждому приходит любовь, которую он проносит через всю жизнь. Сплошь и рядом случается, что чувство, которое человек принимает за «любовь до гроба», со временем (иногда очень быстро) иссякает. Жаль, что это так, но ведь это так! Иначе не было бы разводов. Как ни горько, что распадается семья, но вряд ли хоть один серьезный человек на этом основании осмелится сегодня выступить с предложением запретить разводы. Бывает, что нравственней развестись, чем сохранить семью, основанную на лжи и обмане, когда брак становится «мертвым» и его существование — лишь «видимость и обман». Но разве не приложимы эти требования коммунистической морали к отношениям, возникшим между Виктором и Людой, хотя их отношения и не были скреплены загсом? Можно ли осудить человека за то, что он не поддался давлению извне, а послушался своего внутреннего голоса и не создал с Людой семью, заведомо обреченную на распад? Спору нет, крепкая семья, основанная на большой любви, — наш нравственный идеал, и счастлив тот, кто познал его не в книгах, а наяву. Но и отношения людей, построенные на обоюдном желании быть вместе, нельзя третировать как безнравственные. Безнравственно навязывание себя, безнравственно создание семей, где есть только видимая оболочка брака, но нет того, что составляет этический минимум любого супружеского союза: добровольное желание к а ж д о г о строить жизнь вместе».Эти рассуждения, под которыми я с удовольствием бы подписался, хочется дополнить иллюстрацией — историей трех молодых людей, очень кратко и выразительно рассказанной двадцатилетним Виктором Аношкиным из Тульской области:
«Два года я дружил с Олей. В июне мы поехали поступать в вуз. По конкурсу мы не прошли, но там познакомился я с Наташей. И понял, что встретил ту, которую мечтал видеть рядом. Оле я все объяснил, но она ждала ребенка. Я уходил в армию — оставить ее одну в таком положении я не мог. Мы расписались. У меня не было сил встретиться с Наташей, я ей все объяснил на бумаге и добавил, что не хочу быть препятствием в ее жизни. И вот дома растет Сережа, мой сын. Я воспитывался без отца и матери, не хочу, чтобы Сережа не имел материнской заботы и твердой отцовской руки. Но я не смогу жить с Олей. Этот год превратился для меня в один мучительный день, которому нет конца. Во сне я вижу Наташу, все думы о ней, Оля чувствует это, и вот она мне написала: «Я была неправа, что не оставила тебя в покое после встречи с Наташей. А жить только ради Сережки, который заставит тебя смириться с тем, что любовь ушла, — этого я не хочу, потому что жизни настоящей не будет».Видимо, таким был бы и конец «семейной драмы» Люды и Виктора, если бы Виктор «поддался давлению извне», а не «послушался своего внутреннего голоса»: менее трагическим, но очень далеким от того идеала, к которому мы все так стремимся. А может быть, и не менее трагическим: боюсь, что и в насильно навязанной семье воинственное «ты должен!» продолжало бы звучать с прежней, и даже с еще большей, силой. И выдержать это «ты должен!» человек ранимый, эмоциональный, душевно не очень-то сильный вряд ли бы смог. В огромном потоке читательских писем оказались и такие, где автора упрекали в «сугубо мужском взгляде на драму женской души». «Как такую тонкую ситуацию дали распутывать мужчине?» — недоумевала одна читательница, и тот же вопрос повторялся в десятках других писем. Так родилась мысль узнать мнение двух популярных и уважаемых женщин, которые не претендовали на то, чтобы стать голосом всего женского населения, но которые, однако же, для многих и многих воплощают женственность, порядочность и благородство: с известной актрисой театра и кино Аллой Демидовой, создавшей образы многих наших современниц, и с той, что ежевечерне «без стука входит в дом», становясь как бы членом миллионов семей, — диктором Центрального телевидения Валентиной Леонтьевой. Их диалог, вышедший далеко за пределы конкретной истории, рассказанной в очерке, значителен и любопытен, — мне хочется извлечь из него лишь несколько мыслей. Алла Демидова обратила внимание на одну «знаменательную примету времени: в другие эпохи жертвой внебрачной связи стала бы Люда. Это ей пришлось бы расплачиваться за «незаконнорожденного» ребенка. Именно ее затравили бы церковь, общество, «добропорядочная» среда. А теперь удар пал на того, кто раньше был бы лишь окружен романтическим ореолом «сердцееда», любимца женщин…» А Валентина Леонтьева задала вопрос, на который сама же ответила: «Какую роль в жизни героев очерка играло д е л о? Между строк легко читается, что его герои отнюдь не были снедаемы жаждой творчества. Скорее всего, они относились к работе как к неизбежной необходимости. Быть может, Виктор не запутался бы в любовных «коллизиях», будь он увлечен любимым делом. Быть может, Людмиле не пришло бы в голову заниматься склоками и шантажом, если бы она была захвачена жаждой общественной деятельности». Но наиболее важной мне показалась мысль, высказанная Аллой Демидовой, — о «трагических, разрушительных последствиях черствости и озлобленности, которые деформируют души… Если бы у всех участников «семейной драмы» хватило благожелательности и добра, может быть, драмы и не было бы вовсе…». Мне кажется, Алла Демидова «ухватила» самую суть проблемы. Ведь даже аскетическая непримиримость ревнителей «нравственного идеала», не допускающих ни малейшего отклонения от прокрустова ложа умозрительной схемы, — тоже признак недоброты, когда воинственно и нарочито отвергается все, что в эту схему не лезет, когда нет ни желания, ни умения постигнуть противоречивость и сложность человеческих поступков, великое разнообразие мотивов, которые ими движут, извинить слабости, которые присущи даже носителям нравственных идеалов. Недоброта жестка и бескомпромиссна, она требует от человека всегда и во всех случаях поступать только так, и никак иначе. Она не допускает и мысли, что не только любовь может привести двоих друг к другу, но и увлечение, нежность, доверие, одиночество. Потребность в ласке. Страх перед бегом времени, уносящим лучшие годы. Наконец, иллюзия любви, которая вполне искренне кажется подлинной. Одному, а то и обоим… Драма отвергнутой любви — всегда драма. Отвергнутой и обманутой — драма вдвойне. Но мягкость и доброта, культура и интеллигентность избавляют ее от иссушающей злобы. Не дают обиде превратиться в орудие мести. Из-за того, что стало, перечеркнуть то, что было. Они делают нас человечными. А только человечность достойна любви.
ОПОЗНАНИЕ
1971
ДОНОС
Если перевести эту абракадабру на человеческий язык, то «явка с повинной» выглядела бы примерно так: «Директор училища вымогал деньги, обещая дать за это квартиру и помочь дочери поступить в консерваторию; я дал ему взятку». Еще красочнее изложила ту же ситуацию жена кающегося грешника, припавшая к стопам Фемиды вместе с мужем. Ее краткое заявление не нуждается в переводе: «Я неоднократно мужу говорила: «Сунь в зубы полтыщи этому шакалу, чтобы он заткнулся», что и сделал муж». За Козюковыми вслед разоблачать «шакала» ринулась целая армия правдолюбцев. Правдолюбец Матвеев, преподаватель по скрипке, доложил о том, что директор выписывает себе деньги за непроделанную работу. Правдолюбцы Голяковы — муж и жена — обвинили своего директора в «возмутительных махинациях, которые не лезут ни в какие ворота». Правдолюбец Тиньков, бывший преподаватель, припомнил, как шесть лет назад какую-то абитуриентку директор вроде бы зачислил «не даром».«Явка с повинной.
Директор училища искусств т. Зайцев Н. К. последние годы стал злоупотреблять своим служебным положением… Чтобы создать нормальные условия жизни, директор длительное время мне намекал: «Не хочешь меня просить хорошо, чтобы устроить Свету в консерваторию». С квартирой обманывал дважды, все поздравлял нас с квартирой и сказал: «За зло добро», а я ему сказал — с меня причитается».
«Предполагаю, — с завидной осторожностью писал Тиньков, — что эта абитуриентка была зачислена посредством того, что ее родители дали взятку директору если не непосредственно, то через посредника. Это я предполагаю в связи с тем, что мне случайно удалось по параллельному телефону слышать разговор ее матери, которая возмущалась тем, что ее дочери поставили двойку».Вот такие авторитетные свидетельства легли на прокурорский стол, и ничего другого не оставалось, как дать им ход, возбудить уголовное дело. Это произошло 21 марта, а 23 мая дело было прекращено: обвинение оказалось чистейшей «липой». В те два месяца, что отделяют пролог от эпилога, вместились допросы и очные ставки, бесчисленные общественные и административные проверки, акты бухгалтерской ревизии, интриги и подсиживания, раскол педагогического коллектива на две враждующие группировки, болезнь директора, потрясенного свалившейся на него бедой. Чудная творческая атмосферка, обеспечивающая высокий уровень педагогического процесса… Почему-то я ожидал увидеть желчного неудачника, а встретил светлоглазого симпатягу с чуть тронутым сединой русым чубом и располагающей, милой улыбкой. Трудно было представить его сочиняющим грязный донос, куда легче — растягивающим меха гармони в деревенском клубе под восхищенные взгляды местных красавиц. Он быстро освоился, выдал заготовленный афоризм: «Моральный кодекс требует строгого наказания взяточников и самодуров» — и, чарующе улыбнувшись, смолк, чтобы не сказать чего-нибудь лишнего. А я — я не нашелся что ответить: слушал — и не мог отделаться от затасканной мысли, что воистину обманчива внешность. И о том еще думал, как демагогия собеседника порою обезоруживает и парализует. Донос был рассчитан до мельчайших деталей, но одна, самая надежная, как раз-то и подвела. К «явке с повинной» Козюков приложил уличающий документ с весьма лаконичным текстом:
«Мною, Зайцевым Н. К., получены от Козюкова В. А. деньги в сумме пятьсот рублей. Указанную сумму обязуюсь возвратить Козюкову в срок до 3 июля…»(Деньги эти, замечу в скобках, были возвращены задолго до истечения срока.) Взятка под расписку с обязательством вернуть ее через несколько месяцев до сих пор в юридической практике, кажется, не встречалась. Но патент на открытие Козюкову не дали: оказалось, что между взяткой и получением денег взаймы существует разница, которая до сих пор была понятна решительно всем. Значит, директор не брал взятку у Козюкова? Ничего, он мог ее взять у кого-то другого. К примеру, у абитуриентов таких-то. К тому же он расхититель: в корыстных целях обменял принадлежащий училищу хороший рояль на плохой; установил у себя на квартире газовую плиту, купленную за государственные деньги для нужд училища; и в довершение ко всему присвоил 400 рублей, предназначенных на покупку ударных инструментов. Что делать, проверили и это. Абитуриенты не только отвергли возведенную на директора ложь — доказали, что были зачислены честно. Рояль целехоньким стоял на месте. За газовую плиту училище ни копейки не платило. Четыреста рублей по безналичному расчету были перечислены в магазин. Какое бы обвинение ни предъявили директору, оно тут же опровергалось — объективность выводов проверки никто не смог опорочить. Но зачем же все-таки Козюков явился «с повинной»? Разгадать секрет оказалось не трудно. Две комиссии специалистов из консерватории незадолго до этого установили профессиональную непригодность преподавателя Козюкова. Ученики один за другим покидали его класс. За нарушения трудовой дисциплины Козюков получил несколько выговоров. Его судьба была предрешена, но он «упредил» события. И не просчитался. Месть руководила и остальными борцами за правду. Матвеев был уличен в получении «левого» заработка через подставных лиц — таковыми выступали его же ученики. Другой «свидетель обвинения» — Потоцкий — был лишен диплома об окончании консерватории, поскольку отметка о сдаче им одной дисциплины оказалась поддельной. Зайцев не взял его под защиту, а в полном соответствии с законом снизил зарплату. Это, конечно, было трудно простить. Нет спору, напрасно директор взял взаймы у своего подчиненного. Собирая деньги на покупку машины, он мог бы, пожалуй, во избежание кривотолков воспользоваться помощью только друзей. Но Зайцев не делил людей на подчиненных и не подчиненных. И не путал служебное с личным. На работе он был строг и официален, вне работы — прост и приветлив. Он обратился к сослуживцу с товарищеской просьбой, так же, как многие обращались к нему. С такими же просьбами. И с другими. Здесь все были издавна знакомы, дружили домами, делились маленькими и большими домашними тайнами — обратиться за чем-нибудь друг к другу считалось делом нормальным. Зайцев откликался на любые просьбы, если это было ему по силам, — откликался, отнюдь не считая, что тот, кого он выручил как т о в а р и щ, должен ему больше, чем все остальные, как с о с л у ж и в е ц. Но и сам не снижал требований, служебных и профессиональных, к тому, кто выручил его. Козюков был убежден, что, став «кредитором» директора, он вправе рассчитывать на всяческое снисхождение. А Зайцев считал совершенно иначе: никаких поблажек по личным мотивам, ибо такие поблажки не только безнравственны, они вредят делу, которому служишь. Обучению, воспитанию молодежи — вдвойне и втройне. Эта «странность», не объяснимая для обывателя, не укладывающаяся в привычные рамки, и стоила Зайцеву доноса. Что же все-таки толкает таких козюковых на немыслимый шаг — расправиться с противником (а то и попросту с ближним) при помощи навета? Бросить тень на доброе имя — тень, которая остается даже при самом благоприятном для жертвы исходе? Сломать жизнь «законным» путем и при этом еще самому предстать героем, рыцарем правды и справедливости. Бездарность, мстительность, карьеризм всегда плодили доносчиков в изобилии. Заманчиво — на «костях» оболганного воздвигнуть статую самому себе, предстать бдительным стражем порядка, непримиримым борцом, обличающим зло: а вдруг «пройдет»… Тем более заманчиво — потому, что занятие это, как правило, для доносчика безопасно. «Я сигнализировал, пусть разбираются те, кому надо», — простодушно оправдался один из обличителей. И я подумал, как доверчивы бываем мы иногда ко всяким «сигналам», с какой душевной щедростью, готовностью выслушать и помочь встречаемлюбую жалобу или просьбу и как преступно пользуются подчас этой нормой нашей жизни бесчестные, низкие люди… …Итак, оговор разоблачен, клевета отвергнута, подозрения сняты, дело прекращено. Вот и прекрасно. Справедливость восторжествовала. Законность не попрана. Чего же еще?! Прежде чем ответить на этот вопрос, мне захотелось узнать, насколько случай, описанный выше, является уникальным. Я решил навести справки и обратился в одну из районных прокуратур. Вот свеженькие факты. Инженер Б-ва, 29-ти лет, просила привлечь к уголовной ответственности инженера Р-кого, который пытался ее изнасиловать, но получил отпор. Проверка была недолгой. Без труда установили, что Б-ва и Р-кий несколько лет были близкими друзьями. От женитьбы Р-кий уклонился, время шло, появился жених реальный и перспективный — научный работник К. Незадолго до свадьбы научный работник застал невесту и ее бывшего друга в ситуации, которая отнюдь не свидетельствовала об их разрыве. Инженерша решила пожертвовать инженером, но обрести семейный очаг. Жертва не состоялась. Когда обвинение стало рассыпаться и исход следствия уже был предрешен, «потерпевшая» написала прокурору:
«Прошу прекратить расследование по моему заявлению… Оно было написано в состоянии нервного возбуждения, вызванного ссорой с К., который советовал мне обратиться в милицию».Как мило все кончилось — ко всеобщему удовольствию: Р-кий отделался легким испугом, К. благодушно махнул рукой на шалости юной подруги и отправился с нею в загс. Но не нарушен ли закон? Ведь преступление свершилось — донос был сделан. Донос заведомо ложный, продиктованный низменной, эгоистичной целью. Донос, сопряженный с обвинением в отвратительном преступлении, за которое грозила кара до семи лет лишения свободы, — ровно столько же, кстати, сколько положено и доносчикам, клевещущим на свои жертвы. Так почему же не торжествует законность? Как и Козюков, Б-ва письменно подтвердила, что об ответственности за лживое обвинение предупреждена. Расписка оказалась данью форме, не больше: за грозным предупреждением не наступило ни малейших последствий. И бывшую ткачиху Поварову следствие тоже решило простить. Поварова обвинила руководство цеха в хищении и приписках. Три тысячи рублей украли якобы у государства начальник цеха и технолог, а оказалось, что ничего не украдено. Ничего! Думаете, Поварова об этом не знала? Добросовестно заблуждалась? Была уверена, что совершено преступление, и как человек кристально чистой души не могла молчать? Да нет же, и она просто-напросто мстила. За то, что ей не спускали ее разгильдяйство и лень, нарушения трудовой дисциплины, неумение и нежелание работать. За то, что ее уволили и не пожелали принять обратно. В чем же все-таки дело? Почему лживый донос сплошь и рядом ничем доносчику не грозит? Почему с такой легкостью отваживаются прибегнуть к столь коварному способу расправы иные «герои»? Ведь знают же, что за это — тюрьма. А может быть, знают иное: что тюрьмы-то как раз и не будет? Почему Козюков и другие из той же компании не только не привлекались к ответственности, но даже вопрос об ответственности — какой бы то ни было — не ставился вовсе? Прокурор, надзиравший за «делом» Зайцева, на мой вопрос ответил не сразу. Он подыскивал нужное слово. — Это было нецелесообразно, — сказал наконец прокурор. — Нецелесообразно, — уверенно повторил он, и я понял, что слово показалось ему найденным точно. Оно звучит весомо, это зыбкое слово, в нем непререкаемость и металл. Но какой все же смысл вложен в него, какой критерий? Для кого, спросим так, нецелесообразно? Уж не считает ли кто-нибудь ложный донос деянием не слишком опасным? Ведь ясно, что преступление, за которое установлено наказание до семи лет лишения свободы, уже хотя бы по этому формальному признаку к числу не опасных для общества отнести невозможно. Нелишне, пожалуй, отметить и ту эволюцию, которую претерпело наше правосознание в этом вопросе: если кодекс, действовавший о 1926 по 1960 год, предусматривал за ложный донос максимум два года лишения свободы, то теперь «потолок» повышен более чем втрое! Так воплощены указания В. И. Ленина, который, ознакомившись с проектом декрета «о наказаниях за ложные доносы», предложил дополнить предусмотренные им санкции «мерой усиления». Усиления — именно так! Но — старая истина: мало принять закон, надо, чтобы он исполнялся. Ведь закон бездействующий, мало действующий, стыдливо молчащий если и не становится мертвой буквой, то во всяком случае теряет свою реальную силу. Бездействие закона разрушает веру в неотвратимость наказания за совершенное преступление, подвергает коррозии правопорядок, вносит в него элементы субъективизма. Хотя ложный донос причислен к преступлениям против правосудия, я думаю, его острие направлено прежде всего против личности. Не о том печется доносчик, чтобы вставить палки в колеса судебной колесницы, а о том, как бы побольней ударить по избранной им жертве. Большинство ложных доносов (62,9 %), свидетельствует журнал «Советская юстиция», совершались на почве мести (!), а 25,7 % — «из страха перед разоблачением собственного неправильного поведения». (Нет сомнения в том, что речь здесь идет о доносчицах типа Б-вой, стремящихся жестокой ценой купить непорочную репутацию.) Добавим еще две красноречивых цифры, почерпнутые из того же исследования: 63,2 % ложных доносов (почти две трети!) содержат фальшивые обвинения в тяжких преступлениях, «то есть направлены, как пишет журнал, на применение к невиновным самого сурового наказания», причем «по 36,7% таких заявлений (свыше одной трети! — А. В.) были возбуждены уголовные дела». Тем более странным кажется вывод, к которому приходит автор этого любопытного труда С. Юдушкин:
«Государство не заинтересовано в чрезмерном применении мер уголовного наказания, не ставит перед собой задачи привлечения к ответственности всех обратившихся в органы юстиции с ложным заявлением…»Вот уж, право, — начать за здравие, а кончить за упокой… Да как же это — «не заинтересовано»?! Если жертва заведомо ложно обвинена в тяжком преступлении, никаких иных мер наказания, кроме лишения свободы, притом на немалый срок, закон не предусмотрел. Не следует ли считать, что в прямом велении закона государственный интерес выражен лучше, точнее, бесспорнее, чем в произвольных и малоубедительных комментариях, подогнанных под практику, которая сама порой не в ладах с законом? Я, конечно, не думаю, что суровое наказание только и гарантирует успешность борьбы с преступностью. Совсем наоборот, я думаю, — не только и не столько… Но почему «антисуровость» с поразительной последовательностью проявляет себя именно в отношении таких преступников, снисходительность к которым особо опасна? Скажу честно: ни малейшего сочувствия, ни малейшего сострадания к доносчикам, ни малейшего желания войти в и х положение у меня нет. В чье хотите положение можно войти — даже убийца, случается, действует, как говаривали когда-то, в беспамятстве, в исступлении, не ведая, что творит. А доносчик — тот всегда ведает. Точно рассчитаны его ходы, обдумана цель, заготовлены доказательства, и свидетели, разумеется, тут как тут. Сценарий обычно сколочен плохо, он трещит и рвется по швам, но ведь все-таки он сколочен. И, как мы видели, вовсе не сразу он рвется по швам… Тем не менее, утверждает другой исследователь, судья М. Хабибулин, почти для 40 процентов лжедоносчиков (из тех, что были привлечены к уголовной ответственности) избраны меры наказания, которые ниже низшего предела, предусмотренного законом. А это, между прочим, допустимо лишь при и с к л ю ч и т е л ь н ы х обстоятельствах, специально установленных и мотивированно принятых во внимание судом. Как бы мы возмутились, если бы оказалось, что подобное снисхождение даровано почти половине хулиганов, насильников или воров… Но разве ложный донос — преступление менее опасное? Нравственный климат нашего общества способствует повсеместному утверждению уважительного, заботливого отношения к человеку, честности, требовательности к себе и к другим, доверия, сочетающегося со строгой ответственностью, духа настоящего товарищества. В этой атмосфере, определяющей нашу жизнь, ложный донос выглядит поистине дико. Оттого-то так опасна снисходительность к любому проявлению этого зла, так важна непримиримая борьба с ним всеми средствами, которые предоставил закон. Вернемся, однако, к истории, с которой начался этот очерк. Верно, дело прекращено, обвинения с директоре сняты. Но больше он уже не директор: склока, в которую его втянули, не прошла бесследно. Осталось пятнышко на репутации (как в известном анекдоте: то ли он украл, то ли у него украли, но что-то все-таки было…), остались раздоры, лихорадящие коллектив, осталась напряженность, мешающая воспитанию и учебе сотен юношей и девушек — будущих работников культурного фронта. И наверно, с сугубо деловой точки зрения освобождение директора от должности было мерой разумной. Ну, а с точки зрения нравственной? Какой урок морали извлекли из такого финала участники и очевидцы этой печальной истории? Ученики — в том числе: ведь все прошло перед их глазами. Оговорщик и его союзники по-прежнему в седлах: да, они не упрятали директора за решетку, но они лишили его «кресла» и довели до больничной койки. Когда-то, мальчишкой, он был вывезен из блокадного Ленинграда — добрая уральская земля приютила его, выкормила, выходила, отогрела. Годы спустя, окончив Ленинградскую консерваторию и выбирая место для работы по распределению, он, не задумываясь, назвал Урал. И город его детства снова душевно встретил молодого специалиста, помог проявить себя, вознаградил по заслугам его честный, нужный людям труд. Теперь, пострадав от навета, Зайцев не сетует, он стойко переносит то, что случилось, не ища виновных, но сурово взыскивая прежде всего с самого себя: где-то, выходит, и он оплошал, если судьба т а к к нему повернулась… Его право — не искать виновных. Значит ли это, что не должны их искать те, кому искать положено, — по долгу службы хотя бы? Но нет, по-прежнему лучезарно улыбается баянист Козюков, жаждет «правды» скрипач Матвеев, требуют «решительных мер» супруги Голяковы… Все как было… И даже хуже: клеветники победили, оклеветанный повержен, сотни людей, перед глазами которых прошла эта история, разуверились в том, что зло наказывается, как этого требуют нормы морали и нормы права. Снова подтвердилась непреложная истина: отступление от закона всегда сопровождается и потерями нравственными. Никогда еще не было, чтобы было иначе.
1974
«Все как было… И даже хуже…» К этому не слишком оптимистичному выводу я пришел, узнав о судьбе оболганного Николая Зайцева и о том, как «по-прежнему в седлах» самодовольно сидели клеветники. Так оно и было: написать иначе — значило погрешить против истины. Но теперь, когда, годы спустя, очерк с газетной страницы переместился в книгу, оставить его без постскриптума невозможно: ныне уже это не соответствует истине, ибо жизнь не стоит на месте и справедливость, хотя бы и позже, чем должно, всегда торжествует. Общественные организации, Министерство культуры республики, органы прокуратуры не оставили без внимания те факты, о которых рассказано в очерке. Без внимания и, естественно, без последствий… Давно не «в седлах» клеветники, давно вернулся к любимой работе педагог Зайцев, и люди, которые было разуверились в торжестве справедливости, убедились в обратном: справедливость — не звонкое слово из назидательной лекции, а норма наших дней, закон, по которому мы живем и жить будем.
У КРУТОГО ОБРЫВА
«Оперативным отрядом задержаны подростки Слугин В., Кузнецов В., Разинкин Б., которые хулиганили, избили мальчика. С подростками проведена беседа о недостойном поведении, после чего они отпущены домой»8 декабря. Слугин, рассердившись за что-то на преподавателя, бросил в него стул, потом — тяжелую вешалку. Колотил мебель, бранился. Был пьян. Хулигана пришлось связать. Позвонили в милицию и вытрезвитель, там ответили, что «подростков не берут». 25 декабря. Взломал чужой сарай, украл барана. В связи с амнистией уголовное дело о краже производством прекращено. 6 февраля. Затеял драку в школе. Разбил оконные стекла. 21 марта. Задержан в состоянии опьянения, хулиганил.(из записи в журнале дежурств).
«Проведена беседа, после чего отпущен»23 марта. Пришел «в гости» к своей знакомой, но ее отец предложил пьяному Слугину уйти. Слугин ударил его рукояткой ножа по голове, «причинил легкие телесные повреждения, не повлекшие вреда для здоровья». Поскольку ответственность за такие действия наступает с 16-ти лет, дело против Слугина производством прекращено. 26 марта. Будучи пьяным, набросился на охранника завода, где проходил производственную практику. Объявлен выговор. 27 марта. Избил нескольких человек, в том числе 44-летнего слесаря Купцова. Подошел к нему и ударил в спину. «Я думал, что он шутит, повернулся, чтобы узнать, в чем дело. Слугин ударил меня в лицо, потом стал кидаться камнями» (из показаний Купцова в суде). «Зачем ты избил Купцова и других?» — спросил потом Слугина судья. «Не знаю, — ответил Слугин, — просто так…» …В руке, повторяю, был нож, и он требовал действий. Возле школьной спортплощадки, куда Слугин вышел, бесцельно блуждая по улицам, он увидел женщину, которая пошатывалась, держа под мышкой бутылку вина. «На, отпей», — протянула бутылку Слугину. Он отпил, потом вытащил нож и ударил ее несколько раз в спину. («Двенадцать колотых ран… повреждения тяжкие, опасные для жизни» — из заключения экспертизы.) Женщина закричала. Слугин бросился бежать, на ходу вытирая лезвие ножа о брюки. На крыльце школы-интерната сидели несколько ребят. Он подбежал — его узнали. Его вообще в поселке все знали: местная знаменитость. Слугин снял с себя телогрейку, пиджак. «Это положи сюда, — скомандовал он, — это сюда… Подержи-ка нож… Дай мне свой пиджак…» Ему беспрекословно подчинились, хотя какое-то время он был безоружен. «Зачем тебе нож?» — наивно спросил один из парней. «Животы вспарывать», — спокойно ответил Слугин. Он вернулся домой, заглянул в окно, спросил: «Как отец?» — «Отдыхает, — шепотом ответила мать. — Кушать хочешь?» Пошла делать ужин, то и дело оглядываясь, не стукнет ли сзади. Слугин не стукнул — просто ушел. По дороге встретился Николай Бульбаков — паренек четырнадцати лет, сын дружинника Бульбакова, вслед которому часа два назад Слугин крикнул: «Наплачется он у меня…» Настало время привести в действие свою угрозу. «Пойдем со мной», — приказал Слугин Бульбакову. «Куда?» — «Увидишь…» Он вытащил из кармана нож, поиграл им, легонько пырнул Бульбакова в бок. Тот заплакал. «Чего ревешь? — удивился Слугин. — Я ж пошутил». Он повел его к спортплощадке — поглядеть, что стало с той женщиной, которая осталась на земле истекать кровью. Фонари не горели. Ощупью, цепляясь за растущие вдоль забора кусты, Слугин и Бульбаков обогнули площадку — какая-то сила неумолимо толкала их навстречу беде. В конце забора, у края небольшого обрывчика, Слугин наткнулся на спящего мужчину. Конечно, это было не лучшее место для сна. Но из песни слова не выкинешь… Двое рабочих — Л. и П. — решили проводить в отпуск третьего. «Провожали» на пустующей спортплощадке, укрывшись в кустах, — вином под названием «Южное». Тут же, в кустах, и уснули: один — на краю обрывчика, двое — возле забора. Сначала Слугин наткнулся на первого — это был Л. «Обыщи», — скомандовал Слугин. Бульбаков стал шарить по карманам. Л. шевельнулся. «Пни!» — раздался приказ. Пинки привели Л. в чувство. Без лишних слов Слугин пустил в ход нож. Неподалеку валялся тяжелый обломок бетона. С его помощью Слугин и Бульбаков несколькими ударами размозжили голову Л. Экспертиза обнаружила на его теле около пятидесяти ран. С двумя другими церемонились еще меньше. От подробностей, я думаю, читателя можно избавить. Вообще-то юриста трудно удивить описанием крови, но о деталях тройного убийства на окраине Челябинска без ужаса невозможно читать… Слугин и Бульбаков обыскали трупы, собрали трофеи: пару стоптанных туфель, разменную монету и пачку папирос. Туфли нашли потом в сарае Слугиных: они-то и позволили совершенное преступление квалифицировать как убийство из корыстных побуждений. Но — подождите, я забегаю вперед. До квалификации еще целые сутки. Пока что друзья-приятели расходятся по домам. Бульбаков успел заскочить к знакомым — узнать, чем закончился передававшийся из Москвы хоккейный матч. «Наши выиграли», — обрадовал он мать и отца: они ждали его, попивая чаек. Поужинал, преспокойно заснул. Утром мать едва добудилась его. Пошел в школу, резвился в перемену на школьном дворе: пригожий выдался день… Слугин тоже спал спокойно, но встал раньше. Натощак приложился к бутылочке и отправился посмотреть, как уносят на прикрытых простынями носилках его жертвы. Я знаю, какой вопрос беспокоит читателя, и отвечу сразу. Три психиатра высокой квалификации целый месяц в больничных условиях изучали личность Слугина, его здоровье и поведение. Они собрали данные о всей его жизни, наблюдали за ним, исследовали мельчайшие нюансы его психики. И пришли к выводу, что речь идет о человеке здоровом, отдающем отчет в своих действиях, вменяемом, если пользоваться научной терминологией, а значит, несущем всю полноту ответственности за содеянное. И Бульбаков, разумеется, тоже. Так выходит, спросите вы, это зверское убийство нескольких человек — оно что же, из-за пары туфель? Из-за пачки папирос? Из-за недопитой бутылки вина, которую Слугин забрал у женщины, нанеся ей двенадцать ножевых ран? Я и сам задаю себе тот же вопрос и тщетно ищу ответа. Столь же тщетно, как и судьи. «Бутылку вина, — сказал Слугину судья, — ты мог бы и так отобрать, не убивая. Ведь мог бы?» — «Мог», — улыбнулся Слугин, молодецки расправив плечи. «А зачем же ножом?.. Двенадцать раз…» — «Не знаю». «Не знаю», — твердили Слугин и Бульбаков, и я думаю, это не было ложью. Я думаю, они и правда не знали — зачем, и это куда страшнее, чем если бы знали. Ибо даже преступную логику поступков можно как-то предвидеть, а предвидя, предотвратить, но бессмысленную жестокость, одержимую злобу — как ее-то предвидеть? «Убили безо всякой причины» (многократно повторенные показания Бульбакова). «Просто так… Убили, и все… Не могу объяснить — почему…» (показания Слугина). Он не может, но мы-то должны. Почему аккуратный, чистенький Бульбаков («Незлобивый, откровенный, вежливый», — сказал о нем классный руководитель) способен поднять руку на человека, торопясь на трансляцию хоккейного матча? Что сделало зверем 15-летнего Слугина, который держал в страхе весь поселок — сотни взрослых людей, Слугина, который плевал на выговоры и разъяснительные беседы? Суд вынес обоим максимально возможный для несовершеннолетних приговор — самый суровый, который закон допускает: по десять лет лишения свободы каждому. И частное определение: если бы Слугин был своевременно изолирован (для этого были законные основания), погибшие остались бы живы. Но вопрос «зачем?» — главный вопрос в этом трагическом деле — все равно остается. Защита ходатайствовала о вызове в суд психолога, чтобы помог он раскрыть мотивы этого страшного преступления. Прокурор, однако, не согласился. «Нет тут сложных психологических моментов», — уверенно сказал он. Неужто действительно нет?..(из записи в журнале детской комнаты милиции).
1973
На вопрос, которым завершается очерк, попытались ответить люди разных профессий, возрастов, взглядов. Откликнулись юристы и педагоги, психологи и врачи. Уникальность, беспрецедентность истории, рассказанной в очерке, не помешала широте разговора: именно такие редчайшие и ошеломительные события привлекают общественное внимание и заостряют проблему. А проблема значительна, она отнюдь не сводится к вопросу: откуда взялись они, Слугин и Бульбаков, и как с ними поступить? Нет, она важнее и шире: можно ли предотвратить такие драмы и что каждый из нас должен сделать, чтобы очистить город, район, улицу от злобствующего хулиганья?
«Первое, что бросается в глаза, — начал свой комментарий кандидат юридических наук Ф. Бердичевский: — вопиющее попустительство, приведшее к забвению известного принципа неотвратимости наказания… Вместо того чтобы немедленно принять предусмотренные законом меры, правонарушителя развращают безнаказанностью… Совершенно ясно, что наказание, если бы оно неотвратимо последовало еще после первых «звоночков», предотвратило бы гибель трех человек».Да, э т и трое людей остались бы живы. Но ведь за прежние «доблести» Слугину — подростку пятнадцати лет — полагалось не так уж и много. Оказавшись вновь на свободе, каким бы он предстал перед нами: исправившимся или осатаневшим? Человеком, которого общество без опасений может принять в свои ряды, или злодеем, чья необъяснимая ярость обрушится не на те, так на другие, случайно подвернувшиеся ему под руку, жертвы? Слугина и Бульбакова признали виновными в убийстве из-за корысти. Корысть и вправду была велика: пара стоптанных туфель, разменная мелочь, сигареты и неполная бутылка вина. Три жизни (и увечье четвертого!) — такова цена этой корысти… Значит, что же — убивал «просто так»? Просто так ничего не бывает. Это не только расхожая «мудрость», итог нехитрых житейских наблюдений, но и строго научная истина, подтвержденная анализом и на этот раз. Когда юристы и психологи после публикации очерка «У крутого обрыва» внимательно исследовали дело, они обнаружили, что поступки Слугина «не лишены мотивов. Однако эти мотивы лежат не на виду, а глубоко запрятаны в отношении Слугина к окружающим людям, в содержании его собственных самооценок, в выработанных им привычках и в понимании своего места среди других людей». В семье Слугиных, как мы видели, царил культ насилия, и этот культ, вместе с культом спиртного, от отца перешел к сыну. И от матери — тоже… Но отец, в довершение ко всему, был еще и поселковым клоуном, да и мать — местным посмешищем, когда горланистой пьянчужкой шаталась по улицам и по рынку. Могло ли это не ранить самолюбие сына и не озлобить его? Всюду он был худшим из худших: последним учеником, бестолочью, лентяем, отпрыском алкоголиков и «рыжих». Никто не хотел иметь с ним дело, все отталкивали его, отпихивали, боялись. Самолюбие было задето, и этим не подавлялась, а лишь распалялась потребность «самоутвердиться», компенсируя свою «неполноценность» тем единственным способом, который был ему доступен, понятен, знаком: кулаком и ножом. Ему постоянно нужны были люди, аудитория, перед которой можно было «проявиться» — не умом, не трудом, не успехами, а страхом, который он наводил. Ему подчинялись, и это возвышало его в собственных глазах. Но объясняет ли нам этот анализ внутренних пружин, руководивших его поступками, почему все-таки Слугин у б и л? Именно в этот момент, а не в какой-то другой, именно этих людей, а не тех, именно так, а не как-то иначе? Вряд ли… Едва ли… Не следует ли в поисках причин этого необъяснимого для нас поступка обратиться к особенностям личности Слугина, к тем свойствам его характера, его темперамента, которые выделяют его из ряда других личностей, формируют его сложный психофизиологический и нравственный облик? Такой анализ не под силу юристу, не под силу и обычному педагогу, психологические познания которого не безграничны. Вот что пишет криминолог и судебный психолог М. Коченов, также подвергший анализу это уникальное дело:
«Границы нашего познания расширяются с каждым годом, а значит, увеличиваются и возможности активного и благотворного воздействия на личность. Психология давно уже превратилась в реальную силу, и ее надо смелее вводить в бой с преступностью — прежде всего для профилактики правонарушений несовершеннолетних. Настало, видимо, время для серьезного обсуждения возможности создания в той или иной форме практической психолого-педагогической службы, направленной на предупреждение преступности несовершеннолетних. Представим себе, что после одного из первых правонарушений Слугин попадает не на беседу к участковому уполномоченному, а на исследование к профессиональному психологу. Думаю, что многое было бы обнаружено своевременно, а значит — своевременно приняты меры. Не будет ничего зазорного и в том, если органы, от которых зависит выбор формы наказания подростка, обратятся за консультацией к специалистам в области психологии и педагогики. Между прочим, подобный опыт уже существует и в некоторых европейских социалистических странах. Разве преподаватели ГПТУ и даже — еще того раньше — учителя школы не могли обратить внимание на ту общественную опасность, которая таится в особенностях психики Слугина, в образе его жизни? Но они оказались неспособными вовремя предотвратить это зло. Зато если бы существовала надлежащая психологическая служба, такие вопросы решились бы профессионально и эффективно. Почти не сомневаюсь в том, что психологи, учитывая условия, в которых жил Слугин, и некоторые особенности его личности, порекомендовали бы изолировать его на некоторое время, а не предоставлять возможность «перевоспитываться» своими силами и средствами».Хотя М. Коченов и уклонился от четкого ответа на вопрос, что же послужило мотивом этого преступления (он признал лишь, что «дело Слугина и Бульбакова принадлежит к числу уникальных по фабуле и сложнейших в психологическом отношении»), им, и это самое главное, предложено конструктивное и весьма перспективное решение для профилактики наиболее опасных и тяжких преступлений, совершаемых людьми, подобными Слугину. Ведь для каждого очевидно, что сигналы «остерегайтесь меня» Слугин подавал не раз. Весь его облик, его поведение, отношение к окружающим, глухое равнодушие к чужой боли, «самоутверждаемость» насилием, потребность в агрессивных действиях, в причинении страданий, — все это было так очевидно, что требовалось даже не зоркое око педагога, а внимательный взгляд самого обыкновенного, профессионально далекого от педагогики, человека, чтобы понять реальную опасность, которую Слугин представляет для общества. Представляет и в том случае, если он п о к а еще и не совершил тяжкого деяния. Конечно, это не значит, что допустивший даже мелкое правонарушение подросток, в предвидении (или из опасения) того, что он когда-то совершит уже не мелкое, должен профилактики ради отправиться за решетку. Это лишь значит, что вопрос о его судьбе надо решать не только как вопрос юридический («за такое-то нарушение полагается то-то, а про все остальное знать не хотим»), но и как психолого-педагогический — с привлечением специалистов, мнением которых сейчас никто не интересуется, исходя из обычной дилетантской самонадеянности, будто в мотивах поведения, в душевном мире формирующегося человека разобраться под силу любому. (Сравним мнение о деле специалиста, кандидата психологических наук: «сложнейшее в психологическом отношении», и мнение прокурора: «нет тут сложных психологических моментов».) Профилактическая психологическая служба выявила бы своевременно не только явную общественную опасность агрессивного Слугина, но и скрытую — «тишайшего» Бульбакова, который, по мнению М. Коченова, «представляется… гораздо большей психологической загадкой, чем Слугин». Слабоволие таких парней (а их куда больше, чем «престижно самоутверждающихся», «сильных» личностей типа Слугина) легко превращает их в орудие преступления. Психологическая и нравственная неподготовленность к встрече со злом делает их нередко жертвами случая, который может обернуться трагедией. Необходимость своевременного выявления и компетентного воздействия на тех, кто в силу индивидуальных особенностей психики представляет повышенную опасность для окружающих, становится тем настоятельней, что наша наука все в большей мере теперь признает кримогенную роль биологических свойств личности, то есть данного не только обществом, средой, воспитанием, но еще и природой. Эти свойства, пишут авторы недавно изданного коллективного труда «Личность преступника» — виднейшие советские криминологи, «иногда играют роль условий, способствующих или затрудняющих правильное нравственное формирование личности. Учет этих условий должен состоять прежде всего в том, чтобы обеспечить дифференцированный подход к воспитанию людей, в особенности подростков и молодежи. Особенности возраста, пола, физического и психического развития, если они правильно учтены, при организации воспитательной работы, могут сыграть положительную роль в формировании личности. Если же воздействие социальной среды не учитывает этих особенностей и, более того, противоречит им, то неблагоприятный результат развития такой личности не должен нас удивлять. Мы не можем изменить некоторых биологических качеств людей, зато мы можем их использовать в положительном плане или нейтрализовать в результате продуманного социального воздействия». Как видим, анализ драмы, случившейся «у крутого обрыва», вывел нас на сложнейшие проблемы большой общественной важности, требующие для своего решения прежде всего компетентного научного подхода. Конечно, такой подход не сулит немедленных видимых результатов, но только он перспективен и эффективен, ибо опирается не на скороспелые суждения дилетантов, не на эмоциональный пафос, лишенный продуманной, деловой основы, не на ретивые «меры», создающие видимость решения проблем, но в действительности ничего не решающих, а на тщательно и многократно проверенные достижения современной науки. Достижения, решительно требующие внедрения их в жизнь, использования на практике, как это происходит во всех других областях нашей жизни — в экономике, народном хозяйстве, педагогике, медицине… Можно понять людей, страстно жаждущих избавления от хулиганья не в перспективе, а сегодня, сейчас, не откладывая в долгий ящик. Человек-созидатель, человек-труженик, отдающий все свои силы любимому делу, приумножающий богатства страны, строящий демократичное общество свободных и равных, не желает терпеть сор на родной земле, — он имеет право на покой в собственном доме, он не хочет дрожать от страха при виде шатающегося прохожего, бояться темноты, ждать удара из-за угла. Все это законное и правомерное желание. Не желание — требование! И не считаться с ним невозможно. Но нельзя не считаться и с реальностью — такой, какая она есть. Оттого, что победил справедливейший социальный строй, люди не стали святыми. Многообразны и многочисленны причины, толкающие того или иного члена нашего общества на антиобщественные поступки, борьба с этим нелегка и — посмотрим правде в глаза — завершится победой не завтра. Не завтра, но тем скорее, чем активнее будет каждый из нас и чем более точным будет выбор оружия, которое мы обратим против этого многовекового зла. В «Литературной газете» было опубликовано взволнованное письмо слесаря-наладчика Челябинского завода электромашин Г. Дементьева, жителя того самого рабочего поселка, где Слугин и Бульбаков совершили зверское преступление.
«Может быть, — писал он, — …рассуждения о «безмотивных поступках и самоутверждении подростков» полезны, вызывают у кого-то чисто теоретический интерес, но каково нам, жителям поселка, читать эти абстрактные изыскания! Мы ждем не общих рассуждений, а конкретных практических предложений, которые помогли бы решить эту острейшую проблему».Автора письма — повторю это снова, — как и всех, кого волнует «острейшая проблема» подростковой преступности, можно понять. Но ученые как раз и вносят «конкретные практические предложения», а вовсе не занимаются «абстрактными изысканиями», представляющими «чисто теоретический интерес». Внедрению научных исследований в практику всегда предшествует теоретическая разработка — это вовсе не значит, что она абстрактна и схоластична. Если ждешь от науки реальной, действенной помощи, нельзя относиться к ней свысока и требовать от нее невозможного: никто не сумеет дать сегодня рецепт, по которому столь ненавистные всем нам антиобщественные проявления разом исчезли бы, как по мановению волшебной палочки. Усилением наказания здесь поможешь меньше всего. На это прямо указывал В. И. Ленин: «…В борьбе с преступлением неизмеримо большее значение, чем применение отдельных наказаний, имеет изменение общественных и политических учреждений», то есть, иначе говоря, такая организационная перестройка, которая устраняет причины антисоциальных проявлений и способствует их профилактике. Предложение создать активно действующую психологическую службу, своевременно выявляющую потенциальных правонарушителей и рекомендующую наиболее эффективные меры воспитательного воздействия, как раз и имеет в виду такую принципиально важную, качественно новую организационную форму, позволяющую действенно бороться с преступностью на научной основе. Эту мысль поддержал и ленинградский ученый кандидат психологических наук Ф. Махов, успешно сочетающий научную разработку проблемы с экспериментальной проверкой полученных выводов на практике.
«От самодеятельности в профилактической работе с трудными подростками, — писал психолог, — надо наконец перейти к ее научной организации. Давно пора уже объединить разрозненные усилия комсомола, органов милиции, отделов народного образования, комиссий по делам несовершеннолетних в единую систему воспитательных мероприятий. Давно пора уже перестать делать основную ставку на энтузиастов, которых хватает максимум на год или два… В этом деле нужны научная основа, кадры, организация, которая вела бы всю работу не только по зову сердца, но и по долгу службы».Ф. Махов рекомендует и конкретную, вполне достижимую цель, которая должна стоять перед такой организацией, работающей «по долгу службы». Соглашаясь с тем, что преступления подростков подчас сопровождаются необычной жестокостью, Ф. Махов видит в этом «не свидетельство патологического садизма, а своеобразный «допинг» для чувств и ощущений, самое доступное средство возбуждения психики, извращенную реализацию потребности в нервной разрядке. Такая линия поведения в определенных ситуациях особенно характерна для людей с крайне низким уровнем культуры и укоренившимся пренебрежением к нормам морали… Переключить энергию подростка, его «агрессивность»… в иное, тоже активное, но социально полезное или хотя бы социально безвредное русло — вот важнейшая задача тех, кто работает с «трудными» подростками». Но где он, «переключатель»? Такой, чтобы повернул налево — хулиганство, повернул направо — трудовое соревнование (русло социально полезное) или спортивный азарт (русло социально безвредное)? Нет такого «переключателя». И не будет. Для столь желанного нам и действительно нужного «переключения» требуется огромная подготовительная работа. Терпение. Время. Конечно, решение подобной задачи — дело неизмеримо более трудное, чем какие-то немедленные милицейские меры по отношению к тому, кто совершил проступок. Но не надо «те» меры и «эти» противопоставлять друг другу: «или — или». Лучше иначе: «и — и». Охрана порядка, немедленное пресечение беспорядка — такие действия милиции предполагаются сами собой. Только не следует смотреть на них как на единственное и радикальное средство. Как на панацею. Традиционный вопрос «куда милиция смотрит?» используется часто как оправдание своего бездействия — по трусости ли, инертности или равнодушию, значения не имеет. Будь милиция еще многочисленней, будь еще выше ее профессиональные качества, будь еще безупречней добросовестность каждого ее работника, все равно она не может решить тех задач, которые должны решаться обществом в целом и отдельными коллективами — в частности.
«Нас не может не тревожить тот факт, — читаем в одной из статей, опубликованных «Литературной газетой», — что работающие подростки совершают в восемь раз больше правонарушений, чем подростки, обучающиеся в школах. Возникает вопрос: почему? Думается, что ежедневный контроль за школьниками со стороны учителя, большая степень занятости, более высокий уровень воспитания, более строгие материальные взаимоотношения с родителями дают в определенной мере ответ на этот сложный вопрос. Далее. Передо мной диаграмма уровня преступности по отраслям народного хозяйства. На самом неблагополучном фланге находятся предприятия, где наибольшая текучесть кадров, где нет хороших общежитий, плохо поставлена воспитательная работа, неудовлетворительно ведется борьба с пьянством. Уровень преступности среди лиц, занятых на таких предприятиях, в десять раз выше, чем на предприятиях, где труд более квалифицированный, где сложились прочные трудовые традиции…»Цифры красноречивы, и они еще раз свидетельствуют о том, как сложна, как неоднозначнапроблема, какое множество разнообразнейших факторов тут действует и как наивна попытка найти решение с помощью какой-то одной меры, кавалерийским наскоком, рубкой сплеча. Надо думать и действовать сообща, а из фактов, даже самых нетипичных, даже таких уникальных, как тот, что случился «у крутого обрыва», делать выводы. Деловые, практические, а значит — не лишенные оптимизма. Дело, активность, борьба всегда сопряжены с перспективой, всегда направлены на достижение поставленной цели, а брюзжание и нытье порождают уныние, ибо если они с чем и сопряжены, так только с бездействием и праздной болтовней.
ЗАТМЕНИЕ
«Александр Голубев был осужден за злостное хулиганство к 4 годам лишения свободы, но через 15 месяцев условно-досрочно освобожден. Его отец пытался выгородить сына, подключал для этого различных ответственных товарищей, но безуспешно. В то время Голубев-старший заведовал районной базой. Сейчас он переведен на более высокую должность, стал работником областного масштаба».Теперь дадим слово Ф. В. Новохижину:
«Когда я лежал с сотрясением мозга, ко мне приезжал следователь милиции. Он уверял меня, что Саня (то есть Голубев) в избиении не участвовал. Я отказался признать это, и следователь уехал. А через день или два приезжают родители «Сани» (и адрес знают, и по имени-отчеству называют) с просьбой простить их сына, уверяют, что заплатят мне за болезнь, плачут: если сына осудят, то к новому сроку суд приплюсует тот, который Саня «недосидел» по старому. Ушли они от меня ни с чем, но кто-то за моей спиной, видимо, постарался, и «Саня» из дела исчез, а вместо него появился Орлов. Этот Орлов сначала категорически отрицал свое участие в избиении, а потом с той же категоричностью стал настаивать, что именно он был зачинщиком. Секрет, я думаю, прост: Орлов — несовершеннолетний, ранее не судим… В итоге все избавились от ответственности: и Грызухин, и Голубев, и Орлов… Поверьте, мне иногда кажется — уже не сам ли я себя избил в тот злополучный день?»Это — Голубев… А Грызухин? Заступников у него, повторяю снова, вроде бы нет. Пьянством, дебошами, паразитизмом (Грызухин нигде не работает, промышляет браконьерством — тем и живет) он едва ли служит городу украшением. Маялись с ним и маются, а терпят. Почему? Гипотез может быть несколько, я попробую высказать только одну. Не столкнулись ли мы с феноменом процентомании, которая зло — всюду, а в той сфере, о которой идет разговор, зло вдвойне? Процент для статистики, объективно фиксирующей существующую реальность, — дело полезное и необходимое. Процент для отчетности, «украшающей» действительность, — дело отнюдь не полезное. Оно сродни пресловутым припискам, создающим ложную картину производственного успеха. Искусственная отчетность, создающая иллюзию благополучия, была решительно осуждена несколько лет назад Генеральным Прокурором СССР, обязавшим всех прокуроров принимать решительные — и притом крутые! — меры «при установлении фактов сокрытия преступлений от учета», в случае нарушения законности, «при регистрации уголовных проявлений… и сообщений о совершенных преступлениях». Проблема эта, как видим, — общественно важная, борьба с очковтирателями и на этом фронте идет полным ходом, однако с рецидивами опасного «украшательства» приходится сталкиваться до сих пор. Конечно, выглядеть районом с невысоким «индексом» преступности всегда приятно. Выглядеть? Или быть? Чтобы быть, надо искоренять преступность, а это куда труднее, чем закрыть глаза на поступки грызухиных и внести желанные коррективы в досадно неподдающийся «индекс». Все мы заинтересованы в сокращении преступности, но не на бумаге — в действительности. Оттого что преступления Грызухина не завершились судебным приговором, правонарушений в районе не стало меньше. Меньше стал только «процент». А правонарушений — больше. Ибо давно известно, что безнаказанность развращает. Лишь случайно оступившийся человек, духовно и нравственно зрелый, прощение воспринимает как доверие, как моральный кредит, который нужно оправдать всей своей жизнью. Не в суровости воспитательный смысл наказания — в его неотвратимости. Мы часто повторяем эти слова, но всегда ли воплощаем их в жизни? Разве отчет по процентам, стремление выпрямить «кривую», чтобы выглядеть лучше в сводках по области, по району, — разве не мешает все это воплощению принципа неотвратимости, который — доказано практикой! — служит надежным профилактическим средством? Если только проводится неукоснительно. Всегда. Везде. Когда Новохижин давал показания в милиции, он точно воспроизвел все детали преступления, опознал хулиганов, рассказал, кто ударил первым, кто набросился потом. В прокуратуре сообщил еще больше подробностей: память непрерывно возвращала его к переживаниям августовского дня, восстанавливая минуту за минутой горестный тот эпизод, который стал для него событием, потрясшим душу. Незабываемым до конца дней… «Почему вы так хорошо все помните? — недоверчиво спросили его. — Ведь вас избили, и вы потеряли сознание. Вот и сами вы говорите: нашло на меня словно з а т м е н и е, от удара я не сразу очнулся…» Художник Новохижин употребил это слово иносказательно, от привычки мыслить образами и образами воссоздавать картины жизни на полотне. А вот на тех, кто заставил его, пострадавшего от хулиганов, стыдливо оправдываться, жалостливо доказывать, безуспешно просить о защите своих прав, — не нашло ли на них, именно на них, загадочное з а т м е н и е, сковавшее их руки и не позволившее исполнить свой прямой служебный долг? Затмение без всяких иносказаний… И вот ведь что примечательно: «затмилась» почему-то та часть сознания, которая направлена на охрану интересов закона, интересов общества, интересов личности — ее жизни, здоровья и чести. А та, что печется о дутых ведомственных успехах, — она не затмилась. Напротив, она действовала весьма активно и целеустремленно. Активность эта заслуживает не только упрека…
1974
И она заслужила не только упрека… По указанию заместителя прокурора РСФСР В. В. Найденова было проведено тщательное и всестороннее следствие, подтвердившее полностью все, что рассказано в очерке. По приговору суда Голубев и Грызухин отправились на три с половиной года в места не столь отдаленные. Понесли наказание и другие участники драки. Прокурор, следователь, работники милиции, приложившие руки к тому, чтобы незаконно замять дело, получили строгие взыскания в партийном и дисциплинарном порядке. Некоторые должностные лица лишились своих постов. Вполне естественный финал, в котором проявился закон нашей жизни: справедливость в конце концов торжествует, какие бы препятствия ни встретились на ее пути. Но проблема «красивой» отчетности, искажающей подлинную картину и невольно (а в сущности — вольно!) покровительствующей преступникам, к сожалению, не исчезла: ее полному искоренению мешают, по крайней мере, два обстоятельства, которые настоятельно требуют общественного внимания. Человек духовно зрелый, нравственно цельный, сознающий всю меру ответственности, которая возложена на него, — не только перед начальником таким-то и перед инстанцией такой-то, но перед всем нашим обществом — такой человек никогда не позволит себе потворствовать грабителям и хулиганам ради лживой информации «наверх» о полном или хотя бы частичном благополучии во вверенном ему районе. Хвала всегда приятней хулы, но для того, кто закален идейно и нравственно, хвала не покупается ложью, а хула не страшна, если он достойно и честно делает свое дело. Награда за вранье — в виде милостивого ли кивка, упоминания среди «лучших», а то и служебного повышения — не только несправедлива, она — постыдна, ибо цена ее — боль и слезы людей, чью жизнь, чей покой, чье достоинство ему поручено охранять. Разумеется, для того, чтобы т а к относиться к своему делу, надо быть действительно человеком чести и принципов. Ощущать себя не «маленьким винтиком», страшащимся начальственного разноса, а истинным представителем власти, воплощающим в себе — зримо и действенно — наш строй, нашу политическую систему, наши идеалы, из которых первый и главный — самый первый и самый главный — звучит так: «Все — для человека, все — для его блага!» Но правды ради надо признать, что магия цифр, которой порою мы так жестоко подвластны, ставит даже и сильного духом, верного принципам человека перед слишком большим испытанием. Ибо с него же, с одного и того же товарища, занимающего в районе милицейский или прокурорский пост, равно спрашивают и за раскрываемость преступления, и за их профилактику. А порой — и не равно! За то, что преступник найден и получил по заслугам, особых лавров не полагается: это будни милиции, прямой служебный долг ее сотрудников. Но за «индекс», который вдруг подскочил, испортив радужную картину районных успехов, ответ придется держать. Легко ли устоять от соблазна этот «индекс» подправить, если его рост и его падение от тебя же зависят? Оттого-то в иных районах преступность резко «падает» в конце квартала (в конце года — тем более!), чтобы напомнить о себе в начале следующего: это ревнители чистоты отчета решили повременить с регистрацией так некстати случившихся «фактов», грозящих внести нежеланные коррективы в уже подведенный баланс. Или — другой вариант все той же магии цифр: ничтожный интервал между началом розыска преступника и победным концом. Это вовсе не обязательно значит, что злоумышленника на самом деле искали всего только день или час. Сплошь и рядом это значит другое: доподлинно известное, реально совершенное преступление нигде не фиксировалось, дело не возбуждалось, пока успех розыска не стал очевидным. И это вовсе не потому, что кому-то хотелось избавить преступников от заслуженной кары. Нет, хотелось другого: не попасть в печальный реестр нераскрытых дел. В погоне за дутыми процентами страдает дело: теряется драгоценное время, исчезают важнейшие улики, преступник, почувствовав безнаказанность, совершает новое преступление. Но цифра, обретя власть, живет отдельной, самостоятельной жизнью, заставляя так себя почитать, что это порой приводит к курьезам. Мне показали недавно сравнительную табличку состояния преступности в двух соседних районах одной из союзных республик. В первом преступность снизилась по сравнению с предыдущим кварталом почти на десять процентов, во втором — выросла на пятьдесят! Легко представить себе, как склоняли этот «второй» на собраниях, на конференциях, как прорабатывали виновных, проглядевших, упустивших и допустивших, как подчеркивали красным карандашом эту лезущую в глаза крамольную цифру: пятьдесят процентов — шутка ли, право?! А за процентами — вот что: в первом районе с пятидесяти одного совершенного преступления «кривая» сползла до сорока четырех, во втором же — поднялась с двух до трех. Но никто не сравнивал сорок четыре с тремя: феномен процентомании гнул свое, сшибая лбами минус десять с плюс пятьдесят. Я не знаю по правде, какой вид отчетности предложить вместо этой опостылевшей и небезопасной цифири. Статистика, конечно, необходима, без нее современное общество развиваться не может. Но колонки и столбики цифр выстраивает все-таки человек — для того, чтобы лучше познать действительность, чтобы увидеть не миф, а реальность, чтобы проценты сделали нас мудрее и зорче, а не слепили глаза. Говорят, цифры холодны и бесстрастны. Мы видим, что это не так. В них не только пафос и страсть, в них — сила, способная и мобилизовать на борьбу со злом, и отвлечь внимание от проблем подлинных ради проблем мнимых. Дело не в цифре — в том, что с т о и т за нею, что мы в и д и м за нею, как используем ее на благо людей. Грызухин и Голубев осуждены — забота местного начальства о красе статистической рубрики им все же не помогла. Но есть ли гарантия, что где-то, кто-то, по ком плачет скамья подсудимых, не ходит заносчивым гоголем, уповая на цифру, торжествующе возомнившую, что она-то и есть — кум королю?!
БАНЯ
Когда учреждению или организации выделяют участок, всегда оговаривают, для чего он дается. На какой срок. Но руководители пятого стройтреста, став «хозяевами» земли, почему-то решили, что они — хозяева без кавычек. Что не для студентов им дали этот участок, а для них же самих. Не на пять только лет, а навечно. И что делать они могут на этой земле все что хотят. А хотели они не так уж и мало. Впрочем, не так уж и много: пожить в свое удовольствие, с комфортом, с размахом, душой отдохнуть и телом, благо место чудесное, пейзаж — дух замирает, а возможностей «наладить быт» сколько угодно: и денег полно (государственных, разумеется), и материалы без всяких ограничений, и рабочие руки. Отдать только приказ — умельцы и мастера исполнят любую их прихоть, искренне полагая, что делают полезное, нужное дело. Откуда им знать, что их обманули и заставили строить «не то»?.. И действительно — на территории студгородка выросло совершенно «не то», Неподалеку от палаток и бараков, где по-прежнему, ни на что не жалуясь, ничего не требуя, летом жили студенты, с неслыханной быстротой вознесся солидный каменный дом со всеми удобствами — для отвода глаз ему дали скучное имя «профилакторий». Комфортабельные квартиры с видом на Волгу пять дней в неделю стояли запертыми на замок, дожидаясь хозяев. Те приезжали по субботам и воскресеньям, заряжались здоровьем, созерцали природу под вакхальные напевы и звон граненых стаканов (хрустальных не завезли). И опять-таки профилактики ради шли вечером в «финскую баньку», которая по всем документам считалась студенческим санпропускником. Говорят, нелепые эти названия — «профилакторий», «санпропускник» — доставляли гулякам особенно много веселья. Было поистине что-то забавное в контрасте вывески и интерьера — «формы» и «содержания»… Контраст был особенно разителен для непосвященных — сюрприз, которым хозяева угощали гостей, обошелся государству в несколько сот тысяч рублей. Именно так: в несколько сот тысяч! Когда прокуратура подсчитала веселые эти убытки, оказалось: только «профилакторий» стоил без малого двести тысяч. Да еще «банька» — пятнадцать. А расходы, туманно названные «другими», составили почти полтораста…
«Фактически палаточный студенческий лагерь, — было сказано в обвинительном заключении, — постепенно превращался в курортную зону для руководства стройтреста и почетных гостей, причем впоследствии этот лагерь уже полуофициально стал именоваться в тресте «базой отдыха руководящего состава»…Бывший управляющий стройтрестом Гущин пришел ко мне во время перерыва судебного заседания — безупречно одетый, элегантный мужчина, светловолосый и голубоглазый, с чуть застенчивой, милой улыбкой. Идет процесс, но он не под стражей, он даже успевает забежать на работу, отдать нужные распоряжения, а потом точно к сроку явиться в суд, занять место на скамье подсудимых в первом ряду, давать показания, нервно поглядывая на часы: его ждут на стройке, надо поспеть хоть на полчаса, хоть на час, и он поспевает, поздно вечером, но поспевает. И так каждый день, потому что он горит на работе, любит свое дело и живет только им. Вот и сейчас, если чем-нибудь он недоволен, то, пожалуй, одним: дело стоит, а ему приходится объясняться со мной, в сотый раз повторяя, как облыжно он оклеветан только за то, что делал добро. В нем угадывается незаурядность, и верно, все говорят, что это талантливый, опытный инженер. Работал раньше в Карелии, сменил множество должностей, никак не мог ужиться с начальством. Хотелось размаха! Хотелось места, достойного его дарования. Друзья помогли ему, представили в лучшем виде. И вот он пробился сюда, на огромную стройку, занял пост, и дела пошли хорошо, ему помогали, а он скромно пожинал успехи и лавры и старался, старался, старался, чтобы оправдать надежды, не подвести. Он любил выступать «перед народом» — слегка похвастаться демократизмом, щегольнуть знанием рабочих нужд, посулить золотые горы. «Будем трудиться, — говорил он, — чтобы создать рабочим хорошие бытовые условия. Я бы с радостью дал всем по отдельной квартире. Но не хватает!» И ведь правда: квартир не хватает. И все же кому мог, тому давал. Щедро и безотказно. Своему шоферу — трехкомнатную и сверх того комнату. Своему управдому — двухкомнатную (кроме отдельного особняка). Своему ближайшему сотруднику Алексееву, о котором речь впереди, — тоже двухкомнатную — без очереди и даже без ордера исполкома. Квартир не хватает, и все же еще две из числа тех, что были выделены для рабочих, решили превратить в трестовскую гостиницу. Оборудовали дорогой мебелью. Снабдили посудой. Гости не заставили себя ждать. Только были это почему-то вовсе не приезжие специалисты, а опять же трестовское начальство и ближайшие их сотрудники. Здесь вкушали и выпивали. Предавались любовным утехам. Отдыхали от забот. А потом отправлялись в «профилакторий», в «баньку», устланную коврами, на уютный песчаный пляж. За два года от постояльцев самодельной гостиницы поступило в кассу лишь три рубля. Зато на ее содержание трест израсходовал свыше шестисот. Стоимость вин и закусок в эту сумму не включена. Подсчитать такие расходы не удалось, хотя известно доподлинно: на застолья никто не израсходовал ни единой своей копейки.
— Как вы думаете, — Гущин пытливо заглядывает мне в глаза, — я совсем погорел или есть еще небольшая надежда? Небольшая надежда, думаю, есть: он является в суд, на скамью подсудимых не арестантом, а заместителем главного инженера стройтреста (понижение не очень-то ощутимое) и виновным себя отнюдь не считает. Он всегда казался себе личностью сильной. И значит — неуязвимой. «Нужного человека» никто в обиду не даст. Да и что, в самом деле, он себе позволял? Попариться в баньке, прошвырнуться по Волге на катере, съесть уху из свежей стерлядки? Разве не имеет на это права человек такого масштаба? Разве «не заслужил»? Он ищет сочувствия, ждет, что я пойму, поддержу. Но я не поддерживаю, и он выкидывает главную карту: — Я ведь все же не Еремеев…Из показаний свидетеля Филимонова К. И.
«Меня приняли на работу в стройтрест № 5 сторожем, но предупредили, что моя задача — только ловить рыбу, потому что управляющий Гущин любит свежую стерлядь… Я согласился, по указанию начальства браконьерски ловил рыбу сетью и ежедневно сдавал Алексееву, за что каждый месяц получал в управлении зарплату. Приезжали Гущин, его заместитель Баранов с женами, катались на лыжах, ходили в баню, и из выловленной мною рыбы работавшие на базе сотрудники им варили уху».Из служебной характеристики
«Гущин Александр Петрович… зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом, грамотным инженером, волевым руководителем… Отзывчив к просьбам подчиненных, в быту скромен, морально устойчив…»
Еремеев сидит не в первом ряду, а за барьером, под конвоем, без тонкой бородки, про которую я так много наслышан. Говорят, она придавала его худому красивому лицу выражение усталости и задумчивости. Говорят еще, что женщины были от него без ума и что гордился он этим едва ли не больше, чем своим продвижением по служебной лестнице. В обществе «соратников» по скамье подсудимых ему не очень уютно, он требовал, чтобы его от них отделили: «Культурному человеку не место рядом с этой сомнительной публикой». Вообще-то не место, но что делать, если «культурный человек» именно с «этой публикой» крепко связал свою судьбу? Когда-то он рос скромным, застенчивым пареньком в безотцовой семье. Мать — рассыльный курьер — выбивалась из сил, чтобы поставить на ноги сына и дочь. Миша не роптал, никому не завидовал, учился, играл на тромбоне и флейте, был смышленым мальчишкой, жадно рвущимся к знаниям. Он взял все, что дает наше общество любому, кто хочет учиться, проявить себя, — и диплом получил, и работу. С помощью институтских друзей устроился на крупнейшую стройку, где стал одним из ведущих руководителей — человеком, которого знал весь город. Еще в Пскове, начинающим инженером, он нашел для себя подходящий пример. Была у них в управлении комната, где поселяли командированных. На небольшую сравнительно стройку приезжало не слишком-то много гостей, так что комната пустовала. Щедрый начальник «жил сам» и «давал жить» другим. Ключ доставался и Еремееву. Теперь, став главным инженером, Еремеев решил использовать опыт. Но опять же — с размахом. На широкую ногу. Не комната будет — квартира. Не одна — две. И прибрежная резиденция — подальше от любопытных. Разный там инвентарь: катера и моторки. Стильная мебель. Интерьер, чтобы радовал глаз. Баня. Музыка. И вино. Проект «резиденции» создаст выписанный из Карелии «ценнейший» специалист. («Общие затраты на строительство «санпропускника», которым студенты никогда не пользовались и который был предназначен для личных нужд небольшой группы работников треста, составили 13 973 рубля…» — так будет написано потом в обвинительном заключении.) Об интерьере позаботится художник — его оформят как маляра. («Излишества при самовольном строительстве «санпропускника» по типу «финская баня» привели к значительному перерасходу денежных средств, в частности, отделка под красное дерево и роспись выжиганием обошлась в 1773 рубля…» — из того же документа.) Но должен же кто-то поддерживать все это хозяйство: обеспечить тепло и уют, пар и стол! Да и без женщин весь интерьер становится пресным и скучным!.. Условие было такое: в «обслугу» брать только верных и преданных, готовых на все, чтобы ублажить «хозяев». Сформировать команду «обслуги» доверили «самому» Алексееву — мастеру спорта по самбо. Знаменитый самбист работал инструктором в «Спартаке», но метил в большие начальники. И он им стал: Гущин и Еремеев сделали его — ни много ни мало — инженером стройтреста. Пройдет время, и тот же Гущин — тогда еще не обвиняемый! — подпишет Алексееву — уже обвиняемому! — такую характеристику: «За период работы в тресте замечаний по работе не имел, с возложенными на него обязанностями справлялся…» Какие же обязанности были возложены на этого «инженера» без образования, который вряд ли мог отличить рубанок от топора? Штат электриков и монтеров, сторожей и завхозов, столяров и механиков мастер по самбо подобрал из личных друзей: все это были тоже мастера спорта, или кандидаты в мастера, или, на самый худой конец, кандидаты в кандидаты…
«Еремеев велел, — рассказывал потом на суде один из «спортсменов», подсудимый Садович, — чтобы в квартирах, которые он называл «конспиративными», и в бане был уют. Приказал постелить ковры… Требовал, чтобы всегда были запасы продуктов и выпивки… В зимнее время баню надо было топить каждый день, потому что Еремеев мог нагрянуть в любой момент, и к его приходу все должно быть готово… Он нас разносил в пух и прах, если мы не обеспечивали ему все удовольствия… «Хозяек» в баню требовал от нас только самых красивых…»Таких, как Садович, на «базе» оказалось 17 человек! Они топили баню, убирали за разгульными «дорогими гостями», наводили уют в «конспиративных» квартирах, расчищали дорожки от снега и скалывали лед со ступенек, варили уху. Но главное — в «целом» служили «шефу». Были его телохранителями, снабженцами и денщиками. А их шеф служил своему шефу, и за всю эту верную службу бухгалтерия треста не скупясь платила сполна. Платила за то, что самбисты никого не подпускали к причалу и к бане. За то, что спускали собак на «чужих», если те невзначай приближались к «запретной зоне». За радушную встречу купальщиков и за вовремя поданный разомлевшему гостю махровый халат. Все это были ребята, которые совсем недавно застенчиво и робко входили в жизнь. Вот один из них — Трофимов: работал на заводе «Чувашкабель», осваивал премудрости судовой техники, мечтал податься на флот. Алексеев был его тренером в школе самбистов — он-то и сделал своего ученика «электриком высоковольтной службы», а на самом деле — мальчишкой на побегушках.
Как он пополнял свои сбережения, неизвестно. Но известно доподлинно, что из таких вот «небольших» зарплат составилась сумма в 11 800 рублей, которая была выплачена за счет треста семнадцати «самбистам», ублажавшим своих «хозяев». И сами «самбисты» не очень-то жались в расходах. Приведу лишь одну цифру: для отопления бани, которой, как мы помним, пользовались только руководители треста и их гости, спортсмены ухлопали — с благословения «высокого» руководства — фондового строительного материала на 900 рублей! Связанная круговой порукой «обслуга» и ее «дорогие гости» какое-то время могли скрывать свои приключения, шантажируя каждого, кто пробовал вывести их на чистую воду. Когда, к примеру, работник треста И. П. Тореев — человек честный и смелый — отважился вскрыть тайны баньки, преступники сразу же всполошились и приняли меры: в дальнюю командировку в город, где раньше работал Тореев, на государственный, разумеется, счет, срочно отправился один из купальщиков с важнейшим заданием: отыскать против автора «компрометирующий материал». Может, и сам занимался он «чем-то таким», может, удастся под угрозой разоблачений заставить его замолчать… Дошли до того, что попробовали обвинить его в несуществующих прегрешениях и даже уволили с работы. Но Калининский райком КПСС дал отпор зажимщикам критики: на работе Тореев был восстановлен, а сигнал честного коммуниста стал основанием для проверки. Незаконные махинации со строительством бани и загородных покоев привлекли внимание горисполкома. Банк отказался финансировать часть произведенных работ. Назревал скандал. Разобраться в неблаговидных делах руководства стройтреста поручили начальнику управления капитального строительства и главному архитектору города В. И. Коваленко.Из дневников подсудимого Трофимова
15.X.1974 г. Большую часть дня бездельничал. Настроение паршивое. 16.X.1974 г. Сегодня поработали чуть больше, чем вчера, но только до обеда. Потом сачковали. 25.X.1974 г. Ничего не делали, а после обеда потопали домой. 26.X.1974 г. На работу пошел поздно. Куда торопиться? Делать нечего. 29.X.1974 г. На базе ничего не делали, после обеда ушел домой. 3.XII.1974 г. Как и всю прошлую неделю, на работе ничего не делал. 13.XII.1974 г. Сегодня получка. Мне выдали 191 руб. с копейками. Это, конечно, мало, но лучше, чем ничего. 17.XII.1974 г. На работе делать нечего. 30.XII.1974 г. Не ходил на работу целую неделю… Это был год несбывшихся надежд… 13.I.1975 г. Получил всего только 158 руб. 95 коп. Как же пополнить свои сбережения?
Но не только от местных «контролеров» зависела судьба уютной баньки, ее банщиков и купальщиков. И для «санпропускника», и для «профилактория» существуют государственные стандарты, существуют типовые проекты, типовая смета. А тут — что ни объект, то отступление от нормы. Кто-то должен их был узаконить: без утверждения индивидуальных проектов банк не выдал бы ни рубля. Проектантов искали недолго. В одном крупном промышленном центре, за многие сотни километров от Чебоксар, есть институт — один изкрупнейших в стране. К строительству Чебоксарского тракторного имеет самое прямое, самое близкое отношение: его труд, его творческую фантазию мы видим в корпусах гигантских цехов, которые воздвигаются сейчас на Волге. Стоило ли искать кого-то «на стороне», чтобы «сочинить» сущий пустяк: баньку, дачку, причал?.. Главный инженер проекта Л. Ф. Масленко бывал по служебным делам в Чебоксарах неоднократно. Он охотно согласился помочь тресту в застройке «студенческого городка». Помочь скромным трудом и печатью своего института. Оно и понятно: с руководством треста у Масленко установились отношения очень теплые. Не только служебные, но и дружеские. Встречались домами. И в баньке встретились тоже. Встреча дала желанные результаты.Из беседы архитектора В. И. Коваленко с автором этого очерка
«Получив указание исполкома, я тут же поехал в трест. Главный инженер Еремеев показал мне те объекты, которые обсуждались на исполкоме, и я увидел множество юридических и финансовых нарушений, отступлений от технической документации и т. д. Еремеев предложил мне помыться в баньке, но я отказался… На исполкоме я доложил объективно, резко критиковал руководство треста. Но Еремеев заверил, что все будет улажено как полагается. Ему дали срок для исправлений… Через несколько дней ко мне пришел Еремеев, завел разговор, что надо, мол, сгладить впечатление от решения, урегулировать вопрос «по-хорошему». «Разве можно так, сплеча, — говорил он, — очень уж ты строго нас вздернул». И снова пригласил меня в баньку… В субботу я только вернулся с рыбалки — подкатывает еремеевская персональная «Волга»: банька, оказывается, уже истоплена… Ну, я поехал, стол бы накрыт, встретила нас приятная молодая женщина, назвалась хозяйкой… Мы помылись в баньке, «поддали» хорошенько. Я опьянел и остался на ночь вместе с хозяйкой. Еремеев ставил вопрос о том, чтобы замять историю с незаконной стройкой, и еще о том, чтобы расширить отведенный для студенческого городка земельный участок. Они хотели там что-то строить для руководства, не знаю точно, что именно… Понимаю, что поступил непорядочно, не устоял…»
«В результате проведенных мероприятий, — деловито докладывал суду Еремеев, — нам удалось через Масленко списать некоторые «хвосты». От него многое зависело. Мы его напоили, и он, не читая, подмахнул несколько нужных бумаг».В судебное заседание, несмотря на многократные вызовы, Масленко не явился — сослался на недомогание и на занятость. Когда Еремеев вызывал его по более приятным делам, и время у него находилось, и здоровье. Следователю он признался с мужественной прямотой:
«В Чебоксарах руководство треста принимало меня очень радушно… Жил я бесплатно на трестовской квартире, устраивали мне баню несколько раз. Там всегда бывали женщины, с которыми я оставался… Я не знал, что их предварительно шантажировали и заставляли остаться со мной под угрозой насилия…»Думаю, теперь понятно, почему какое-то время преступникам удавалось благоденствовать вдали от правосудия: контролеры и ревизоры, став «дорогими гостями», сами были заинтересованы в том, чтобы не слишком шуметь. И они не шумели, они «дружили домами», за государственный счет предаваясь той жизни, которая казалась им не только «сладкой», но еще и престижной…
Дело огромное, многотомное. На скамье подсудимых — тринадцать человек. Из руководства — трое: Гущин, Еремеев и Баранов. Остальные — «обслуга»: банщики, лодочники, истопники, повара, швейцары, которые числились монтерами, завхозами, слесарями. И даже инженерами, как Алексеев, который привел сюда, кстати сказать, на дармовые хлеба всю семью: мать, брата, жену; каждому нашлась «непыльная работенка». Трое уселись на скамью подсудимых, гордо привинтив к пиджакам значки мастеров спорта: Алексеев, Пустынов, Самарцев. Впрочем, кто их знает, что это за мастера!.. В дневнике Трофимова есть такая забавная запись:Из служебных характеристик
«Еремеев М. А. …был требовательным к себе и подчиненным. Морально устойчив… Много внимания уделяет подбору, расстановке и воспитанию кадров, созданию и сплочению коллектива строителей». «Коваленко В. И. …инициативный, трудолюбивый работник… Отличается принципиальностью и высокими моральными качествами… В быту скромен…» «Масленко Л. Ф. …Окончил два высших учебных заведения… Дисциплинирован, добросовестно выполняет свои обязанности… Морально устойчив, отклонений от норм поведения не было…»
«3.I.1975 г. Я тоже мог бы стать мастером спорта… Шеф сказал: давай участвуй в соревнованиях. «Чтобы провалиться?» — спросил я. Он назвал меня лопухом: судьи свои, борцы лягут, когда надо».Да, дело огромное, многотомное, обнажившее в своей неприглядности ту «сладкую жизнь», ради которой несколько жалких перерожденцев были готовы на все. Как ни силились крохотные «князьки» собаками и сторожами оградить свои забавы от постороннего глаза, расплата все равно была неизбежной… Я назвал их перерожденцами, главных «героев» процесса, но не уверен, что нашел точное слово. В самом ли деле они некогда были иными, в самом ли деле их что-то «испортило», надломило и развратило? Они рвались к «масштабной» работе, пробивали себе дорогу с помощью связей, демагогии, лести. Но зачем рвались? Для чего? Для того ли, чтобы раскрыть свой талант, поставить на службу делу свои знания и способности, приумножать богатства народа? Или для того, чтобы пожить в свое удовольствие, соря государственными деньгами и прикрывая свои преступления разглагольствованиями о «пользе дела»? Перемещаясь из «кресла» в «кресло», они поднимались довольно быстро по лестнице, которую называют служебной. Ну, а как — по идейной? По нравственной? Сопровождался ли рост карьерный ростом духовным? Кто они были в сущности — люди, призванные не только руководить строительством, но и воспитывать огромный рабочий коллектив, быть для него образцом идейной зрелости и нравственной чистоты? Разве не говорит ничего об их убогом духовном мирке хотя бы сам набор «развлечений», к которым они рвались, презрев все нормы морали и права? Вот я и думаю: они к этому скатились или к этому стремились с самого начала своего «восхождения»? Нет, их духовная нищета появилась не вдруг, а существовала, конечно, всегда, вовремя не распознанная, не привлекшая внимания, пока не грянул гром. Они были причастны, эти люди, к большой и прекрасной стройке, но ведь любое дело можно вершить только чистыми, незапятнанными руками. Общество щедро воздает за успехи, но оно никому не позволит, прикрывшись даже подлинными, а не мнимыми заслугами, расхищать государственную казну, жить, не считаясь с правом, честью, стыдом. Напрасные надежды, напрасный расчет… Любого, кто окружил себя льстецами, подхалимами и аллилуйщиками, кто переступил закон, обязательный в равной мере для каждого гражданина, неминуемо ждут нравственный крах и справедливая кара. И не спасет его высокопарное суесловие: разрыв между словом и делом, в каких бы формах он ни выражался, непримиримо чужд благотворному моральному климату, прочно утвердившемуся в нашем обществе, где заведомо обречены на провал любые попытки поставить себя «над» теми принципами, по которым живет советский народ.
ПОСЛЕСЛОВИЕ К ОЧЕРКУ
Этот очерк был уже набран, когда председательствующий на процессе — член Верховного суда Чувашской АССР Э. И. Львов — огласил приговор. Алексеев и Пустынов приговорены к пятнадцати годам лишения свободы, Садович — к четырнадцати, Трофимов — к восьми. Различные сроки лишения свободы определены и другим «самбистам». Приговор справедливый: на счету у «обслуги» множество эпизодов изнасилования, расхищения денег и прочие преступления. Ну, а что получили их руководители? Боюсь, многих читателей приговор разочарует. Еремеев оправдан по пяти статьям из шести, которые ему вменялись в вину, и признан виновным только в злоупотреблениях служебным положением, за что осужден на 6 лет лишения свободы. Что до Гущина и Баранова, они отделались всего-навсего годом исправительных работ по месту службы с вычетом 20 процентов из заработка. Не о мягкости или жесткости меры наказания идет речь — о существе. Если «обслуга» признана виновной в хищении денег путем незаконного получения зарплаты, то может ли быть не признан их соучастником тот, кто эту зарплату выписывал, кто принял их на заведомо фиктивные должности и платил за «туфту»? Достаточно задать лишь один этот вопрос, чтобы, мягко выражаясь, шаткость вынесенного приговора стала для всех очевидной. Но «чудеса» этим не завершаются. Совершенно фантастическим образом незаконно израсходованные 140 тысяч рублей задним числом приняты на баланс и, таким образом, юридически уже не составляют убытка для государства. Просто-напросто перенесли эту сумму из одной графы в другую, и она чудодейственным образом из убытка превратилась в доход! Даже те 900 рублей (стоимость фондового стройматериала), которые были истоплены в баньке, чтобы пару было побольше, — даже их трест взял на баланс!* * *
Чудеса между тем продолжаются. Уже и очерк был набран, и послесловие к очерку, как позвонили из Чебоксар. Банька-то наша в одну прекрасную ночь внезапно сгорела. Даже обугленных головешек и тех не осталось. Пока суд да дело, трест моментально списал ее с горемычного своего баланса. С той же спешностью, с какой принял ее на баланс, с той и списал. Обошлась она тресту почти в 15 тысяч, а списано — сколько вы думаете? — девяносто шесть рублей. Девяносто шесть! Такова, оказывается, «сметная стоимость дерева», из которого были сложены стены. Строили, значит, мраморные палаты, устилали коврами, стены отделывали под красное дерево, украшали резьбой, а сгорели, выходит, только дрова. Только дрова, и ничего больше. Будем надеяться, что Прокуратура и Верховный суд РСФСР вернутся к материалам «банного» дела и подвергнут его тщательной, всесторонней проверке.1976
Этот очерк, напечатанный в «Литературной газете», имел большой резонанс. Первый официальный ответ пришел из Чувашского обкома КПСС. В ответе подробно рассказывалось о том, с какой оперативностью и партийной самокритичностью подверглись проверке и анализу те факты, о которых шла речь в очерке. Меры отнюдь не свелись к одним лишь взысканиям, хотя кое-кому и пришлось расстаться с партийными билетами и с «креслами», занятыми явно не по «чину». Помещения, незаконно присвоенные себе любителями «сладкой жизни», были переданы рабочим и служащим стройтреста — там разместился дом отдыха. Благоустроенные помещения были построены и для участников студенческих строительных отрядов.
«Горкомом КПСС, — говорилось в официальном ответе, — определены конкретные задачи партийных организаций, руководства стройтреста № 5, Чебоксарского завода промтракторов по устранению недостатков, усилению организаторской и воспитательной работы в коллективах, улучшению подбора и воспитания кадров, повышению их ответственности за соблюдение партийной и государственной дисциплины».О серьезных организационных и административных выводах, сделанных в связи с публикацией очерка, сообщили редакции также Министерство тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, Министерство строительства СССР и Спорткомитет РСФСР. Прокуратура РСФСР провела тщательную проверку на месте, а затем обсудила очерк на заседании коллегии. Виновные в нарушении законности работники органов внутренних дел и прокуратуры понесли строгие наказания. Ничем не оправданный либеральный приговор в отношении Гущина, Еремеева и Баранова по протесту заместителя прокурора РСФСР был отменен Верховным судом республики. Новое следствие вскрыло целый ряд их преступных действий, остававшихся раньше в тени. Оказалось, что сумма ущерба, причиненного «банщиками» государству, намного превышала ту, которую я привел в своем очерке. Преступники осуждены на длительные сроки лишения свободы. Наказаны и виновники пожара, так «удачно» уничтожившего главное «вещественное доказательство» преступления. Но огромная почта, которую вызвал очерк, содержала, конечно, не только официальные ответы. Читатели не ограничились одним лишь осуждением безнравственного и преступного поведения «героев» — они ставили вопрос шире. Мне особенно дорого письмо потомственного уральского рабочего Сергея Макашихина, где есть такие строки:
«Принципиальное и бескомпромиссное разоблачение уродливых, в корне несовместимых с нормами нашей жизни, явлений, о которых повествует очерк «Баня», свидетельствует о здоровье, силе и нравственной чистоте советского общества… Пусть знает каждый, кто мечтает жить не по заповедям морального кодекса строителя коммунизма, кто рассчитывает словчить и стать «над законом»: не выйдет!.. Публично осуждая, без оглядки на лица, любого, кто расхищает народное добро и противопоставляет себя обществу, мы становимся не слабее, а сильнее, ибо демонстрируем реальную действенность наших юридических и нравственных норм…»
ИСПОВЕДЬ
1
«Писем таких, как мое, вы, наверное, получаете много. В том числе и от нас, заключенных. Так что я не удивлюсь, если мое письмо непрочитанным попадет в мусорную корзину. И все же не написать его я не могу. Читая ваши очерки и статьи, я решил написать именно вам в надежде, что вы поймете меня и посоветуете, как мне жить дальше. Написать откровенно, ничего не скрывая, даже если моя откровенность повредит мне. …Девять лет я уже в заключении. Девять лет! Треть моей жизни. Страшно подумать… Вы ждете привычного: «осужден, мол, неправильно, несправедливо, помогите отыскать истину». Нет, истина найдена давным-давно, и она отражена в строках судебного приговора. Осужден я правильно. Я виноват, очень виноват перед всеми честными людьми. Беда лишь в том, что осознание своей вины, ужас от всего совершенного пришли ко мне слишком поздно — в тюремной камере, когда ничего, решительно ничего уже невозможно исправить. Разве что бить себя в грудь: ошибся я, виноват, раскаялся, простите, больше не буду… Прозрение пришло поздно. Попав в колонию, столкнувшись с матерыми уголовниками, я ужаснулся: неужели долгие годы мне предстоит провести с ними? Неужели и я стану таким, как они: обозленным, жестоким, потерявшим человеческий облик? Отучусь от нормальной речи? Воспитаю в себе презрение к окружающему миру, цинизм, грубость? Нет, твердо сказал я себе. Пусть я потерял право жить среди честных людей, но я не стал и не стану волком. Даже если мне придется погибнуть — волком не стану… Отвергнут одними, не принят другими — понимаете ли вы, что это такое, понимаете ли вы, на что я обрек себя сознательно и бесповоротно? Мы все объединены здесь словом «преступник». Но привели-то нас сюда разные дороги, люди мы разные, и как бы ни пыталась волчья среда унифицировать нас, по-разному воспринимаем мы наказание. Я встретил здесь таких, которые освобождались по семь раз и в восьмой попадали сюда снова! В восьмой раз!.. Неужели есть такая сила, которая могла бы заставить и меня вернуться в этот мирок, отрезанный от чистого, светлого, вольного нашего мира? Когда-то, юнцом, я слышал от таких вот неисправимых «романтиков» разговоры о том, что тюрьма, дескать, «мать родная». Слышал — и смеялся бездумно, не придавая никакого значения этому выражению, которое казалось мне только цитатой из каких-то старых книжек. Здесь я убедился, что это не только «цитата», что есть такие, которые живут (живут!) по этой «цитате», что она стала их компасом в жизни. И что они пытаются навязать свою мораль другим попавшим сюда — слабым, испуганным, трусливым, наконец, просто неспособным разобраться в том, что такое хорошо и что такое плохо. …Неволя для меня — страшная болезнь, состояние противоестественное, нечто промежуточное между жизнью и смертью. Только находясь здесь, с такой остротой ощущаешь, как жизнь летит мимо. Порой начинаешь завидовать мертвым: те, по крайней мере, не могут сознавать свое положение, мерзость содеянного и беспросветную горечь расплаты. …Не гибели я боюсь, не лет, вычеркнутых из жизни, а ожесточения души. Подчас я чувствую, как зло возникает и во мне — уродливая психологическая защита от моего теперешнего бытия: увидел, что доброта считается слабостью, — стал жестоким, так легче; разучившись верить, перестал быть обманутым; разучившись радоваться, разучился и огорчаться… Но вот однажды я заметил, что не способен уже и по-человечески смеяться. Мне стало жутко… И я спрашиваю себя: что же дальше? Мне еще отбывать наказание пять лет. На здании нашей колонии висит лозунг: «Каждый выбившийся из трудовой колеи человек может вернуться к полезной деятельности». Каждый, — значит, и я. Возможность есть, но хватит ли для этого моего возраста, здоровья, сил? Я хочу обратиться ко всем честным людям: простите мое прошлое, мою первую и единственную ошибку, искалечившую мою жизнь. Я клянусь все силы отдать работе, учебе и борьбе за то, чтобы молодые ребята не повторяли моей ошибки. Я хочу, чтобы мой горький опыт послужил предостережением для других…»2
«…Теперь я вижу, что вы внимательно читали мое письмо. Не только читали — вникали. Да, верно, срок, который я отбыл, плюс то, что мне осталось отбыть, в сумме больше, чем наказание, определенное мне приговором. В этом нет никакого противоречия. Просто в колонии меня судили еще раз и добавили три года. «Вот так раскаявшийся преступник!» — скажете вы. Не раскаявшийся он, а заматеревший! Волк в овечьей шкуре, которого мы уличили во лжи… Не спешите с выводами, прошу вас. Нет никакого противоречия в моем письме. Не волк я, не волк, поверьте! Отбыв два года и три месяца по первому приговору, я впал в отчаяние. К тому времени я уже понял все. День за днем повторил мысленно свою жизнь, а преступление свое — и то, что ему предшествовало, и то, что следовало за ним, — минуту за минутой. Кажется, невозможно совмещать в одном лице преступника, судью и палача, но я смог, и я казнил сам себя, так, как никто другой никогда не сумел бы. Я понял, что преступных убеждений у меня нет и никогда не будет. Я осознал — не давлением, оказанным извне, а волею своей, беспощадным судом своей совести осознал святость закона. Тяжесть наказания помогла мне острее почувствовать низость своего преступления. То, для чего меня поместили сюда, для чего изолировали от людей, от воли, уже совершилось. А впереди еще годы и годы. От отчаяния и безысходности я не знал, что мне сделать. Жизнь для меня вдруг перестала иметь цену. …И тогда я толкнул себя на чудовищный по своей глупости шаг. Даже не я, а какая-то дьявольская сила, не управляемая мной и замутившая мой разум. Я решил бежать. Без хитрости, без обмана, без какой-либо подготовки и трезвого расчета. Напролом! Тараном — на высокую стену. Будь что будет… Было то, что и должно было быть. Новый суд и дополнительно три года за побег. И раны — физические и душевные — на всю жизнь. Мне тяжело вспоминать об этом. Жизнь пошла прахом, все, все уже позади, а ведь я еще, в сущности, и не жил. Ничего не видел. Не освоил духовных богатств, накопленных человечеством. Не имел настоящих друзей. Не знал женщины… …Хоть бы единственный раз кто-нибудь мне поверил!..»3
«…В вашем письме — ответе на мою исповедь — мне почудилось какое-то отзывчивое участие. Небезразличие к моей судьбе. Не знаю, завершится ли чем-то конкретным ваше участие, но уже за то, что оно есть, спасибо вам большое. Извините за это очень затертое слово, но я не умею найти нужные слова, я ни с кем так не переписывался… Можете ли вы меня научить, как писать женщине? Мне 28 лет, но я не умею этого делать. Хотя я одичал, отвык от нормальных человеческих отношений и чувств, в моем воображении женщина — это воплощение доброты, нежности, ласки. …Как хочется жить, сделать хоть что-то полезное, особенно — предостеречь молодежь от ложной романтики преступного мира. Уж это, мне кажется, я бы сумел».4
«…У меня есть мечта: если бы поверил в меня какой-нибудь большой завод или стройка, где много молодежи! Поручились бы за меня, взяли бы на работу. Я готов был бы работать день и ночь, учиться сам и учить других. Горький опыт, которого никому не пожелаю, возможно, помог бы кое-кому понять смысл жизни и отличить истинные ценности от мнимых. Я заметил здесь, что абсолютно правильные, добрые и благожелательные советы, исходящие от начальства, кое-кем воспринимаются недоверчиво, настороженно. Не знаю, откуда это предубеждение, но факт есть факт. Зато когда эти же слова говорит их товарищ по несчастью — слова, которые сам ты выстрадал, до которых дошел своим горбом, — тогда дело другое! Жаль, что редко, до обидного неумело используют — и здесь, и на воле — таких, как я, в борьбе за трудных ребят, за их нынешние и будущие судьбы. …И опять задаю вам все тот же вопрос — он не дает мне покоя, он мучает меня и ночью и днем: что делать мне дальше? Ждать еще пять лет, пока меня исправят? Так ведь исправили же!.. Давным-давно! Ну неужто это не видно? Неужто нельзя отличить лицемера, фарисея, демагога, притаившуюся злобную «овечку» от человека с открытой душой, в которой произошел полный нравственный переворот? …Я очень боюсь, как бы вы не приняли меня за скулящего хитреца, который, попав в капкан, юлит в надежде выкрутиться и приняться за старое. Такое здесь случается, и нередко. Я презираю слабость у мужчины, в чем бы она ни выражалась, и не хочу, чтобы мои письма дали основание заподозрить меня в слабости и лжи. …В вашем письме есть слово «пожалуйста». Оно вырвалось у вас непроизвольно, вы едва ли задумывались, когда написали его. А я вчитывался в это слово сотню раз — в непривычное, вольное слово. Слово добрых людей. Конечно, и здесь встречаются разные люди: оступившиеся, раскаявшиеся, бережно сохраняющие в себе человеческое, принесенное с воли; грубые, неотесанные, душевно слабые мальцы, которые зачастую подвержены влиянию преступного элемента, потому что боятся показаться трусами; искренно старающиеся искупить вину, преодолевая при этом насмешки, издевательства, а той побои «волков»; и, наконец, сами эти волки, которых я не стал бы закавычивать, потому что они — волки без всяких кавычек, злобные, озверевшие, сознательно противопоставившие себя людям и готовые на все, чтобы и других сделать такими же. Как я ненавижу этот зверинец, их тупую, скотскую силу, рычание, которое заменяет им человеческий язык, ярость, с которой они топчут любое проявление человеческих чувств! …Мне доверили самую трудную бригаду. Там собраны постоянные нарушители режима. Некоторые, как и я, пытались бежать, иные — по нескольку раз. Тяжело работать с этими людьми. Одни (этакие ницшеанские «супермены») считают, что им «все дозволено», что, как бы они ни вели себя, хуже не будет. Другие — циники, матерщинники, пройдохи. У третьих — полное равнодушие («все чепуха», «только бы ни с чем не приставали»!). Разномастны мотивы, приведшие их к преступлению, разномастны и те процессы, которые происходят за эти годы в их душах. Но мне ближе всего те, которые ненавидят уголовный мир, любое проявление преступного. Мне кажется, с этой ненависти, с этого активного неприятия всего, что связано с преступлением и неизбежной расплатой за него, с этого органического отвращения от неволи, в которой никто не повинен, кроме тебя самого, — с этого, мне кажется, и начинается нравственное возрождение как залог будущей честной жизни. Поверьте, нелегко пробудить доброе и порядочное в каждом, кто попадает сюда. Но уж если это не только пробудилось, но и стало твоим вторым «я», то что же еще делать здесь, среди всей этой мрази? Кто выигрывает от этого? И кто проигрывает? …Моей матери 74 года. Больше у меня никого нет. Я с ужасом думаю: неужели она меня не дождется?»5
«…Где-то между строк вашего письма меня кольнуло подозрение в моей неискренности. Точнее, достаточно ли я раскаиваюсь в содеянном? Поймите, это для меня — далекое прошлое, я осудил себя не единожды, а тысячи раз, и не могу больше об этом! Я не просто повзрослел — постарел за прошедшие годы, и выражения «раскаялся», «осознал» уже слишком примитивны, плоски, убоги для мира моих мыслей и чувств. Да не осознал — проклял свое прошлое, все, все, что прямо или косвенно связано с моим преступлением, даже если тому или иному поступку можно было бы найти смягчающие вину мотивы. …Рабочий день начинается в восемь тридцать. Возьмешь в руки бензомоторную пилу, так до четырех часов и не расстаешься с ней. Вертишь в руках целый день пудовый аппарат, руки становятся жесткими, как тиски, в труде этом нет творческих элементов, лет эстетической удовлетворенности, почему же тогда он мне приятен? Кончу работу, забреду подальше от чужих глаз, упаду в бурьян, гляжу на облака, вдыхаю запах травы, чувствую приятное побаливание мышц… Хорошо! Почему мне хорошо в эти минуты? Не потому ли, что, трудясь, я перестаю себя ощущать человеком «по ту сторону»? Не потому ли, что работа делает меня причастным к людям, к тем, кто украшает родную землю, способствует прогрессу рода людского? …«Все побеждает время» — говорили, кажется, римляне. Побеждает? А по-моему, губит, рушит — от передержанных пирогов в печке до переваренной стали в мартене. Столько варюсь я здесь — и во времени, и в напряжении! Боюсь обезуметь от этой перегрузки; сила, зовущая к вольной жизни, способна что-то и надломить, и вдруг надлом станет необратимым? Ведь устает даже металл. Кем окажусь я, выйдя, наконец, измотанным и опустошенным, за ворота колонии? Пациентом поликлиники? «Чокнутым»? Ипохондриком и мизантропом? Не дай бог!..»6
«…Сегодня мне 29 лет. Никогда бы в юности не подумал, что встречу этот возраст в здешних условиях. Не режим пугает меня, режим строг, но справедлив, я привык к нему, соблюдаю его неукоснительно. Нет, не режим, а волчья среда, преступная мразь, которая гордится тем, что она мразь, и хочет всех сделать подобными себе. …Наш начальник отряда, лейтенант Макаров, на редкость умный, понимающий воспитатель, тонкий психолог, ему я обязан тем, что во мне проснулся человек, это он помог мне уверовать в себя, наставил меня, как говорится, на путь истинный. Он видит, как я со стиснутыми зубами — не живу, а отживаю каждый день; видит, насколько я чужд этим волкам; знает, что никогда, ни за что я не буду выть по-волчьему, не приму их «законы» — ни здесь, ни на воле. Лучше погибнуть… Я уже писал, что мне доверили бригаду, а недавно — и целый отряд, где три бригады: назначили старшим завхозом, это значит, что я непосредственный помощник начальника по всем производственным, дисциплинарным и бытовым вопросам. Стараюсь, чтобы у нас в отряде все было хорошо. Получается ли — судить не мне. Во всяком случае, за последний месяц норму выполнили на 138 процентов. Не скрою, ваши письма «зажгли» меня. …Смотрел фильм, комедию. Люди смеются, сыплют шутками, куда-то спешат, влюбляются, грустят, танцуют. Неужели и я когда-нибудь опять научусь смеяться? Помогите мне. Поверьте мне. Никому и ни для чего я здесь больше не нужен. Я нужен там, в потупроволочном мире, где пользу, пусть хоть самую малую, принести все же смогу. Там — не здесь. Пока еще — смогу. Ну, пожалуйста, помогите. Протяните же руку… Пожалуйста…»В дополнение к письмам Ивана приведу еще два документа.
«Уважаемая Анна Алексеевна! Ваш сын Иван Антонович Д. находится в моем отряде… До прошлого года имел ряд взысканий, но с тех пор изменился в лучшую сторону, учится в профессионально-технической школе, Добросовестно выполняет общественные поручения, работает бригадиром, к труду относится положительно. Пришлось много поработать, Анна Алексеевна, чтобы в Вашем сыне произошли эти перемены. Очень важно, чтобы добытое с таким трудом было поддержано в нем Вашим материнским ласковым словом. Я уверен, что, освободившись, Иван станет достойным гражданином советского общества. Надеюсь, в недалеком будущем он будет на свободе. Поддержите его своим материнским чутьем. Помогите ему поверить в то, что он не один, что есть люди, которые любят его, ждут, беспокоятся за его судьбу.С уважением к Вам начальник отрядалейтенант Макаров».
«Все они хнычут», — небрежно бросил один коллега, когда я прочитал ему письма Ивана Д. Ну, что на это ответишь? Самое легкое — отмахнуться от сложной проблемы и драматичной судьбы. К тому же Иван вовсе не хнычет, он только спрашивает: «Что же дальше?» И я спрошу тоже: действительно — что? Колония дала ему все, что она в состоянии дать: образование (Иван окончил там среднюю школу, получил хороший аттестат зрелости); профессию (он стал шофером 2-го класса); трудовые навыки (он не мыслит теперь свою жизнь без работы); нравственный фундамент (он прочно усвоил азбуку правосознания, воспитал в себе ненависть к преступлению, ощутил потребность бороться со злом и учить этому других). Его пример — наглядное доказательство эффективности тех возможностей, которые заложены в нашей исправительно-трудовой системе. Его пример — свидетельство того, что на редкость нелегкая и мало кому заметная работа воспитателей, трудящихся за «высоким забором» над сложнейшим человеческим материалом, не пропадает даром, что она приносит благотворные плоды. Но наказание, которому подвергается преступник, преследует не только воспитательные задачи. Наказание — это всегда кара. То, что на языке судебной хроники называется воздаянием по заслугам… И этого воздаяния Иван тоже получил сполна… Будем откровенны: оно было вполне «по заслугам». Безобразно преступление, им совершенное, и меру наказания за него нельзя счесть чрезмерно суровой. Он раскаялся? Что ж, отлично. Но ведь раскаяться можно было и раньше. В зале суда. В кабинете следователя. В милицейской машине, которая увозит на первый допрос. Раз раскаялся, — значит, сразу простить, так, что ли? Даже убийца, случается, жестоко казнит себя на суде, и он не лжет, давая зарок «никогда, никогда, никогда больше не убивать». Пусть в его клятвах нет фальши, разве мы бы смирились, если убийцу тут же отпускали бы с миром? Тогда, может быть, нам вообще все равно: раскаялся — не раскаялся? Виновен — «сиди»… Если это было бы так, если отношение самого осужденного к тому, что он натворил, не имело бы никакой цены, то все усилия, которые тратятся на его воспитание, лишились бы смысла. И неисправимо озлобившиеся, и осознавшие тяжесть содеянного уравнялись бы между собой. Нельзя же в конце-то концов всех «оптом» лишить доверия, тем более, что любая клятва вполне поддается объективной проверке. Обращение лейтенанта Макарова к матери заключенного и характеристика, подписанная начальником колонии, — свидетельства того, что в письмах Ивана нет лжи. Опять повторю тот же вопрос: что же дальше? Может ли чему-нибудь еще научить Ивана колония? И не достаточную ли уже кару он понес? Эти вопросы не столько эмоциональны, сколько сугубо утилитарны. Плохо «недополучить» заслуженной кары — вера в безнаказанность развращает, иного она может толкнуть снова на преступный путь. «Переполучить» — по своим последствиям ничуть не лучше: от равнодушия и душевной опустошенности один шаг к ожесточению, к мстительности и злобе. Пребывание в колонии — не самоцель, а лишь средство: средство вернуть человека на волю «выздоровевшим» душевно, ибо нам с ним бок о бок работать. Общаться. Жить. Что выиграем мы, обретя озлобившегося соседа? Угрюмого сослуживца, которому опостылели все и вся? Надломленного и раздраженного мужа, сына, отца? Действующий закон содержит много возможностей для внесения «поправочного коэффициента» в судебный приговор с учетом личности осужденного, его индивидуальных человеческих качеств, его характера, отношения к труду, реакции на кару — словом, с учетом тех процессов, которые происходят в нем по мере того, как приближается конец его «срока». Для тех, кто действительно, а не на словах осознал свою вину, предусмотрены различные льготы, условно-досрочное освобождение, направление на стройки, перевод в колонию-поселение с правом выписать туда семью и жить по-человечески — без конвоя, без ограничений, налагаемых режимом. И наконец, к тем, кто вовсе не нуждается в изоляции, кто вправе по всем основаниям рассчитывать на досрочное прощенье, государство может проявить особую милость, отпустить раньше времени. Но всегда ли наблюдательные комиссии, которым дано право ходатайствовать о такой милости, всегда ли они достаточно глубоко постигают перемены к лучшему в претенденте на милость, всегда ли умеют проникнуть в человеческую душу? А проникнув, придя к выводу, что кто-то достоин доверия, всегда ли проявляют эти комиссии принципиальность и настойчивость, отстаивая свой вывод? Ведь даже самые умудренные, доброжелательные и совестливые товарищи, рассматривающие ходатайство, имеют дело только с бумагами, а комиссия — непосредственно с живым человеком, которого (по идее) она знает не один день, который изучен и проверен, как говорится, до косточки, которому она верит, ручается за него. Осужденного, казалось бы, должна прежде всего пугать строгость режима. А вот Иван страшится не режима, не надзирателей, а тех, кто отбывает наказание вместе с ним. Он, наверное, «пережимает», рисуя окружающих его заключенных беспощадно черной краской и отказывая им в самых элементарных человеческих чувствах. Ему кажется, что процесс нравственного возрождения, который происходит в нем самом, им недоступен. Но меня это не удивляет: тому, в ком пробудилась совесть, все, в ком она еще не пробудилась, должны казаться чудовищами. И ужас от неволи — тоже, я думаю, естественное состояние для нормального человека. Все это не значит, что — разложившихся и разлагающих других — опасных преступников-рецидивистов вовсе не существует. Нет, они, к сожалению, есть. Как поступать с ними, как влиять на эту среду, как обществу оградить себя от опасности, которая в ней таится, — вопрос особый. Но то, что люди, в которых произошел перелом, должны быть отторжены от пагубного влияния «волчьей» среды, — это мне кажется бесспорным. Нынешнее исправительно-трудовое законодательство, по-моему, нисколько не препятствует такому отсеву. Напротив, дифференцированный подход к заключенным в зависимости от их социальной опасности, от их поведения, от специфических черт их личности — характерная особенность нашего права. Но отсев этот происходит нечасто и не везде, отчего страдают как раз те, кто подвергся уже доброму воспитательному воздействию. Одним словом, проблем много, и проблемы эти имеют общественное, а не узковедомственное значение. Ибо каждый, кто временно пребывает за «высоким забором», остается, какое бы зло он в прошлом ни совершил, гражданином своей страны и, значит, клеточкой, хотя и пораженной тяжким недугом, но клеточкой общества. Разве нам безразлично, как ее лечат, эту самую клеточку, и какой она станет, когда из-за «высокого забора» вернется в нашу большую семью. Ну, а Иван… Горька его участь, счет за совершенное им преступление все еще не оплачен. И морально, и фактически — мукой своей, и прозрением своим — Иван давно его оплатил, но срок есть срок, и он, увы, не окончен. В последнем письме Ивана Д. есть такие строки:«ХАРАКТЕРИСТИКА
…За последние два года осужденный Д. Иван Антонович резко изменил свое поведение и отношение к труду в лучшую сторону… Норму вырабатывает на сто и более процентов… Вежлив, в быту ведет себя скромно, уравновешен. Является членом Совета коллектива отряда и принимает активное участие в борьбе с нарушителями режима и трудовой дисциплины. Регулярно посещает общественные мероприятия и проявляет к ним интерес… К годовщине Октябрьской революции удостоен звания «Передовик труда и примерного поведения».Начальник ИТК (подпись)».
«Спешу поделиться с вами моей радостью. Меня утвердили инструктором учебного вождения автомашины. Скорость, движение — ведь это иллюзия свободы, какой-то заменитель ее. Может быть, за рулем мне будет казаться, что время летит быстрее. Так легче ждать. А я все жду. И верю, что воля — не за горами, что скоро я буду дома и, став свободным, сумею до конца, по-настоящему искупить свою вину перед людьми».Верю и я.
1970
Этому очерку несколько лет, и я не изменил в нем ни единого слова. Тем интересней, по-моему, посмотреть на историю Ивана Д. сегодняшними глазами, соотнести прогнозы с реальной жизнью. Напомню, что отрывки из семи его писем составляют лишь малую долю исповеди, содержавшейся на многих и многих страницах, исписанных мелким танцующим почерком — с помарками, вставками и зачеркнутыми словами. Готовя отрывки к печати, я опустил все чаще звучавшую в письмах просьбу Ивана побывать у него, поговорить с глазу на глаз. По мере того как развивалась наша переписка, росла и потребность в личном знакомстве. Видимо, все, что Иван мог доверить почте, он уже доверил, и теперь хотелось не исповеди на бумаге, а живого слова. Я пообещал ему приехать, но, как это порою случается, планам моим не суждено было сбыться: поездка все откладывалась, я извинялся, рассчитывая приехать через месяц, через два, а он, естественно, воспринимал отсрочку иначе — как обман, равнодушие, нежелание помочь. И хотя это было весьма далеко от истины, он — в с в о е м положении, — очевидно, имел право так думать, злиться и страдать. Тогда я попросил одну знакомую журналистку заменить меня — отправиться в далекий Красноярский край, разыскать Ивана и терпеливо выслушать его. Зимой, в сибирский мороз, на двух самолетах, поезде и грузовике журналистка добралась до лесоповала, где работал Иван, отнюдь не чувствуя, что совершила какой-то подвиг. И верно, никакого подвига не было: обычная наша работа. Но Иван не мог поверить, что откликнулись на его зов, что это к нему, именно к нему и ради него, прилетел человек, озабоченный его судьбой. Он долго смотрел на нежданную гостью, не в силах заговорить. В письмах, наедине с тетрадочным листом, он был куда более красноречив. Журналистка дотошно, как принято выражаться, проверила факты и убедилась, что в письмах Ивана не было лжи. Возвратившись, она поделилась со мной личными впечатлениями: человеку, далекому от судебных драм и конфликтов, ей просто по-человечески, по-женски показалось, что Ивану можно поверить. Скажу честно: мне было радостно это услышать. Не только потому, что всегда радует весть о добрых сдвигах в душе того, кто виноват перед обществом, но и потому еще, что — заочно, из писем — у меня сложилось о нем такое же мнение. Все это, взятое вместе, давало моральное право ходатайствовать о милосердии. Наша просьба была услышана, понята, и наступил день, когда, помилованный Президиумом Верховного Совета республики, Иван Д. появился в Москве. Он был угловат, застенчив, немногословен, больше слушал, чем говорил, речь его была далеко не такой гладкой, как в письмах, и, что совсем настораживало, он упорно не хотел смотреть в глаза: его взгляд, устремленный на пол, и хмурая морщина поперек лба, которую не могла разгладить ни одна шутка, почему-то пугали меня, заставляя усомниться — не поспешили ли мы со своей добротой. Но доброта никогда не бывает поспешной, она в общем-то всегда к месту, и если можно ее в чем упрекнуть, то разве что в том, что порою приходит она с опозданием, не сделав вовремя того, что только ей и под силу. Доброту, которую общество проявило к Ивану, он во зло не использовал, оказался достоин доверия, и теперь, спустя годы, мне приятно сообщить об этом, видя зримые плоды нелегкого труда многих людей, стремившихся пробудить в трижды оступившемся человеке все лучшее, на что он был способен. Мать дождалась его, поддержала, откликнувшись на призыв лейтенанта Макарова «своим материнским чутьем». Она действительно помогла ему «поверить в то, что он не один, что есть люди, которые… беспокоятся за его судьбу». Таких людей оказалось немало: старый учитель, члены заводской добровольной дружины, начальник райотдела милиции, депутаты городского Совета… С их помощью Иван устроился на работу, заочно поступил в вуз — через два года он получит диплом. Недавно я получил пакет, в котором не оказалось письма, — только семейный снимок: счастливо улыбающиеся родители и трое детей. Лишь обратный адрес подсказал мне, кто именно изображен на снимке: непринужденно развалившийся в кресле, элегантно одетый мужчина имел мало общего с тем угрюмым волчонком, который несколько лет назад хмуро разглядывал пол моего кабинета… Можно, наверное, сказать, что это просто счастливо завершившийся эксперимент, что риск ошибиться был слишком велик, что снисхождение и доброта иных развращает, что гуманность безнравственна, когда речь идет о человеке, уже неоднократно преступившем закон. Можно добавить, что слезливые жалобы сплошь и рядом неискренни, что прощенные, отпущенные до срока на волю не всегда успевали добраться до дома — становились рецидивистами еще по дороге, обманув тех, кто им слепо поверил. Все это, наверное, так — подобных примеров я и сам, к сожалению, знаю немало. Но опасность «передобреть» меня ничуть не пугает. Да, иногда мы желаемое выдаем за действительное, видим людей не такими, какие они на самом деле. Иногда мы не в состоянии предвидеть последствия того психологического шока, который поражает каждого, кто годами был отрезан от мира, а потом вернулся в него — свободным и равным. Ошибки, видимо, неизбежны, но лучше уж пусть это будут ошибки от доброты, чем от неверия и мизантропства. Уж лучше смотреть на людей, даже тяжко провинившихся перед нами, через розовые очки, чем исключительно через черные. И те, и другие создают искаженную перспективу, но розовые стекла все-таки можно скорректировать иными линзами, черные же ведут к неизлечимой нравственной слепоте. Если же вернуться к конкретной истории Ивана Д., то риск, я думаю, был минимальным. Человек, который т а м научился т а к думать, т а к выражать свои мысли, т а к чувствовать, т а к относиться к труду, выдержал самый главный экзамен, который должен сдать каждый, оказавшийся по ту сторону «высокого забора»: экзамен на человека. И если он его сдал, то по ту сторону ему уже нечего делать. Кара превращается тогда не в средство воспитания, не в сильнодействующее орудие нравственного перерождения личности, а в самоцель. То есть становится безнравственной. И значит — не полезной, а вредной…
МЕРТВЫЙ УЗЕЛ
Марию Васильевну Лазареву бросил муж — человек, которого она глубоко и преданно любила. Лазарева остро переживала неожиданное одиночество. Ей уже перевалило за пятьдесят, вся ее жизнь всегда была посвящена мужу, и как-то так получилось, что рядом не оказалось ни родных, ни друзей. Но время — лучший лекарь. Хоть и немного месяцев прошло с тех пор, как она «овдовела» (муж умер для нее, и поэтому она себя именовала вдовой), а острота переживаний постепенно притуплялась, жизнь брала свое… Лазаревой захотелось найти человека, который тоже страдает, который нуждается в помощи, изнывая от одиночества и неприкаянности. Ей было безразлично, будет ли это мужчина или женщина, лишь бы он был человеком, лишь бы развеял ее тоску и наполнил каким-то смыслом ее жизнь. Так и появился в квартире новый жилец, за бесценок снявший у Лазаревой «угол»: продавленный узкий диван да две полки в общем комоде. Это был здоровый, богатырского телосложения, бездельник с холеным, упитанным лицом, лживыми глазами и дергающимся мясистым носом. Трудно представить себе человека, который вызывал бы сострадания и жалости так мало, как Стулов. В лучшем случае он мог оставить людей равнодушными. У большинства он вызывал отвращение. У некоторых — страх. У некоторых — насмешку. Но сострадание?! Жалость?! Что и говорить, загадочны пути, ведущие к сердцу человека! Позже Лазарева писала в Киев племяннице, своей единственной родственнице и самому близкому человеку, которому она могла рассказать все:
«Дорогая Тонюшка, открою тебе свой секрет, ты одна поймешь меня правильно. Я вышла замуж. Конечно, без всяких этих формальностей: во-первых, в моем возрасте смешно надевать подвенечное платье, а во-вторых, мы ведь еще так и не разведены с Николаем. Да разве дело в формальности? Лишь бы человек был хороший… Тебя, конечно, интересует, кто мой новый муж. Он интересный, я бы даже сказала — красивый мужчина. По специальности механик, но сейчас не работает, не может подыскать для себя ничего подходящего. Один минус: он на десять лет моложе меня. Но я уговариваю себя, что это не имеет большого значения. Как ты думаешь? Зовут моего мужа Василий Максимович. Ты даже не представляешь, какой он заботливый: на днях, например, подарил мне мои любимые духи. Помогает убирать комнату и даже иногда — смешно сказать — готовит обед. Я подсмеиваюсь над ним и советую ему пойти в шеф-повары или в домработницы. А он не отвечает, молчит. Мне нравится, что он молчит. По-моему, настоящий мужчина должен быть молчаливым… Пожалуйста, никому из знакомых не рассказывай. Я пока ни одному человеку не сказала, что вышла замуж, тебе первой. Для всех Василий считается моим жильцом. Чего стесняюсь, сама не знаю, но ты меня, Тонюшка, конечно, поймешь. Хоть и труднее мне сейчас, потому что приходится одной зарабатывать на двоих, но в то же время и легче — все-таки появился друг…»…Было одиннадцать часов вечера, когда в коридоре коммунальной квартиры, где жила Лазарева, раздались тяжелые мужские шаги и взволнованный голос Стулова произнес: — Людмила, помогите! В квартире уже спали. Но на зов о помощи откликнулись немедленно. Соседка Лазаревой — Людмила Матвеева — и ее муж выбежали в коридор. Вскоре собрались и все жильцы. Дверь в комнату Лазаревой была открыта. Слабо освещенная из глубины комнаты настольной лампой, Лазарева сидела на полу спиной к двери. Тянувшиеся от ее шеи кверху шнуры были перекинуты через крюк, на котором крепилась люстра. С криком «повесилась!» Людмила Матвеева выбежала на улицу, другие жильцы, ошеломленные неожиданностью, молча стояли поодаль, все еще не веря в то, что произошло. Один только Стулов проявил свойственное настоящему мужчине хладнокровие и выдержку. Он быстро отыскал пассатижи, ловко перекусил ими тянувшиеся от шеи Лазаревой шнуры и, бережно положив ее на пол, начал делать искусственное дыхание. Но усилия его были тщетны. Лазарева была мертва. Тем временем Матвеева привела милиционеров. Один из них, лейтенант, проявил недюжинную оперативность. Едва взглянув на труп, он сел в кресло и недрогнувшей рукой написал свое авторитетное заключение:
«Установлено, что Лазарева покончила жизнь самоубийством через повешение».Труп отправили в морг, и утром следующего дня судебный врач дал наскоро заключение, которое гласило, что смерть Лазаревой от удушения наступила «скорее всего» в результате самоубийства. На том и порешили. Труп Лазаревой был кремирован, комнату заселили новые жильцы, а тощая папка с надписью «Материал о самоубийстве гр-ки Лазаревой М. В.» осталась пылиться в архивном шкафу. Дело закончилось, не начавшись.
Нет, оно не закончилось. Прошло несколько месяцев. В прокуратуру явилась женщина, приехавшая из Киева. Это была племянница Лазаревой — та самая, которой Лазарева поверяла свои тайны. Она не верила в миф о самоубийстве. У нее были достаточно серьезные основания сомневаться в этом, и о своих сомнениях она не хотела молчать. Когда умирает одинокий человек, нотариус производит опись всего оставшегося имущества. Если в течение определенного срока объявятся наследники, это имущество выдадут им. Если нет, оно пойдет в доход государства. В описи имущества Лазаревой нотариус записал:
«…19. Пальто демисезонное, ношеное, серое, с пятнами бурого цвета, похожими на кровь, и со следами пыли на спине…»Тогда на это никто не обратил внимания. Но племянница, для которой каждая деталь полна глубокого смысла и которая пытается разгадать тайну внезапной смерти своей тети, эта короткая запись показалась важной и значительной. Племянница рассуждает так: у Лазаревой было только одно демисезонное пальто, в котором она каждый день ходила на работу. Можно ли представить себе, чтобы женщина, следящая за собой, привыкшая к чистоте и порядку, вышла из дому в перепачканном кровью пальто? Но если в день ее смерти на пальто еще не было пятен, то откуда появились они? И когда? Племянница не отвечает на эти вопросы. Она только их задает. Это ее право. Она самая близкая родственница покойной, она желает знать истину. Она не строит догадок, а только делится своими сомнениями. Но раз есть сомнения, их надо проверить. И вот следователь Маевский берется развеять сомнения киевской родственницы. Надо только установить, каким образом запачкалось пальто, и, сообщив об этом заявительнице, заняться другими неотложными делами. Но первый же день приносит следователю не ответ, а новую серию вопросов. Выясняется, что бурые пятна, похожие на кровь, были не только на пальто, но и на петле из электрического шнура, которую сняли с шеи Лазаревой. Выясняется, что такие же пятна соседи видели в тот самый вечер на полу возле двери. Выясняется, что ковровая дорожка, всегда лежавшая на полу, от двери к кровати, в тот вечер отсутствовала, а затем и вовсе исчезла. Выясняется, что эксперт обнаружил следы ударов тупым предметом на затылке и висках трупа, но не придал этому значения, почему-то решив, что это — посмертные следы, следы ударов трупа о пол. Словом, выясняется, что папке с надписью «Материал о самоубийстве гр-ки Лазаревой М. В.» рано еще пылиться в архивном шкафу и что, оставив в стороне все прочие дела, надо распутывать этот клубок загадок. Но за что уцепиться, чтобы размотать его? Нет трупа — он кремирован. Нет вещей — они распроданы, розданы, пропали. Нет даже комнаты — она отремонтирована, переоборудована и заново обставлена другими хозяевами. Время стерло в памяти свидетелей многие драгоценные подробности. Убийца — если только Лазарева была убита — наверняка постарался замести следы и подготовить противоулики. Что и говорить, трудная, очень трудная задача выпала на долю следователя Маевского. Значит — отступиться? Вновь объявить Лазареву самоубийцей? Конечно, так было бы легче. И проще. И спокойнее. Но молодой юрист Григорий Маевский хотел, чтобы восторжествовала законность. Он хотел правды и справедливости. Трудно? Да. Но возможно. Значит, надо искать. Итак, Лазарева повесилась? Мы помним, что шнур был прикреплен к крюку от люстры. Если Лазарева самоубийца, то прикрепить его могла только она сама. Высота потолка в комнате Лазаревой достигает трех с половиной метров. Значит, надо узнать ее рост и высоту мебели, с помощью которой Лазарева могла дотянуться до потолка. Узнать рост — дело одной минуты: в протоколе такие данные есть. Но как измерить стол и стулья, если они исчезли? Их надо найти — без этого любой вывод следователя будет легко уязвим. Находят стол. Находят стулья. Находят всю мебель. Всю — до единого предмета. Соседи и знакомые подтверждают, что это та самая мебель, которая стояла в комнате Лазаревой в день ее смерти. Измеряется высота каждого предмета с точностью до сантиметра. Но этого мало. Когда человек старается дотянуться до какого-либо высоко расположенного предмета, он поднимает над головой руки и тем самым как бы увеличивает свой рост. При одинаковом росте длиннорукий достанет более отдаленный предмет, чем тот, у кого руки короче. Поэтому для точности выводов не хватает еще одной цифры. Нужно знать длину рук Лазаревой. А в протоколе о длине рук ничего не сказано. Правда, есть ее пальто и кофточки. Но длина рукавов у них разная. А нужна точность, точность и еще раз точность. Неужели придется отступить только из-за того, что недостает маленькой, хоть и существенной детали? Терпение, терпение… Не могла же Лазарева всегда покупать только готовое платье. Как всякая женщина, она, несомненно, хоть изредка обращалась к услугам портних. А портнихи, как известно, всегда снимают мерку. И уж длину рукава они знают наверняка. Находка. Отличная находка! Нет, неудача: никто не может сказать, у кого шила Лазарева свои платья. Ее туалеты никогда особенно не поражали. Ни одной знакомой моднице не пришла в голову мысль ее об этом спросить. Очень досадно! Но не страшно: может быть, Лазарева шила в ателье? Тогда есть надежда: надо только порыться в папках с обработанными квитанциями заказов и найти заказ Марии Васильевны Лазаревой. Порыться и найти… Легко сказать? Ведь в Москве десятки ателье, и в каждом — тысячи заказчиков, и никто уже не помнит, давно ли Лазарева щеголяла в какой-нибудь обнове. Вот ведь задача!.. Находят. Находят ателье, в котором Лазарева шила пальто. Узнают длину ее рук. Можно встать на стол и увидеть, как высоко могла достать эта непонятная и загадочная самоубийца. Ведь твердо установлено, что под люстрой в момент обнаружения трупа стоял на своем обычном месте круглый обеденный стол. Значит, Лазарева, чтобы закрепить узел на крюке от люстры; взбиралась на этот стол — добраться до потолка как-нибудь иначе было невозможно. Разыскивают женщину, рост и длина рук которой в точности соответствуют лазаревским, и просят ее взобраться на стол, подняться на цыпочки и вытянуть руки вверх. Не получается. Не достает эта женщина — двойник Лазаревой — до крюка. Тогда на стол ставят стул, и женщина не без труда карабкается на это громоздкое сооружение. Все равно не получается. Только подпрыгнув, она может кончиками пальцев дотянуться до крюка, но все ее попытки завязать на крюке узел оказываются тщетными. Ну, хорошо: эта женщина не смогла. А вдруг Лазарева была более расторопной? Вдруг она умела лучше прыгать? Вдруг ее ловкость и сноровка позволяли ей вязать петли на лету? Надо проверить. Проверяют. Не получается. Вес Лазаревой превышал сто килограммов. Она не умела и не любила прыгать. Даже после самой непродолжительной ходьбы ее мучила одышка. Соседи рассказывают, что, когда Лазарева вешала белье, она не могла встать даже на низенькую скамейку, а закидывала его на веревку и расправляла с помощью палки. Убедительно? Кажется, да. А впрочем, мало ли какие у нее были привычки! Ведь то были привычки женщины, старающейся себя не утомить, не повредить свое здоровье, — женщины, думающей о жизни. А если она решила с жизнью порвать, придет ли ей в голову мысль об усталости, об одышке? Допустим самое невероятное. Допустим, что Лазарева, прыгая на стуле, сумела завязать узел на крюке, затем сунула голову в петлю и с петлей на шее бросилась вниз. Тогда стул должен остаться на столе. Или хотя бы упасть. Всех соседей снова вызывают в прокуратуру, и каждый из них в отдельности подтверждает, что в тот трагический вечер все стулья стояли вокруг стола на своих обычных местах, что рядом со столом упавшего стула не было; что скатерть, покрывавшая стол, не была сдвинута; и что, наконец, в центре стола, как обычно, стояли стеклянная пепельница и ваза с живыми цветами. Значит, на стул Лазарева не становилась. Значит, на стол она не становилась тоже. Значит, остается признать, что забраться под потолок Лазарева не могла. Но одной этой улики мало. Сама по себе она еще ни о чем не говорит. А кроме того, бывают случайности. Бывают непредвиденные возможности — настолько простые, настолько элементарные, что даже обсуждать их кажется абсурдом. Вообще всякое бывает. Словом, еще ничего не решено. Поиски продолжаются… Но за какую ниточку тянуть дальше? От чего отталкиваться? Пожалуй, прежде всего надо восстановить вплоть до мельчайших деталей, какой вид имела комната в тот момент, когда Стулов позвал соседей на помощь. Опять вызывают соседей. Они многое позабыли. Один припоминает какую-либо деталь, а другой опровергает. Кому верить? Никому. Сомнительную улику нельзя брать на вооружение — это незаконно. Но есть улики, которые подтверждают все. И как раз они-то самые важные. Все подтверждают, что Лазарева с петлей на шее полусидела на полу, занимая все пространство между шкафом и столом. Но — любопытная подробность: комната была освещена лишь настольной лампой, стоявшей на тумбочке в самом дальнем углу. Пройти к настольной лампе и не задеть при этом труп Лазаревой было невозможно. Кто же зажег эту лампу? И почему не горела большая люстра, выключатель от которой у самой двери и зажечь которую было проще всего? Задать эти вопросы надо бы Стулову, но следователь Маевский не хочет спешить с его вызовом. Лучше обождать, пока будут собраны веские доказательства и представится возможность сделать какие-то обоснованные выводы. Стулов далеко: он работает завхозом в какой-то научной экспедиции. Пусть работает, его время еще не налетало. Следователь внимательно вчитывается в объяснения, которые Стулов писал в милиции. Он писал, что весь день был дома. Лазарева, вернувшись с работы, принесла покупки. Он вынул покупки из ее сумки, перебросился с ней несколькими словами и пошел в ванную мыться, по просьбе Лазаревой закрыв дверь на ключ. Помывшись, он постирал в ванной майку и, не заходя в комнату, вышел из дома. Сначала отправился к знакомому, потом в Дом культуры, где смотрел фильм «Нахлебник». Из Дома культуры он вернулся домой, открыл ключом дверь комнаты. В комнате было темно. Это удивило его: ведь Лазарева никуда не собиралась уходить. Он повернул выключатель, который находился слева от двери, и увидел Лазареву сидящей на полу с петлей на шее… Но доподлинно известна по крайней мере одна неправда: в комнате горела не люстра, а настольная лампа. Значит, или Стулов, не зажигая люстры, прошел в темноте к настольной лампе, или он сначала зажег люстру, а затем выключил ее. В любом случае это подозрительно. А кроме того, зачем надо было, уходя в ванную, запирать Лазареву на ключ? Зачем надо было тут же стирать майку? Зачем сразу уходить из дома, даже не зайдя в комнату? Есть много «почему» и «зачем», но все они — тоже не улики. Сомнения, не больше. А этого мало. Нельзя даже предъявить обвинение. Прокурор не даст санкцию на арест. Есть сомнения. Есть несуразности. Есть заведомая ложь. Есть интуиция следователя, подсказывающая ему истину. Но нет доказательств. А в них-то все дело! Значит, надо искать. Ищут. Вызывают сослуживцев Лазаревой. Это продавцы и сотрудники одного из самых популярных в Москве цветочных магазинов. Милые, общительные, симпатичные люди. Они очень любили Лазареву. Они были поражены ее гибелью. Они искренне хотят помочь следствию найти убийцу. Да, убийцу: они уверены, что Лазарева убита. Откуда такая уверенность? Может быть, у них есть факты? К сожалению, нет. Есть интуиция: прекрасное качество, но ведь оно не заменяет улик… Следователь отправляется по следам Лазаревой. Он восстанавливает в памяти каждый ее шаг в тот последний, трагический день — час за часом, минута за минутой. В девять утра она пришла на работу. А настроение? В каком она была настроении? В хорошем. Шутила, даже напевала песенку из последнего кинофильма. В обеденный перерыв гуляла по бульвару, строила планы на лето. Она была в новом шелковом платье, красивых светлых босоножках. А пальто? Да, она была в пальто. Конечно, совершенно чистом: Лазарева была на редкость чистоплотна и очень следила за собой. В шесть часов вечера она ушла с работы и обещала одному из сослуживцев принести на следующий день книгу. А через два — от силы три — часа Лазаревой не стало… Поистине странная самоубийца — эта Лазарева. Но дело не в странностях. Надо искать дальше. Ищут. Вызывают соседей. Они припоминают, что Стулов почти весь день был дома, что-то мастерил в комнате, стучал молотком. Потом куда-то уходил. Еще днем он согрел воду в ванной, но мыться не стал. Лазарева пришла домой около восьми часов вечера — это заметила одна из соседок, встретившая ее у подъезда: соседка спешила в кино, на сеанс, начинавшийся в половине девятого. Стулов был в это время дома. Потом он ушел; это заметили другие соседи. После спешившей в кино соседки Лазареву уже никто не видел живой. Кроме Стулова, конечно. А в одиннадцать часов вечера все видели ее труп… Значит, Лазарева погибла между восемью и одиннадцатью часами. Когда она пришла домой, в комнате был только Стулов. Затем он ушел, замкнув комнату на ключ. От комнаты имелось лишь два ключа: второй был найден в сумочке Лазаревой, лежавшей на письменном столе. Значит, никто посторонний в комнату не входил. Значит, или Лазарева действительно повесилась, или ее убил Стулов. Стулов — и никто другой. Итак, она повесилась. Для этого она взбиралась на стол и стул, завязывала петлю, бросилась вниз. Но ближайшие соседи не слышали за стеной никакого шума. Впрочем, и это бывает — если, например, в квартире толстые стены и хорошая звукоизоляция. Проверяют. Оказывается, что звук от падения сколько-нибудь тяжелого предмета, любое слово, мало-мальски громко сказанное в одной комнате, любой скрип половицы — все это в другой комнате хорошо слышно. Кажется, можно кончать следствие. Пора вызвать Стулова, предъявить ему обвинение, арестовать и предать суду. Чего, собственно, ждать? Разве собрано мало доказательств? Мало. Еще не все версии проверены, не все возможные возражения отметены. Значит, надо искать, искать и искать! Ищут. Устанавливают, что в день гибели Лазаревой в Доме культуры действительно должен был идти фильм «Нахлебник», о чем было загодя повешено объявление. Однако фильм не показывали, так как зал срочно потребовался для собрания комсомольского актива. Получают заключение биологической экспертизы, подтверждающей, что бурые пятна на пальто — это пятна крови и что кровь эта относится ко второй группе. Разыскивают в архиве поликлиники давнишнюю историю болезни Лазаревой и узнают, что кровь Лазаревой тоже принадлежит ко второй группе. Находят еще одного важного свидетеля — мальчика из соседнего дома, который всегда смотрел у Лазаревой телевизионные передачи. Этот мальчик получил разрешение прийти в тот вечер «на телевизор» при условии, если утром он успешно сдаст свой первый экзамен. Отлично ответив на экзамене, мальчик весь вечер безуспешно звонил тете Марусе по телефону, но на его звонки никто не отвечал. Между тем соседи, живущие за стеной и безотлучно находившиеся в тот вечер дома, никаких телефонных звонков не слышали. Вызывают жильцов, занимающих теперь комнату Лазаревой. Они хорошо помнят, что в день своего переезда обратили внимание на оборванный шнур телефонного аппарата. Вызывают монтера телефонного узла, который этот факт подтверждает. Вызывают сотрудников отдела обслуживания телефонного узла, которые сообщают, что им дважды звонил какой-то мужчина, упорно отказавшийся назваться, и, сообщая о смерти Лазаревой, просил снять аппарат в ее комнате. Рассуждения следователя точны и логичны. Соседи знали, что Лазарева возвратилась домой. Услышав телефонные звонки, на которые никто не отвечает, они могли бы слишком рано заподозрить неладное. Поэтому Стулов решил оборвать шнур. Впоследствии он, естественно, хотел уничтожить эту косвенную улику, но не сумел: телефонный аппарат снят не был. Наступил момент, когда следствию нужен сам Стулов. Чтобы вести с ним бой, уже собрано достаточно доказательств. Остальные он — вольно или невольно — даст сам. Стулова вызывают в Москву. Самодовольный, уверенный в себе человек усаживается в кресло напротив следователя. Он совершенно спокоен: в распоряжении следствия нет и не может быть прямых улик, главные косвенные улики он уничтожил, на его стороне время. Он внимательно слушает и неохотно отвечает. Недаром Лазарева называла его немногословным. И сейчас он остается верным себе. «Не люблю я говорить», — признается он следователю. «Не хочу», — так было бы точнее. «Боюсь проговориться», — точнее всего… Стулова заключают под стражу. Отлично расследованное дело можно передавать в суд. Друзья и товарищи поздравляют молодого юриста с заслуженной победой. Но победитель еще не считает себя победителем. При всем обилии серьезнейших улик ему кажется, что их недостаточно. Конечно, бой с опасным преступником он выиграл. Но он выиграл его по очкам. А ему хочется нокаута. Ему хочется «чистой» победы. Ему хочется не оставить защите ни одной щелочки, ни одной лазейки. Ему хочется найти такую улику, которая одна стоила бы всех остальных. И он находит ее. Он наносит последний удар, венчающий успех. Пройдет немного времени, и о нем будут рассказывать на лекциях будущим юристам, писать в методических пособиях, передавать из уст в уста. Давно замечено, что у моряков, пожарных, ткачей, рыбаков есть свои особые способы вязания узлов и петель. Даже связывая порвавшийся шнурок на ботинке или упаковывая сверток, моряк, пожарный или ткач сделают это каждый по-своему: независимо от их воли, узел будет всегда «профессиональным». Из биографии Стулова было известно, что в молодости он долгое время служил матросом, плавал на торговых судах, работал в порту такелажником. А в прокуратуре, в кабинете следователя Маевского, в большом бумажном пакете, запечатанном пятью сургучными печатями, ждет своего часа петля из электрического шнура, та самая петля, которую сняли с шеи Лазаревой. Это единственное вещественное доказательство, которое пока еще не пущено в работу. Не пора ли? Следователь уже давно убежден, что Стулов — убийца. Если окажется, что узел на петле из электрического шнура является профессиональным, матросским, — нужно ли доказательство вернее? А если нет? Если выяснится, что это обычный узел, без сложностей и украшений, узел, похожий на миллионы других, никак не выражающий самобытность автора? Что тогда? Ведь это не только лишит обвинение еще одной улики, а серьезно подорвет ценность всех остальных. И это не только не укрепит избранную следователем версию, а породит новые сомнения. Может, лучше не рисковать?.. Вздор! Нужна истина, истина и еще раз истина. Только истина, и ничего больше. Все, что можно, должно быть проверено. Проверяют. Приглашают старейших, заслуженных моряков, износивших не одну тельняшку за годы своей службы во флоте, и нарекают их торжественным званием экспертов. В присутствии понятых они вскрывают запечатанный пакет и, вооружившись лупами, тщательно изучают злосчастный узел. Их ответ категоричен и прост: это профессиональный матросский узел, называется он «простой штык», широко распространен среди матросов Черноморья. Но есть одна закавыка: от «классической» формы «простого штыка» подопытный узел имеет небольшое отличие, весьма пустяшное искажение, которое, по мнению экспертов, не следует принимать в расчет. Не следует? Ну, уж это кому как: для крепости узла при разгрузке пароходного трюма это, может быть, и все равно. Но следствию «небольшие» и «пустяшные» искажения далеко не безразличны: каждая деталь полна глубокого значения, каждая мелочь говорит о многом. Неугомонный следователь Маевский идет к Стулову в тюрьму. Он понимает, что перед ним не дурак и что скрывать от него свой замысел совершенно бесполезно. Он и не скрывает: или — или. Или Стулов действительно убийца, и тогда годами укоренявшаяся привычка выдаст его. Или все улики — не больше чем нагромождение случайностей, трагическая цепь следственных ошибок, и тогда Стулов поможет ее разорвать. Пожалуйста, пусть пробует: его судьба в его же собственных руках. — Свяжите-ка, Стулов, несколько узлов, — говорит ему Маевский и протягивает захваченную с собой прочную капроновую тесьму. — Ло́вите? — деловито осведомляется Стулов. — Ловлю, — честно признается следователь. — А вы постарайтесь связать как-нибудь по-другому. И преспокойно отходит к окну. За его спиной молча трудится Стулов. Он старается. Очень старается. Обострившийся слух следователя улавливает позади тяжелое прерывистое дыхание, угадывает паузы для размышлений, чувствует, как дрожат и покрываются потом его большие огрубелые руки. — Готово! — говорит наконец Стулов. — Целых три узла. Сличайте, пожалуйста. Сличают. Придирчиво и внимательно сличают три экспериментальных узла с узлом на петле из электрического шнура. Абсолютное тождество! Тот же «простой штык»! И всюду — с одним и тем же искажением. От себя самого никуда не спрячешься, даже если очень стараться. Все ясно. Хватит. Пора судить.
У Стулова не было ни родных, ни знакомых — никого, кто мог бы о нем позаботиться. Но он не остался беззащитным. Суд сам выбрал ему адвоката — одного из лучших защитников в стране — и сказал: «Боритесь. Доказывайте. Спорьте. Помогите отыскать истину. Только истину, и ничего больше». Мы пришли к Стулову в тюрьму рано утром. Он вошел в комнату, где мы ждали его, заспанный и сердитый. — Я невиновен, — сказал он еще с порога. — Невиновен, так и знайте. Потом мы сели за стол, разложили все наши выписки из дела и снова прошлись по уликам — большим и малым, серьезным и не очень. И когда изрядно уставший от этой мучительной читки Брауде выдохнул наконец: «Амба!» — Стулов спросил: — А зачем мне было ее убивать? Он задал вопрос, который у каждого из нас невольно вертелся на языке. Точный ответ на него — сам по себе серьезная улика или противоулика. «Просто так» никто не убивает. Во всяком случае тот, кто находится в здравом уме и твердой памяти. «Cui prodest?» (кому выгодно?) — интересовались древнеримские юристы, когда совершалось какое-либо преступление. Кому это выгодно, тот, наверно, и преступник. Кто достиг или хотел таким путем чего-то достичь, тот, скорее всего, и виновен. Правило старое, но не устаревшее. И сегодня закон требует выяснять мотив преступления. Не только для того, чтобы дать преступлению правильную оценку, но и для того, чтобы помочь отысканию истины: нет мотива — нет и важного звена в цепи улик. Итак, «cui prodest»? Кому же было выгодно убивать Лазареву? Ответ неясен. Зато совершенно ясно, что если уж кому было невыгодно ее убивать, так это Стулову. Он тотчас лишался квартиры. Как временного жильца, не имевшего права на площадь, его немедленно выселили. Он тотчас лишался средств к существованию: лентяй, которого Лазарева полностью содержала, он вынужден был поступить на весьма скромно оплачиваемую работу, да притом еще далеко-далеко от Москвы. Не существовало никакой другой женщины, ради которой он мог бы пойти на убийство. Впрочем, если бы она и существовала, убийство не имело бы смысла, ибо Стулов и Лазарева формально ничем связаны не были. Не было и корысти. Все вещи, кроме ковровой дорожки, оказались на месте, а все деньги Лазарева хранила в сберкассе, завещав к тому же свой вклад киевской племяннице. Впрочем, его отношения с Лазаревой сложились так, что получить деньги у живой ему было гораздо легче, чем у мертвой. И не надо было платить за это столь дорогой ценой. Зачем же Стулов убил Лазареву? Зачем он оглушил ее, закинул на шею петлю и подтянул к потолку ее безжизненное тело? Зачем ему была нужна эта заранее обреченная на провал затея, эта странная игра, в которой проигрыш обеспечен, а выигрыш невозможен? Чего он достиг, этот хитрый и жестокий человек, подрубивший сук, на котором сидел, и погубивший не только Лазареву, но и самого себя? Всю ночь мы сидим с Брауде в его заваленной книгами и бумагами квартире и спорим, спорим, спорим… Он вышагивает по комнате из угла в угол, размахивая левой рукой, и одну за другой выдвигает разные версии, а я их опровергаю. Не забрался ли убийца через окно? Не замешаны ли соседи? Не напутал ли Маевский в своих расчетах? Потом мы меняемся местами, и все мои доводы он разбивает коротким и энергичным словом «чепуха». И когда все, даже самые фантастические, предположения продуманы, изучены и отвергнуты, остается только одно: Стулов действительно преступник. По свойственному молодости нетерпению и прямолинейности суждений я спешу сказать это вслух. Я жду, что Брауде оборвет меня и бросит свое обычное — жестокое и в то же время доброе (интонацией своей доброе): «Из тебя защитник, как из меня балерина». Но, вопреки моим опасениям, он задумчиво говорит: — Пожалуй, так. Он не верит в «нет» своего подзащитного. Но он должен его защищать. И он защищает. Он рассказывает суду о нашем ночном споре — рассказывает удивительно правдиво, искренне и задушевно. Он делится своими сомнениями. Он недоумевает. Он говорит, что бессмысленные преступления бывают только в плохих детективных романах. Он утверждает, что никто не станет хладнокровно и обдуманно убивать человека себе во вред. Он просит суд при вынесении приговора учесть этот важный довод. И суд учитывает его. Но, честно говоря, он все же слишком мал, чтобы поколебать здание обвинения. Десять лет лишения свободы — таков приговор по делу Стулова, одному из последних дел, над которыми мы работали вместе с Брауде. Я часто вспоминаю две тяжеленные папки, хранящие следы виртуозного искусства молодого следователя, и нашу беседу со Стуловым в тюрьме, и ночной спор, и всю обстановку этого судебного процесса. Столь странных и увлекательных дел в моей практике было не так уж много. И если бы меня спросили, не кажется ли мне, что суд допустил здесь ошибку, я, не колеблясь, ответил бы: «Нет, не кажется». Но зачем Стулов убил Лазареву, так и оставалось для меня загадкой.
И вот спустя несколько лет мне довелось снова услышать знакомую фамилию. В коридоре суда меня окликнула какая-то женщина: — Не знаете, где здесь судят Стулова? Стулова?! Неужели нашелся еще один преступник с такой редкой фамилией, по странной прихоти судьбы попавший чуть ли не в тот же зал, где судили того. Только это был не однофамилец. Это был он сам, мой старый знакомый, загадочный Василий Максимович Стулов. Он сильно сдал: ни наглой уверенности, ни сытого довольства не было в его отяжелевшем и смятом лице. Только беспокойно бегали налитые кровью глаза и так же, как встарь, нервически дергался его мясистый нос. Стулов встретился со мной взглядом и, видимо узнав меня, тотчас отвернулся. Я простоял несколько минут в душном переполненном зале, хотя смысл происшедшего мне, юристу, был ясен уже в то мгновение, как я узнал, что Стулова судят снова. Нет, он не совершил нового преступления. Его судили за старое, за очень давнее — такое давнее, что, казалось бы, пора было о нем уже позабыть. Но о нем не забыли. Пятнадцать лет искали опаснейшего преступника, фашистского полицая, на совести которого не одна человеческая жизнь. Он знал, что за ним идут по пятам. Он понимал, что когда-нибудь сорвется. Но долго и довольно искусно ему удавалось заметать следы. И все-таки он сорвался. Неосторожно вырвавшееся слово заставило Лазареву вздрогнуть. Она ничего толком не поняла, но ей стало ясно, что Стулов скрывает страшную тайну. Он безошибочно прочел ее мысли. И решил, что Лазаревой не жить… Я хорошо помню, что и Маевский, и Брауде предполагали и это. Как сейчас вижу: заваленная бумагами комната, ночничок, тускло горящий в углу; Брауде стоит у окна, вытирает слезящиеся от усталости глаза и ворчит со своей обычной хрипотцой: — Может, он ее из страха кокнул?.. Может, она пронюхала о нем что-нибудь… Как ты думаешь? А мне совершенно не хочется думать, я устал и чертовски хочу спать. — Не может быть, — вяло говорю я, чтобы сказать хоть что-нибудь. — Не может быть… — передразнивает меня Брауде. — Тоже мне Спиноза. Но то, о чем смутно догадывались и следователь, и адвокат, подтвердилось. Тогда это были предположения, их нечем было обосновать. Теперь же другие люди, с не меньшим упорством распутавшие клубок другого преступления, доказали правоту талантливых своих коллег, отыскав последнее звено в железной цепи улик. Загадки больше не было.
1963
ПЕРВАЯ КОМАНДИРОВКА
Они жили неплохо, пока он не встретился с Лизой. А Лиза была городской знаменитостью — парикмахером мужского зала; побриться у нее считал за честь даже председатель местного горкомхоза. Потому что Лиза слыла за женщину неслыханной красоты, и в этом не было особого преувеличения. Потом, когда я увидел ее — в суде, подурневшую, с запавшими глазами, перепачканную пунцовой помадой, еще резче подчеркивавшей неживую бледность одутловатого лица, — даже там я понял, что Тоне она не чета и что сох по ней, наверно, не один Кисляков. Была она замужем за человеком солидным, уже в годах, — инженером с зарплатой и положением. Он любил ее до беспамятства, сам обед готовил и мыл полы — сберегал ее красоту. Все ей завидовали, и она смеясь говорила, что тоже завидует самой себе. Потом появился Кисляков, водитель автобуса, что ходит от завода до рынка, — и разом сломались две семьи… Инженер был гордым и сильным человеком: он ушел, не сказав ни слова, уехал к матери, в Подмосковье, и никто не знал, как ему лихо, — а ему было очень лихо, потому что остался он не только без любимой, но и еще и без сына. Сыну шел четвертый год. Лиза сказала: «Генку не отдам — ему материнский уход нужен». И отец покорился. А через несколько месяцев — телеграмма: «Ваш сын погиб. Приезжайте немедленно». И подпись: прокурор района. …Милицию вызвал сам Кисляков. Милицию и врача. «Скорее, сын умирает», — крикнул он в телефонную трубку. Сын не умирал — он уже умер. «Давно, — заметил доктор, — часа два назад». Кисляков не спорил. — Я вернулся домой, — рассказывал он, — слышу — тихо, никого вроде нет. А Генка один оставался, и дверь заперта, так что он убежать не мог. Я его на кухне нашел… Лежал лицом вниз, в крови, и не двигался. Но мне кажется — дышал. Я схватил его, перенес на кровать, стал искусственное дыхание делать, как нас в армии учили. Все впустую… — А где мать ребенка? — спросили его. Он спохватился: — Верно, что ж это я?! Мать на работе, совсем забыл позвонить ей, растерялся… Надо Лизу вызвать. И отца… — Как отца? А вы кто же? — Следователь был приезжий, городских знаменитостей не знал. — Я… Отец, да не совсем. Отчим… Лиза прибежала, запыхавшись, в хрустяще белом своем халате, кинулась к сыну, но кричала не громко, и слез почти не было, и озиралась испуганно, и повторяла зачем-то: «А что теперь будет?» Это не следователь заметил, не милиционер, не врач, а соседи, безмолвно стоявшие поодаль и подмечавшие все, до мельчайшей детальки. Их наблюдения вошли потом в протокол. И стали уликой. А отец, инженер Додонов Дмитрий Архипович, об этих детальках не знал. Но и не зная, был убежден: Кисляков убил, больше некому. Один? Едва ли… С женой! Нет, не месть говорила в нем, не злоба. Генку Кисляков не любил и этого никогда не скрывал. Даже Лиза сказала как-то Додонову, когда приезжал навещать сына: — Коля советует парня тебе отдать. А я все равно не отдам. Не могу без него, понял?.. Тогда ему казалось, что это и правда любовь говорит в ней, материнская любовь к сыну. Теперь он думал иначе: что бы значило это признанье? Для чего оно? Может быть, для того, чтобы отвести от себя подозрения, если что-то случится? Выходит, знала, что может случиться… Или догадывалась хотя бы… Он написал заявление, размножил его и отправил в десять адресов. «Требую расстрелять взбесившихся извергов, убивших моего ребенка: родную мать и отчима», — так оно начиналось. А в прокуратуре и без того склонялись к этой же версии, потому что заключение эксперта почти исключало другую. На горле и шее эксперт нашел много царапин, по форме напоминающих серпик лунного месяца, — следы от ногтей… И — что еще важнее — такие повреждения в легких, которые всегда остаются, если горло сдавить руками. Но кому же еще Гена встал поперек дороги? Кто мог зайти в их дом и убить ребенка, которому не было четырех лет? Да и — зачем? Все вещи лежали нетронутыми, следов чужого присутствия не было никаких. На лице и голове было много ушибов и ссадин — видно, мальчик пытался вырваться, борясь за свою жизнь. Но решительно ничего, что говорило бы о борьбе, ни в кухне, ни в комнатах найти не удалось, — только стул с обломанной ножкой. Но он был сломан давным-давно, это все подтвердили — знакомые и соседи. Зато на руках у Кислякова были царапины, а костюм его, перепачканный кровью, говорил сам за себя. Ну, а если все это — чья-то чудовищная инсценировка? Если ребенка убили из мести? Если сделали его жертвой, чтобы сквитать с кем-то счеты? С матерью, например. Или с Кисляковым. С матерью — чтобы отнять у нее сына. С Кисляковым — потому что подозрение конечно же пало бы на него. Следствие думало и об этом. И Додонова подозревало оно, и Тоню. Да, и Тоню… Что поделать? Такова уж наша работа. Для юриста нет людей заведомо честных. И заведомо нечестных нет тоже. Приходится подозревать любого, к кому ведет хоть какая-то нить. В этом нет стремления кого-то обидеть, нет равнодушия к человеческим судьбам. Совсем напротив: чем больше версий, тем меньше риска впасть в ошибку, тем вернее путь к истине. Хотя и длиннее. Лишь бы только подозрение само по себе не превратилось в улику. В улику без доказательств. Так бывает. Увы, так бывает. В э т о м деле — так не было. Ничто не подтверждало версию, что к убийству причастна Тоня. А Додонов — это установили совершенно точно — в час, когда погиб его сын, выступал на институтской конференции, за двести с лишним километров отсюда. Значит, Кисляков, больше некому. Что с того, что сначала он отпирался? Потом-то сознался. Рассказал, как все это было. Ему не хотелось убивать Генку — ведь не изверг же он, как думает Додонов. Просто очень уж сильно похож был Генка на своего отца, так похож, что тот словно бы жил вместе с ними. Сколько же можно терпеть эту пытку? Да и вообще — зачем ему пасынок? Сына хотел он — родного, своего. Сотни раз говорил Лизе: «Отдай Генку отцу, так будет лучше для всех. А ты родишь другого…» Уперлась, и все! И вот — довела… Все было ясно в этом признанье, кроме одного: почему Кисляков ничего не сделал, чтобы отвести от себя подозрение, — ведь убивал он не для того, чтобы сразу же сесть в тюрьму? Жить он хотел — с Лизой, на воле, не терзаясь ревностью к своему предшественнику, не неся бремя ненавистных забот. Тогда надо же сделать хоть что-то, чтобы спасти самого себя! Он не сделал ничего, беззаботно подставил себя под удар. Значит, не такой уж он холодный и расчетливый циник, а жертва страстей, необузданных сильных порывов, которая вправе рассчитывать на снисхождение вдумчивых судей. С этой мыслью я и пришел к нему в тюрьму, чтобы поделиться своим планом защиты. Тоня показывала мне его фотографии, я хорошо их запомнил. Но человека, который сидел передо мной, было трудно узнать. Он зарос белесой щетиной, под глазами набухли синие мешки. Левое веко дергалось, а руки нервно ковырялись в дыре на прохудившейся куртке. Мне хотелось сказать ему какие-то ничего не значащие утешительные слова, он угадал мое желание, опередил: — Здравствуйте, батюшка, зачем пожаловали? Мне было двадцать с небольшим, я воспринял это как обиду. — Почему батюшка? — спросил я. — Ну а кто же? Пришли утешать да проповедовать — батюшка, значит, и есть. Я не против, валяйте… Он слушал долго, не перебивал, потом вдруг улыбнулся: — А я, между прочим, не виноват. Вы там как хотите, а я не виноват. Так в суде и скажу. — Но ведь вы же признались?! — удивился я, вспоминая свой разговор с Казначеевым. — Ну и что?.. Следователь сказал: «Признавайтесь, лучше будет. Этим вы облегчите свою участь. Все равно все доказано». Я подумал — и признался. Оно и верно, факты против меня. Чего зря время тратить? Пишите, говорю, — я убил. А потом подумал еще раз — времени-то у меня здесь хватает. Зачем, думаю, зря грех на душу брать? Если под расстрел попаду, буду хоть знать, что сам я к этому руки не приложил. А не расстреляют — так еще поборемся. — Хорошо, пусть не вы, но кто же тогда убил Гену? — Спросите о чем-нибудь полегче… — развел руками Кисляков.
Можно ли в чем-то убедить судей, не убедив сначала самого себя? Спору нет, был выход. Сказать: есть сомнения, товарищи судьи; неясно то-то и то-то; ну, а если неясно, то и приговор выносить преждевременно; пусть-ка следствие еще поработает, пусть проверит новые версии. И возможно, с этим суд даже бы согласился. Ну, а дальше? Какие версии стали бы проверять? Ведь те, что имелись, — их уже проверяли. Где другие? Есть ли они? Могут ли быть? Улики серьезны. Их слишком много. Они убедительны и логичны. Разве все преступники сознаются? Сколько их упорствует, даже когда улики замыкаются в нерасторжимую цепь! Жизнь столкнула меня с проблемой, которой, наверно, столько лет, сколько лет уголовной защите. И, как ни странно, до сих пор эта проблема окончательно не решена. А может быть, впрочем, это не так уж и странно. Что делать защитнику, если подсудимый возражает против обвинения, подтвержденного доказательствами, от которых нельзя отмахнуться? Как быть, если спорит он с очевидным — спорит бессмысленно, во вред самому себе? Должен ли адвокат быть его «рабом» или, напротив, ему следует согласиться с горькой реальностью, вопреки решительному «нет» своего подзащитного? Ведь очень часто тому на пользу идет как раз не «нет», а «да»… Начнется суд, Кисляков скажет: «Не виновен», а я, защитник, его опровергну: не слушайте его, товарищи судьи! Не ведает он, что говорит, добра себе не желает. Конечно, виновен, но учтите вот эти доводы и вот эти — они смягчают его вину… Существует мнение, что может так поступать защитник — на то есть серьезные научные аргументы. Насчет науки тут, Может быть, все в порядке. А вот как — насчет морали? И еще одна проблема возникла передо мной. Есть правило, смысл которого мне и по сей день неясен. Впрочем, можно ли назвать его правилом: оно нигде не записано. Но и неписаное, оно незыблемо. И сурово. Попробуй нарушь его — не оберешься хлопот. Нельзя адвокату встречаться со свидетелями до слушания дела. Нельзя говорить с ними, нельзя выяснить то, что ему неясно. Запрещается это — строго-настрого. Но — почему? Прокурору — можно, а мне — нет. Мы ведь вроде бы с ним равноправны. И цель у нас одна: истина. Только истина, и ничего больше. Говорят, адвокат может воздействовать на свидетеля, подговорить его, что ли… Может, наверно. А прокурор — разве не может? Но пристало ли его в этом подозревать? Загодя. Чохом. И адвоката тоже — разве пристало? Если бы на следствии свидетеля всегда допрашивали в присутствии защитника, вся проблема перестала бы существовать. Но она существует… …Я сижу в квартире Кисляковых, опустевшей и неуютной, где хозяйничает мать Николая — она приехала издалека. А Тоня, робея, приводит ко мне все новых и новых соседей — в надежде, что эти беседы помогут хоть что-то понять. Ключ от входной двери был один, его оставляли под ковриком на крыльце, и об этом знал чуть ли не весь дом. Когда взрослые уходили, они запирали Гену, чтобы не убежал на улицу, но войти в квартиру практически мог любой. Не здесь ли таится разгадка? Если знать, когда взрослых нет дома, и найти ключ, можно спокойно зайти в квартиру. Это мог сделать человек, к семье достаточно близкий — тот, кто часто бывает в доме. Потому хотя бы, что иначе это привлекло бы внимание соседей, да и Гена, испугавшись чужого, мог поднять крик. Конечно, это был (если был!) человек близкий, кровно чем-то задетый, — чужой не стал бы убивать ребенка, разве что тот оказался невольным свидетелем тяжкого преступления. Но — какого? Чему мог быть свидетелем трехлетний ребенок в тот утренний час, когда мать ушла на работу, а отчим — в пивную: он работал после обеда и спешил выпить пораньше, чтобы успел пройти хмель. Но чья же, чья это месть, чья обида, обернувшаяся чудовищным зверством? Мы перебрали всех завсегдатаев этого дома, и, когда дошли до Клавдии, Тоня прикусила губу. Клавдия тоже была парикмахершей, работала вместе с Лизой, только в другую смену. Раньше она запросто бывала у Кисляковых — закадычная подруга, веселая, разбитная. А потом бывать перестала. Никто не знал — почему. Вроде бы старалась она отбить Кислякова, но тот посмеялся над ней, а Лиза прогнала. И Клавдия сказала, уходя: «Помни, даром тебе, Лизка, это не пройдет, наплачешься еще, и то — скоро». — Ерунда! — обрезал Кисляков, когда я высказал ему свое предположение. — Не так все было. Просто она меня в кино позвала, а Лиза говорит: «Не стыдно тебе, Клавдия, при жене ему на шею вешаться?» Она посмеялась и ушла. Чтобы из-за этого дитя убивать?! Да вы что… И Тоня сказала, подумав: — Нет, не может этого быть. Не такая она девчонка… Это был не довод, конечно: «не такая». Но ссора — тоже еще не улика. Наверно, все же это сам Кисляков. Некому больше. И незачем. Ведь и Лиза призналась, не он один. Хоть и не сразу, а призналась. «Раз Николай открыл правду, то и мне ничего другого не остается, — написала она прокурору. — Вместе мы задумали это дело, а он исполнил. Боялась я, как бы он не бросил меня из-за сына. Больше ничего не скажу». И верно, ничего не сказала. Есть несколько актов: «Отвечать на вопросы отказывается». Тоже, между прочим, понятно: молчать легче. И снова — разговоры с соседями… Снова вспоминают они то страшное утро — за минутой минуту. Как ждали Лизу, и как она прибежала, и как себя вела. — Странно, — говорит одна женщина. — Очень странно. Вошла, на Геночку даже не посмотрела — сразу на Николая. Долго смотрела, и губы все шевелились… И ни разу не вскрикнула. — Да, странно вела себя, — добавляет другая, сухонькой ладошкой разрубая воздух. — Но никуда она не смотрела, а закрыла глаза руками, стала — и стоит. «Колька, кричит, что ж теперь будет?» Когда такое горе, на людях стараются быть, а она нас выпроваживает. Не наше, мол, дело… — Это не она выпроваживала, а милиция, — вмешалась третья. — Лейтенант сказал: «Посторонних прошу удалиться». А Лизка еще спросила: «Я тоже посторонняя?» Родного сына убили, акт составляют, а она себя посторонней считает. Намекает, значит, что она тут вовсе ни при чем… И я вспомнил наглядный урок, который дал нам в студенческие мои годы профессор И. Н. Якимов, повторивший по-своему известный эксперимент Анатолия Федоровича Кони. «Сейчас произойдет одно важное событие, — сказал он как-то на лекции. — Смотрите и запоминайте». «Важное событие» вошло в зал в образе тети Маши, нашей уборщицы, — она принесла профессору чай. А потом каждый из нас, не совещаясь друг с другом, записал все, что он запомнил: как вошла, в чем была одета, что сделала сначала и что потом, и как встретил ее Якимов, и как проводил, и который был час. Во всех «сочинениях» совпало только одно: тетя Маша принесла чай… …Если шла борьба, если ребенок вырывался и кричал, то должен же был хоть кто-нибудь слышать шум. Правда, силы были неравны: взрослый мужчина — и трехлетний ребенок. Но ссадин и синяков было так много, что без борьбы обошлось едва ли. Откуда же иначе им взяться — ссадинам и синякам? Я ушел к соседям, чтобы проверить: слышно ли там что-нибудь, если у Кисляковых шум. Все было слышно, решительно все, хотя Тоня, по-моему, перестаралась: слишком уж яростно колотила она о стены и мебель, слишком натурально билась в кухне о пол — в том самом месте, где Гену нашли мертвым. Но, вернувшись, я застал ее не плачущей, а счастливой. — Убедились?.. — торжествовала она. — Все слышно! Да, все было слышно, но и это не говорило еще ни о чем: соседи могли слышать шум, но не придать ему значения. …В мой «отель», где я жил эти дни, она примчалась на следующее утро чуть свет. Я встретил ее упреком: — Тоня, нельзя так… По городу уже слух пустили, что у вас с адвокатом роман. — Знаю… Плевать!.. — отмахнулась она. — Вот посмотрите… Сорвав с себя платок, Тоня обнажила лицо и шею. Вся она была в ссадинах, в плохо запекшихся ранках. — Что ж это вы вчера с собой наделали?! — крикнул я. — Отправляйтесь живо в больницу. — Зачем? — усмехнулась она. — И так заживет… Присмотритесь-ка лучше к ранкам. Не узнаете? Уже через десять минут мы были снова у Кисляковых. Ну да, конечно, вот он, трухлявый от времени, ржавый лист железа, прибитый к полу у печки. Его загнувшиеся вверх рваные края похожи на кружево. Это о них вчера поранилась Тоня; следы порезов на шее и лице напоминают серпики лунного месяца, совсем как на лице убитого мальчика. Лист прибит у печки, а слева от него — водопроводная раковина… — Узнайте, пожалуйста, у вашей подопечной, — говорю я коллеге, который защищает Лизу, — оставляла ли она Гене воды, когда из дома уходили взрослые? И уверена ли она по-прежнему в своей вине? Через несколько часов — ответ: воды не оставляли, Гена сам взбирался на стул и пил из крана. А насчет вины?.. Когда узнала, что Кисляков от признания отказался, — заплакала навзрыд: «Как гора с плеч упала… Я никогда не верила, что он убил. Подозревала, но не верила. И на себя с отчаянья наговорила: сына нет, одного мужа бросила, другой — убийца, расстреляют его. Как мне жить теперь? И зачем? Вот и созналась… А раз Николай ни при чем, я-то — тем более…» Неожиданно «заиграла» одна фраза из судебно-медицинского акта, которая до сих пор казалась не имеющей отношения к делу: «в желудке Геннадия Додонова обнаружено значительное количество воды». Значит, перед самой гибелью он напился. А пил он из крана. Для этого надо было встать на стул. У стула была отломана ножка, но им продолжали пользоваться, слегка подклеив ножку столярным клеем. Другого стула в кухне не было вообще. Ножка подломилась, и Гена упал. Обо что же он ударился? О косяк плиты? Такой удар мог быть смертельным. И верно, на правой части черепа обнаружен след от удара, но его сочли полученным после смерти, когда Кисляков перетаскивал труп. А если — до? И эти ранки — они ведь не только на шее, но и на лице — на щеке, на носу и даже на ухе. Так не душат… А вот если ребенок упал на рваный металлический лист, то происхождение ранок становится объяснимым. Все верно, только нет стула, чтобы это проверить, — мать Кислякова успела его сжечь. Откуда ей знать, что он может спасти ее сына?.. И осталось незыблемым заключение эксперта о повреждениях в легких, повреждениях, которые бывают, как сказано там, лишь если «смерть последовала от удушения». Этот довод один стоит всех остальных, но опровергнуть его мы не можем — ведь мы не врачи. И назначить новую экспертизу мы тоже не вправе — это дело суда. Только суда. А суд не хочет ее назначать. Ему все ясно и так. Слишком много улик. И слишком они весомы. И выносится приговор — осудить. …Прошел не один месяц, пока прокуратура решила, что не так все ясно, как это казалось, и что делом надо заняться снова. Это могло случиться и раньше, если бы не Додонов: он писал, требовал, угрожал. Был он и у меня — симпатичный, скромный такой, с тихим голосом. Придавленный горем, которое на него свалилось. — Что это вы, — сказал он с укором, — о гуманизме рассуждаете, о совести, а выгораживаете убийц?.. — Не убийц, а истину, — ответил я. — Не выгораживаю, а ищу. — Все слова, слова, слова… — Он грустно покачал головой. — Ну, хоть маленькое-то сомнение у вас есть? Хоть на минутку вы можете допустить, что эти звери — убийцы? Я уже не мог допустить это даже на минутку, но осторожность взяла верх. — На минутку — пожалуй, — сказал я. — И ваша совесть будет чиста, если люди, в чьей не виновности вы убеждены не до конца, останутся на свободе? — Ну, а ваша будет чиста, если люди, чья виновность не доказана абсолютно, окажутся за решеткой? А один из них даже расстрелян? Он помолчал. — Но ведь должен же кто-то ответить за смерть моего мальчика! — В его голосе звучали слезы. — За несчастный случай — кто может ответить?.. Сейчас, когда я пишу эти строки, передо мной лежит письмо из одного дальневосточного городка. Три года назад, нечаянно сорвавшись с поезда, погибла девушка — студентка. Вот уже одиннадцатая экспертиза подтвердила решительно: несчастный случай. Но мать не верит, не хочет с этим смириться — ее горе огромно. И она пишет и пишет, называя все новые имена — имена возможных убийц. Как убедить ее, что не все свершается непременно по злой воле, что сплошь и рядом мы становимся жертвами случая, за который некого карать? Некого и — недопустимо. Потому что несправедливость не утоляет боль, а плодит зло, не смягчает горечь утраты, а ожесточает и унижает… …Новая экспертиза подтвердила наши догадки. Оказалось, что те изменения в легких, о которых шла речь, бывают и при повреждении костей черепа и вещества мозга. Замкнулось последнее звено в цепи рассуждений, которое имело целью только одно: доказать, что вина Кисляковых не доказана и что, значит, осудить их — нельзя. Когда уже был принесен протест, когда до их освобождения оставались считанные недели, пришла ко мне Тоня, которая за все эти месяцы стала в нашей консультации частым гостем. Я смотрел на нее, и так мне стало обидно за то, что ее ждет… — Слушайте, Тоня, — сказал я, — а ведь Николай все равно к вам не вернется. Я боялся поранить ее, но хотелось расставить все на свои места, чтобы не жила она напрасной надеждой. — Знаю… — спокойно сказала Тоня. — Это дело решенное. Окончательно. Да и что теперь говорить?! Выхожу замуж… Сыграем свадьбу и уедем. Насовсем… — Счастливый путь, — сказал я. — Счастливый вам путь, коллега. И спасибо за помощь. Поступайте, Тоня, на юридический. Правда, поступайте, я не смеюсь… Я-то не смеялся, а вот она улыбнулась: — Что вы!.. Куда уж теперь?.. Поздно! Буду растить детей…
1969
ПОДВИГ ГАЛИНОЙ МАМЫ
«Между нами все кончено. Не пиши мне больше и не пытайся меня искать: я уезжаю совсем, и мы никогда не встретимся. Я хорошо подумала и поняла, что совершенно не люблю тебя. Забудь все, что было. Галя».А неделей раньше было датировано другое письмо:
«Славчик, милый, до нашей встречи осталось целых 57 дней. Мне кажется, я не дождусь тебя и сама прилечу в Москву. Приезжай поскорее, Славчик…»Всего неделя разделяла эти письма, но между ними — целая пропасть. Только почерк один и тот же.
Мамин план осуществлялся блестяще. Сделали так: открыли географическую карту, ткнули пальцем — жребий пал на безвестный сибирский городок. В нем и появилась на свет Маришка. Ни одна живая душа не знала здесь Галю и ее мать, и ни на один день не собирались они здесь задерживаться. Поэтому толки в этом городке Галину маму не волновали. Она решилась даже на преступление: сумела найти «ход» к некоторым деятелям местного загса, и те за взятку зарегистрировали Марину как ее дочь. И вот с «чистыми» документами Галина мама отправляется в Киев. Муж уже там и ждет жену с крохотной «дочкой» — новые соседи, новые сослуживцы, новые знакомые и друзья знают о том, что «на старости лет» у Галиной мамы появился младенец. Накрыт стол, льется вино, «счастливых родителей» поздравляют с прибавлением семейства. Ни у кого нет никаких подозрений, Галина мама торжествует победу. Она спасла честь дочери, честь семьи, вышла из положения, решила тягчайшую задачу, которую неожиданно задала ей дочь. Впрочем, задача еще решена не полностью: надо поскорее выдать дочь замуж, навсегда поставить крест на том, что было. Надо спешить, пока Галя не повзрослеет, не взбунтуется, не захочет устроить жизнь по-своему. А вдруг Галя не примирится с тем, что она — не мама Маришки, вдруг невзначай себя выдаст? Тогда — все насмарку, тогда срам и позор, никто не одарит ее своим вниманием, и останется она, бедная, навек не то старой девой, не то соломенною вдовой. Вскоре Галю знакомят с одним молодым человеком. Его зовут Геннадий. Через несколько месяцев он получит диплом инженера. Он действительно очень милый, культурный юноша. Ему действительно очень нравится Галя. И хотя у нее нет к нему никакой любви, он тоже чем-то ей симпатичен. Проходит несколько месяцев и, подчиняясь не голосу сердца, а настойчивости своей мамы, Галя выходит за Геннадия замуж. Галина мама считает это редкой удачей. Ей досадно лишь оттого, что она не может раззвонить о своем подвиге друзьям и знакомым. Она хитра и достаточно умна, эта Галина мама. Она-то не проговорится, будьте уверены. А чтобы никакие соблазны не обуревали и Галю, беспокойная женщина снова снимается с места и вместе с мужем и Мариной уезжает в Казахстан, к двоюродной сестре, оставляя Галю и Геннадия самостоятельно вить свое гнездышко: ей за дочь уже не страшно — пусть живет как хочет. «С глаз долой — из сердца вон», — решает Галина мама. Разлучили Галю со Славой, она и выкинула его из головы. Теперь уедет Марина, и Галя совсем забудет про то, что было. Сбывается и эта мамина надежда. Галя редко вспоминает о Марине: новые заботы, уйма хозяйственных дел, институт отвлекают ее от недозволенных дум. Правда, нет-нет да и вспомнится Слава, его шутки, его глаза, его руки. Но Галя отгоняет эти бередящие душу мысли: детство кончилось, началась другая, взрослая жизнь. «Брось несбыточные надежды, смотри на вещи трезво», — говорила мама. И Галя старается. «Где ты видела настоящую любовь? — вопрошала мама. — Разве она есть?» Всходит, нету, если ее обманул даже Слава. Галя верная жена, хорошая хозяйка. А на душе пусто, эту пустоту не заполнишь вылазками в театр или вечерами с танцами. Пусто на душе, и от этого жизнь скучна и пресна. Но все же она идет своим чередом, и скоро на свет появляется Женька, сын Геннадия и Гали. Проходит еще несколько лет. Ни взлетов, ни падений. Кончен вуз, неплохая работа, и комната, слава богу, ничего, и муж «не пьет, не гуляет». Но отчего же так тоскливо, так скучно и все не радует — все, чему положено радовать? Этого Галя не знает. А жизнь идет… Наступает очередное лето, родители Гали приглашают ее с мужем и сыном приехать к ним погостить. Целых пять лет прошло, как они живут в Казахстане, и за все эти пять лет они не виделись ни разу: Галина мама умеет держать себя в руках, у нее есть воля и есть характер. Но теперь, пожалуй, не опасно ослабить струну — ведь прошло столько лет, и все улеглось, а повидать дочь и внука все-таки хочется. Галя, Геннадий и Женька садятся в поезд. Всю дорогу Галя не перестает говорить о матери, об отце, о «сестре», предвкушая радость встречи после долгой разлуки. Они сходят с поезда и еще добрых сто километров трясутся в машине. В затерянном посреди степи городке, у порога небольшого глинобитного домика их встречает вся семья: такой же моложавый, застенчиво улыбающийся отец, заметно постаревшая мать в праздничном платье и худенькая девчушка с огромным белым бантом в густых каштановых волосах. Галя останавливается и не может подойти к ней. Она чувствует, что кровь жарко прилила к щекам, что подкашиваются ноги. Она стоит и молчит. Мать первая приходит в себя и, догадываясь, что сейчас может случиться непоправимое, закрывает девочку своим крупным телом. «Маринка!» — отчаянно шепчет Галя и бросается к ней, даже не выпустив из рук чемодана. Она отталкивает мать, не видя ее предостерегающих жестов, не слыша ее испуганного: «Галя, ты что?!» Она покрывает дочь поцелуями, заглядывает ей в глаза, гладит и тормошит ее, снова целует и только твердит: «Маринка, Маринка!» Минуты длится это. Кажется, что — часы. Еще ничего не сказано вслух, еще, на худой конец, все можно объяснить привязанностью к младшей сестре, повышенной чувствительностью, многолетней разлукой. Но тот, кто обманут, и так уже все понял, и все остальные поняли, что понял он. Только Женька невозмутимо гоняется за петухом, да сбитая с толку Маринка жмется в углу, молчит, не по-детски мучительно морща лоб. Постепенно волна первых потрясений спадает. Отец под благовидным предлогом спешит улизнуть из дома. Маринку отправляют к подруге. Мать с нарочитой веселостью начинает суетиться вокруг стола, следя недреманным оком, чтобы Галя и Геннадий не оказались без присмотра. Но все же наступает такой момент, когда, как ни тяни, надо расходиться по комнатам: за окнами — ночь. Галя и Геннадий остаются одни… Они молчат. Им трудно взглянуть друг на друга. Наконец Геннадий говорит подчеркнуто ласковым голосом: — Неужели нельзя было сказать правду? И больше — ни слова. Ни слова. Но Галя понимает, что все теперь пойдет по-иному, что ее безмятежной семейной идиллии пришел конец. Впрочем, ей это уже все равно. Все дни она проводит с Маринкой. Она гуляет с ней, часами держит у себя на коленях, возится с ней в песке, любуется из окна, когда Маринка с подругами прыгает через скакалочку… Она вглядывается в дочь и все время ловит себя на том, что старается отыскать в ней Славины черты. Она подмечает в Маринке его жесты, его улыбку, его разрез глаз, его наклон головы… Она идет с ней в чахлую дубовую рощицу, а перед глазами — чащоба, в которой они со Славой чуть не заблудились. Она идет с ней на озеро и вспоминает, как Слава учил ее плавать. На каждом шагу подстерегают ее мучительные, горько-счастливые воспоминания, и это становится невыносимым. Тогда созревает дерзкое решение. Днем, между завтраком и обедом, сказав, что идет с Маринкой погулять, и подбросив в почтовый ящик коротенькую записку, она без вещей и почти без денег, не простившись, вместе с дочерью уезжает в свой родной город. Здесь она узнает, что Слава — ныне инженер Вячеслав Алексеевич Бельский — работает после окончания института в Иркутске. Заняв у знакомых денег, Галя, не теряя ни одного дня, едет в Сибирь. В Иркутске ей без особого труда удается разыскать его. На звонок дверь открывают девочки-погодки, лет пяти-шести, и, узнав, кого нужно незнакомой тете, торжественно выводят из комнаты лысеющего папу.
Прочитав то злополучное письмо, Слава немедленно примчался домой. Здесь он узнал, что семья Гали неожиданно выехала из города, не сказав куда и зачем. Он бросился к Галиным подругам. Но те и сами были в полном неведении. Он послал телеграмму в Воронеж, в институт. Пришел ответ: «Подала заявление об уходе по болезни». Он возвратился в Москву. Ему вспомнились газетные статьи, где рассказывалось, как сотрудники милиции помогли отыскать родных и друзей, потерявшихся много лет назад. Их находили даже по случайно сохранившимся в памяти приметам. Слава помнил не случайные приметы. Он знал имя. Знал отчество. Знал фамилию и возраст. Неужели человек — песчинка, которую нельзя найти? Но милиция не разыскивает сбежавших возлюбленных. У нее есть дела и поважнее. У нее — да. Но у Славы не было дела важнее. Он просил. Он умолял, грозился и даже плакал. А в милиции сидят люди. Обыкновенные люди. И может быть, не совсем обыкновенные: уж такая у них работа. Человечная работа. — Ладно, — сказал начальник, — поищем. Некоторое время спустя пришел ворох адресов. Восемнадцатилетняя Галина Ивановна Портнова проживала и в Москве, и в Харькове, и в Нарьян-Маре, и в Андижане, и в Томской области, и в Рязанской, и еще в десятках городов и сел. Все Гали Портновы откликнулись на Славины письма. Все до одной! Среди них не было его Гали. — Видно, нигде не прописана, — сказал начальник. — Или сами чего-нибудь путаете. Два года мучился Слава, надеясь получить от исчезнувшей Гали хоть какие-нибудь известия. Но Галя молчала. И тогда девушка, которая была рядом, милая девушка, лишь немного напоминавшая Галю, но зато любившая преданней, стала его женой. …Это неправда, что чувство с годами проходит. Если настоящее — оно остается. Острота его может притупиться, свежесть — поблекнуть, но его глубина не станет мельче от того, что людей разделяют годы и километры, обиды и повседневные заботы. Вот и годы прошли, и тысячи километров легли между ними, и обид было немало, и заботы — маленькие и большие — каждый день одолевали обоих, а любовь осталась. И достаточно было толчка, чтобы все вернулось, чтобы снова были сказаны все слова — такие слова, после которых неизбежен вопрос: что же дальше? Что же дальше? Сломать две семьи, оставить полусиротами трех детей, перечеркнуть прошлое, которое — хочешь или не хочешь — всегда будет напоминать о себе, как ни старайся его забыть?.. Или все оставить по-прежнему и — пусть уж будет как было?.. Но ведь так, «как было», больше не будет. Будет вечный укор — хотя бы и молчаливый, — отчужденность и холод в семье, смятение в душе и постоянные мучительные сомнения: не сделана ли ошибка? Будет прозябание, а не жизнь, со слезами украдкой и неизбежными вспышками взаимных попреков. И все-таки — что же делать? Слава — мужчина, он первым должен взять себя в руки. Сказать жестокую правду. Убедить. Такой разговор происходит, становится ясно, что ломка невозможна, что возврата к старому нет. И они расстаются — на этот раз уже навсегда… Эту историю я случайно услышал в суде. Галя разводилась с Геннадием. Не для того чтобы соединиться со Славой, — об этом нельзя было и думать. Просто она уже не могла жить с человеком, которого не любила и который был ею так жестоко обманут. Она рассказала суду все, что случилось с нею, все, что тяготило ее. И Геннадий, находившийся в зале,наверное, только здесь узнал полную правду о своей жене. Суд развел их, справедливо посчитав, что семья не может быть построена на обмане. Ушли судьи, разными дорогами ушли Галя и Геннадий. А мы — все, кто находился в зале, — долго не могли разойтись. Только что перед нами, словно на киноэкране, промелькнула драма сломанной человеческой жизни. И вот он — ее конец. Но конец ли? Ведь и слезы, и горечь одиночества, и тоска — все еще впереди. В бессонные ночи еще не раз обожжет Галю мысль, что приходила к ней настоящая, большая любовь, о которой мечтает каждый, и что эта любовь так глупо и мелко была оболгана и опошлена. Оболгана и опошлена — ею самой… Слишком поздно поймет она, что любовь невозможна без веры в любимого, что, если любишь, ничто не страшно: ни смех дураков, ни треп пустомелей, ни коварные советы желающих только «добра». И что любовь, как бы это ни звучало банально, — дело серьезное. Она требует мужества, гордости, силы. Умения за себя постоять, а не сдаться без боя. Созрев для любви, человек должен быть готовым и к борьбе за нее — к преодолению тех препятствий, которые сплошь и рядом возникают на нашем пути. Должен… Но всегда ли готов? Не слишком ли часто верх берет малодушие? Робость? Страх перед сплетней, шепотком за спиной? И «подвиг» Галиной мамы торжествует над подвигом верности — подвигом, которому не суждено свершиться. И рассказ о любви — искалеченной и растоптанной — звучит в самом не подходящем для этого месте: в зале суда…
1960
КОЛЬЦО
…Человека, который сидит передо мной, нельзя назвать стариком. Не только потому, что ему еще нет шестидесяти. В его облике вообще нет ничего старческого. Он даже элегантен, тщательно выглаженный костюм спортивного покроя хорошо сочетается с модной стрижкой густых серебристых волос, ухоженные руки поглаживают только что купленный альбом цветных репродукций — он лежит, дрожа, у него на коленях, и мне все время кажется, что вот-вот шлепнется на пол… Но удивительно пустой, ничего не выражающий взгляд у этого человека. И такой ровный, такой бесцветный голос, хотя рассказывает он историю поистине страшную. Его зовут Виталий Романович Большаков, он врач, хирург, интересуется литературой, музыкой, искусством. Обожает Стендаля. Его суждения не банальны, за ними видна не нахватанность, а мысль. Он приехал поговорить, посоветоваться. Отвести душу. И ему не до Стендаля, хотя по дороге ко мне редкий альбом он все же купил. …Антон упал, даже не вскрикнув, сразу, после первого же удара. — Странно, — говорит Большаков, — меня всегда считали тщедушным. Я и сам так думал. А оказалось, что в определенные моменты рука обретает силу… И я смотрю на его руки, ухоженные, тонкие, и стараюсь представить себе тот «определенный момент», когда они обрели силу, чтобы убить человека. Не врага — товарища. Пусть счастливого соперника, но все же товарища и даже друга. Любовь слепа? Да, пожалуй. Неразделенная, она еще и зорка. Она видит то, что не заметно равнодушному взгляду. Ибо смотрит иначе — напряженно и ревниво. Для всех Лида и Антон были просто приятелями. Для Виталия — влюбленными. Он заметил это. Как? Кто знает… Заметил, и все. И понял, что это — всерьез. Он следил за каждым их шагом, ничем не выдавая себя. Зачем? Ясно — зачем: он очень любил Лиду. Больше жизни. Так он и сказал: больше жизни. Своей и чужой… Его считали застенчивым. А он был просто скрытным. Никто не знал, как он страдает. Он научился прятать свои чувства за дежурной улыбкой, за молчанием, за упорством, с каким одолевал пугающие своей толщиной научные труды. Что было ему делать? Уехать — и постараться все забыть? Или «выяснить отношения» — в надежде, что его «неземная» любовь не останется без ответа? Трудно сказать, как он поступил бы, если бы не слишком преуспел в своей слежке: оказалось, что Лида под секретом дважды посетила врача. Поликлиника была учебной базой того института, где учился Виталий. Узнать секрет не составило труда. Итак, скоро будет ребенок. Обычно, когда врач сообщал эту новость незамужней девчонке, были слезы, испуг. Но Лида обрадовалась: через месяц или два — свадьба, так она сказала врачу. Вот тогда и созрело решение. Оно казалось безумным, Виталий сам не верил, что исполнит его. «Убить, убить», — твердил он себе, но думалось, что это только слова — от бессилия и отчаяния, Так думалось. А делалось другое: вечерами уходил он «на работу» — изучал путь Антона от читальни домой, присматривался, где меньше пешеходов, где раньше гаснут окна в домах. И еще — заранее украл из «дежурки» тяжелую мраморную пепельницу, припрятав ее до поры до времени между двумя тюфяками. — Допустим, вам удалось бы скрыться, — говорю я Большакову. Мне тем легче это допустить, что я знаю определенно: ему удалось. — Но была ли гарантия, что Лида выйдет замуж за вас? Опять я вижу пустые, остановившиеся глаза, слегка оживленные снисходительной усмешкой. — Гарантии не было, был расчет: избавиться от ребенка уже поздно, а стать, как теперь выражаются, матерью-одиночкой — стыдно. Я знал нравы ее среды… В сущности, это был для меня единственный шанс. И он оказался счастливым. Счастливым?! Как чудовищно звучит это слово в рассказе о кровавой истории, искалечившей несколько судеб! И он сам, понимая это, вносит поправку. — Не счастливым, конечно, просто — удачным… Иначе говоря, все вышло именно так, как я предполагал. Когда Антона не стало, я сказал Лиде, что он доверительно раскрыл мне их тайну, что я знаю все, решительно все. И, ничем не выдав своих чувств, предложил покрыть грех — жениться на ней и признать ребенка своим. Для нее это был тоже единственный шанс. Наверно, если бы я предстал перед ней влюбленным, который воспользовался ее несчастьем, она бы отказалась… — Вы, однако, отличный психолог, — заметил я. — Пустяк… — Он улыбнулся застенчиво, совсем по-детски. — Свойство профессии: врач обязан быть психологом… Я знал, что она не любит меня, и не добивался любви. Но когда-то она должна была забыть того и жизнь — взять свое. Так мы и жили: жена без любви, а муж — с любовью, которую приходилось скрывать. Но Лида была моей, это главное… Оба они окончили институты, только Лиде работать не пришлось: после старшей, Машеньки, родилось еще двое — сын и дочь. А Виталий бурно делал карьеру: его слава хирурга перешагнула границы родного города, сотни людей стремились, чтобы он облегчил их недуги. И он облегчал, получая в ответ слова благодарности, взволнованные письма, подарки и цветы. Он действительно был хороший хирург и хороший психолог. И еще о нем говорили как об очень душевном, счастливом и мужественном человеке. О мужественном — потому что однажды он спас жизнь не на операционном столе, а в темном переулке, где два хулигана напали на беззащитную женщину и, пытаясь ее ограбить, нанесли ей несколько тяжелых ран. Доктор издали услышал крики, не мешкая, побежал на помощь. Он дрался не щадя себя. Избитый, окровавленный, он победил. И даже помог задержать одного из бандитов. В тот вечер Лида, прибежавшая в больницу, где коллеги перевязывали его раны, с необычной, восторженной нежностью прижалась к нему. И поцеловала так, что воспоминание об этом поцелуе жгло его всю жизнь. А потом была война. Он вернулся домой с двумя рядами орденских планок, с нашивками за ранение: ведь иногда приходилось оперировать чуть ли не на передовой. Вернулся человеком, честно исполнившим свой воинский долг. Впрочем, дома уже не было — его разрушила война. И матери не было тоже, она погибла. А тут пришло приглашение работать в институте, где он когда-то начинал свою студенческую жизнь. Возвращаться было боязно, тревожно, но Лида настаивала, да и времени прошло слишком уж много. — И вы решились? Он пожимает плечами: — А что делать? Лида могла бы заподозрить, возражай я слишком решительно. Да и, сказать по правде, тянуло туда. Какая-то магическая сила, которой нет названия… Они вернулись в город своей молодости, где все напоминало о прошлом, где каждый куст казался сыщиком, а каждый звонок — звонком «оттуда». Так прошло еще одиннадцать лет «счастливой семейной идиллии». Уже поседела голова, и появился внук — внук Антона и Лиды, которого он встречал на пороге родильного дома со слезами на глазах. Никто не знал, что это были за слезы… …Как-то поздней осенью он поехал с Лидой на Кавказ: все дети уже выросли, даже Алена, самая младшая, кончала школу. Алена-то и натворила беду. Искала какую-то затерявшуюся книгу и в куче рухляди на антресолях нашла маленький сверточек, запрятанный в укромном углу. Это было кольцо — слегка почерневшая медяшка, вполне пригодная, однако, для того, чтобы показаться несведущей девочке золотом. И она надела его, это кольцо, шутки ради на школьный вечер. А директором школы был друг ее родителей, который в далекие годы их юности учился вместе с Антоном и Лидой. Строгий педагог терпеть не мог побрякушек, которыми порой щеголяли его ученицы. И, заметив у Алены кольцо, он подозвал ее — для внушения. Двадцать шесть лет не выветрили из его памяти воспоминания о перстне Антона. О перстне, который тогда искали и не нашли. Он отнес его прокурору в ту же ночь… — Как же это вы оплошали? — спрашиваю я Большакова. — Все предусмотрели, и вот, пожалуйста… Перстень-то, на что он вам сдался?! Большаков молчит. Долго молчит. — Там была карточка Лиды, — тихо ответил он наконец. Еще не было в помине судебной психологии, а наблюдательные люди уже заметили, что убийцы не только жестоки, но подчас и сентиментальны. Передо мной сидел один из них — ничем вроде бы не примечательный экземпляр, многократно исследованный и описанный в специальной литературе. Но когда он заплакал от умиления, вспоминая, как, рискуя попасться, задержался возле своей бездыханной жертвы, чтобы сорвать этот перстень, и как потом он пронес его через годы, как прятал от жены, от детей и знакомых, — честное слово, я почувствовал холодок на спине… Конечно, это была чистая случайность — то, что Алена наткнулась на кольцо и что директор школы узнал его. Но, как известно, в каждой случайности проявляется закономерность: истина неизбежно раскрывается и правда в конце концов обязательно торжествует. На том стоит правосудие. Итак, преступление раскрыто, и наступает пора решать, что сделать с преступником. Со времени убийства прошло двадцать шесть лет. Формально это не помеха тому, чтобы убийцу постигла кара: таков закон, существовавший в то время. А вот нужно ли его карать — вопрос, на который не так-то легко ответить. Ради чего, собственно, судят и наказывают людей, нарушивших закон? Ведь единственное, к чему общество стремится, — не отомстить, не воздать за зло злом, а понудить этих людей соблюдать правила человеческого общежития, честным трудом своим искупить вину. Но разве тюрьма — единственное место, где исправляют людей, разве только за ее стенами можно достичь этой цели? Разве наше общество с его нравственным укладом, с его могучими воспитательными возможностями не влияет благотворно на человека, жестоко перед ним провинившегося, но не утратившего, однако, способности казнить самого себя и трезво оценивать свои поступки? Ту цель, которую суд преследует своим приговором, общество уже достигло: двадцать шесть лет оно незримо воспитывало Большакова. Трудом своим, ратными подвигами, четвертьвековой беспорочной жизнью он доказал, что исправление свершилось, и колония уже ничему научить его не может. Да, но свершилось ли возмездие? Может ли смириться совесть, если человек, случайно избегнувший суда, так и не будет наказан? Вправе ли мы простить убийство, если убийца, наказав себя сам унизительной, лживой своей жизнью, вечным страхом перед разоблачением, за все эти годы не нашел в себе мужества принести людям повинную? И только ли Антон на его совести? А Лида, у которой он хладнокровно отнял ее любовь? Как же быть с ним, с Виталием Большаковым? Отпустить с миром? Нет, невозможно. Наказать? Но зачем? Ни день, ни год, ни десять лет тюрьмы реального смысла уже не имели, а казнить его было нельзя. Оставалась пустая формальность — наказание, нисколько не отвечающее мере содеянного, просто символ справедливости, наглядное свидетельство тому, что правда — понятие не абстрактное. И он «получил» шесть лет. И все шесть отбыл. По канонам нравоучительных романов его должны были бы проклясть жена и дети. Но нет, жена ждала его — потрясенная, с опустошенной душой, но слишком поздно было начинать ей жизнь сначала. И его дети — родные дети — ждали тоже; он был преступник, но он был и отец. Только Машенька не простила. Он не знал, как смотреть людям в глаза, как разговаривать с женой, как вести себя с детьми. Много раз он думал наложить на себя руки, но сил не нашлось. Он работает, лечит людей, никто не напоминает ему о прошлом, но в каждом взгляде он читает себе приговор. Так и живет… Ко мне он приехал не только затем, чтобы поведать свою судьбу, но и чтобы получить помощь: ему хочется, чтобы старшая дочь сменила отчество, стала Марией Антоновной, так будет справедливо, этим он хоть как-то, хоть с опозданием вернет ей часть украденного — имя родного отца. Больше говорить было не о чем, он поднялся, чтобы уйти. Этот человек уже отбыл наказание за свой тяжкий грех, и, значит, он имел законное право на то внешнее уважение, которое мы оказываем любому, будь он нам трижды несимпатичен. К тому же я повидал и более страшных убийц, на их фоне мой собеседник выглядел кротким и жалким. Но пожать на прощанье руку доктору Большакову я не смог.
1969
ПРОИСШЕСТВИЕ В ПОЛНОЧЬ
1961
Как сложилась судьба тех, о ком вы сейчас прочитали? Сначала был суд: за групповой разбой и покушение на убийство. Я защищал Сережку и не скрою: на этот раз передо мной стояла не слишком трудная задача. Надо было только объяснить, каким образом он попал в эту компанию, как получилось, что за какие-то считанные минуты случайная встреча перевернула вверх дном его короткую жизнь. Я рассказал все, о чем здесь написано, и был понят: суд избрал для Сережки условное наказание. Клокову, помнится, дали шесть лет. Заливину — восемь, Пузану — двенадцать, а Денискину — пятнадцать. Но пятнадцать Денискин не отсидел — не хватило терпения. Он бежал и по дороге убил человека — только за то, что тот не сразу отдал ему свой чемодан. Через неделю Денискина поймали. Его снова судили, приговорили к расстрелу, и приговор этот приведен в исполнение. Пузан в колонии совершил новое преступление, ему добавили еще пять лет, и, насколько я знаю, он пребывает за «высоким забором» до сих пор. Следы Заливина потерялись, а Клокова я нашел через несколько лет: он был уже в другой колонии — отбывал наказание по другому делу. Сначала его выпустили условно-досрочно, какое-то время он держался, но потом снова втянулся в «блатные» дела: помогал приятелям по «отсидке» — не даром, конечно — прятать ворованное. Был изобличен и получил по заслугам. Ну, а Сережка доверие полностью оправдал. Ему было стыдно вернуться в свой класс, и его отправили к родным, в деревню, где Сережка начал работать в колхозе. Потом переехал в город, поступил на завод. Он кончил вечернюю школу, стал комсомольцем, честно рассказав новым друзьям все, что случилось с ним в ту новогоднюю ночь. Когда я его разыскал, он уже был студентом-заочником и еще — отцом годовалого сына. Жена работала вместе с ним, и Сережка писал о ней скупо, но нежно. Он дал мне «честное, честное, честное слово» напоминать о себе «хотя бы по праздникам», но слово свое не сдержал, и я на него ничуть не в обиде. Я привык, что обо мне вспоминают вовсе не в праздники. Так что пусть уж подольше не пишет!..
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
«Прошу привлечь к ответственности неизвестного мне мужчину, который влез в мою квартиру через окно и напал на меня».— Да, я кое-что вспомнил, — сказал следователю Саранцев, прочитав заявление. — Не все, но кое-что… Накануне вечером, рассказывал он, ему пришла в голову мысль забраться в чью-то квартиру. Он облюбовал тот дом, где его задержали, — невысокий, стоящий укромно в глубине двора. Для храбрости выпил пол-литра и полез на чердак. Оттуда выбрался на крышу. Ноги его не слушались. По мокрому скату крыши пришлось ползти на четвереньках. И все-таки он добрался до водосточной трубы, спустился под ней, нащупал карниз — скользкий, узкий и старый, штукатурка сыпалась под ногами, и порою ему казалось, что он тоже падает — вместе с ней. Но он шел и шел, упорно двигаясь к цели. Наткнулся на распахнутую створку окна. И увидел женщину, которая спала, подложив локоть под щеку. Итак — признание, оставалось только его подкрепить. И его подкрепили. Нашли чердак и трубу. И карниз. Убедились: по карнизу можно добраться до кузинского окна. Правда, было сомнение: а здоров ли Саранцев? Психически — нормален ли он? Ведь вроде бы для нормального человека достаточно странен тот способ, которым Саранцев решился проникнуть в чужое жилье. Экспертиза признала: абсолютно нормален. Никаких отклонений в психике. Разве что — мало контактен. Не желает говорить о своем деле. Но это вовсе не отклонение — скорее подтверждение психической полноценности: задним числом осознал то, что сделал, и стыдится говорить о своем позоре. А — с другой стороны: так ли уж странно, с позиций преступника, то, что Саранцев сделал? Разве не знаем мы, например, что воры влезают порой через окно? И не только на первый этаж… Уголовная хроника полна такими историями. Никого они не удивляют. Возмущают — да. Но — не удивляют… Так закончилось следствие, дело отправили в суд, и защита Саранцева была поручена мне. Я взялся за нее с легким сердцем, потому что она не сулила особых хлопот: преступник сознался, раскаялся, впервые судим, у него отличное прошлое, а преступление не причинило тяжких последствий. Он не может рассчитывать на оправдание, но на снисхождение — безусловно. Доказать это, добиться для него снисхождения не составляло, пожалуй, большого труда. …— Вот и отлично, — вяло произносит Саранцев, когда я коротко знакомлю его с планом защиты. — И пожалуйста, без подробностей, без длинных речей. Сколько дадут, столько дадут. Я на вас в претензии не буду. Он-то не будет, ну, а я сам?.. Весь вечер хожу по пустынным улицам, проговаривая свою завтрашнюю речь. Саранцев хочет не длинную. Длинной не может и быть. Сказать-то, в сущности, нечего. Эти просьбы о снисхождении, они ведь лежат на поверхности. Очевидны для каждого. Характеристику вытребовал не я: ее приобщил к делу следователь, подчеркнув карандашом все доброе, что сказано там о подсудимом. Дело и вправду простейшее, только вот роли в нем мне не оставлено никакой. Ну, а что, если он все-таки невменяем? Если врачи попросту не разобрались. Как-то не вяжется его преступление с обликом передовика производства, шофера первого класса, многолетнего члена месткома, чей авторитет безупречен. С обликом человека, про которого все говорят, что он застенчив и скромен. Водка могла преобразить его, это бесспорно. Особенно — сразу пол-литра. Человек, не привыкший к спиртному, может с собой и не совладать. Если бы, к примеру, Саранцев подрался, нахулиганил, надерзил, даже залез в карман или угнал чужую машину, я бы мог это как-то понять. Не оправдать, а понять. Объяснить самому себе психологический механизм поступка. Но тут я ничего понять не могу. Зачем ему понадобилось в ливень лезть на крышу незнакомого дома, спускаться по скользкой трубе, каждую минуту рискуя свалиться и сломать себе шею, потом балансировать на узком карнизе, не имея конкретной цели, не зная, будет ли на его пути открытое окно, что ждет его в комнате, удастся ли выбраться назад?.. И еще — такой очень важный вопрос: почему он напился? Что заставило этого трезвенника (из производственной характеристики: «За одиннадцать лет работы в автопарке Саранцев никогда не замечался употребляющим алкоголь») выпить сразу пол-литра? Да и где он их пил? Дома? Но Саранцев живет на другом конце города. В ресторане? Одному — ему вряд ли бы дали бутылку. Но допустим, что дали. Зачем в одиночку он пошел в ресторан? Какое горе залить? Или, может, он пил в подворотне? Приехал сюда километров за десять, выпил — и полез откалывать номера… Смешно? Нет. Абсурдно! Бред какой-то… Концы не сходятся с концами… Вопросов много, а ответа нет ни на один. Сплошные загадки. Процесс начинается в пустом зале — при закрытых дверях. Такие дела всегда слушают при закрытых, чтобы спокойно и неторопливо, без любопытных глаз, докопаться до истины. Но, похоже, до истины никто на этот раз докапываться не будет. Сам Саранцев склонен к этому меньше всего. Он спокойно сидит на скамье подсудимых, ко всему безучастный, и даже не смотрит в ту сторону, где — одна-одинешенька — надменно щурится темноволосая женщина с узким лицом античной красавицы. Сиреневый ажурный платочек лежит у нее на коленях, и этим платочком она то и дело осторожно дотрагивается до своих пламенеющих щек. — Саранцев, признаете себя виновным? — Да, признаю. — Желаете дать показания? — Я уже все сказал. — Значит, подтверждаете показания, которые вы дали на следствии? — Полностью подтверждаю. — Хотите их чем-нибудь дополнить? — Нет, не хочу. Потом Кузина повторяет то, что уже известно из дела. Повторяет слово в слово то, что говорила на следствии. Слово в слово — как записано в протоколе. Разве это не странно? Показания — не стихи, чтобы их учить наизусть. Для чего она, собственно, их заучила? Я задаю этот глупый вопрос — судья тут же его снимает. «Как вы можете, адвокат?! Насмешка над потерпевшей… Какая бестактность!» И действительно, как я могу? Мне вовсе не хочется над нею смеяться. Но в деле слишком уж много загадок. Кто же поможет их устранить? Саранцев явно не хочет. Кузина — тем более. Может, «бестактный» вопрос заставит ее разговориться? Нет, не заставит. Она смотрит на меня серыми, злыми глазами — холодно и надменно. — Я говорю то, что считаю нужным, — поясняет она, и в этой не слишком вежливой фразе мне чудится какой-то второй, тайный смысл. И только Саранцев ко всему безучастен — он вяло слушает, вяло отвечает, коротко, односложно. «Да…» «Нет…» Спешит к приговору. Ну, зачем, зачем ему так спешить?.. А пока что «проходят» свидетели. Постовой, дворник, понятые. Все они лично видели, как Саранцев спал в комнате Кузиной. Да, на кровати. Одетым. Обутым. Окно было распахнуто. И сломан цветочный горшок. Черепки валялись на полу, вместе с комьями земли. Свидетели помнят еще перевернутый стул, смятую скатерть и вырванную с мясом пуговицу от халата — она лежала посреди комнаты. Их показания звучат убедительно, но наводят на мысль, которая раньше никому в голову не приходила. Ливень кончился около часа, а Саранцев забрался в окно, когда дождь еще шел. К постовому же Кузина обратилась без четверти шесть. Что она делала все эти пять часов? Сопротивлялась? Но если у Саранцева хватило сил на пятичасовую борьбу, то мог ли он беспробудно заснуть, когда хмель уже стал проходить? Да и выдержала ли бы Кузина эту борьбу — ценой всего лишь одной пуговицы, слишком нарочито оказавшейся у всех на виду? Но если не было пятичасовой борьбы, то почему за помощью Кузина обратилась так поздно? Что мешало ей крикнуть хотя бы — во двор, из окна? Ливень кончился в час — ни в два, ни в три, ни в четыре он не мог уже заглушить ее крик. Наконец, в квартире есть телефон. Почему она просто не набрала ноль-два? А пока я ставлю себе эти вопросы и пытаюсь найти ответ, судебное заседание продолжается. Ученый эксперт с чертежами в руках авторитетно доказывает, что путь, пройденный Саранцевым от крыши до окна, «технически не невозможен». Другой эксперт приводит десятки примеров, когда совершенно пьяные люди сохраняли равновесие, двигаясь по неустойчивой, узкой доске. Бог с ними, с другими примерами. Нам они не указ. Нам важен Саранцев, его путь по карнизу — к спящей женщине, которую он не видел, не знал. Кто она, в сущности, эта Кузина? Из дела известно о ней так мало!.. Ей двадцать семь, у нее диплом инженера-мелиоратора, но по специальности она не работает. Она вообще нигде не работает. Давно ли? И чем занимается? Кузина замужем. Но кто он, ее муж? Какие у них отношения? Почему его не допросили? Куда ушел он в ту ночь? Как случилось, что Саранцеву так неслыханно повезло: забрался в квартиру, где не оказалось мужчины. Где вообще никого не было — кроме жертвы. Все эти вопросы я задаю в своей речи. Только вопросы, потому что ответов на них у меня нет. Но если есть вопросы и если они для дела существенны, без ответов нельзя вынести обвинительный приговор. Только этого я и хочу — подождать с приговором, доследовать дело, устранить неясности, чтобы не допустить ошибки. Кузина демонстративно уходит из зала, Саранцев еще ниже опускает голову и совсем скрывается за барьером, прокурор недоуменно пожимает плечами, судья нетерпеливо поглядывает на часы. — Саранцев, что бы скажете в последнем слове? — спрашивает он, когда я ставлю наконец последнюю точку. Не точку, собственно, — вопросительный знак. — Ничего, — хмуро произносит Саранцев и садится еще до того, как судья разрешает ему это сделать. — «Семь лет», — оглашается приговор, и Саранцев согласно кивает: хорошо, пусть семь лет. Нет, определенно тут что-то не так. Не может нормальный человек, случайно попавший в такой переплет, покорно принять приговор, который ломает жизнь. Самоубийца он, что ли? Но ведь до всей этой истории его знали иным. Весельчак, заводила, рубаха-парень, скорей ловелас, чем аскет, собиратель джазовых записей, любитель компаний, спортсмен и даже немножко лихач — с чего это вдруг он записался в святые? Утром — звонок из тюрьмы: Саранцев просит о встрече. Надо пойти, таков порядок, но я взбунтовался. Что он мне голову морочит, в самом-то деле!! Докопаюсь до истины, вот тогда и пойду. В моем распоряжении еще неделя — срок обжалования приговора. За эту неделю мне надо узнать много важных вещей. И я их узнал…
— Вы хотели мне что-то сказать? — спрашиваю Саранцева, придя к нему на свидание в последний день кассационного срока. — Да, хотел… — Его голос тревожен. — Вы подали жалобу?.. — Нет. Еще не подал. — И не подавайте. — Это почему же? — Не подавайте, и все! В конце концов, вы меня защищаете, а не себя. Так что решаю я. Он всерьез думал, что может мною повелевать, что я служу не истине, не правосудию, а лично ему. — Вы могли, — говорю, — отказаться от моих услуг. Но не отказались. И теперь мне придется до конца исполнить мой долг. Он бормочет растерянно: — Это… как?.. — А вот так, — усмехаюсь я и кладу перед ним сложенный вдвое листок. Листок — это официальная справка. В ней несколько строк:
«На ваш запрос сообщаем, что Кузин Владимир Юрьевич в ночь с 27 на 28 июля находился на ночном дежурстве с 23 до 6 часов утра».Он долго вчитывается в эти строчки. Поднимает голову. — Ну, и что? — Ничего… А теперь взгляните на свою записную книжку, которую вы оставили в диспетчерской и которой никто не поинтересовался, потому что для дела она вроде бы интереса не представляла. Саранцев протягивает руку, потом опускает ее. — Не надо, — говорит он устало, — я понял… Он понял: в его потрепанном блокнотике записан телефон будущей жертвы. Незнакомой женщины, к которой по чистой случайности он забрался через окно. …Он был молод и одинок, любил музыку, шум, веселье. Зимой он пропадал на катке, весной и летом — на танцплощадках. Это был его мир, его стихия, здесь он знакомился, сходился, ссорился, мирился. С беззаботной легкостью заводил подруг и с такой же — их покидал, отнюдь не мучаясь совестью. Он не был грубым или циничным, но и слишком щепетильным он тоже не был, жил в свое удовольствие, чураясь семейных уз и пуще всего боясь «втрескаться», чтобы не оказаться в ловушке. Однажды он, как всегда, пришел на танцы к восьми, сел в уголке и стал наблюдать. Площадка быстро наполнилась. Все были свои, завсегдатаи — знакомые, примелькавшиеся лица. И вдруг он увидел «чужую». Заложив руку за спину, она стояла у барьера в неестественно напряженной позе и скользила глазами по танцующим парам. Никто ее не приглашал, а она все стояла, не шелохнувшись, — на что-то надеялась, чего-то ждала. Они танцевали все танцы подряд, без передышки. Потом гуляли по весеннему парку, выбирая тропинки, где не было ни фонарей, ни людей. Сквозь листву проглядывала река, отраженные ею огоньки дрожали как звездочки. Собирались тучи, с реки потянуло прохладой. Тревожно зашуршавший в листве ветер обещал близкий дождь. Саранцев привычно обнял свою спутницу и накинул на ее плечи пахнущий бензином пиджак. Некоторое время спустя они сидели в той самой комнате на третьем этаже, где вскоре ему пришлось пережить свой позор. Первая любовь пришла к нему с большим опозданием, в нее трудно было поверить. Проходили недели, и не поверить в нее уже было нельзя. Они редко встречались — больше в те вечера, когда муж уходил на дежурство. И опять тянулись недели, надо было ждать и таиться, но ни ждать, ни таиться он не умел. Не умел и не хотел. Он звонил по телефону — сопел в трубку. Ждал на углу — чтобы мельком увидеть. И даже стоял во дворе под окном. Ему было стыдно самого себя и в то же время ничуть не стыдно, потому что в любви не бывает стыда — только страх любовь потерять. А терять ее ему не хотелось. Он теперь и представить себе не мог, что все пройдет и начнется старая жизнь. Старой больше не было и никогда не будет. Но будет ли новая? Любит ли Кузина так, чтобы бросить солидного мужа, беззаботную жизнь, обеспеченность и комфорт, стать женой недоучки, простого парня из ярославской деревни? Саранцев решился спросить и пришел наконец для серьезного разговора. Только самого малого ему не хватало: смелости первого слова. Поэтому он загодя выпил, чтобы развязался язык. …В милиции ему показали заявление Кузиной. Саранцев несколько раз перечитал беглые, размашистые строчки. Подделки не было: этот почерк он узнал бы из тысячи других. «…Неизвестного мне мужчину…» Это он — неизвестный, он, Саранцев, которому она открывала дверь, едва заслышав на лестнице его шаги? Это он напал на нее, он, Саранцев, который трижды ходил с закрытыми глазами по осыпающемуся карнизу, чтобы доказать ей, что ради нее готов на все? Да, готов. И сейчас — тоже. Ведь это он сам виноват, что так зверски напился. Так зверски, что не смог пробудиться даже под утро, когда вот-вот уже должен прийти муж… Что ж, если ей это нужно, пусть так и будет. Он спасет ее от позора любой ценой. — И чего вы добились? — говорю я ему. — Себя погубили… Ради чего? — Ради любви… — Чьей, Саранцев? Чьей любви? Ее? Но разве порядочная женщина может так поступить с любимым? Да что там с любимым?! С кем угодно… Это же подлость. Понимаете, подлость! Он строго меня обрывает: — Я прошу вас при мне не говорить о ней плохо. Зачем судить ее строго? Ну, растерялась… Неприятностей не хотелось… — Да вы думаете, что говорите?! Сопоставьте ее неприятности и ваши семь лет. — Кто же так сопоставляет? — Он смотрит на меня свысока, удивляясь тому, что я не понимаю простых вещей. — Слабость в конце концов извинительна. А любовь способна выдержать все. — Любовь!.. Да кому она будет нужна — через целых семь лет?! Если бы Кузина вас любила, стала бы бояться она неприятностей? Сказала бы мужу всю правду и ушла бы к вам. Разве не так? Саранцев пожимает плечами: — Не все так просто… Кажется, я нанес ему слишком жестокий удар. Не может быть, чтобы эти мысли не приходили в голову и ему. Но одно дело рассуждать самому, наедине с собой, впадая в отчаяние и озаряясь надеждой. И другое — когда с логической беспощадностью тебе говорят всю правду в глаза. — Знаете что… — Желобки морщин на его лбу стали, кажется, еще глубже. — Давайте так: вы пишите, что хотите, а я — ничего. И пусть будет что будет. Если у вас не получится, значит, не судьба… Видно, была не судьба… Кассационная жалоба отклонена. Надзорная — тоже. Жалоба за жалобой отправляются по инстанциям. И приходят ответы. Одинаковые ответы. Бланк отпечатан заранее: «оснований… не найдено». Не пора ли мне бросить эту бесплодную переписку? Признать бой проигранным, утешая себя, что сделано все возможное, что и в суде бывают ошибки? Бывают. Но там, где решаются судьбы людей, их быть не должно. Легко сказать — не должно. Как доказать, что все эти улики, показания свидетелей, доводы экспертов не более чем нагромождение случайностей, результат богатого воображения, плод лености мысли и некритической оценки поступков и слов? Ведь на каждую улику нужна противоулика. На показания свидетелей — показания других, опровергающие то, что подтверждает вину. Нельзя требовать, чтобы суд отверг доказательства, подкрепленные признанием самого подсудимого. Это азбука юстиции, смешно объявлять ее устаревшей. Где же найти противоулики? Где раздобыть истинных свидетелей? Не сам ли Саранцев постарался, чтобы их не было: ведь к Кузиной он всегда пробирался тайком. Ни один человек не знал об их связи. Кого же теперь он может позвать на помощь? Неужели так-таки некого? Разве Кузина и Саранцев встречались в пустыне? Разве они были совсем одни? А что, если призвать в свидетели стены? Заставить заговорить мебель? Услышать голос посуды, одежды, книг? А что, если сама Кузина уличит Кузину во лжи?.. Выход прост до предела. Нельзя поверить, что он явился так поздно. Лучше поздно, однако, чем никогда. Все кажется несложным, когда победа одержана. Но дается она нелегко. Каждое дело требует напряжения сил, внимания и размышлений, поисков и мастерства. А сил иногда не хватает. И мастерство приходит не сразу. Да и такая еще помеха: сам подсудимый упорно не хочет помочь самому себе. — Саранцев, мне уже надоело! Хватит, черт побери! Вы расскажете правду. И поможете мне, наконец. Мне и себе… Это я говорю тоже в комнате для свиданий, но — в другой. Прошел почти год. Саранцев в колонии. Работает. Соблюдает режим. Мне не пишет. Ко всему по-прежнему безучастен. Палец о палец не хочет ударить, чтобы вернуться домой. Я приехал к нему — на Урал, в далекую даль, и я не уеду отсюда, пока не заставлю его написать. То, что знает только он сам. Он один, и никто другой. И он пишет. Все, что помнит, — про «жертву». Про квартиру и мебель, про картины, статуэтки, сервизы… Он описывает гардероб «потерпевшей» — платья, кофты, жакеты. Он припоминает домашние тайны, о которых она ему рассказала, — тайны, известные только близким, но отнюдь не чужим. Он перечисляет изъяны на чашках, пятна на стенах, трещины на стульях — все эти ничего не значащие детали, которые должны его спасти, потому что, взятые вместе, они доказывают самое главное: Саранцев и Кузина были раньше знакомы. Близко. Давно. Назначают проверку. Все подтверждается. Собираются лучшие судьи страны и, придираясь к каждой мелочи, тщательно взвешивают все «за» и «против». И приходит еще один ответ. Не бланк с заранее напечатанным текстом, а отстуканное на машинке письмо, коротенькое письмо, но в нем слова: «Не виновен». Из колонии Саранцев сначала приехал ко мне, смущенно обнял, заплакал. Теперь он уже не скрывал, чего ему стоил этот год и как он настрадался. Потом я узнал, что Саранцев живет в старой квартире, вернулся в свое автохозяйство, где его ждали и сразу подыскали работу. Раза два или три мы говорили по телефону. Голос был бодрый, он шутил, подтрунивал над собой и даже сказал, что с прошлым покончено, что пора начинать новую жизнь. Я пожелал ему «второго дыхания», он понял меня, рассмеялся и обещал доложить об успехах. Но «доклада» все не было, время шло, дело Саранцева вытеснили из памяти совсем другие дела — незавершенные, а значит, и более важные. И тут вдруг он объявился, позвонил, сказал не без гордости: «Завтра женюсь», добавил: «Вы мне как крестный. Будьте свидетелем в загсе». На воскресенье у меня были другие планы, но отказать ему не хотелось, к тому же я сам его подбивал все забыть и начать с нуля. Он послушался, и теперь мне предстояло скрепить своей подписью его новую жизнь. По дороге забуксовала машина, и когда я приехал, церемония уже подходила к концу. Саранцев бережно поддерживал под руку свою невесту, на которой не было подвенечной фаты, но наряд ее, строгий и скромный, говорил о культуре и вкусе. Я вгляделся в невесту и обомлел: не может быть! Да это же Кузина!.. Конечно, она… — Какую фамилию желаете носить в браке? — спросили ее. — Саранцева, — раздалось в ответ. Голос ничем не напомнил мне тот, что я слышал в зале суда. Но точеный античный профиль, темные волосы, гордо посаженная голова, холодный взгляд серых глаз, устремленный куда-то в пространство, — все это осталось. Словно и не было ничего позади. Потом вызвали подписаться свидетелей. Я подошел к столу, взял ручку, и тут почему-то мне стало смешно. Чувствую — не могу удержаться. Да еще Саранцев подмигивает, кусая губы. — Безобразие, — с укором сказала мне женщина, которая ведала церемонией. — Взрослый человек, а держать себя не умеете. Нашли, понимаете, где смеяться…
1958
ВЕНЕЦИАНСКИЕ МЕДАЛЬОНЫ
1970
ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО
«…Председательствующий вправе останавливать подсудимого в тех случаях, когда он касается обстоятельств, явно не имеющих отношения к делу».Но судья молчал. Молчал и слушал, хотя Горчаков «касался» явно не обстоятельств дела. Он рассказывал о своем детстве. О том, как в четыре года лишился отца (тот погиб, сорвавшись со строительных лесов), а в шесть — матери, которая перед этим долго и трудно болела. Как взяла его к себе тетка и как рос он в этой семье. Мальчишка помнил отца, но дядя Ваня, муж тетки, непременно хотел, чтобы «приемыш» звал его папой. «Отцовство» свое утверждал не лаской. И не ремнем. Палкой. К тому же дядя Ваня ни на день не просыхал. От полноты отцовских чувств бутылку самогона любил опустошать непременно с «младшеньким». Родных детей берег, неродного же «приобщал» с завидным упорством. И приобщил. В шестнадцать лет Горчаков за пьяную драку попал в тюрьму. Ни словом не обмолвился, кто сделал из него «алкаша», а то бы сидеть дяде Ване вместе с ним на скамье подсудимых. Отбыл Горчаков срок, вышел на волю отрезвевшим во всех отношениях: и пить «завязал», и в дом, где вырос, решил не возвращаться. Не так это просто: в ранней юности оказаться без крова, без родных, без средств к существованию, без образования, без профессии, с пятном в биографии, которое, хочешь не хочешь, то и дело напоминает о себе. Не так просто пройти через все это и не сбиться с пути. А он не сбился. В какие только компании не зазывали: устоял. Снял угол. Устроился на завод. И встретил девушку, которую полюбил. Она тоже его полюбила. Вроде бы полюбила… Ладно, сказала она, выйду я за тебя замуж, если только позволит мама. Она была примерной дочерью, и ему нравилось это. Тем больше нравилось, что сам он, увы, примерным сыном уже быть не мог. Легко догадаться: мама не позволила. Ее единственная дочь заслуживала, разумеется, лучшей участи. Уголовников, слава богу, в их семье еще не было. И не будет. Вот тогда-то он снова напился. Словно надорвалась внутри пружинка, которая удерживала его от порочных соблазнов. Все ему было теперь нипочем, и расплата прийти не замедлила. Он опять нахулиганил и опять получил срок. И на волю больше не рвался: перечеркнул, сказал Горчаков, свою жизнь черным крестом. Перечеркнул, несмотря на то, что девушка, которой мама не разрешила сочетаться с ним браком и которая косвенно была причастна к его беде, писала ему письма. А он не отвечал, — не от злости, а от отчаяния: если мама т о г д а не разрешила, то уж теперь и вовсе не разрешит… Скоро и девчонка перестала писать, так что жирный крест перечеркнул, казалось, не только его жизнь, но и их любовь. Вот тут и подвернулся Валерка. Был бы он парень чужой («посторонний», — осторожно выразился Горчаков), — еще куда ни шло. Но Валерка был сыном дяди Вани от первого брака. Родственничек… «Воспользовался, понимаете, моим положением… (это я цитирую Горчакова). Нашептал про меня разные глупости. Она и поверила — что с нее взять? Дурная была… Словом, добился своего, соблазнил…» И опять взвился тоненький голосок в глубине зала: «Вася, не надо…» Горчаков замолк, осмотрелся, мне показалось, что он съежился, встретившись с кем-то глазами. Может быть, это был дядя Ваня, а может, и сам Валерка, кто знает… Он молчал чуть дольше, чем принято, и судья спросил: — У вас все? — Нет… — неуверенно произнес Горчаков. — Тогда продолжайте. Слова, как видно, не шли. Он ждал вопросов, они вернули бы тот внутренний настрой, который позволил ему с такой обнаженностью, перед десятками глаз, излить душу. Но вопросов не было и быть не могло. Допрос окончился, шло последнее слово. Последнее — когда никто не может ни перебить, ни оспорить, ни уличить. Когда подсудимый остается с судом один на один и говорит то, что считает нужным. То, что он считает нужным. Только он, и никто больше. Пауза была мучительно долгой. Горчаков откашлялся, снова окреп его голос. Он отбыл срок — второй срок — «от звонка до звонка». В родные края не поехал: «Не тянуло на пепелище». Колония дала ему аттестат зрелости и две профессии: слесаря и шофера. За плечами был возраст и трудный жизненный опыт. И глубокое убеждение в том, что надо начинать жить по-новому. Но и для девчонки, с которой он расстался несколько лет назад, годы тоже не прошли даром. Она обрела то, чего не имела: характер. Она разыскала своего глупого Ваську и заставила его поверить. В себя и в нее. И еще она заставила его вернуться в родной город. Потому что там было не пепелище, а дом. Ее дом и, значит, — его. Это, наверно, и была роковая ошибка, потому что здесь, именно здесь, перед тем как отправиться в загс, она рассказала ему про Валерку. И он ничего не ответил, не упрекнул, принял рассказ ее с нарочитым спокойствием, только качал головой и цедил сквозь зубы: «Ловко… Мастак…» Она даже обиделась: неужели ему все равно? А ему не было все равно: уже с первых ее слов он знал, как поступит. — Так вот, граждане судьи, — сказал Горчаков, — в ту ночь, когда воры ограбили табачный ларек, я был у Валерки. Говорили без свидетелей. Больше руками. Точнее — кулаками… Правда, я пострадал не очень, слабак этот Валерка. А его разукрасил я здорово. Три недели валялся. Вон посмотрите, и сейчас еще скула набок. А не жалуется. Почему? Горчаков ткнул пальцем в воздух, и все, буквально все повскакали со своих мест, чтобы посмотреть, на кого он показывает. И я, каюсь, тоже вскочил, повинуясь невольному любопытству, но плотная стена других любопытных напрочь закрыла от меня человека с перекошенной скулой, пришедшего сюда, очевидно, затем, чтобы мстительно насладиться позором своего соперника и врага. Судья долго водворял порядок, а когда все наконец уселись и угомонились, Валерка поднялся и, втянув голову в плечи, вышел. Его никто не задерживал. — У вас все? — снова спросил судья, и Горчаков упрямо ответил: — Нет! Еще немного… Вы, возможно, подумаете: хочет Горчаков уйти от ответственности. Но ведь мне все равно за что сидеть, срок примерно один — что за ларек, что за Валерку. Хочу правды, вот чего я хочу. Почему не говорил об этом раньше, — думаю, вы поймете. А не поймете — что ж, судите за ларек, в претензии не буду. Отсижу свое и начну жизнь с нуля. Я так думаю: кто может в любой момент начать с нуля, тот еще человек. А нет — пиши пропало. Только бы Мила дождалась. Если любит, конечно… — Люблю! — бесстрашно выкрикнули из зала. — Теперь все, — сказал Горчаков и сел. Вот каким оно было, это последнее слово, и другого такого мне ни разу услышать не довелось. И то правда: истории, подобные этой, встречаются редко, они — как уникальный клинический случай, который не столько типичен, сколько симптоматичен. В том смысле симптоматичен, что заостряет тему и привлекает к ней особое внимание.
Все знают: подсудимый произносит последнее слово. Но что это за слово? Почему — последнее? Зачем вообще оно нужно и чем оно отличается от слов не последних? Задумывались ли вы над этим, читатель? Едва ли. Да и почему, собственно, вы должны были думать, когда даже юристы не слишком жалуют эту тему. А если по правде — вообще не жалуют. Любому элементу судебного процесса посвящены монографии, исследования, десятки, а то и сотни статей. Последнему слову — полстранички в учебнике, полторы — в двухтомном курсе. Может, и впрямь это самое слово большего не заслуживает? По всем правилам юриспруденции, с точки зрения здравого смысла, Горчакову надобно было поведать свою историю еще следователю на первом допросе. Представить алиби, объяснить, что к чему. Следствие не стало бы тогда, возможно, рабом единственной версии, искало бы истинных грабителей, а против Горчакова завели бы совсем другое дело. Очень было бы складно и хорошо. Но ведь не случайно же ждал Горчаков для своей исповеди последнего слова. Не внезапно, не вдруг пришла ему в голову мысль именно теперь выплеснуть наружу свою боль и перевернуть кувырком весь судебный процесс. Вряд ли он рассчитывал на сенсацию, на эффект: слишком трагична его история и слишком горьки ее следы в его судьбе. Нет, не эффекта он ждал, а возможности остаться наедине — с судом ли только? А может, еще того важнее, — со своей совестью? И в критический момент, который предшествует решению его участи, рассказать все, что тяготит его сердце… Собственно, для этого — для свободного, откровенного монолога подсудимого — и создала испокон веков правовая мысль институт, именуемый последним словом. Потому что суду, перед тем как он удалится в совещательную комнату для вынесения приговора, необходимо знать, что сам подсудимый думает о себе, о своем преступлении, о том, что прозвучало в зале суда. Оказал ли на него процесс воспитательное воздействие? Началась ли уже в его душе та невидимая миру преобразующая и созидательная работа, которая всегда — залог нравственного возрождения? Или он по-прежнему хитер и расчетлив? Слезлив и сентиментален? Равнодушен к своей судьбе, к интересам близких? Или вопреки фактам, вопреки логике цепляется за соломинку, в надежде хоть как-нибудь выплыть. А может быть, искренне и обоснованно стремится предотвратить ошибку? Вот что надо знать суду, если он хочет вынести объективный, справедливый, с максимальной степенью предвидения рассчитанный приговор. Предвидения того, насколько приговор окажется эффективным, насколько э т а мера наказания нужна э т о м у подсудимому, а не какому-то абстрактному преступнику, совершившему деяние, квалифицированное по такой-то статье. Да вот беда: ничего подобного из последнего слова суд обычно не узнает. Потому что на практике последнее слово представляет собой пустую формальность. Никаких открытий от него никто и не ждет. «На ваше усмотрение…» — ничего не значащая, ничего не выражающая, сорняковая фраза слишком часто заменяет собою то, что из уст подсудимого должно прозвучать. Легко сказать: должно… Существуют методики судебных речей, обвинительных, защитительных, но нет и не может быть методики последнего слова. Этому искусству впрок не обучают. И слава богу. Человек, произносящий последнее слово, меньше всего мыслится как искусный оратор, точно рассчитывающий впечатление, которое он произведет на судей. Но он мыслится как человек, точно знающий, зачем ему будет дано последнее слово. И — еще того шире: как человек, точно знающий, какие именно права ему предоставлены и каково назначение каждого из них. Иначе гарантированное ему законом право на защиту останется мертвой буквой. Горчаков, видно, в точности знал свои права, он добыл эти знания опытом, которого я никому не пожелаю. Ну а если, по счастью, такого опыта нет? «Контингент», попадающий на скамью подсудимых, не отличается, как правило, ни обширными познаниями, ни образованием, ни высоким интеллектом. Между тем именно этому «контингенту» предоставлены широкие процессуальные правомочия, которыми он должен пользоваться в полную меру, ибо они — гарантия законности, страховка от возможной ошибки. Закон предусмотрел обязанность судьи в начале процесса разъяснить подсудимому его права. И судья разъясняет: «Вы имеете право заявить отвод… возбуждать ходатайства… участвовать в допросе свидетелей… произнести последнее слово… Вам понятны ваши права?» — «Понятны…» А что, собственно, ему понятно? В каких случаях он может дать отвод судье? Чем ходатайство отличается от показаний? Для чего предусмотрено последнее слово? Этого, как правило, подсудимый не знает, потому что перечисление прав и разъяснение прав — далеко не одно и то же. И добро бы хоть все права перечислялись!.. Подсудимый может ставить вопросы перед экспертом и лично участвовать в его допросе, он может настаивать на осмотре вещественных доказательств, местности и помещения, где совершено преступление, на оглашении документов, приобщенных к делу. Он многое может, об этом в интересах истины позаботился закон, но правилами судебной процедуры не предусмотрено даже уведомление его о полном комплексе его процессуальных полномочий. А ведь от такой осведомленности зависит, насколько демократические гарантии законности, предусмотренные советским правом, будут реализованы, будут пущены в дело и, значит, послужат торжеству правосудия. Растолковать (не перечислить!) подсудимому его права мог бы и судья, и следователь, который имеет с обвиняемым непосредственный и длительный контакт, и адвокат, когда вместе с подсудимым он изучает дело при окончании следствия. А еще того лучше, мне думается, — составить, утвердить и издать небольшую брошюру — своеобразную памятку, где внятно и доступно, с максимально возможной полнотой, разъяснялись бы права того, кто предан суду. Их назначение. Их смысл. И чтобы давалась эта памятка под расписку — каждому, кому предстоит держать ответ перед законом. Чтобы судьи, приступая к рассмотрению дела, удостоверились: подсудимый д е й с т в и т е л ь н о знает с в о и права, понимает их назначение и может ими пользоваться. Свои, ибо права защитника и права подсудимого далеко не идентичны, у каждого из них в процессе свои функции, да и не во всех делах участвует адвокат, а постижение истины происходит во всех. И во всех, абсолютно во всех, решается судьба человека.
А Горчаков, между прочим, не «прогадал», решившись на исповедь в последнем слове. Дело возвратили доследовать, ну и, как говорится, факты полностью подтвердились. Вот только истинного грабителя (или грабителей), посягнувшего на табачный ларек, насколько я знаю, не нашли. Упустили… Горчакова же снова судили, теперь уже за то, что он и впрямь совершил. Учли смягчающие обстоятельства. И отягчающие (третья судимость). Словом, все учли, что положено. Он опять отбыл свой срок и вернулся домой. Ведь у него теперь был свой дом. Дом, где его ждали. Так что у истории этой благополучный конец. А все потому, что судья терпеливо выслушал горчаковский монолог. Мог и не выслушать: та самая оговорка в законе, которую я уже приводил, давала ему такое право. И здесь вполне уместен вопрос: а как, собственно, определить, слушая последнее слово, что относится и что не относится к делу? Если немножко пофантазировать, совсем уж выйти за рамки реальности и на минуточку допустить, что подсудимый начнет рассказывать суду о любимых книгах; вспомнит о том, как в детстве ходил с отцом на рыбалку; или поделится мечтой о том, кем в будущем ему хотелось бы стать, — то и это, решительно не имеющее отношения к делу, признание судьям вовсе не безразлично. Ибо раскрывает духовный мир человека, судьба которого находится в их руках. Ибо свидетельствует о его умонастроении, о его культурном уровне, о глубине его переживаний, о серьезности отношения к содеянному, — словом, о том, что не может суд не учесть, определяя меру наказания и, значит, вычеркивая столько и столько-то лет из живой человеческой жизни. Никак не пойму, зачем бы судьям прерывать подсудимого, начавшего слово издалека, захотевшего поделиться с судьями тем, что у него на душе? Торопятся они, что ли? Куда? Если есть сфера деятельности, где грех торопиться, так это прежде всего деятельность судейская. Любое дело должно быть рассмотрено досконально. Неторопливость — первейшее условие доскональности, условие, о котором подчас забывают. Каждый раз, когда оканчиваются прения сторон и председательствующий произносит: «Подсудимый, вам предоставляется последнее слово», я с волнением жду: вот сейчас он поднимется и скажет… Ну, так что же он скажет?
1973
ПРОПАЖА И ПОИСК
Мать не пустила учительницу дальше порога. Закричала, не дав ей вымолвить и слова: — Шатаются тут… «Где Юля, где Юля?..» А я почем знаю?! Вы следить должны. Вы, а не я. От нее за версту пахло водкой. В кухне на сковородке шипело сало, из комнаты женский голос визгливо позвал: «Иди сюда, Нюрка!» Заплетающимся языком грязно выругался какой-то мужчина, и несколько человек дружно заржали. Тогда и позвонила учительница Николаю Макаровичу, а рано утром за Воронцовой на мотоцикле приехал милиционер. Месяца два спустя я читал протокол ее первого допроса и думал то же, что и учительница — после разговора с Воронцовой: «Тут дело не чисто…» Во вторник Юля была на уроках, получила четверку по географии, договорилась с подругами пойти вечером в кино. В кино она не пошла, но примерно в половине восьмого ее видели в магазине — она покупала сто граммов колбасы (продавщица запомнила точно: сто граммов), а около девяти соседка заходила к Воронцовым за уксусом. Это был последний человек, который видел Юлю и разговаривал с ней. Мать не проявила никакого беспокойства, даже не пыталась ее искать. «Чего искать-то?! — возмутилась она. — Большая уже, — может, с парнем каким связалась…» А Юле только что исполнилось четырнадцать, и была она девочкой тихой и скромной, на танцы и вечеринки не ходила, ребят сторонилась… — Где вы были во вторник вечером? — спросили Анну Петровну. — Дома, — соврала она. А следствие знало, что Воронцова в тот день допоздна бражничала у одной знакомой, откуда ушла вместе с кладовщиком стройуправления Барашковым, за которого она собиралась замуж. Пьянку Барашков подтверждал, а чтобы вместе уйти — нет, не было этого! Потом он замкнулся, клялся, что все позабыл, и, кроме «не знаю», добиться от жениха ничего не смогли. На втором или третьем допросе Воронцова выдвинула версию совсем уж нелепую: будто бы Юля удрала к отцу, который жил бобылем, тысячи за две километров от ее дома. Между тем отца своего Юля не помнила, с ним не переписывалась, даже адреса его не знала. Версию эту и проверять не хотели, но все же проверили. Подтвердилось то, в чем никто и не сомневался: к отцу девочка не приезжала. На ближайшей железнодорожной станции, где по четным дням останавливается только один дальний поезд, до города, в котором жил отец, ни одного билета не продавалось. Пассажиров на этот поезд бывает здесь не больше трех-четырех. Девочку бы заметили, за помнили… В автобусах, что ходят на станцию и в соседние поселки, ее не заметили тоже. Никто не видел, когда ушла она из дома. Все учебники и тетради остались в портфеле, который лежал, как обычно, на этажерке. Письменные уроки на среду Юля не подготовила. И из вещей ничего не взяла: ушла в том, что было на ней. Следователь прямо сказал Анне Петровне, что подозревает ее. В чем именно подозревает — не уточнил, но Анне Петровне сообразительности было не занимать, особенно если случалось быть трезвой. А тут она как раз и была трезвой, выслушала следователя спокойно, помолчала немного, потом заголосила. «Часа два орала, — рассказывал мне потом следователь, — весь город на ноги подняла. У нее голос слыхали какой: Шаляпин бы позавидовал, ей-богу…» «Переживала, значит?» — спросил я. «Играла, — поправил следователь. — Она это умеет». Играть-то, положим, она не умела. Зачем иначе стала бы выносить сор из избы? Первый же сосед, которого допросили, подтвердил то, что ни для кого не составляло секрета: мать ненавидела дочь! Притом ненависть свою не скрывала, не пыталась на людях изобразить что-то иное. Нет, напротив, всем говорила, что дочь сломала ей жизнь, помешала выйти замуж («кто возьмет теперь с ребенком?»), да вдобавок еще «надсмехалась» над ее «нелегким трудом»: Воронцова торговала пивом в розлив, у палатки с утра до вечера толпились «алкаши». Барашков был последней надеждой Анны Петровны. Долго она его обхаживала, пока он наконец согласился: ладно, веди под венец. Уж и дочь готов был принять, сказал как-то под пьяную лавочку: — Надо бы девчонку к делу пристроить, пусть помогает — не маленькая. — Долго будете ждать! — закричала Юля. Какими «делами» ворочали на складе и в палатке мать и Барашков, Юля хорошо знала. Не раз посвящала ее в свои секреты Анна Петровна, пересчитывая вечерами мокрые пятерки и трешки, а Барашков, опьянев, бахвалился, не таясь, удачной операцией, — он богател на шифере и толе. — В отца уродилась, — зло усмехнулась тогда Воронцова. — Сознательная растет… — Давить таких надо, — убежденно сказал Барашков. Конец этого разговора случайно слышал Юлин одноклассник Андрей. Он пришел за книгами: дверь не закрывали, можно было войти без стука. При его появлении взрослые замолчали, Юля смутилась, и он не решился показать, что придал услышанному какое-то значение. Об этом Андрей рассказал на следствии, когда в поисках ниточки, которая могла навести бы на Юлин след, стали допрашивать ее подруг и друзей. Итак, незадолго до исчезновения Юли дома произошла ссора, причем девочке угрожали расправой. Стало известно и другое: в ночь на среду Барашков и Воронцова на короткий срок завернули домой и снова куда-то уехали. Вернулись только под утро. Зачем они катались в морозную ночь, почему отрицали так рьяно таинственную свою прогулку? После долгих поисков следствие разгадало одну тайну, но еще больше отдалилось от другой. Разгадало, что Барашков и его невеста провели в ту ночь операцию с толем — операцию, которую они, естественно, пытались скрыть. Но они отпирались даже после того, как следствием были уличены со всей очевидностью, отрицали и то, что зачем-то возвращались домой, и что, крадучись в темноте, снова ушли. Это непонятное, вопреки здравому смыслу, упорство лишь подтверждало версию следствия. Можно было предположить, что в ту ночь Юля стала невольным свидетелем очередного преступления и что во время скандала преступники — быть может, под горячую руку — убили ее, а потом вывезли труп, чтобы скрыть следы своего злодейства. Версия была, но не было доказательств. Дом обыскали снизу доверху, подняли полы, перерыли чердак — никаких следов убийства не нашли. И в саду не нашли, и в квартире Барашкова. Допросили не один десяток свидетелей, и все без толку! Дни шли, улик не прибавлялось. Юлин отец «бомбил» прокуратуру телеграммами — требовал «сурово покарать презренных убийц». А следователь тем временем проверял другие версии: ведь как бы ни была убедительна одна, никогда нельзя исключать все остальные. Если, конечно, они есть. Они были, и все-таки их пришлось исключить. Потому что подтверждались они не больше, чем первая. Даже меньше. Могло ведь быть так, что в дом, где девочка оставалась одна и где водились немалые деньги, проникли грабители? И, встретив сопротивление, убили ее? Да, могло. Но ничего не пропало; в доме не нашли никаких следов борьбы; и вообще ничего, что говорило бы о присутствии чужих людей. А еще могло быть так, что кто-то напал на девочку, когда она шла по улице, и, скрывая следы преступления, оборвал ее жизнь. Или так: попала она, скажем, под машину и водитель, страшась расплаты, поспешил замести следы. Или вот так… Но разве перечислишь все «может быть»? Истина подчас таится там, где ее никто не ищет. Даже самое богатое воображение порой бессильно перед той неожиданной драматургией, которую создает жизнь. А тут и на воображение грешно было жаловаться: следствие проверяло даже такие версии, которые только на него, на это самое воображение, и опиралось. И, не найдя при проверке ни одной — ну, буквально ни одной — даже самой завалящей улики, было вынуждено от всех этих версий отказаться. И вернуться к первой — наиболее логичной, наиболее вероятной, хотя и не доказанной окончательно, но все-таки подкрепленной хоть чем-то. А вскоре — уже и не чем-то. Не чем-то, а уликой, которая одна стоила всех остальных. Пока юристы искали преступника, неюристы тоже не спали. Особенно та учительница, что первая сообщила милиции о пропаже. Не знаю уж, как ей это удалось, но факт остается фактом: она, а не следствие, открыла Галю Верникову, с которой Юля сдружилась в последнее время. Галя была старше Юли года на два, уже не училась — работала на заводе. Вдвоем они ходили иногда на каток, еще реже в кино. В общей с Юлей компании Галя никогда не появлялась, оттого и не попала она в поле зрения следствия. А попадись, давно рассказала бы, как за день или два до исчезновения Юля просидела у нее допоздна — боялась возвращаться домой. «Барашков на все способен, — сказала тогда Юля, не вдаваясь в подробности. — Да и мать тоже… — Потом добавила: — И тебя со света сживут, если узнают, что я тебе это сказала». Вот с таким багажом и решило следствие предъявить арестованным обвинение в «убийстве с целью скрыть другое преступление». И вскоре, приняв поручение Юлиного отца, я отправился в прокуратуру изучать это странное дело: следствие подошло к концу и теперь уже в процесс мог вступить адвокат. Помню, как, прочитав то, что представил мне следователь, я долго не мог уснуть — все репетировал про себя монолог, который завтра произнесу перед прокурором, раскрывая ему глаза на зияющие провалы обвинительного материала. — Не надо, не продолжайте, — устало сказал прокурор, едва дослушав мой монолог до середины. — Все это я знаю. Неужели вы думаете, что я утвердил бы обвинительное заключение, которое суд наверняка отвергнет? Подскажите лучше что-нибудь позитивное. — Он увидел, очевидно, недоумение на моем лице и добавил: — Девочки-то все-таки нет. Не испарилась же она в конце-то концов… Но что я мог подсказать?! Подсказал не я, а случай — уже после того, как срок расследования был продлен и поиск снова начался с исходной точки. Шел март, когда в милицию принесли отсыревший от долгого лежания под снегом маленький блокнотик, на его корешке можно было без труда прочитать: «Воронцова Юлия, шк. № 2». Блокнот нашли в реденькой чащице на проталине возле тропинки, ведущей к замерзшей реке. Стало одной загадкой больше. И одной версией — тоже: мысль о несчастном случае, о том, что Юля провалилась под лед, переходя реку, невольно приходила на ум. Но как попала она в этот лесок, за три километра от города? Что привело ее сюда? И когда это было? — Руки на себя наложить захотела… — предположил Николай Макарович, который лично доставил блокнот в прокуратуру. — Топиться пошла. — Доказательства?.. — спросил прокурор. И Николай Макарович развел руками: доказательств не было.
Воронцов звонил мне каждый вечер — обвинял в пассивности: почему не требую немедленного суда над злодеями? А я безуспешно пытался ему втолковать, что эмоции не заменяют улик и что осуждение без доказательств, по внутреннему убеждению, не опирающемуся на факты, — чудовищно и преступно. Все это Воронцов снисходительно именовал «юридическими штучками» и, мягко оговаривая свою некомпетентность, требовал действий. Можно понять человека, пострадавшего от чьей-то преступной руки, когда он болезненно переживает торжество безнаказанности. Безнаказанность преступника задевает одно из самых святых и нравственных человеческих чувств — чувство справедливости. Трудно смириться с тем, что преступник ходит на свободе и посмеивается, видя, как юристы безуспешно пытаются напасть на его след. Еще труднее, наверное, понять, почему медлит возмездие, если преступник найден и вина его очевидна. Но в правосудии нет очевидностей, все нуждается в доказательствах, в проверке и перепроверке, а доказано только то, что выдержало труднейшее из испытаний — испытание сомнением.
«Удовлетворять… побуждениям (человека. — А. В.), — писал А. Ф. Кони, — когда он выведен из… состояния спокойствия, возбужден или раздражен, значит становиться на опасную дорогу. С этой точки зрения, ощущения и впечатления п о т е р п е в ш е г о от п р е с т у п л е н и я… никогда не могут и не должны служить директивой…»Но порою — служат, и следствие, а за ним и суд становятся на ту самую «опасную дорогу», о которой писал Кони. «Потерпевший требует» — довод юридически наислабейший, но практически оказывающий иногда весьма сильное влияние именно на юристов. И хотя «требовать» потерпевший может лишь отыскания истины, торжества справедливости но отнюдь не суровой кары именно для того, кто ему представляется виновным, горе и боль потерпевшего, его упорство и непреклонность, случается, побеждают, приводя к тяжким ошибкам. В том, незаконном по сути, но извинительном «по-человечески», нажиме, который потерпевший оказывает на правосудие, дает себя знать — среди множества иных «компонентов» — еще и низкий уровень правовой культуры. Мы много говорим сейчас, о правовом воспитании как гаранте того, что «воспитанный» не нарушит закон. Но смысл правового воспитания еще и в ином: научить человека мыслить — опять воспользуюсь выражением А. Ф. Кони — «категориями юридическими», как и подобает «каждому кто живет в правовом государстве». Мыслить «категориями юридическими» — вовсе не значит превратить жизнь в свод параграфов и правил, но возвыситься до такого уровня правового сознания, при котором скороспелые выводы, когда речь идет о судьбе человека, считались бы не добродетелью, а пороком, при котором мщение не путали бы со справедливостью; и при котором, самое главное, никто не осмелился бы давать некомпетентные советы, как и кого надо судить, ибо многотрудное это занятие требует глубоких и специальных познаний, ничуть не меньших, чем те, что нужны врачу для операции на сердце или летчику — для управления воздушным кораблем. …Дело Барашкова и Воронцовой передали в суд. Не дело об убийстве — о хищении. А исчезновение Юли по-прежнему оставалось загадкой. «Позор юристам, выгораживающим преступников» — так было озаглавлено коллективное письмо нетерпеливых горожан, адресованное в суд. Письмо сочинила учительница, а Воронцов прислал очередную телеграмму: «Гневно протестую…» Мы встретились с ним в суде. Он приехал протестовать, а я, по правде говоря, — из любопытства: хотелось иметь личное впечатление от тех, кого считали убийцами, да и была надежда, что процесс неожиданно даст в руки следствия новую нить. Ведь в деле об исчезновении Юли черта подведена не была. Его только приостановили. Приостановили, но не прекратили! — Я вам больше не доверяю, — сконфуженно, но твердо сказал Воронцов, когда мы с ним встретились в коридоре суда. — Вы палец о палец не ударили, чтобы покарали убийц… Мне бы обидеться, дать ему отповедь, но видел же я, что человек страдает. Виноват ли он в том, что ожесточением, неправедным гневом пытается смягчить свою душевную боль? Просто иначе он не умеет. Не привык. Не научен… Воронцов посмотрел на меня с укором. — Ведь не можете же вы, — сказал он, — представлять мои интересы, расходясь со мною во взглядах. — Мы расходимся не во взглядах, — возразил я. — Вы считаете, что Барашков и ваша бывшая жена убийцы? Допустим, что и я так считаю. И следователь… И прокурор… Но для того, чтобы человека предать суду, а тем более осудить, мало того, что все мы будем считать его преступником. Надо это доказать. Неопровержимо. Чтобы не осталось никаких сомнений, никаких неясностей. Иначе это будет не суд, а расправа. Не расправы же вы добиваетесь, черт возьми?! Он деликатно помолчал. Потом усмехнулся: — Опять юридические штучки… Без пол-литра неразберешься… И, кивнув головой, удалился. Больше по этому делу я уже не был связан никакими формальными обязанностями, но профессиональное любопытство заставило меня остаться до конца процесса: а вдруг случайно оброненная кем-либо фраза прольет свет на ту главную загадку, из-за которой и был переполнен возбужденной толпой крохотный судебный зал. Все мы, пришедшие сюда, надеялись на это. Процесс закончился, расхитители получили свое, и я уехал, испытывая горечь от бессилия перед тайной, в которую так и не удалось проникнуть. Вспоминались другие дела, где разгадка тоже приходила не сразу: кража, раскрывшаяся через много лет; убийство, за которое расплата пришла тоже через годы и годы; насилие — при его расследовании пришлось отвергнуть девять убедительных версий, чтобы только десятая привела к торжеству правосудия. И каждый раз нетерпеливые подгоняли: «скорей, скорей!» И велико было искушение поддаться на эти призывы, уступить, «закрыть» дело обвинительным приговором, пренебрегая истиной ради чистоты годового отчета и благодарности за оперативность. Но не пошли юристы по этому опасному пути, испытали упреки и насмешки, а остались верны закону и совести, правде и профессиональной чести. …Разгадка пришла гораздо раньше, чем я предполагал: месяца через три или четыре. Предвестником ее явилась телеграмма: «Извините был неправ Воронцов». А потом примчался он сам — счастливый и смущенный. У Гали Верниковой был приятель, сверстник. Любил он ее, как говаривали в старину, до беспамятства. Ну, и ревновал, конечно, по-мальчишески: никого не подпускал к ней, следил за каждым ее шагом. Так вот и выследил. Каждую субботу Галя одна уезжала в соседний город, за тридцать километров, заходила, обычно ничего не покупая, в магазины, потом, оглядываясь по сторонам, шла на почту. Там, в окошечке с надписью «до востребования», получала письмо и, прочитав, тут же, на почте, садилась за ответ. Потом рвала полученное письмо, клочки выбрасывала в урну. И на автобусе возвращалась домой. Что было дальше? Ревнивый мальчишка однажды отважился средь бела дня извлечь клочки из урны. Весь вечер он промаялся над ними, а потом всю ночь думал, как же ему поступить. Письмо было не от соперника. Но не ревность теперь мучила его, а вполне реальная опасность потерять Галю. Если он не сохранит тайну, которая неожиданно ему открылась, Галя его возненавидит. Если же сохранит… Он терзался еще один день, в сотый раз перечитывая склеенное Юлино письмо. Наконец решился. Прокурор читал письмо и не верил своим глазам: почтовый штемпель непреложно говорил о том, что отправлено оно из города, где живет Юлин отец. Значит, что же, Юля — у отца?! И Воронцов, чтобы свести счеты с бывшей женой, устроил весь этот спектакль? Я опускаю рассказ о том, как безуспешно искали Юлю у отца; как допрашивали Галю и она, верная слову, которое дала подруге, отвечала только: «нет» и «нет»; и как в конце концов Юлю нашли. Уйти из дома Юля задумала давно, да все не решалась: Галя толково объяснила, что податься ей некуда, разве что к отцу. Отца своего Юля не помнила, никогда ему не писала, но однажды на почтовом переводе (отец добровольно платил алименты) прочитала его адрес… И вот ночью, той памятной ночью, пьяная мать и трезвый Барашков ввалились в дом, бранясь между собой и оскорбляя Юлю, потом, забрав какой-то сверток, снова отбыли на промысел. Тогда-то Юля и решилась. У нее было немного денег, которые она успела скопить. Больше ничего с собой не взяла. Только блокнотик с переписанными песенками и стихами про любовь. Ее считали трусихой, да и сама она о себе была не лучшего мнения. А тут вот ночью, одна, прошла через лес, по замерзшей реке и снова лесом. На шоссе, уже под утро, подсадил ее в кузов водитель грузовика, довез до областного центра. Потом был поезд, пересадка, снова поезд. И наконец, город, где живет отец. То, что произошло дальше, прочитай я об этом в романе, показалось бы авторской фантазией, начисто лишенной правдоподобия. В жизни такие, казалось бы, невероятные совпадения, такое удивительное переплетение случайностей встречаются сплошь и рядом — особенно хорошо это знают юристы. Многие ошибки следствия и суда объясняются именно тем, что мысль наша всегда идет по пути логических построений, а жизнь — нагромождением невероятных случайностей, сцеплением никак не связанных фактов — вносит в эти построения свои властные коррективы. Случайность нельзя запрограммировать, ее невозможно рассчитать и предвидеть, но поиск истины порой обречен, если рядом с версией разумной и вероятной не окажется еще и «безумная» — версия по имени Случай. …Неподалеку от дома, где жил отец, Юля попросила встретившуюся ей женщину показать дорогу. Назвала адрес — этой женщине он был хорошо знаком. Многие годы она делила с Воронцовым жизнь, но женой так и не стала. Отвергнутая, она унесла с собой обиду и злость. Юля доверчиво рассказала ей про себя, про бегство посреди ночи. И у женщины, которая ее слушала, родился план маленькой мести. Да и не мести даже — просто подумалось: а вдруг девочка, которую она приютит у себя, станет впоследствии мостиком между нею и Воронцовым? Потом, когда узнала, какой шум поднялся вокруг этого дела, отступать было поздно. Она, во всяком случае, не решилась и в страхе ждала, чем все это кончится. А про отца сказала Юле, что он плохой человек, что у него другая семья, что дочь ему только помеха и он обязательно отправит ее домой под милицейским конвоем. Юля поверила, испугалась, подчинилась безропотно доброй тете, у которой нашла и ласку, и дом. «Так им и надо», — говорила она про Барашкова и свою мать, прочитав очередное Галино письмо. Жалости к ним у нее не было. Хорошо это или плохо? Право, не знаю. Все-таки мать… Не доброе это дело — равнодушно смотреть из своего убежища, как страдает она за то, чего не совершала. И если к тому же повинна в ее страданиях ты сама. Верно, но поставим себя на место подростка, который начал осмысливать жизнь, начал осознавать, что моральные принципы — не избитое место из назидательной лекции, а его повседневье. Один не замечает, что живет на нечестно добытые деньги, у других застревает в горле купленный на них апельсин. Один сызмальства привыкает к любым пакостям, что творятся в его доме, притирается к ним и сам мало-помалу вырастает по образу и подобию тех, кто годами был для него наглядным примером. Другой отвергает этот «образ» со всей непримиримостью юности — так, как подсказывает ему его крохотный жизненный опыт. Не могла же Юля пойти с доносом на свою мать!.. Много лет спустя она сказала мне, что такая мысль ей и в голову не приходила. Понимала, что Анна Петровна ворует, мошенничает, обделывает темные делишки. Видела, что она — грубый, жестокий, глубоко безнравственный человек. Ощущала это своей рано повзрослевшей, совсем не детской душой. Мучилась не столько от брани и оскорблений, сколько от сознания своего бессилия, своей зависимости, оттого, что не знала, как поступить. Ни любви, ни привязанности не было, но не было и готовности взять в союзники против матери карающий меч… Как-то писатель Владимир Померанцев, не один год своей жизни посвятивший практической работе юриста, показал мне письмо, которое он получил от одного умного, искреннего и совестливого юноши — ученика школы рабочей молодежи.
«…Вот, скажите, как поступить, — писал читатель. — У нас есть один кровельщик. Он крадет железо и продает на корыта. Доказать о нем можно прямо с поличным, но никто не пойдет, потому что перед детьми его будет грех на всю жизнь. Не по религии грех, а вообще. Или опишу вам такой факт. Одна девушка работает в буфете и ворует масло, красную икру, колбасу. Они там недомазывают это на бутерброды. Но ей этого мало, и она еще стала гулящая, ходит на улицу Горького. И вот, что с ней делать? Я одному сказал, без фамилии, и он ответил: «Если она это для пропитания, то не доноси, а если для платьев, то донеси». А по-моему, должен быть принцип другой, и спрашивается, в чем он состоит… Если сообщить, так это погубить человека, потому что его закатают и испортят целую жизнь. Это будет не мораль перед живым человеком. А если скрывать, то выходит, что скрываешь от своего государства…».В этом письме очень точно — незаемными, необкатанными словами — выражена суть конфликта поистине драматичного. Как быть? Совесть не позволяет скрывать от с в о е г о государства ни одно беззаконие, очевидцем которого — случайно или неслучайно — стал кто-то из нас. Но и совесть же протестует против того, чтобы с в о и м и руками, без понуждения, причинить человеку зло. Даже такому, кто не вызывает ни малейших симпатий. Можно, наверное, возразить: преступник сам причиняет обществу зло. Обществу — то есть, в конечном счете, и мне, и тебе, и тому чуткому юноше, который мучительно борется с естественной потребностью не пройти мимо. Но все разумнейшие доводы разбиваются о столь же естественную неприязнь к наушничеству: мы с детства презираем фискалов и ябед. Закон вторгается в этот нравственный конфликт, помогая выбрать единственное решение, когда речь идет о тяжких, особо опасных для общества преступлениях. Скрыть их — значит не только нарушить нормы права, но и нормы морали. Не только избавить преступника от возмездия, но и самому стать преступником. Колеблющаяся совесть отступает здесь перед четкими велениями закона, который недвусмысленно и категорично предписывает, как следует и как не следует поступить. Во всех остальных случаях выбор предоставлен каждому из нас, и каждый решает вопрос, который жизнь порою ему задает, в меру своих представлений о порядочности, о долге, в меру своей щепетильности, с учетом воззрений и нравственных традиций, которые существуют в той или иной среде. Несомненно одно: чем менее крутыми могут быть последствия для виновного, чем вероятнее надежда на судейскую снисходительность, тем больше шансов превратить вчерашнего «молчальника» в активного борца против всех и всяческих беззаконий. Но есть одна «категория» очевидцев, требовать от которых особого рвения в разоблачении зла не очень-то вяжется с нашим представлением о человечности. Я имею в виду близких родственников преступника, тех, для кого он не столько нарушитель таких-то параграфов, сколько сын, муж, отец, брат… Во многих странах закон не только не обязывает родственников «сигнализировать» о поведении близких, но даже и выступать свидетелями — на следствии или в суде. У нас такого ограничения нет, но я не знаю ни единого случая, когда мать привлекли бы к ответственности за то, что она не дала показаний против сына, или жену, которая не вывела «на чистую воду» отца своих детей. В пору жестоких классовых битв глубокая трещина раскалывала порой надвое многие семьи и брат шел на брата, сын восставал против отца. Острые нравственные конфликты, подобные тому, который возник в семье Воронцовых, тоже разделяют близких людей, и драматизм таких конфликтов подчас очень велик, но, с полным основанием отвергая, так сказать, административные формы их преодоления, что практически можем мы предложить для выхода из положения? Юля решила бежать. Был ли это наилучший выход? Едва ли… И даже, пожалуй: разумеется, нет! Но разве под силу подростку самому найти наилучший? Разве не вправе мы требовать большей зоркости от тех, кто лепит душу ребенка, кто его окружает? И когда мы оставляем вступающего в жизнь человека наедине с такой проблемой, которую и взрослому решить не легко, может случиться — и случается изредка — непоправимое…
1967
ТЕНЬ ЛЮБВИ
«Я в ноги бы поклонилась тому человеку, который отважится на убийство ради любви, если она стала для него главным и единственным смыслом жизни».Как это все же чудовищно: поклониться человеку, который «отважится» на убийство! Но ведь не просто «отважится», а — ради любви! Добавишь эти слова, и кажется, что многое, очень многое сразу простится. Я совсем не хочу посягать на святые права любви. Хочу другого: положить на «лабораторный стол» не абстрактные понятия, а подлинную драму живых людей, чьи судьбы прошли некогда перед моими глазами.
Алла сама добралась до соседней квартиры и попросила вызвать врача. Было буднее утро, хозяева ушли на работу. Осталась только няня с двумя детьми. Она побежала в ближайший подъезд, к автомату. «Что с больной?» — спросили на другом конце провода. «Приезжайте скорее, — закричала она. — И милицию захватите». Вслед за «скорой помощью» приехала дежурная опергруппа на двух машинах. Красавица овчарка, вытянув морду, умными и грустными глазами привычно разглядывала собравшуюся толпу. — Ни к чему все это, — слабым голосом сказала Алла. — Уберите свою собаку… Семейное дело, понимаете… — Кто вас так разукрасил? — мягко спросил капитан, стараясь не мешать хлопотавшему возле Аллы врачу. — Муж… Агеев Виктор Алексеевич… — За что? Она не ответила, только чуть дрогнули уголки губ. — Где он? Откуда ей знать, если сразу же, с первых мгновений, как только схватил он ее сзади за шею и стал душить, она потеряла сознание. Когда очнулась, в комнате уже никого не было. — Куда мог уйти ваш муж? — настойчиво спросил капитан. Она снова пожала плечами: — Не живу я с ним. Давно уже… Да найдется он, куда ему деться… …Сначала он отпирался. Не душил он жену и вообще в квартиру не заходил. Месяца три не заходил, а может, и больше. Наговаривает жена, хочет его в тюрьму засадить, потому что давно с ним в ссоре и все боится, как бы он не забрал, половину комнаты: ведь он тоже вписан в ордер и право на площадь не потерял. А главное — он пять дней уже на рыбалке, есть свидетели — они подтвердят. Это было простейшей задачей — доказать, что Агеев лжет: и отпечатки пальцев нашлись, и свидетели уличили — человек, заметивший, как входил он утром в квартиру жены, и другой, повстречавший его в тот день на вокзале. — Ну, я душил, — тоскливо сказал Агеев, когда следователь раскрыл перед ним все карты. — Я, кто же еще?! Не мог я больше терпеть… Совсем извелся… Когда-то они вместе учились в техникуме, только Агеев на два курса старше. Неприметная белобрысая девочка с обсыпанным веснушками носом не привлекла тогда его внимания. А сколько-то лет спустя они встретились снова — далеко-далеко от родного дома, в большом и красивом городе. На одном заводе. И даже в том же цехе. Конечно, это не закон — жениться непременно на землячке. Но их было здесь только двое — из небольшого приволжского городка. Вместе было легко, и казалось, что дружат они уже целую вечность. А тут еще на заводе стали распределять квартиры. Давали только семейным. Они поженились. Потом родился сын. А потом оказалось, что любит по-настоящему только он, а она не любит и, скорее всего, никогда не любила. Была потребность в живой человеческой душе, в своем доме, в покое и уюте. И только. И ничего больше. Решительно ничего. «Как могла я выйти за него замуж?! Все время, Олечка, задаю себе этот вопрос, а как ответить — не знаю. Мне кажется, я была тогда в каком-то сне…
Ты спрашиваешь, может, он пьющий или хулиганит дома. Нет, не пьет и не хулиганит, да в этом ли счастье-то? С хулиганом я и дня бы не прожила, а с ним промучилась почти четыре года… Вот пишу письмо и боюсь, что ты меня опять не поймешь: что, мол, за мученья, если любит и заботится? Ну, не знаю, не знаю… Не по мне он, все в нем меня раздражает… Ему бы только сидеть перед телевизором. Или на стадионе… Не могу! Не хочу — и все, хоть убей!..»Это — из письма единственной близкой подруге. Письма подшиты к делу — подруга сама прислала их в прокуратуру, когда Аллу стали разыскивать. Да, разыскивать. Потому что Алла исчезла. Вышла из больницы, собрала чемоданчик и уехала, не сказав никому ни единого слова. Сначала этому не придали значения: ну, уехала, что с того? Приедет… Потом хватились: как-никак главный свидетель. И узнали: уехала Алла к маме. И квартиру бросила, и вещи. Трудовую книжку — и ту не взяла. Сожгла мосты… Странный поступок? Не думаю. Вполне объяснимый. Стыдно ей было. И горько. Все-таки это она Виктора прогнала, понудила уйти из дома, на который он имел не только формальное, но и моральное право, потому что вины за ним не было никакой. И верность хранил, и заботился о своей семье, как мог. Хозяином был — в самом добром смысле этого слова. Легко представить себе унижение, которое испытал Агеев, упрашивая, чтобы снова пустили его в общежитие. Там жили только холостяки, он был среди них «соломенным вдовцом» и непрестанно чувствовал на себе насмешливые взгляды. Но терпел — надеялся, что все обойдется. Если бы Алла вышла замуж, Агееву стало бы легче! Ясность была бы. И нечего было бы ждать. Но ясности-то как раз и не было. Только намеки, шепоток, слухи и подозрения. Однажды сосед по общежитию сказал Агееву: — Женюсь я… В субботу распишемся. А жить нам негде, разве что здесь. Вошел бы ты, Витька, в положение… У тебя ведь квартира… До субботы оставалось шесть дней. Он взял отгул и уехал на рыбалку. …— Решили убить?.. Я хочу видеть его глаза, но он их прячет. — Нет, не тогда. Просто хотелось побыть одному. На что-то решиться… — И на что же вы решились? — Поехать к Алле… Еще раз поговорить… — В такой ранний час? — Иначе она ушла бы на работу… Алла пустила меня только на порог. На порог моей квартиры… И я заметил, как через окно — квартира на первом этаже — выпрыгивает на улицу какой-то мужчина. Тут я власть над собой и потерял… Следствие этот довод уже проверяло. Никаких следов чужого присутствия в квартире не нашли. — Вы уверены и сейчас, что там кто-то был? — По-моему, был… Да, да, я уверен! — Кто же тогда закрыл окно? И задернул шторы? Агеев молчит. — Только вы и могли это сделать. Зачем? Чтобы с улицы никто не увидел труп вашей жены? Чтобы его не нашли слишком рано? Вот когда наконец я вижу его глаза. Глаза, полные слез. Нет, не деланных, не выдавленных насильно — настоящих. Но что это за слезы? О чем он плачет? — Что заставило вас решиться? — Любил я ее… Не было для меня жизни без Аллы… — Жизни не было — для вас. Убивали же вы, однако, не себя, а ее. Он не отвечает. Он плачет. …За несколько дней до начала процесса я зашел к судье, чтобы взять разрешение на еще одно свидание с Агеевым. — Срывается дело, — сказал судья. — Наверно, отправим доследовать. Эта перспектива мне предвиделась меньше всего. Что сочли неясным? Что будут проверять? Хорошо это для Агеева или плохо? Судья прервал мои размышления: — Есть два новых документа, они меняют всю картину. Некий Комовский подал заявление: уверяет, что был у Агеевой, когда к ней утром пришел муж. И еще — письмо от ее матери. Очень странное письмо. Вот посмотрите: «Повестку вашу на суд для Агеевой Аллы Петровны получили, а передать ее некому: нет большей моей Алички, на той неделе похоронили. Добил ее этот изверг Агеев…» — Что за чушь?! — сказал я. — Ведь он в тюрьме… — Мало ли что… — возразил судья. — Может быть, есть сообщник, и он отомстил. А может, погибла от ран, которые нанес Агеев. Словом, темная история. Надо проверять… Дело принимало совсем неожиданный оборот.
Двадцать лет назад один наш видный философ опубликовал исследование, иные пассажи которого удивляют сегодня непререкаемой категоричностью. Ревность там без всяких оговорок названа «отвратительнейшим пережитком прошлого» и заклеймена как «низменное чувство, порожденное частнособственническими отношениями». Если «сознание человека, — утверждал автор, — возвысилось до уважения личной свободы и достоинства других людей, не может быть и речи о ревности. В этих случаях это чувство отсутствует и для его возникновения нет никаких поводов». Не может быть и речи… Нет никаких поводов… Но разве только частные собственники страдают от неразделенной любви? Разве самое глубокое уважение и к личной свободе, и к достоинству мешает человеку страстно желать быть любимым? Помню, на молодежном диспуте, как раз в те годы, когда философ высказывал свои взгляды, один студент с упоением цитировал Чернышевского — знаменитый его «Дневник моих отношений с тою, которая составляет сейчас мое счастье»: «…Я вас люблю так много, что ваше счастье предпочитаю даже своей любви». Студент настаивал: такое отношение к любимому человеку должно теперь стать правилом, ибо только оно отвечает нормам нашей морали. Да и мне, говоря по правде, возвышенное самоотречение казалось тогда единственно достойным настоящего мужчины. Какое-то время спустя этот бывший студент по старой памяти пришел ко мне за весьма деликатным советом. Ему было нужно начать дело о разводе, но так, чтобы разводом оно ни в коем случае не закончилось. Чтобы шло оно всерьез, по всем существующим правилам, а где-то посредине оборвалось и обе стороны вернулись в обнимку под супружеский кров. Семья его была уже на грани распада, но он все еще верил, что любовь не ушла, что его сомнения напрасны, что он сгущает краски, которые вовсе не так уж мрачны. Факты, казалось бы, говорили другое, и он все терзался, все мучился, шарахаясь от надежды к отчаянию и снова загораясь надеждой. Оттого и задумал он этот спектакль — жестокий экзамен любви, который учинила ей ревность. — А как быть со счастьем любимой женщины, которым ты жертвуешь ради своей любви? — Все сложнее, — вздохнул он. И правда, все гораздо сложнее. Разум говорит: не ревнуй! Унизительно это. Бессмысленно. Больно… Но властен ли полностью разум над чувством? Возможна ли абсолютная их гармония? И так ли уж это прекрасно — управлять своим чувством настолько, чтобы оно беспрекословно подчинялось рассудку? Что и говорить, идея заманчива. Будь так, хорошие люди перестали бы любить «нехороших», «перспективные» браки возобладали бы над теми, которые не сулят никаких выгод. Поубавилось бы конфликтов и драм, но вот стал ли бы человек счастливей — в этом я еще не уверен. Боюсь, что он стал бы духовно беднее, суше, скучнее. Дорогой ценой обошлось бы людям столь желанное освобождение от сердечных мук! Отрадно лишь, что эта чудесная перспектива едва ли угрожает нам в ближайшие годы. Только вот все ли, что зовут в просторечии «ревностью», вправе так называться. «Умри, чтобы не досталась другому» — это ли ревность? Или это месть самца, самовольно присвоившего себе монопольное право — не на человека, на вещь? Читаю в одном судебном документе: «Л. из ревности нецензурно оскорбил свою жену…» Оскорбил — из ревности? То есть, иначе говоря, — от любви? Вот уж, право, слова, которым неуютно друг подле друга. Кому-то из древних принадлежит афоризм: «Любовь, не возвышающая душу, не есть любовь». Если так, а это действительно так, то и ревность, этот нежеланный, но подчас неизбежный спутник сильной любви, ревность, не возвышающая душу, а превращающая человека в животное, — не есть ревность. Ревность или не ревность? Для кого-то это пустопорожний спор о словах, псевдофилософские упражнения, претензия на глубокомыслие. Для Агеева — вопрос жизни. Ибо, если руку его направляла эта зловещая «тень любви», он может не только не опасаться смертного приговора, но даже рассчитывать на снисхождение. Мягче мы стали относиться к патологии сердца. Мягче и человечней. Нет, нет, ослепленный ревностью убийца прощения все равно не получит. Но те побуждения, что заставили его преступить закон, уже не назовут низменными, не приравняют к корысти, как это делал прежний Уголовный кодекс, несший на себе печать несколько упрощенных представлений о «пережитках». А вот если в Агееве заговорил не голос попранной любви, а голос попранного мужского самолюбия, его могут наказать куда как строже. Я не против такого уважительного отношения к любви. Но мыслимо ли с аптекарской точностью разложить по полочкам те чувства, которые руководят человеком в критические минуты его жизни?
Комовский — человек совсем еще молодой, одет с иголочки, стрижка модная и очень ему идет. Мне нравится его улыбка, беспомощная какая-то, застенчивая, столь неуместная здесь, в судебном зале. Он женат, у него ребенок. Он и в мыслях не имел жениться на Алле. Та знала об этом и никогда ни в чем не упрекала его. Даже следователю ни слова о нем не сказала, чтобы не впутывать его в грязное дело. Хорошая была женщина Алла Агеева, он смело может подтвердить это перед судом. — Значит, свидетель, вы утверждаете, что были у Агеевой, когда утром пришел ее муж? — Да. — Почему сразу не сообщили об этом, как только началось следствие? — Не хотел поднимать шум. — И все-таки подняли… — Так ведь молчи я дальше, Агееву стало бы хуже. Как-то это все не по-людски — ради своей шкуры человека топить. Ну, и решился! А теперь вот мне выговор закатили… Выходит, Агеев не соврал, утверждая, что видел мужчину, выпрыгнувшего через окно. Может ли это, однако, послужить ему извинением, если вполне доказано, что мысль расправиться с женой за поруганную любовь пришла к нему много раньше — задолго до того, как увидел он счастливого соперника в своей квартире? Томас Мор пожал бы его благородную руку: жителям Утопии великий мыслитель завещал не щадить неверных жен. На первый раз им грозила «строжайшая форма рабства», повторенное же прелюбодеяние каралось смертью. Этот нравственный постулат не дождался Утопии, он стал юридической нормой гораздо раньше — в обществе, меньше всего походившем на то, о котором мечтал Мор. Кодекс Наполеона признавал «извинительным» убийство жены, застигнутой мужем «на месте преступления в их супружеском доме». А прославленный сердцевед Александр Дюма-сын даже называл это узаконенное убийство «высоконравственным»: его знаменитой брошюре «Мужчина — женщина», выдержавшей только на родине десятки изданий, рукоплескало все мировое мещанство. …Драматичнейший эпизод процесса — словно кадр из кинобоевика. Открывается дверь, и входит Алла. Агеев снова опускает свою горемычную голову, Комовский загадочно улыбается, судьи всматриваются в лицо потерпевшей, и только прокурор спокойно постукивает пальцами по столу. Это он ее разыскал, вернул, так сказать, с того света, презрев мистический страх. И теперь она должна нам поведать чудо своего воскрешения. Она не скрывает, зачем объявилась покойницей. Подробно рассказывает, как задумала этот маскарад и как вовлекла в него свою маму. — Хотелось зачеркнуть прошлое… И начать новую жизнь… Чтобы все про меня забыли. И чтобы я сама забыла этот кошмар. Я не думала, что меня будут искать… Ведь я никого не убивала, ни к кому не имею претензий. Все, что знала, рассказала, а что не рассказала — не так уж и важно. Умерла — ну и ладно, одним человеком меньше. И конец… Как — конец?! А Агеев? Ведь от ее показаний во многом зависит его судьба! Мой вопрос выводит ее из себя: — О нем еще думать!.. Кто кого душил, гражданин защитник: я Агеева или он меня?.. Мне жаль Агеева. Пусть он даже, как писала Алла подруге, ограничен и скучен (а это, между прочим, вовсе не так). Пусть он отстал, пусть не ходит на выставки и в театры. Разве мешает ему это любить, мучиться, страдать?.. Не вина его, а беда, что женщина, которую он полюбил, расчетлива, холодна и эгоистична. Что, похваляясь богатством своей сложной натуры, она преспокойно протопала по его душе и равнодушно вышвырнула за дверь, как только надобность в нем миновала. Но стать пред Агеевым на колени мне почему-то не хочется. Да, я сочувствую ему, я ему сострадаю, я сделаю все, что в моих силах, чтобы ему помочь. Но должен ли я уважать его несдержанность? Его злопамятство? Разве каждый человек, каким бы плохим он ни был, не вправе любить того, кто ему по сердцу, и не любить того, кто ему не мил? Больше не мил… Разве не долг нелюбимого — уйти, если его не желают, уйти без угроз, без упреков, без перечня бед и обид? И тем более — без сведения счетов? Сказать легко. А вот сделать… Жизнь сложнее, это я понимаю. Что ж, так бывает: не находит человек в себе силы сдержаться, перестает быть на какое-то время хозяином своих поступков, сохраняя, однако, способность понимать, что происходит. Ибо, по наблюдениям одного старого французского юриста, «не только трем четвертям, но и девяти десятым… убийц неистовый порыв не помешает взвесить обстоятельства». Не уверен в точности цифр, но по сути это, видимо, так. И все же порыв есть порыв, особенно если он «неистов». После него наступает прозрение — тяжкая расплата за содеянное, расплата, отмеренная не судом, а своей совестью. И немыслимо тогда бежать от юстиции — от кары, во сто крат менее суровой, чем казнь над собою самим. Много лет назад знаменитый Ф. Н. Плевако защищал Бартенева — того самого, который послужил Бунину прототипом для корнета Елагина. Вот что сказал он в защиту этой жертвы болезненно страстной любви: «Бартенев заявил о своем преступлении без всякой попытки избежать кары… Он — преступник, но он не призвал лжи на помощь к себе». Мог ли я повторить эти слова в защиту Агеева? Как жаль, что наши суды так редко, так робко, так неохотно пользуются помощью психологической экспертизы, несмотря на те возможности, которые им дает закон. Говорят, судья и сам должен быть проницательным «человековедом» — тонким знатоком и врачевателем души. Должен, конечно. Но ведь даже в самом лучшем случае судейское «человековедение» предполагает всего-навсего житейский опыт, умение наблюдать, предполагает навыки и способности, но отнюдь не профессиональное постижение одной из самых сложных и «таинственных» областей человеческого бытия. Психология — это наука, и, как всякая наука, она не терпит приблизительности и дилетантства. Тем более когда от точности выводов зависит судьба людей. Будь психолог более частым гостем в суде (не гостем — советчиком), мотивы поступков, приведших к драматичным и запутанным конфликтам, получали бы куда более точное, более ясное и убедительное истолкование.
В моем архиве есть письмо, пришедшее с берегов Тихого океана. Его прислала женщина, пережившая тяжкую драму, — человек сильной души и большого сердца. И еще — несомненного дара. Об этом само за себя говорит ее письмо, которое мне хочется привести почти целиком: пусть голос далекой читательницы из Приморского края прозвучит в разговоре о «тени любви».
«…Я потеряла самого дорогого, самого близкого мне человека — своего мужа. Необычный, быть может, странный, с точки зрения тех, кто мало знал его, какой-то «нездешний» был этот человек, мой муж. Начисто лишенный честолюбия, он жил своим особым миром, тянулся к людям, как бы это сказать, неустроенным, что ли, к тем, кому не очень сладко жилось на свете… Отпуск он решил провести в бухте Ольга. В одну из первых своих поездок туда он познакомился с журналисткой местной газеты, женщиной талантливой, но, по его рассказам, глубоко несчастной, обездоленной. О том, что эта женщина не без таланта, говорят ее стихи. А мой муж страстно любил стихи, и искра одаренности в любом человеке всегда трогала его. Мне, своему другу, он говорил об этой женщине, говорил, что надо ей помочь, что она не должна там окончательно завязнуть… В этой самой Ольге он и погиб. Был у той женщины «друг», который решил, что заезжий журналист, «чужак», переходит ему дорогу. Случалось ли вам наблюдать в тайге бой изюбров — бой насмерть из-за подруги? Животные бьются до тех пор, пока один из них не падет, истекая кровью. Здесь побивает сильнейший, ибо таков закон природы. Инстинкт животных… Но человек!.. Ведь потому он и возвысился над животным, что у него есть разум. Если бы мы не владели своими инстинктами, теми темными силами, которых много еще в недрах души, — разве мы были бы людьми?! Не хочу жалеть тех, кто на суде будет лить слезы: «Я измаялся, не мог жить без нее…» Не можешь жить — умри сам, но не убивай. Надо же так случиться, что там, все в той же Ольге, муж написал рассказ «Ночной разговор» — о любви, о ревности… Герой рассказа — геолог, любивший и потерявший любимую женщину, когда в их жизнь вошел третий. «Я призывал на его голову самые страшные несчастья, — говорит герой. — Я был бы рад, если бы он заболел неизлечимой болезнью и умер. Я готов был сам уничтожить этого человека…» Он не сделал этого. Он просто ушел, а они, Лена и Андрей, остались. Но через какое-то время жизнь столкнула этих двух мужчин снова. «…В декабре меня послали на базу. Я должен был встретиться с человеком из той группы, где осталась Лена. Первой моей мыслью было отказаться, но что-то толкнуло меня, и я не только не отказался, но, напротив, очень торопился к месту встречи. Хотелось узнать, не случилось ли там чего-нибудь плохого, и очень ждал, чтобы что-нибудь плохое случилось. Когда я поймал себя на этой мысли, мне стало не по себе. Но мысль такая была. Я хотел Андрею беды! К двум часам я порядочно промерз, а человека оттуда все не было. Выстрелил несколько раз из ружья. Никто мне не ответил, только эхо. Тогда я понял, что с посыльным случилась беда. И около трех часов пошел навстречу. На полдороге было старое зимовье, там рассчитывал передохнуть и закусить. …Дверь в зимовье была открыта. К ней тянулся широкий след. На снегу я увидел кровь. С ружьем наготове я вошел в избушку и замер на пороге. Скорчившись на полу, в замерзшей луже крови лежал Андрей. Представляете ситуацию? Глухая ночь. На много километров тайга, и надвигается метель. Повернуться и уйти! К утру я был бы на базе. Раньше чем через сутки Андрея бы не хватились. За сутки метель занесет следы, и никто никогда не узнает, что несколько мгновений в лесной избушке нас было двое. Тайга умеет хранить тайны. Много их похоронено в ее дебрях. Исчезнет во времени и еще одна. Тайга равнодушна. Что ей человеческая жизнь или смерть? Лишь короткий миг. Значит, только повернуться и уйти, и свершится то, чего я хотел. И вдруг, в какое-то мгновение я увидел все это как бы со стороны: и ночь, и избушку, и распростертое на полу тело Андрея, и себя, стоящего над ним. И еще я увидел время. Увидел, как проходят секунды, а вместе с ними уходит человеческая жизнь. Я плохо помню, что было дальше. Я тащил Андрея на санях, сделанных из моих лыж. Чтобы не петлять, шел по его следу, а в километре от зимовья наткнулся на тушу здоровенного медведя с распоротым брюхом. Тут же валялись ружье и сломанные лыжи Андрея. На рассвете увидел лагерь. У меня хватило сил выстрелить в воздух. Очнулся я уже в больнице. У меня были сильно обморожены руки, но первый вопрос, который я задал: как Андрей? Я не хотел, чтобы он умирал!..» Мы с мужем пережили многое, выстояли не одну бурю, пока не убедились, что не сойти нам с наших «орбит». Я очень хорошо понимала этого человека — большого ребенка… Бывало так, что он плакал на моем плече от обиды, от того, что «синяя птица» оказывалась общипанной вороной… И я утешала его, как мать, как сестра, и совсем забывала о том, что я — жена. Ревности не было, а была только боль за нанесенною ему горечь. Таковы были наши отношения. Не стыжусь писать об этом, потому что это правда. Мой муж не был идеальным человеком. Со стороны многое казалось в нем причудливо-странным. Наверно, он таким и был — в том смысле, в каком причудлив и странен любой человек, у которого есть хоть малая доля индивидуальности. …Теперь я одна хожу по улицам поселка, по тем улицам, где мы ходили вдвоем. Я понимаю: всякая смерть тяжела, любая утрата горестна. Но когда человек гибнет во имя высокой цели, в его смерти есть величие, есть какое-то оправдание, есть утешение, что ли, для тех, кто остался жить. Но погибнуть из-за того, что чувства другого вольно или невольно оказались обманутыми! Что может быть бессмысленнее, нелепее такой смерти? И не скажешь себе: «Крепись. Так было надо».
Я слышал не раз: ревность общественно опасна. А по-моему, она общественно полезна. Потому что она — симптом неравнодушия, свидетельство сильных страстей и живых человеческих чувств, которые, вопреки прогнозам унылых скептиков, никак не удается вытравить из людей нашему «машинному веку». Она — укор тому самому прагматизму, который, судя по иным повестям и рассказам, отличает истинно современного героя, надежно укрывшего свое сердце за частоколом иронии от житейских бурь и невзгод. Страшна не ревность — страшны крайние, дикие формы ее проявления. Страшны и опасны. Страдать от неразделенной любви, от сомнений в своем совершенстве — горько, но и прекрасно. Расправляться с тем, кто тебя не любит, мстить за свои муки, за неуверенность в себе, за свои несбывшиеся надежды — преступно и мерзко. Современного человека действительно недостойно. Потому что истинно современный человек — это прежде всего человек высокой культуры, обогативший себя всем, что дала миру цивилизация. Значит, и сдержанностью, умением владеть собой, способностью укрощать слепые инстинкты.
«Ни слез о потере, ни слез ревности вытереть нельзя и не должно…»И не должно! Так писал Герцен. И продолжал:
«…но можно и должно достигнуть, чтоб они лились человечески… и чтоб в них равно не было ни монашеского яда, ни дикости зверя, ни вопля уязвленного собственника».Чтоб лились человечески… Вот, собственно, тот критерий, который позволяет, безошибочно отличить «хорошую» ревность от «плохой», ту ревность, что входит в нравственный капитал современного человека, от ревности, составляющей его ядовитый балласт. Если в отместку за свои слезы я заставляю страдать любимого человека, значит, льются они не человечески. Таков ответ автору письма, с которого начался этот очерк. …Ну, а что же стало с Агеевым? Сначала приговор был не в меру суровым, потом, после долгих хлопот, его значительно смягчили, отпустили Агеева, поверили, что получил он искупительный урок на всю жизнь. Года два или три назад он был у меня — проездом из города, где поселился, на юг, в отпуск. Вместе с ним пришла славная сероглазая девчушка, суетившаяся вокруг него слишком уж неуклюже, а он подчинялся этой неумелой заботе снисходительно и покорно. С усталым безразличием, как мне показалось. Мы проговорили не один час — все больше о том, как разыскать ему Аллу: она снова скрылась, забрав Володьку, и Агеев не мог, не хотел поверить, что сын вырастет без него. Прощаясь, он обещал писать, но так и не написал, и с тех пор я о нем ничего не знаю.
1969
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ ЛИЧНОСТЬ…
«Мы были связаны с осужденным, — говорится в письме, — пятнадцатью годами совместной научно-исследовательской работы. Как ученый он отличался исключительным трудолюбием, принципиальностью и честностью. Несмотря на то что он начал заниматься научной работой в 38 лет, он опубликовал 23 статьи, содержащие важные результаты, и представил к защите докторскую диссертацию. При этом следует отметить, что свои работы он никогда не спешил публиковать, долго вынашивал, детально сравнивал их с работами других авторов. Мы никогда не наблюдали у него каких-либо признаков карьеризма, он производил на нас впечатление очень деликатного и мягкосердечного товарища».Двадцатитомное дело, по которому осужден доцент, рисует несколько иной образ этого же самого человека. На протяжении долгого времени жена доцента и ее знакомые «подбирали» абитуриентов, не рассчитывавших попасть в вуз честным путем, и студентов, предпочитавших «сдавать» экзамены, не покидая своих квартир. Доцент охотно шел им навстречу. Конечно, не даром. Человек, представленный двумя профессорами как «деликатный и добросердечный», совершил тяжкое преступление, опозорив свои седины. Впрочем, слова «деликатный и добросердечный» я напрасно поставил в кавычки. Легче всего обыграть контраст между ликом иконописным и ликом преступным. Контраст есть, но не потому, что преступник пытался за маской добросердечности скрыть свою порочную сущность. А потому, что оба эти лика, как ни странно, довольно точны. Да, наука была его жизнью, его любовью, его страстью. Исследовательская работа доставляла ему наслаждение и придавала высший смысл тем многочисленным обязанностям, которые он нес. Даже сейчас, в колонии, в условиях, не слишком способствующих исследовательской работе, он продолжает, насколько возможно, недовершенный труд, благо теоретическая математика не требует лабораторий и специальной аппаратуры. В математике он был щепетилен и честен. Он не приписывал себе чужих трудов, не старался запрещенным приемом обойти «конкурента», не рвался к теплым местечкам. Он был безупречно корректен с коллегами и друзьями, внимателен и доброжелателен к людям, и он с полным основанием заслужил ту репутацию скромного, трудолюбивого, талантливого человека, которая за ним утвердилась. Но рядом шла его вторая жизнь, которую он, собственно, и не считал жизнью, а всего лишь досадной необходимостью. Каждый день с высот науки приходилось спускаться втеснину бытия, ибо, кроме красоты математических формул, существует и проза житейской повседневности. Та самая проза, для которой нужен «презренный металл». Правда, доцентская ставка вполне позволяла жить безбедно, но лишний рубль в кармане, как известно, никогда никому не мешал. Деньги сами шли в руки, для этого не требовалось никаких усилий. И это снимало заботу о быте. Можно было не думать о «презренном металле» и целиком посвятить себя науке. Так что — о чудо логики, усмиряющей совесть! — поборы за фиктивный зачет или за подмену экзаменационной работы неожиданно обретали чуть ли не общественно полезный смысл: математика обогащалась новыми исследованиями, а неспособные студенты все равно проваливались на каком-то другом экзамене, потому что все экзамены сдать за деньги нельзя. Таким был в самом общем его выражении ход мышления доцента, и он, этот «ход», ничуть не мешал доценту по-прежнему ревностно служить науке, оставаться мягким и добросердечным. Профессора, высоко аттестующие его, не грешат против истины. Просто им трудно поверить, что столь различные, столь несовместимые, казалось бы, свойства и качества могут уживаться в одном человеке. Профессора в конце концов имеют право в это не верить, этого не знать, ибо они — профессора математики, человековедение не их профессия. Суд такого права не имеет. Потому что закон обязывает его, вынося приговор, учитывать «личность виновного». Личность… Короткое слово, за которым скрывается так много: духовный мир, воспитание, культура, темперамент, характер… Неповторимая сумма признаков, определяющих индивидуальность. Бесконечность, познание которой составляло веками предмет исследования философов, психологов, педагогов, писателей, юристов. Но пока ученые разных специальностей, школ, направлений познают этот мир бесконечности, пока они спорят о том, что же все-таки есть личность, суд должен решить эту задачу сегодня, сейчас, в приложении к данному случаю. И не абстрактно, не философски, а в самом что ни на есть утилитарном смысле: от того, как именно решит суд эту задачу, зависит вполне земная, вполне конкретная судьба живого человека. При этом суд не просто отдает дань справедливости. Он отдает дань закону. Закон повелел ему «учесть личность», и он обязан учесть. Но как? Вот об этом в законе нет ни слова. И быть, очевидно, не может. Неповторима, индивидуальна личность, представшая перед судом, но и судьи — тоже люди, тоже личности, со своим взглядом, своей оценкой явлений и поступков, своей мерой проницательности, позволяющей заглянуть в людские души. И все же какой-то критерий оценки личности в сугубо правовом, утилитарно судебном смысле должен существовать. Иначе норма закона, повелевающая исходить при вынесении приговора и из личности подсудимого, приобретет столь расплывчатые черты, что останется практически мертвой буквой. Доцент был способным ученым, трудолюбивым и симпатичным человеком — это, несомненно, данные, характеризующие его личность, но как их следует учесть в приговоре: «за здравие» или «за упокой»? Облегчают ли они его участь или, напротив, здесь действует принцип: «Кому много дано, с того больше и спрашивается»? Суд пришел именно к этому, последнему, выводу, он определил доценту очень суровое наказание, но где гарантия, что другие судьи не поступили бы иначе? Да и как, по правде-то говоря, в ходе судебного разбирательства суд может изучить личность? По отдельным штрихам, по отдельным деталям составить о ней представление — да, пожалуй. Но — изучить?! Спору нет, детали подчас могут быть весьма красноречивыми и для умного, наблюдательного судьи значить немало. Один инженер был привлечен к ответственности «за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее за собой смерть потерпевшего» — так была сформулирована суть вины в обвинительном заключении. Словом, ехал он на своей машине с недозволенной скоростью, проявил полное пренебрежение к элементарным нормам «дорожного кодекса» и сбил подростка, переходившего улицу на зеленый сигнал светофора в положенном месте. Доставили инженера в отделение милиции, дали бумагу, перо, чтобы собственноручно написал объяснение. Прошел всего какой-то час с того момента, как он, пусть не умышленно, в сущности, убил человека. Юридически это, конечно, не убийство, а «причинение смерти», но ведь ты «причинил» ее, ты, ты!.. И вот он пишет:
«Прежде всего (обратите, пожалуйста, внимание: прежде всего! — А. В.) я хочу сообщить сведения о себе. Имею высшее образование, стаж работы 17 лет, всегда, исходя из деловых и политических качеств, мне доверяли ответственные должности: заместителя главного инженера, главного технолога, главного инженера…»И так далее на двух с половиной страницах. Ни слова — о жертве. Ни слова раскаяния. Сожаления хотя бы… Только где-то в конце — начальственный разнос: перекресток освещается плохо, светофор поставлен так, что сигнала не видно… В светофоре-то суд разберется, а в человеке? Разве это «объяснение» не представляет собой убийственного акта саморазоблачения, где вся сущность человека — то самое, что суд должен «учесть» в приговоре, — как на ладони. Но попробуй суд сослаться на это, и он вступит в конфликт с «данными о личности» подсудимого, подшитыми к делу. Ибо характеристики — их целых семь! — одна лучше другой. Послужной список красив на загляденье. Достоинств не перечесть: энергичен, авторитетен, пользуется уважением, активный общественник. Имеет грамоты, благодарности и даже именные часы. Другое дело — та же модель, только вывернутая наизнанку. Мне прислали приговор: третьестепенному участнику не слишком опасного преступления определена максимально возможная мера наказания — лишь потому, что «он отрицательно характеризуется администрацией фабрики». По прежней переписке я знал осужденного, возможно, поэтому туманная формулировка приговора насторожила меня, и я не поленился прочитать все дело. Нашел и отрицательную характеристику: в ней всего четыре строчки, из них две — анкетные данные. А вот и строчка, которая «стоила» человеку лишних лет заключения: «В общественной жизни участия не принимал». И только… Не придаем ли мы порой чрезмерное значение характеристикам? Не бывает ли так, что «данные о личности» заслоняют саму личность? Ведь характеристики тоже пишут люди, далеко не всегда могущие и умеющие увидеть человека во всей его объемности, во всех измерениях. Да и не всегда эти «измерения» открываются невооруженному глазу. Очень часто характеристика — это всего лишь перечень должностей, которые занимал человек, общественных поручений, которые на него возлагались, какие-то необязательные, случайные факты его биографии, весьма приблизительная оценка, которую дают ему те, кто подписывает документ. Давно замечено к тому же, что услужливая память подсовывает нам часто те «плюсы» или «минусы», которые могут более пригодиться к данному случаю: хочешь помочь человеку — вспоминай все хорошее, не хочешь — вали плохое… Личность же человека в ее сложившейся, устоявшейся данности представляет собой совокупность таких объективных признаков, которые существуют независимо от того или иного суждения. Тем более суждения некомпетентного. И только они, только объективные признаки, характеризующие личность, должны интересовать суд. Беда лишь в том, что постижение этих признаков сопряжено практически с огромными трудностями. Но, как бы они ни были велики, преодоление их необходимо ради торжества законности и справедливости. Не только и не столько для того, чтобы определить меру наказания. Но и для установления истины. Потому что не так уж редко личность подсудимого может оказаться звеном в цепи доказательств при решении вопроса о том, было ли преступление и принимал ли именно этот подсудимый участие в нем. Есть такие преступления, которые неразрывно связаны с определенными свойствами и чертами личности. Вежливость, мягкость, корректность, воспитанность, как ни печально, могут уживаться с корыстолюбием. Но вот представить себе доцента, о котором выше шла речь, в образе хулигана действительно невозможно. Потому что демонстративное неуважение к обществу, проявляемое к тому же в дерзкой, циничной форме, непременно предполагает такие изъяны в воспитании, культуре, духовном облике человека, которые едва ли остались бы незамеченными долгое время. Углубленное внимание к личности подсудимого очень часто могло бы помочь суду разобраться и в мотивах преступления, и в том, что юристы называют субъективной его стороной, — наличии или отсутствии умысла. Несколько лет назад за умышленное убийство был осужден подросток. Защита утверждала, что убийство не было умышленным, что подросток лишь превысил пределы необходимой обороны, спасаясь от напавшего хулигана. Одним из важнейших аргументов защиты был довод психологический: такой человек попросту не мог сознательно убить своего сверстника. Я подчеркиваю: довод психологический… Ибо в тех случаях, когда улики сложны, запутанны, противоречивы, когда они допускают различное истолкование, именно специфические особенности личности, проанализированные глубоко и непредвзято, могут помочь выяснению истины. К сожалению, голосу тех, кто доказывал несправедливость осуждения подростка, в свое время не вняли: защита показалась чрезмерно пристрастной. Но вот я читаю письмо в редакцию «Литературной газеты», подписанное начальником воспитательно-трудовой колонии, где отбывает наказание осужденный, — уж этого-то человека вряд ли кто-нибудь упрекнет в пристрастии. Его профессиональный долг — наблюдать за своими трудными воспитанниками и способствовать их приобщению к честной, трудовой жизни. От своего имени и от имени коллег начальник колонии пишет, что глубокое изучение личности подростка подтверждает вывод: признание его преступления умышленным, а тем более совершенным из хулиганских побуждений, ошибочно. Разумеется, гораздо чаще изучение личности подсудимого поможет не оценке доказательств, а выбору справедливой меры наказания. Не случайно закон предоставляет обычно суду широкий диапазон санкций. Многочисленные научные учреждения нашей страны ведут криминологические исследования, изучая причины и мотивы преступных проявлений, роль социальных и медико-биологических факторов, просчеты в воспитании, влияние внешней среды на формирование таких черт личности, которые способствуют совершению преступлений. Результаты этих интересных исследований, несомненно, будут способствовать выработке мер по предупреждению преступности. Но сейчас речь идет о другом — о постижении конкретным судом конкретной личности в ходе конкретного судебного разбирательства, дабы приговор, которым оно завершится, был эффективным и справедливым, дабы он отвечал требованиям закона, повелевающего суду «учитывать личность», то есть, очевидно, прежде всего — различные грани морального облика, несомненно поддающиеся «измерению» и оценке. Но — я цитирую опубликованную в журнале «Советское государство и право» статью кандидата юридических наук А. И. Долговой — «проблемы этико-правового изучения личности преступника и вообще личности, к сожалению, мало разработаны и криминологами, и представителями других наук». Действительно, к сожалению…. Выбирая наиболее справедливую и разумную санкцию, то есть индивидуализируя наказание, если пользоваться терминологией закона, суд должен — таково мнение авторов коллективного научного труда «Личность преступника», — «наряду с характером и степенью общественной опасности преступления и обстоятельствами, смягчающими и отягчающими ответственность… учитывать обстоятельства, составляющие социально-демографическую, социально-психологическую, психофизическую и правовую характеристику личности виновного». Должен!.. Но учитывает ли? Авторы того же исследования провели выборочное, но вполне представительное («репрезентативное», как говорят социологи) изучение уголовных дел и пришли к выводу, что «наибольшее число обстоятельств, учитываемых судом, относится к социальной характеристике подсудимого. Это в первую очередь общественно-производственная и социально-бытовая характеристики, наличие в прошлом особых заслуг, семейное положение, сведения о совершенных в прошлом преступлениях и проступках». Но — и это самое главное:
«Не удалось установить сколько-нибудь заметного влияния на индивидуализацию наказания собственно психологической характеристики подсудимого, к которой обычно относятся особенности характера, темперамент, привычки и интересы…»Этот вывод (я могу подкрепить его и своими личными многолетними наблюдениями), к которому с академическим спокойствием приходят авторы теоретического исследования, наводит на самые грустные размышления. О каком же постижении человеческой личности и ее отношения к содеянному можно говорить, если не учтено самое главное — то, что составляет ее сущность, ее зерно? Можно ли индивидуализировать наказание, не индивидуализируя личности во всем неповторимом синтезе только ей одной присущих свойств и черт? Ведь характер, привычки и темперамент оказывают подчас решающее влияние на поведение человека в определенных критических ситуациях. Совершенно очевидно, что импульсивность, повышенная возбудимость, болезненная ранимость толкают подчас на поступки, которые не совершит человек уравновешенный, сдержанный, спокойный. И тем более равнодушный. Характер не может, конечно, служить индульгенцией — за преступные деяния отвечают и холерики, и флегматики. Но коль скоро речь идет о вынесении справедливого приговора «с учетом личности», то можно ли эту сторону личности обойти, не исследовать, не принять во внимание? Для суда связь поступка с особенностями характера едва ли менее важна, чем подшитая к делу справка о том, аккуратно ли платил подсудимый профсоюзные взносы. Много десятилетий назад классик русской юридической мысли А. Ф. Кони в одном из напутствий присяжным сказал:
«…Из всех обстоятельств дела, конечно, самое главное — сам подсудимый. Поэтому если в его жизни, в его личности, даже в слабостях его характера, вытекающих из его темперамента и его физической природы, вы найдете основание для снисхождения, вы можете к строгому голосу осуждения присоединить слово… милосердия».Как видим, и в прошлом веке наиболее прогрессивные отечественные юристы обращали внимание судей прежде всего на индивидуальные особенности личности подсудимого во всем их многообразии, во всей неповторимости. Эти идеи унаследовала, развила, поставила на прочный научный и законный фундамент советская правовая мысль. Дело за «малым»: чтобы они неуклонно проводились в жизнь. Сегодня нет уже ни одного ученого-юриста, который не считал бы необходимым комплексное изучение личности преступника для выбора наиболее справедливого и эффективного наказания. К тому же судей прямо обязывает и закон. Но практическое осуществление этого требования далеко от идеала. По-прежнему основным источником сведений о преступнике является характеристика — документ формальный, сухой, даже в малой степени не позволяющий объемно судить о человеке. Авторы того же исследования провели анализ характеристик, которые суд «учитывал» при избрании меры наказания как «данные о личности». Вот их вывод: «в характеристиках чаще встречаются общие оценки… чем указания на конкретные факты и свойства личности». Исследователи не добавили, что эти «общие оценки» сплошь и рядом субъективны, произвольны, поверхностны, что они отнюдь не зеркало личности, а сугубо формальная, штампованная отписка. Хочется напомнить о предложении, которое высказывалось неоднократно, в том числе и автором этих строк: суд нуждается в помощи психолога, которого надо бы видеть участником процесса гораздо чаще, чем это бывает. Ведь когда речь идет о человеке и его судьбе, всякая приблизительность недопустима. Мысль эта все больше пробивает себе дорогу — ее поддерживают уже не только видные ученые-правоведы, но и судьи самого высшего «ранга». На одном из недавних пленумов Верховного суда СССР, обсуждавшем вопросы судебной практики но делам несовершеннолетних, председатель Верховного суда Литвы А. Л. Ликас говорил о том, как порой не хватает в процессе психолога, который помог бы суду правильно разобраться в личности подростка, в сложностях его взаимоотношений со сверстниками, с родителями, со всеми, кто так или иначе влиял на его волю, формировал его нравственные качества, его духовный мир. С грустной иронией оратор заметил, что специалистов по психологии животных у нас оказалось больше, чем специалистов по психологии трудных подростков… А ведь суду консультант-психолог нужен не только тогда, когда на скамье подсудимых — подросток: правильно и глубоко постигнуть личность подсудимого суд должен всегда. По любому делу. Очень может быть, что участие психолога в процессе — не единственный выход и даже просто не выход. Но, как бы там ни было, критерии постижения личности применительно к задачам суда должны быть найдены и внедрены в повседневную практику. Иначе требование закона — выносить приговор с учетом личности подсудимого — останется невыполненным, а неизменно присутствующая в приговоре фраза: «принимая во внимание личность…» окажется формальной отпиской.
1973
СУТЯГА
«Осторожно — сутяга! Непризнанный «гений» Иван Николаевич Д. мешает работе коллектива».Художник не был горазд на выдумку: тщедушный длинноволосый старик стучался на его рисунке десятью руками в десять дверей, занудно крича: «Я — гений! Я — гений!..» Как попал сюда, в «Окно сатиры», этот взбалмошный старик? Чего добивается он? На что претендует? Я попробовал домыслить то, что было скрыто за шаржем, — дофантазировать, дорисовать. Но тщетно. И тогда, за десять минут до прихода поезда, к восторгу ожидавших чуда у кассы, сдал свой билет… Иван Николаевич Д. был когда-то учителем, преподавал ботанику и зоологию, потом заболел, перенес тяжелую операцию легкого и к работе уже не вернулся: запретили врачи. На старости лет он женился, переехал к жене в этот тихий городок, предался покою, но «старику» едва перевалило за пятьдесят, и нерастраченная энергия требовала выхода. Тогда он взялся за перо. Нет, лавры графомана вовсе его не прельщали. Он не собирался сочинять стихи, романы или многоактные пьесы. Он писал о том, что знал, и в жанре, который был ему близок. Газеты и журналы опубликовали несколько его статей — размышления учителя о методике преподавания биологических дисциплин. Такого преподавания, при котором элемент познавательный органически сочетался бы с «элементом» нравственным. Учитель размышлял о том, как ненавязчиво, оставаясь в рамках программного материала, привить детям любовь к природе, воспитать наблюдательность, научить их понимать «меньших братьев», восхищаться эстетикой всего живого. Это было не бог весть какое открытие, попытки такого рода делались многократно, методисты накопили достаточный опыт, но в статьях Ивана Николаевича привлекали оригинальные незаемные мысли, понимание детской психологии, а главное — искренность, увлеченность, полемический задор, который всегда по-новому высвечивает давно известные вещи. Он не был особенно плодовит — за несколько лет опубликовал всего пять или шесть статей, но работал каждый день с упорством ученого, нашедшего себя в деле важном и нужном, которое придало смысл и содержание всей его жизни. Он внимательно следил за литературой по теме, которая его волновала, и однажды наткнулся на изданную в областном центре популярную брошюру, где обнаружил четыре страницы, весьма хитроумно списанные с его статей. Он стал сличать тексты и увидел, что автор брошюры не перенес в свой труд дословно ни одной его фразы, зато все мысли и наблюдения, которыми Иван Николаевич так гордился, которые выстрадал, дал им жизнь, были выданы автором за собственные. Слова, конечно, были другие — богатый русский язык, как известно, щедр на синонимы, — но мысли те же, и от этой беззастенчивой кражи сжималось сердце… Иван Николаевич написал плагиатору вежливое письмо — вежливое по форме, но гневное по существу. А в ответ получил письмо оскорбительное и по существу, и по форме. Тогда он, не долго думая, обратился в суд. Завели два дела, и, как ни были они связаны друг с другом, объединить их в одно по закону не полагалось: дело о плагиате и дело об оскорблении. Дела эти, скажем прямо, суду совсем не подарок. Разбирать их — одно мучение. Копаться в деталях, в штришках и нюансах — для обиженного в них-то весь смысл, вся боль, а для обидчика они пустяк, не стоящий внимания, капризы и дрязги, возведенные в «прынцып». Все то, что для обиженного его честь, достоинство, кропотливый труд, бессонные ночи, обидчик обозвал уязвленной гордостью, непомерным самолюбием, манией величия и даже заумным бредом. Плагиатор не был простофилей, он заранее все предусмотрел и теперь выкладывал козыри с хваткой ловкого стряпчего: статьи Ивана Николаевича были им перечислены в списке использованной литературы, и это вроде освобождало его от необходимости дать сноску на соответствующей странице. Истцу радоваться бы, что он красуется рядом с именами Дарвина, Павлова и Кювье, но ему и этого мало — требует, чтоб его помянули особо, словно он и есть главный биолог всех времен… Такой предстала позиция истца в трактовке ответчика, и, надо сказать, его ирония имела успех. Тем более что, несогласный с заключением экспертизы, поддерживавшей на первых порах плагиатора, Иван Николаевич отправил несколько жалоб, а жалобы сошлись в одном месте, образовав не то чтобы очень пухлый, но все же солидный том, приобщенный к судебному делу. Такая назойливость всегда производит не лучшее впечатление…
Редактор «Окна сатиры» — очеркист городской газеты — оказался славным пареньком с голубым ромбиком в петлице; совсем недавно он окончил университет, добровольно уехал работать в «глубинку», к делу относится с огоньком — это он сам мне сказал: «С огоньком, а как же иначе?!» И правда, иначе нельзя, но почему сатирический «огонек» должен обжечь человека, который виновен лишь в том, что с достоинством относится к своему труду? — Разве сутяга не типаж, достойный осмеяния? — саркастически отпарировал паренек, нервно кусая тонкие губы. И наставительно добавил: — Такие, как Д., отвлекая суд вздорными домогательствами, мешают ему в борьбе с истинным злом. Кто пустил его в ход — брезгливое и липкое словечко «сутяга»? Может быть, оно вошло в привычный словарь с легкой руки фельетонистов, усмотревших нравственный изъян в попытке решать любые споры непременно в народном суде? Мания сутяжничества конечно же существует, порой она обретает черты почти патологического зуда, когда в разбирательство надуманного конфликта вовлекается множество учреждений. Лишенный всякого принципа пустяк обрастает многотомной перепиской, а ничтожность предмета, о котором ведется спор, обнажается тем резче, чем крикливее и высокопарнее демагогия жалобщика. Все это так, но не слишком ли широкое толкование даем мы подчас понятиям, вошедшим в разговорную речь? Ну, как назовешь Ивана Николаевича сквалыгой и сутягой, если в итоге оказалось, что он полностью прав? Закон дал широкую возможность каждому защитить свою честь, так что тем, кто несправедливо обидел ни в чем не повинного человека, придется перед ним извиниться. Меня тревожит другое: как могло прийти в голову бросить тень на человека только за то, что он законными средствами, в советском суде, отстаивал свое право? Ведь по логике тех, кто за это его упрекал, Д. заведомо был неправ. Но разве кто-нибудь, кроме суда, мог решить, прав он или нет? Разве кому-либо дано право подменять собой суд? И что порочного в том, что две равноправные стороны, отстаивая каждая свои доводы, предстали перед судом, чтобы тот непредвзято их рассудил? — Я не уверен, что вы правы, — деликатно заметил редактор сатирического «окна». Диалог с ним, явно бессмысленный практически, обещал быть интересным с позиции принципиальной. — Разве суды существуют для того, чтобы заниматься пустяковыми дрязгами? Знаете, какой вред приносят все эти «правдоискатели»? Они заставляют целые учреждения заниматься проверкой, а потом выясняется, что вся их «правда» — сплошная ложь. Мне захотелось спустить его с высот теории на грешную землю. — Что, однако, вы предлагаете не вообще «правдоискателю», а учителю Д., которого ославили на весь город? — И поделом! Не потакать же высокомерной амбиции. Его требование, если хотите, просто нескромно. Вот так номер — нескромно!.. Что такого он требует? Чтоб вернули ему то, что ему же принадлежит. Не вещь — идею. Духовную ценность. А если бы даже и материальную? Свою же ведь, не чужую… Как ни мала эта ценность, она — его, кровная, им выношенная и рожденная! Правовая сторона конфликта неотторжима от нравственной. Закон не только предоставил возможность каждому отстаивать в суде неприкосновенность своего произведения, но и предусмотрел уголовную ответственность за «присвоение авторства», не сделав никаких оговорок насчет того, когда защита авторской чести почтенна, а когда — «нескромна». Каким же образом человек, осуществляющий свое законное право, может оказаться сутягой? Защищая то, что закон признал подлежащим защите, он не только отстаивает свой собственный, но и общественный интерес. Ибо права, которые наш закон гарантировал гражданину, — столь же высокая социальная ценность, как и обязанности, которые на гражданина возложены. В защите их, как и в строжайшем контроле за исполнением обязанностей, заинтересовано все общество. Недаром же одну из важнейших задач правового воспитания В. И. Ленин видел в том, чтобы каждый научился «воевать за свое право по всем правилам законной в РСФСР войны за права». Не знаю, размышлял ли над этим мой собеседник, — в утешение ему замечу, что он, оказывается, не одинок.
В приморском курортном городе, где впору отвлечься от деловых забот, случай свел меня с местным судьей. «Приходите завтра в суд, — сказал он, — не пожалеете». — «А что за дело?» — полюбопытствовал я. «Один сквалыга затеял тяжбу из-за каких-то ста рублей. Второй год мучаемся, а ради чего?!» Дела такого рода слушать не интересно, а уж писать о них — тем более: ни загадочной интриги, ни головоломных сюжетов, ни подробностей, от которых захватывает дух. Может быть, поэтому так редко заглядывают в дела гражданские — в то, что принято называть имущественными спорами, в распри вокруг бабушкиного салопа, в священные бои за покосившийся чулан. Между тем именно тут разыгрываются порой шекспировские страсти, обнажаются сложнейшие нравственные конфликты, ждущие своего осмысления. Пенсионер Власов задолжал горкомхозу квартирную плату: терраску, примыкавшую к комнате, в которой он жил, какая-то комиссия признала жилым помещением, потом про это забыли, квартплату не взыскивали, хотя решение комиссии никто не отменял. И когда ревизия обнаружила «неувязку», долг вместе с пеней составил изрядную сумму — 106 рублей 12 копеек. Долг свой Власов вернуть отказался: он был убежден, что холодная терраса — помещение нежилое, за которое платить не полагается. А горкомхоз придерживался мнения диаметрально иного, за ним стояло решение официальной инстанции, и он поступил так, как ему позволял закон: взыскал с Власова долг через нотариуса, которому предоставлено право в подобных случаях учинить так называемую «исполнительную надпись». Тогда Власов обратился в суд… Не успел еще суд сказать своего веского слова, а горкомхоз уже наложил на «противника» моральные санкции: общее собрание учреждения, где он честно трудился, несмотря на почтенный возраст, потребовало, получив письмо горкомхоза, чтобы крохобор взял обратно свой иск. Однако воспитательная акция ничуть Власова не воспитала. Он вовсе не считал себя крохобором, а возникший конфликт — пустяком. Он был убежден в своей правоте и отступать не собирался. И победил: после многих месяцев борьбы Верховный суд республики признал террасу нежилым помещением, за которое квартплата не вносится… Суд-то признал, но вопрос все равно остался: а пристойно ли было вообще биться из-за скромной суммы, отнимая драгоценное время у солидных людей, занятых многотрудными и ответственными делами?! Разве душевный покой не дороже? Разве здоровье не стоит того, чтобы, махнув рукой на копеечные потери, пойти горкомхозу навстречу и предаться многочисленным радостям, которые дарит нам жизнь? Наверно, так было бы разумней и проще. Не наверно — бесспорно. Но бесспорно и другое: не каждый — нет, далеко не каждый — покупает покой ценою отказа от своей правоты. И вовсе не каждый считает возможным сорить деньгами, даже если такой «сор» не наносит непоправимого ущерба его бюджету. К тому же позволительно спросить: с какой суммой не жалко расстаться без боя, чтобы избавить себя от хлопот и нервотрепки? Сто двадцать, скажем, еще куда ни шло… Ну, а сто сорок? Сто восемьдесят? Триста пятьдесят?.. Разве сумма сама по себе определяет, велика она или мала? Для одного и тысяча нипочем, для другого и десять рублей — капитал… Нет, дело не в сумме. Человек с развитым чувством справедливости, с гражданским самосознанием, исполненный уважения к праву, не только не может — не должен уступать требованию, которое он считает незаконным, сколь бы «мелкой» и «мелочной» ни казалась со стороны его принципиальность. Ибо мелких прав не бывает и мелочных принципов — тоже. Все, что установил закон, одинаково важно для правопорядка, все подлежит безусловной защите: и «маленькое» право квартиросъемщика, и большое право гражданина. Конечно, судьи не сидят сложа руки — у тех, кто вершит правосудие, немало работы: трудной, напряженной, подчас мучительной. Но это вовсе не значит, что судьям нет дела до «мелких» конфликтов, ранящих сердце и омрачающих существование. Ведь и медикам хватает забот бороться с тяжкими болезнями, но разве из-за этого перестали лечить насморк, разве с нарывом на пальце стыдно идти в поликлинику, поскольку время врача занято недугами посерьезнее, поопаснее? В конце-то концов суд создан не для того, чтобы мы облегчали ему жизнь — чтобы он облегчал нашу…
Почти полвека назад отец большого семейства, рабочий-железнодорожник, построил домик в деревне. Прошли годы, деревня разрослась и стала райцентром. Один из сыновей уехал в Москву, обзавелся семьей, стал видным ученым. «Вышли в люди» и другие дети. Потом умер отец. Дом остался наследникам. Детей было трое — два сына и дочь. Всем им уже за шестьдесят, а старшему — профессору, доктору наук — даже под семьдесят. Некогда их связывали прочные родственные узы, потом отношения омрачились — возник семейный конфликт, в котором едва ли разберется объективно и беспристрастно кто-либо посторонний. Да и не надо ему, постороннему, в этом во всем разбираться. Не его это дело. Не его, не ваше и не мое… Я точно знаю, в чем суть возникшего конфликта — и чисто правовая, и, если можно так выразиться, нравственно-психологическая, но намеренно не хочу этого касаться. Идет спор из-за дома, по-мирному наследники договориться не могут — на то и суд, чтобы точно установить, на чьей стороне закон. Обидно, что комната развела братьев по разные стороны невидимого барьера, да что же делать — это свершилось, и теперь разбираться в их взаимных претензиях не «доброжелателям», а тому органу, который специально создан для разбирательства таких споров. Это кажется азбучным, и я испытываю неловкость оттого, что растолковываю элементарные вещи. Но, увы, это необходимо — коллеги выдвинули против профессора тяжкое обвинение: как посмел он довести свой спор до суда? Они предъявили ученому ультиматум: если он не «закроет» дела, перед ним закроют двери института, в котором он работает несколько десятков лет, — воспитателю молодежи не пристало судиться… Если перевести эту максиму с языка возвышенной патетики на язык житейской прозы, то она означает вот что: откажись от своего права, но не переступай порога суда! Словно суд — наш, советский суд — какое-то сомнительное заведение, появиться в котором неприлично уважающему себя человеку. Как же быть тогда с законом, который установил, что каждый гражданин «вправе обратиться в суд за защитой…» и что — самое главное! — «отказ от права на обращение в суд недействителен»? Как же быть с другим законом, утверждающим, что «правосудие по гражданским делам осуществляется только судом», а не коллективом уважаемой кафедры, почему-то решившим, что законы сопромата и законы юридические — материя сопредельная, одинаково доступная его разумению? За всем этим стоит слишком очевидное стремление подменить суд многолюдным сходом, решающим не по закону, а по своему усмотрению. Очень может быть, что в том или ином конкретном правовом споре закон окажется на стороне не слишком приятного человека, а тот, кто вызывает самое искреннее расположение, по закону будет неправым. И с этим придется смириться: в спорах гражданских побеждают не безупречный послужной список, не похвальные отзывы сослуживцев или соседей, а право, и только право. В нашем примере, к слову сказать, нет даже и этой дилеммы. За пятьдесят с лишним лет профессор прошел путь от пастуха до крупного ученого, внесшего значительный вклад в науку и в производство. Сотни учеников воспитал он, создал десятки научных трудов. Многими наградами и почетными званиями отмечен его труд. И брату своему долгие годы он был опорой и помощью: благодарственные письма нынешнего «противника» стали заурядным «доказательством» в судебном споре… Но теперь этот спор, рожденный мучительной семейной драмой, почему-то бросает тень на доброе имя ученого. И вот уже один институтский товарищ с пристрастием проверяет, не присвоил ли профессор чужую диссертацию, другой — по заслугам ли получил награды, а третий решается на прямое беззаконие: «изымает» корреспонденцию, поступающую в институт на его имя… В бесчисленном многообразии жизненных ситуаций может встретиться и такая, где все наши симпатии будут на стороне того, кто юридически неправ, и, однако же, суд, защитив «несимпатичного», выполнит не только юридический, но и нравственный долг. Потому что наш закон всегда выражает высшую справедливость, воплощает стабильность и порядок, служит гарантией от субъективизма, местничества, правовой самодеятельности. От произвола, «облагороженного» ссылками на совесть или целесообразность… Это не значит, что советский суд в рамках закона не учитывает отношений, сложившихся между людьми, их реальных потребностей, их общественного лица и нравственного облика. Но суд! Суд, а не любой гражданин и даже не авторитетная «группа товарищей», которая, отрешившись от прямых своих дел, испытает потребность вершить правосудие. В деле профессора суд сначала принял сторону младшего брата, а вышестоящая инстанция, куда профессор обратился с кассационной жалобой, решение отменила. Подача жалобы особенно возмутила коллег профессора, они сочли это чуть ли не выпадом против юстиции, хотя право на кассационное обжалование судебных решений тоже, кстати сказать, без всяких исключений гарантировано законом. Теперь, когда доводы жалобы признаны основательными, коллеги смущенно пожимают плечами, но не идут на попятный, стараясь хоть как-нибудь да вставить профессору лыко в строку. Ну, а если жалоба была даже неосновательной? Если дело в конце концов решится в пользу младшего брата? Какой нравственный изъян даже тогда можно усмотреть в поступке профессора? К нему предъявлен иск — он защищается. Не где-нибудь — в советском суде. В том самом суде, который избирали мы с вами, которому доверили быть голосом самой справедливости, голосом истины и закона. Нельзя требовать уважения к закону и вместе с тем укорять человека за то, что он пользуется всеми правами, которые в этом законе содержатся. Нельзя взывать к величию суда и в то же время смотреть косо на обратившегося к Фемиде в поисках справедливости. Прав он в действительности или нет, решит именно суд, но само по себе обращение к нему, пусть даже и неправого, не может быть безнравственным. Безнравственно как раз самоуправство. Безнравственно принятие на себя чужих функций, подмена суда не предусмотренной законом внесудебной «юстицией». Мне вовсе не думается, что из-за каждой не возвращенной должником пятерки, разбитого окна или порванных штанов надо бежать в суд, заводить дело, вести громоздкий и многоэтапный процесс. Чувство меры и здравый смысл всегда подскажут, когда это вызывается необходимостью, а когда выглядит нелепым и смешным. Единственное, что никогда смешным быть не может, — ощущение своей правоты и убеждение в том, что законными средствами ее всегда можно добиться.
1975
ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ…
О том, что послужило причиною драмы, писать подробно не буду: шестеро молодых «прожигателей жизни» за насилие и другие циничные преступления осуждены, приговор подтвержден Верховным судомреспублики, наказание определено суровое, отбывать его еще долго и долго. Не о преступлении, не о наказании сейчас речь. Двое из осужденных — родные братья, один — инженер-строитель, другой — несостоявшийся студент, и оба — дети видного ученого, профессора строительного института. Профессор Л. сидит предо мной, опустив глаза: ему трудно выдержать взгляд постороннего человека, — наверно, как и Анна Николаевна, он в нем видит немой вопрос: «Как же это вы оплошали, дорогой педагог?» Профессор болен, он давно уже болен — старые военные раны тридцать лет напоминают о себе, но не раны сейчас сломили его, нет, не раны — трагедия, обрушившаяся на семью, на доброе имя. И на детей: как бы ни был он возмущен гнусностью их преступлений, это его дети, его несбывшиеся надежды, его боль и позор. Он сидит — высохший, изможденный, неуклюже обвязанный шерстяными платками, одинокий в своей опустевшей квартире, и, если бы он знал о моем приходе, я мог бы подумать, что все это неспроста, что он хочет разжалобить, «выжать слезу». Но он не знал, я явился нежданно, без письма, без звонка — как раз для того, чтобы лишить нашу встречу какой-либо нарочитости. Профессор виновен в «падении» своих детей и за их преступления должен нести ответ. Так решил следователь — ректору и даже министру он сделал представление «о плохом воспитании своих сыновей Игоря и Олега профессором Л.». Так решил суд — он вынес частное определение о том же самом. Так решил ректорат — он считает, что Л. не может больше преподавать, что он «по моральным соображениям» больше не соответствует своей должности, и только болезнь профессора, эта чисто процедурная помеха, пока лишила возможности ученый совет облечь предрешенный «приговор» в надлежащую форму. Мне хочется понять, кто же он сам, этот человек, на которого разом выпало столько несчастий, с чем пришел он к дню своего позора. Его торопливый, невнятный рассказ мало что проясняет, но бумаги — их целая кипа — помогают «реконструировать» жизнь. Жизнь человека, целиком посвятившего себя одному делу, одной страсти, последовательно и целеустремленно поднимавшегося по крутому склону науки. Участник Отечественной войны, он сражался на фронте, был ранен, стал инвалидом, но армию не покинул, остался воином до победы. Боевые ордена и медали — свидетельства его солдатского мужества. А потом — институт. Здесь, на одной и той же кафедре, он трудится двадцать восемь лет. Двадцать восемь лет — огромный пласт человеческой жизни. Давным-давно стали инженерами и воспитателями воспитателей его студенты. И сам он рос вместе с ними: был аспирантом, ассистентом. Защитил кандидатскую диссертацию, потом докторскую. Стал доцентом, профессором, заведующим кафедрой. Опубликовал десятки научных работ. Участвовал в крупных стройках, помогал восстановлению разрушенных городов. И вот теперь, пятидесяти шести лет от роду, ему придется начинать жизнь с начала?! Меньше всего я склонен думать, что заслуги, сколь бы значительны они ни были, могут служить индульгенцией виновному человеку. Профессор вуза воспитывает молодежь, он пестует будущих специалистов, чей долг — не только строить дома, но и нести людям добро, чистоту, бескорыстие. Ему доверены большие социальные ценности, и, естественно, предполагается, что он относится к ним с повышенной бережливостью и может служить образцом для других. Как же оправдал профессор Л. то доверие, которое оказало ему общество? Учил ли он студентов плохому? Влиял ли дурно на них своим личным примером? Ничуть не бывало: к нему нет никаких претензий. Еще несколько месяцев назад руководители института подписали документ, из которого видно, что вся педагогическая работа профессора проходит «на высоком идейно-теоретическом и научном уровне». Таких документов в его личном деле немало, и ни одна строчка не бросает на него лично даже самую малую тень. Тогда в чем же именно он провинился? Поразительно упорство, с которым следователь, занимавшийся делом его сыновей, искал зримую связь между их преступлением и «пагубным влиянием» отца, исходя из сомнительной мудрости о яблоке, падающем неподалеку от яблони. Так бывает: уверовав в одну-единственную причину, закрываешь глаза на все остальное, на многообразный и сложный их комплекс, и выискиваешь только то, что будто бы подтверждает желанную версию. По делу Игоря и Олега проведены экспертизы, редчайшие в судебной практике: физико-математическая и филологическая. К самому делу — к тем, кого называют «подследственными» — эти экспертизы ни малейшего отношения не имеют. Но имеют — к профессору… Оба брата учились в институте, где преподает их отец. Следователь заподозрил, что сыновья поступили в институт не без участия папы. Из архива были извлечены письменные работы на вступительных экзаменах семилетней давности. Эксперты решили, что за работы, оцененные четверкой, надо было поставить двойки. Это мнение не подверглось судебной проверке, и, таким образом, ни принять его, ни отвергнуть я не могу. Принимаю как мнение — и только. Ну, так что же, обнаружена взятка? Или подлог? Или, может, небрежность, за которую кто-то понес наказание? Нет, ни взятка, ни подлог не установлены. А наказание, оказывается, должен нести отец: его имя, говорят, магически действовало на экзаменаторов и они якобы завышали оценки. Между тем в институте учились и дети других профессоров, чьи имена не менее «громки». И это можно только приветствовать: создание инженерных династий — дело нужное, благородное, его поощряли и будут поощрять. Почему не проверено, однако, точны ли оценки на вступительных экзаменах других абитуриентов из преподавательских семей? Не потому ли, что эти абитуриенты впоследствии не преступили закон? И почему никто из экзаменаторов не привлечен к ответственности? Не потому ли, что им нечего вменить в вину? Завышение оценок с помощью магии своего имени — далеко не весь криминал, который значится за отцом. Установлено, например, что три года назад, возвращаясь с банкета, он вышел из такси под изрядным хмельком… Другой раз по ошибке он вроде бы постучался в чужую квартиру… Об этом говорили негодующие жильцы на собрании, где обсуждалось поведение Игоря и Олега. Жильцы тоже решили, что учить студентов профессор больше не вправе. Ну, разве это справедливо, разве этично — спустя годы припомнить человеку все оплошности, слабости и грешки, с упоением и пристрастием выискивать их в его прошлом? И все же, и все же… Что бы там ни было, от моральной ответственности отцу никуда не уйти, и нести ему ее через всю жизнь. Но зачем же к подлинной вине примешивать еще и другую, искусственно соединяя в общую цепь вещи несоединимые? Только ли для того, чтобы счесть, что из нашумевшей истории сделаны выводы и приняты надлежащие меры? Что это, в сущности, значит — принять надлежащие меры? Всегда ли непременно — уволить, осудить, объявить выговор, издать грозный приказ? Преступление, совершенное сыном Анны Николаевны, тоже взывало к «принятию мер», и они были приняты ею самой — безжалостно и беспощадно. Не уход с работы в действительности был этой мерой, а жестокое осуждение, которому она себя подвергла. Голосом совести. Непреходящим чувством вины. Стыдом перед окружающими. Это и есть та моральная ответственность, которая неизбежно должна следовать за моральной виной. Ответственность, наступающая не по приказу номер такой-то, а по приказу души. Приказом души профессор Л. подверг себя казни, которая не под силу даже самым крутым «оргмерам». Не за то, что когда-то выпил на чьем-то банкете, а за то, что его взрослые дети перечеркнули все, к чему он их вел, бросили черную тень на его доброе имя. Весь город уже знает о его беде и позоре, и я не могу себе представить наказания строже, больнее и тяжелей.
1973
Очерк был опубликован, и сразу же стали приходить читательские письма. Точнее, письма еще были в пути, а уже принесли телеграммы. «Восхищаюсь, горжусь, одобряю», — откликнулся на поступок учительницы доцент педагогического института. «Это не мужество, а трусость», — телеграфировал директор школы, разъяснивший в письме, которое он отправил вдогонку, что никогда не отпустил бы Анну Николаевну с работы, убедил бы ее остаться в классе, дав ученикам урок стойкости, показав, как надо переносить свалившуюся на человека беду.
«Возмущен постыдным выгораживанием отца, стремящегося уйти от ответственности за мерзкий поступок своих отпрысков, — так комментировал ученый-экономист, персональный пенсионер, ту часть очерка, где речь шла о профессоре. — Благодаря таким заступничкам многие родители безнаказанно калечат своих детей, а потом, когда общество взваливает на себя заботу об их перевоспитании и страдает от их выходок, требуют еще и сочувствия. И представьте себе, — получают: наглядный тому пример очерк «Яблоко от яблони…» «Легко предвидеть, — возражала экономисту мать пятерых детей, начальник смены текстильного комбината, ударник коммунистического труда, — что позиция относительно вины родителей, не предотвративших преступление детей, встретит сочувствие далеко не у всех. Противники вспомнят, наверно, не только пословицу о яблоке и яблоне, но еще и другую: «Что посеял, то и пожнешь», сошлются на народную мудрость и докажут, что, чем больше требовательность и непримиримость, тем лучше для общественного интереса. Что родитель, сознающий, какое наказание ждет его, если дети нарушат закон, будет лучше воспитывать их. Какая наивность! Разве из-за страха перед грядущим наказанием за нерадивость мы все отдаем своим детям? У меня их пятеро, все отлично работают и учатся, старшему скоро уже тридцать — столько же, сколько и сыну профессора. Так что же, и за тридцатилетних мы отвечаем так же, как за десятилетних? Не приведет ли это к обратному результату — к иждивенческой психологии великовозрастных детей, которые и без того, на мой взгляд, страдают сегодня (пусть не все, но некоторые) чрезмерной инфантильностью?..»Были и не просто отклики, но обстоятельные размышления по существу вопросов, поднятых в очерке. Я благодарен всем, кто меня поддержал, но интереснее и важнее, конечно, письма, которые вступали с очерком в спор. Вот одно из них, его прислал из Московской области доктор Г. Егоров:
«Я несколько раз прочел очерк «Яблоко от яблони…». Написанный с болью за человека, с уважением к личности, продиктованный, несомненно, лучшими чувствами, этот очерк, однако, не убедил меня. Я — врач, хирург-ортопед, мне 48 лет. Мой жизненный и профессиональный опыт дает мне известное право судить о том, насколько виноваты герои очерка в падении своих детей. Сомневаюсь в том, что Анна Николаевна была прекрасной воспитательницей сына. Давайте сначала условимся, какой смысл мы вкладываем в понятие «хорошо воспитала», или (как выражается автор очерка) «воспитала что надо»… Ведь о воспитании судят не по процессу этого самого воспитания, а по его результату. Если итогом «прекрасного» воспитания оказывается скамья подсудимых, то разве это не является безжалостным и сокрушительным приговором прежде всего именно воспитателю? Автор говорит о множестве факторов, влияющих на формирование личности: школа, соседи, улица, кино, телевидение… И даже «наследственный код»… Все это верно. Но прежде всего таким «фактором» являются родители — их поведение, их образ мыслей, их слова, их наглядный пример. Никакая грязь не прилипнет к ребенку, если перед ним чистые и честные образы матери и отца. Из очерка вытекает, что автор как бы осуждает Анну Николаевну за то, что она отказалась от учительского места, посчитав недопустимым воспитывать других детей, после того как она не сумела воспитать своего. А по-моему, это самый правильный ее поступок — искупление вины, которую она осознала. Поздно, но все-таки осознала… И не упрекать нам надо ее, а поблагодарить за честность и прозрение. Что касается профессора Л., то автор меня не убедил даже в том, что тот осознал свою вину. Все мы имеем обязанности перед обществом. И важнейшая из них — вырастить достойных детей. Проповедь добрых нравов окажется лишь тогда действенной, когда слушатели будут воспринимать слова и дела как единое целое. Если же слова воспитателя расходятся с его поведением, с образом его жизни, то это даст лишь противоположный эффект. Из очерка не вполне ясно, в ч е м и м е н н о проявилось у профессора Л. осознание им своей вины, извинился ли он перед обществом за то, что «подарил» ему двух нравственных уродов, объяснил ли коллегам, как это случилось и как он думает жить и работать дальше. Ведь, судя по всему, он предполагает и впредь воспитывать студентов, то есть растить нашу смену — готовить не только будущих специалистов, но и граждан нашей страны, отцов и матерей, которые в свою очередь станут воспитателями. Анна Николаевна, несмотря на то что она плохо воспитала своего сына, заслуживает уважения. Заслуживает ли уважения профессор Л., об этом мы сможем судить лишь по его к о н к р е т н ы м последующим делам, по тому, как и насколько он осознает тяжесть совершенного, как искупит свою вину».В спор о «яблоке» и «яблоне» активно включились и наши зарубежные друзья. Очерк перепечатал выходящий в Германской Демократической Республике еженедельник «Фрейе вельт», который вынес историю Анны Николаевны на суд читателей. Дискуссия длилась много недель. Авторы опубликованных писем, давая различную оценку поступку учительницы, остро спорили о том, какова мера ответственности воспитателя за результаты своей работы.
«Решение Анны Николаевны, — писал Герхард Кристоф из Галле-Нейштадта, — я воспринимаю не как свидетельство величия человеческой личности, а как результат неверия в свои силы».Его поддержала Ева Шиллер из Потсдама:
«По-моему, Анна Николаевна поступила бы правильнее, если постаралась бы осмыслить, какие причины привели ее сына к этому преступлению, как передать свой опыт другим». «Если бы такая беда стряслась с нашей учительницей, — размышляла берлинская школьница Мартина Рикман, — мы очень огорчились бы, но ни за что не отпустили бы ее…»Подводя итоги читательской дискуссии, редакция газеты заключала:
«В нашем обществе ответственность за воспитание подростков несут сообща семья, школа, молодежные и детские организации, — все, кто участвует в формировании нравственного облика молодого поколения. Разделения ответственности не существует. Не подлежит сомнению, что семья играет важную роль в воспитании детей. Именно в семье закладываются важнейшие основы развития личности, формируются взгляды, убеждения, привычки, определяются черты характера. Но все усилия семьи, направленные на воспитание ребенка, реализуются школой и другими звеньями воспитательного процесса. Поэтому следовало бы не только спросить: все ли сделала мать, чтобы вырастить сына человеком, который уважает нормы общества и соответственным образом себя ведет? Следовало бы поставить этот вопрос шире: что сделали для этого все, кто участвовал в воспитании подростка? …В юношеском возрасте дружба играет особо важную роль. Подросток нуждается в общении с ровесниками. Даже если у него хорошая семья, подростку надо выйти за ее пределы, ибо только в среде ровесников он может почувствовать себя полноправной личностью, «самоутвердиться». Это стремление добиться признания со стороны других подростков, почувствовать себя «своим» среди них подчас оказывается столь сильным, что подросток полностью приспосабливается к какой-то группе и приемлет ее нормы. Нередко бывает, что в этой группе он идет на такие поступки, каких никогда не совершил бы в одиночку. Сын Анны Николаевны совершил преступление не в одиночку, а в группе. Это его не оправдывает, но что-то разъясняет. На первый взгляд, решение А. Н. может быть воспринято как проявление высочайшей последовательности, высочайшего чувства моральной и педагогической ответственности. Но при более близком и пристальном рассмотрении возникает вопрос: должен ли врач, совершивший ошибку в диагнозе, отказаться от врачевания, такое ли решение должно быть подсказано сознанием ответственности за свое дело? Мы прекрасно понимаем побуждения, под влиянием которых Анна Николаевна приняла такое решение, но не можем рассматривать этот шаг как универсальное и рекомендуемое средство разрешения конфликтов подобного рода. Можно даже сказать, что А. Н. избрала наиболее легкий для себя путь. Созревшая умственно и душевно под влиянием своего горького опыта — самого горького опыта, какой только может достаться матери, А. Н. стала бы и более зрелым, опытным педагогом. Она понимала бы еще лучше, чем раньше, своих учеников и их родителей, она постигла бы еще глубже всю сложность проблемы воспитания личности и коллектива».Полемику, которую вызвал этот очерк, объяснить нетрудно. Всех нас заботит нравственный облик молодого поколения, всех волнует и тревожит любое отступление от норм морали, от требований закона. И вполне правомерна та высокая требовательность, которую проявляют участники дискуссии, говоря об ответственности воспитателей за результаты своего труда. Я прочитал несколько сот откликов на свой очерк, и буквально ни один довод, в них содержащийся, будь то письма моих сторонников или, напротив, моих оппонентов, не вызывает во мне ни малейшего возражения. Да, ответственность родителей за воспитание детей огромна, и взыскивать с них надо строго, я и сам, имея в виду профессора, писал: «от ответственности отцу никуда не уйти, и нести ему ее через всю жизнь». Через всю жизнь!.. Спор о другом: в чем конкретно эта ответственность должна выражаться, каковы ее формы и, главное, при каких условиях может она наступить. Достаточно ли одного только ф а к т а совершения подростком или взрослым «ребенком» какого-либо проступка, чтобы подвергнуть родителя наказанию, подвергнуть лишь потому — уже потому, — что он родитель? Или этого мало, и еще следует установить, есть ли личная его вина в том, что проступок такой совершен. Судя по всему, наиболее вдумчивые из моих корреспондентов — те, что не ограничились чисто эмоциональной реакцией на очерк, а аргументировали свою позицию, — настаивают на ответственности родителей именно потому, что считают их виновными в «падении» детей. Доктор Егоров, чье письмо почти полностью приведено выше, употребляет слово «вина» пять раз, сознавая, очевидно, что человек, не виновный в том или ином деянии, родитель он или не родитель, наказан быть не может. Наш закон и наше правосознание отвергают ответственность за так называемое «объективное вменение», то есть только за наступивший противоправный результат. Одного результата мало, нужно еще доказать, что в его наступлении человек п о в и н е н что он х о т е л этого результата, или предвидел его, или хотя бы д о л ж е н б ы л предвидеть, но по легкомыслию, по небрежности не предотвратил нежеланных последствий. Невозможно представить себе к о н к р е т н о е наказание, основанное лишь на а б с т р а к т н о й предпосылке: родитель всегда виновен. Ни социалистическое право, ни коммунистическая мораль исходить из такой предпосылки не могут, ибо она ненаучна, антигуманна и попросту несправедлива. «Никакая грязь не прилипнет к ребенку, если перед ним чистые и честные образы матери и отца», — написал тов. Егоров, но, к сожалению, это слишком категоричное суждение не выдерживает соприкосновения с жизнью. Вот сейчас, когда я пишу эти строки, мне то и дело приходится отрываться от письменного стола: у моего доброго приятеля, журналиста, — беда, и он каждый час сообщает мне по телефону очередную «сводку». Катя, его шестнадцатилетняя дочь, снова исчезла, третий день ее нет дома, и это, увы, уже не впервые. Человек, прошедший войну, не раз смотревший смерти в глаза, человек, который десяткам людей помог выбраться из беды, распутать сложнейшие узлы их запутаннейших конфликтов, подавлен своим бессилием — тупиком, в котором он оказался. У него четверо детей. Старший сын — медик, хирург, кандидат наук. Другой сын — одаренный артист балета. Дочь — студентка педагогического института. И Катя… Вот уже два года ни «радикальные», ни «деликатные» меры не приносят никаких результатов: Катя курит, пьет, дерзит, ворует, пропадает ночами в пьяных компаниях сверстников. Уже и в спецучилище побывала, и в колонии, и у бабушки в далекой деревне, оторванной от всех притягательных центров и привычной среды. Эффекта пока что нет никакого. И будет ли — кто его знает… Что же делать с моим другом? Да, он «подарил» обществу одного «нравственного урода» (пользуюсь термином доктора Егорова), но ведь он же подарил и трех замечательных граждан. Чем именно он и его жена — директор крупного предприятия — провинились, не сумев вылепить из четвертого ребенка столь же достойного человека, как из трех старших? Можно, скажем, предположить, что младшего ребенка в семье больше баловали или, напротив, утомившись воспитанием первых трех, не уделяли четвертому должного внимания. Но все это будут домыслы, предположения, догадки, а, главное, возьмется ли кто-нибудь утверждать, что, даже будь это так, есть причинная связь между давней ошибкой воспитателей и сегодняшним поведением Кати? Разве забалованный, заласканный дошкольник непременно станет к седьмому классу алкоголиком и воришкой? Я знаю Катю, не раз говорил с ней, — это хитрая, властная девчонка, чрезмерно «акселерированная» и физически, и физиологически: фактор, мощно влияющий на формирование нравственного облика подростка, но стыдливо игнорируемый педагогами и даже врачами. Ни личный пример родителей, ни пример ее сестры и братьев не оказали и не окажут на Катю никакого влияния. У нее есть другие «маяки»: хулиганистые ребята из соседних домов, распущенные девицы, от которых вечно несет табаком и водочным перегаром. Ничто на свете не бывает без причин — где-то оплошали и родители Кати, это бесспорно. Значит, что же: отлучить за это отца от газетной страницы, лишить мать директорского «руля»? И проблема решится?.. Нет, так она не решится. Это только фикция «принятых мер». Иллюзия. Бюрократическая галочка, глубоко равнодушная к существу дела, но создающая видимость общественной непримиримости. Наказали кого-то, — значит, не прошли мимо. А по-моему, как раз прошли… Снять с работы, объявить выговор, публично ославить — все это «меры» простейшие, лежащие на поверхности, те, которые сразу приходят на ум, когда не хочется думать, искать корешки — не вершки. Бытует ошибочное мнение, будто воспитывать может каждый, что не требуется для этого особых способностей и специальных познаний. А ведь педагогика — наука сложнейшая, она имеет дело с тончайшим из механизмов: с характером, с формирующейся, меняющейся день ото дня, подвластной множеству перекрестных ветров, юной душой, которая, как известно, — «потемки». И если даже профессионалы сплошь и рядом пасуют, демонстрируя беспомощность перед загадкой растущего человека, то что же взять с «дилетантов»? Будем непримиримы, если родитель — именно он! — толкнул свое чадо на кривую дорожку. Но топор, секущий яблоню, не гарантирует оздоровление плода: для этого нужен другой инструмент.
ДВОЕ ЗА ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ
Во все века и у всех народов надругательство над женщиной считалось грязнейшим, постыднейшим делом. Прощали многое, сострадали многим, но от насильника отворачивались, окружая его всеобщим презрением. Кто-то из знаменитых судебных ораторов прошлого назвал насилие «убиением души». Понять, впрочем, что это такое, может лишь тот, кто сам душой обладает. Наверно, именно бездушевность делает психологический портрет насильника столь плоским, убогим и одноцветным. Я множество раз участвовал в подобных процессах и не могу припомнить случая, чтобы на скамье подсудимых оказался истинно культурный, духовно богатый человек. «Герои» таких дел — всегда люди с ничтожными интересами, с примитивным вкусом, жалким представлением о красоте. Ведь для мало-мальски культурного человека все перипетии любви — с ее радостями и огорчениями, надеждами и отчаянием, неудачами, отвержением, безответностью, смутным и трепетным ожиданием — имеют едва ли меньшую цену, чем сама «победа». Человека же этически слепого и глухого все это не интересует. Ему нужен «результат». Поэтому и любовь для него — понятие столь же сомнительное, как и душа. В лучшем случае оно служит ему для «приличного» обозначения сугубо плотского чувства. И только. И только… Однажды мне пришлось защищать школьника шестнадцати лет, которого обвиняли в изнасиловании. Жертвой была его сверстница — девчонка из соседней школы, пришедшая с подругами на вечер танцев. Он подошел, познакомился, пригласил танцевать, она кивнула, доверчиво положила руку на его плечо… Танец кончился, оркестр ушел отдохнуть. «Давай выйдем, — предложил он, — здесь душно и жарко». — «Давай», — согласилась она. Через полчаса он уже был в милиции — исцарапанный, с синяком на щеке, без пуговиц на рубашке. А еще через месяц состоялся суд. Мы вызвали учителей: директора, завуча, классного руководителя. Все они отозвались о мальчишке с завидным единодушием: скромный, замкнутый, даже застенчивый; сторонился и мальчиков, и девочек, и взрослых. «Кто бы мог подумать!..» — восклицали они, и только строгие правила судебной процедуры помешали мне им ответить: «Вы и должны были подумать, кто же еще?!»
«…Половой инстинкт, — писал А. С. Макаренко, — инстинкт огромной действенной силы, оставленный в первоначальном «диком» состоянии и усиленный «диким» воспитанием, может сделаться антиобщественным явлением».Вот он и сделался! В мальчишке не заметили появления бурно развивающегося полового чувства. Пришло время, ему захотелось походить на взрослых, а сама взрослость представлялась в уродливом, чудовищно искаженном и чудовищно примитивном виде. Неумение управлять своими желаниями сыграло с ним злую шутку: не сумев «укротить половой инстинкт» (привожу слова Чехова из письма брату Николаю), он пустил в ход кулаки. Суд подошел к нему снисходительно, назначил сравнительно мягкую меру наказания. В колонии учли его возраст, отпустили «с миром» задолго до окончания срока, определенного судом. И что же? Не проходит и трех месяцев, как он снова попадает на скамью подсудимых. И снова — за изнасилование. Легко догадаться, что теперь-то уж с ним возиться не стали… Что ж, за содеянное надо отвечать по всей строгости закона, это ясно. Но после приговора — сурового приговора — я провел с «насильником-рецидивистом» много часов с глазу на глаз. Ему минуло восемнадцать, но он искренне удивился, когда я затеял с ним разговор о женственности, о любви. Он попросту не понимал, о чем идет речь. Так чему же учили его, как воспитывали и «перевоспитывали»? Ясно же, что э т о т мальчишка для своего исправления нуждался не столько в «трудовых мероприятиях», сколько в умном и умелом влиянии на душу. В постижении грамматики любви… Еще двести лет назад в университетской типографии выдающегося русского просветителя Н. И. Новикова было издано «Наставление отцам и матерям о телесном и нравственном воспитании детей». Безвестный автор изъяснялся с кажущейся нам изысканной витиеватостью, которая тогдашнему читателю представлялась не иначе как яркой образностью: любовь «есть подводный камень, от коего юность часто претерпевает кораблекрушение. Сей возраст, обыкновенно много предпринимающий, но мало мыслящий, не рассуждает… Любовь есть пространный Океан, в котором юность без кормила благоразумия на одних парусах похотливого любопытства плавает, дабы новые увидеть предметы, и напоследок потопляется». «Потопляется» и сейчас, если «кормила благоразумия» не помогают ей в плавании по этому бурному океану. Грустнее всего, когда местом «кораблекрушения» становится суд… Нелегко разбирать дела подобного рода. Не только потому, что область отношений между мужчиной и женщиной — одна из самых запутанных и деликатных. Но и потому еще, что эти отношения развиваются обычно не на глазах почтенной публики. Двое остаются за закрытой дверью. И распахнуть ее никому не дано. Но вот случается, что суду приходится проникнуть за закрытую дверь. Он может это сделать лишь по заявлению той, кто считает себя потерпевшей. Не только может — обязан. Огромным тактом должны обладать судьи, разбирая дела такого рода. И огромным жизненным опытом. Ибо издавна заявления «Прошу привлечь к ответственности…» служили для одних средством защиты поруганной чести, для других — бесчестным способом мести и шантажа. А подчас немудреной ширмой, прикрывающей стыд, страх… Если верно (а это, конечно, верно), что суд в любом деле выступает защитником нравственных принципов, если он повседневная школа морали, то, пожалуй, нигде это не проявляется столь наглядно, как в делах о преступлениях, связанных с посягательством на достоинство женщины. И потому малейшее отступление от этических норм, сложившихся в обществе, неточная расстановка акцентов, неправильная оценка поведения каждого из участников драмы, которую рассматривает суд, приводят к тому, что приговор теряет в своей убедительности, а иногда и вызывает чувство протеста. Известный юрист профессор Б. Никифоров и научный сотрудник Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности В. Минская опубликовали результаты социологических исследований о той роли, которую играют жертвы в делах такого рода. Эти исследования стали возможны после того, как у нас получила наконец права гражданства виктимология — наука, изучающая, в частности, влияние поведения потерпевших от преступлений на сами эти преступления. И вот что оказалось:
«Каждое пятое изнасилование имело место при обстоятельствах, рисующих поведение потерпевшей в более или менее сомнительном… виде».Вот что обнаружилось далее: в семидесяти процентах случаев знакомство между будущим насильником и будущей жертвой «носило случайный и кратковременный характер. Случайный — на улице, в парке, в транспорте или на его остановках… К этой группе относятся также рестораны…». Да и в остальных тридцати процентах — знакомства тоже отнюдь не стабильные и отнюдь не серьезные: вечеринки, мимолетные, наспех сколоченные компании. Но дело даже не в том, где и как состоялось знакомство. Гораздо показательнее другое:
«Каждое второе преступление произошло в течение одного-двух часов после первого контакта…»Стремительность, с которой от «первого контакта» переходят ко второму, может быть, еще и не есть безнравственность: мало ли что бывает — зажглись сердца, и все такое… Однако юристы с горечью констатируют, что справедливей говорить не о горении сердец, а о вещах куда менее романтичных. Дальнейшие события доказали, что будущие жертвы ничуть не уклонялись от рискованных ситуаций в обществе малознакомых мужчин и всем своим поведением стремились доказать, что они — «вполне современные люди». Но и это не все:
«85 процентов насильников в момент совершения преступления находились в нетрезвом состоянии, а это значит, что во всех этих случаях молодые особы находились в добровольном общении с нетрезвыми мужчинами. Это само по себе не очень хорошо их рекомендует, особенно тех из них (42 процента), которые пили вместе со своими партнерами».И наконец, последнее:
«Исследования дают возможность утверждать, что более 10 процентов потерпевших явилось на место происшествия уже «под парами».Картина, как видим, безрадостная. Не очень укладывающаяся в привычную схему о «бандите» и «садисте», напавшем на беззащитную жертву. И хотя то, что я назвал привычной схемой, тоже, к сожалению, имеет место, сейчас хочется сосредоточить внимание все же на том, что от схемы отступает. Ибо именно там обнажается нравственная проблема, требующая общественного внимания. Как же реагируют суды на столь очевидную активную роль потерпевших в создании «благоприятных» условий для преступления? Б. Никифоров и В. Минская установили, что в 55 процентах изученных ими приговоров суды назначали наказание н и ж е н и з ш е г о предела, установленного законом, что допустимо лишь при «исключительных обстоятельствах», как сказано в законе. Таким исключительным обстоятельством и было поведение потерпевших.
«Юридическая вина, — пишут ученые, — есть выражение вины моральной, и если моральная вина делится на двоих, юридическая становится меньше».У меня нет данных, чтобы оспорить выводы ученых, и все-таки эта последняя цифра вызывает сомнение. Неужто более чем в половине случаев суд, избирая меру наказания, учел поведение жертвы? Мои наблюдения (не опирающиеся, повторяю, на слишком большое число и з у ч е н н ы х дел, но зато основывающиеся на многолетнем личном опыте и опыте моих коллег) свидетельствуют об ином: каждый раз, когда в стремлении смягчить вину подсудимого защита ссылалась на поведение потерпевшей, судья резко обрывал адвоката, напоминая о том, что нельзя бросать тень на женскую честь. Но допустим, ученые правы. Что же делать тогда тем, кто попал в остальные сорок пять процентов и на чью судьбу, определенную судом, аморальное поведение жертв влияния не оказало? И особенно тем, кого справедливей назвать именно жертвой, но кто зачислен в преступники — из-за того, что сложился стереотип: безоговорочно верить заявлению «пострадавшей»? Помню процесс, в котором когда-то пришлось мне участвовать. Процесс, надолго оставивший горький осадок в душе. Подсудимый и потерпевшая дружили с детства. Ни для кого это не было секретом: вся деревня звала их неразлучною парой. Они остались друзьями и после того, как парнишка уехал в город, окончил техникум, начал работать на заводе. Отпуск он всегда проводил в родном доме. Провел и на этот раз, ни на вечер не расставаясь со своею подругой. И вдруг зимой, в январе — заявление в прокуратуру: девушка обвиняет друга в насилии… Судили его в райцентре. Я пришел к нему накануне процесса. Он встретил меня просьбой: — Товарищ адвокат, узнайте, если можно, кто это Клавку там накрутил: мамаша или подружки? Чем я им вдруг не вышел?.. А вечером возле гостиницы, настороженно озираясь, меня ждала незнакомая женщина. Представилась: — Мать Клавы… Долго молчала, словно приценивалась: можно ли положиться, можно ли доверить семейную тайну. Наконец решилась: — Вы уж, пожалуйста, постарайтесь, чтоб Витюшку наказали не очень… — Если виновен, накажут, и очень, — намеренно сухо отрезал я. Женщина всхлипнула: — Да не виновен же он!.. — Как так? — А вот так: было между ними все по-хорошему. Читая дело, размышляя над тем, что угадывалось между строк, я и сам пришел к этому выводу. Но вслух усомнился: — Зачем же тогда ваша дочь обратилась в прокуратуру? — Что ж ей, по-вашему, — утопиться? Вся деревня знает, что они гуляли. С него как с гуся вода: погулял и уехал. А ей здесь жить… Это была весьма тривиальная схема, по которой возникло не одно подобное дело. «Он» и «она» ведут себя без оглядки на то, что скажут, что подумают, что будет «потом». Они любят друг друга (или думают, что любят) и распоряжаются собой порою поспешно и легкомысленно. Все идет хорошо, пока «за закрытую дверь» — случайно или намеренно — не заглянет кто-нибудь посторонний: отец или мать, соседка или подруга. На сей раз туда «заглянула» учительница. Как узнала и что — не ведаю. Но узнала. Пришла, разумеется, в ужас: — Кто тебя, Клава, теперь замуж возьмет?.. И завертелась машина: заявление, следствие, допросы, очные ставки… Слезливые жалобы… Возмущенные письма… Чтобы потом, когда вынесут приговор, снять с него копий побольше и предъявлять кандидатам в мужья?.. Приговор этот вынесли: лишение свободы на длительный срок. Улик не было, зато была характеристика: педагогический коллектив аттестовал свою бывшую ученицу как «девочку правдивую и искреннюю». Отсюда суд сделал вывод: «Нет оснований не доверять ее показаниям». Отменили приговор лишь через два года…
Пленум Верховного Суда СССР дал руководящее указание: при рассмотрении дел об изнасиловании «всесторонне, полно и объективно исследовать все обстоятельства» и прежде всего «тщательно выяснять обстановку происшествия и взаимоотношения подсудимого с потерпевшей». Указание исключительно важное, потому что, случается, в деле нет ничего, кроме видимости улик. Заявление потерпевшей, формальная ссылка на экспертизу — и все. Ну, разве еще довод, не высказанный открыто, но имеющийся «в уме»: зачем потерпевшей клеветать на невинного? И верно, в нормальных обстоятельствах нормальный человек (не медицински нормальный, а с точки зрения житейской логики) не станет возводить напраслину на другого, привлекая при этом внимание десятков людей к таким подробностям своей личной жизни, которые обычно не выставляются напоказ. Но суд, как правило, имеет дело с обстоятельствами как раз не слишком нормальными, с такими побуждениями, с такими движениями души, которые не укладываются в привычную схему. Нигде опасность оговора не бывает столь велика, как в делах, связанных с этой областью человеческих отношений. И нигде не дают себя знать с такой силой предрассудки. Порою они оказывают влияние и на суд. Вот лежат передо мной материалы одного судебного дела. Приговор не оспариваю — он действительно обоснован. То, что рассказано там о похождениях «героев» — подсудимых и потерпевших, — вызывает чувство брезгливости. Об этом стыдно и противно читать. Но осуждена лишь мужская часть разгульной компании. Женская взята под защиту, хотя, право, к жертвам испытываешь не одно лишь сострадание. Верно, закон уголовный нарушили только мужчины. А закон нравственный? Допустимо ли, чтобы суд, рассматривая дело о преступлении против морали, не высказал своего суждения об аморальном поведении потерпевших? Хотя бы в форме частного определения. Почему же суд так поступил? Догадаться не трудно. Опасался, как видно, что пошатнется обоснованность сурового приговора. Если нравственного осуждения заслуживают и подсудимые, и потерпевшие, то спрос с подсудимых вроде бы меньше. Наказание вроде бы надо смягчить. А может, действительно это не очень-то справедливо: «грешить» вместе, а отвечать порознь? И даже не порознь: что же это за ответ, если одни отправляются за решетку, а другие уходят из зала суда с гордо поднятыми головами и подчас еще пользуются симпатией и сочувствием как пострадавшая сторона. Решив обвинить кого-то в насилии, эта самая «сторона» предпринимает акцию практически беспроигрышную. Ибо даже если ее оговор будет отвергнут, ей и в этом случае практически ничто не грозит: редко привлекают еще к ответственности за ложный донос, ибо трудно, порою попросту невозможно доказать, что она обвиняла заведомо ложно, а не добросовестно заблуждалась. Между тем несправедливое обвинение в совершениитяжкого преступления столь же отвратительно, сколь и посягательство на женскую честь. Когда один расхититель оговаривает другого, мошенник — своего «коллегу» по скамье подсудимых, они делают это «по необходимости»: чтобы, утопив соседа, выгородить себя. Разобраться в истине тут обычно несложно: много доказательств, много улик. Ложное обвинение в изнасиловании гораздо страшнее. Оно служит иной раз способом мести, сведения счетов, с его помощью «покрывают грех» и избавляются от липкой молвы. Безнравственными средствами воюют за мораль. Ищут — и добиваются! — сострадания. Задним числом, и притом жестокой ценой, спасают свою честь, которой сами же пренебрегли. …Юная манекенщица из города Вильнюса, которую я назову Данковской, познакомилась с кинорежиссером П. Они встретились потом еще несколько раз. Данковская бывала с ним в Доме кино, на концерте, а однажды пришла к нему в гости. И вот через несколько месяцев сначала в общественные организации по месту работы П., а потом и в прокуратуру поступило заявление Данковской: домогаясь своих грязных целей, П. будто бы даже душил ее и угрожал ножом. Доказательств вины было немало: кроме заявления потерпевшей, показания двух десятков свидетелей! Да вот беда: все свидетели «подтверждали» насилие со слов самой потерпевшей. Уж кто-кто, а судьи-то знают, что среди стяжателей встречается и такая постыдная их разновидность, как охотницы за «выгодными» мужьями. Брак принес бы Данковской московскую прописку, интересное общество и заманчивые перспективы. Это не домысел, в деле есть достаточно данных, позволяющих проникнуть в не слишком сложный духовный мир «героини». Но данные эти не подверглись оценке: личность Данковской судей не занимала, и ее портрет остался недорисованным. Ненарисованным — так будет точнее. Деталь в судебном деле под стать детали в художественном произведении. В деле П. была среди многих других и такая. Данковская утверждала, что П. закрыл изнутри дверь своей комнаты на ключ и ключ спрятал, чтобы жертва не могла уйти. А между тем эту дверь замкнуть изнутри невозможно. «Закрытая дверь» при малейшем желании тотчас же открывалась. Но Данковская ее не открыла… Ошибка исправлена, человеку возвращено доброе имя. Почему же потребовалось для этого целых полтора года? Разве то, что положила в основу своего постановления высшая судебная инстанция страны, не было ясно еще при первом рассмотрении дела? Разве суду не представили своевременно те же самые доводы? Ограждая честь женщины, суд утверждает тем самым высокие нравственные нормы, незыблемые принципы морали в отношениях между людьми. Он сурово карает — и будет карать! — преступников, посягнувших на эти нормы. Но он не допустит, чтобы защита нравственных ценностей обернулась защитой безнравственности, шантажа, корысти, обмана.
1972








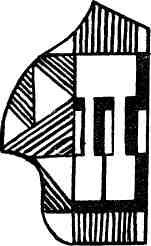















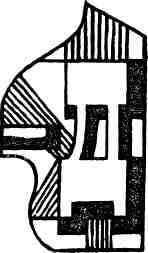


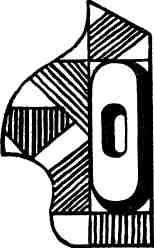





Последние комментарии
2 часов 29 минут назад
18 часов 33 минут назад
1 день 3 часов назад
1 день 3 часов назад
3 дней 9 часов назад
3 дней 14 часов назад